Сергей Степанов Век психологии: имена и судьбы
(издание переработанное и дополненное, в авторской редакции)
Предисловие
В любой области науки изучение любого вопроса обязательно предусматривает ознакомление с историей вопроса. Эта аксиома имеет особое значение для психологии – науки, находящейся в динамичном (и судя по всему – бесконечном) развитии. Полноценное психологическое образование и самообразование непременно должно включать изучение истории психологии. Как писал наш выдающийся психолог Л.С. Выготский: «Мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прежним; даже отрицая его, мы опираемся на него». К этому хочется добавить: для того, чтобы опереться на идеи прошлых лет, критически их переосмыслить, их надо просто знать.
Сегодня, если спросить сотню случайных прохожих, кого из психологов они знают, то ответы едва ли будут отличаться разнообразием. Большинство опрошенных, вероятно, вообще не вспомнят ни одного имени. Некоторые назовут Зигмунда Фрейда. И это не удивительно: сегодня его имя постоянно упоминается к месту и не к месту. Кто-то вспомнит Дейла Карнеги, хотя к психологам его можно отнести с большой натяжкой. Некоторые знатоки назовут еще пару имен. Этим средний уровень психологической эрудиции, как правило, и исчерпывается. И это особенно удивительно при том условии, что интерес к психологии сегодня высок как никогда. Однако познания большинства людей в этой области разрозненны и поверхностны. Многие путают психологию с парапсихологией и вообще плохо представляют себе достижения этой науки. Поэтому рассказ о том, чем занимались и чего достигли в этой области выдающиеся ученые, многим будет интересен и полезен.
Читать научные и даже научно-популярные книги, посвященные каким-то серьезным проблемам, любят далеко не все. Зато практически каждому интересен рассказ о людях, особенно выдающихся. Поэтому рассказ о психологии задуман автором как серия «портретов в интерьере», где личность психолога и его воззрения выступают единым, целостным образом.
Конечно, психолог-профессионал своей эрудицией превосходит обычного читателя и без труда сможет перечислить множество имен своих выдающихся коллег. Однако и эрудиция профессионалов как правило односторонняя. Хорошо зная теории и факты, специалисты в области психологии не так уж много знают о личности создателей этих теорий. А ведь во многих случаях понять великого ученого можно только тогда, когда знаешь особенности его характера, этапы жизненного пути, источники его мировоззрения. Поэтому данная книга наверняка окажется небезынтересна и специалистам.
В 2001 г. увидела свет книга «Психология в лицах», в которой были собраны 40 «психологических портретов в интерьере». В предисловии к ней было написано: «Автор отдает себе отчет, что такая книга могла бы быть по объему и вдвое, и вдесятеро больше. И если это издание будет благосклонно встречено читателем, то новое обязательно будет расширено». 10-тысячный тираж «Психологии в лицах» оказался активно востребован читателями. Выполняя обещание, автор значительно дополнил опубликованный ранее материал. Так появилась книга «Век психологии: имена и судьбы» (2002), которую сегодня в продаже также уже не найти. Новая книга представляет собой значительно обновленное и расширенное издание – ее объем в два с половиной раза превосходит объем «Психологии в лицах» и почти на треть превышает объем «Века психологии». Некоторые главы для данного издания были дополнены и обновлены, иные – полностью написаны заново. В отличие от предыдущих изданий, материал в данной книге сгруппирован по хронологическому принципу – в соответствии с годами рождения ученых. Книга также снабжена именным указателем, построенным по алфавитному принципу, – он включает ссылки на все имена, упомянутые в книге (за исключением имен родственников ученых, ничем кроме этого родства не знаменитых).
Иллюстрациями служат репродукции старых фотографий, качество которых по понятным причинам оставляет желать лучшего. Вопреки возражениям издателей автор настоял на публикации этих снимков, которые, даже не будучи полиграфически безупречными, значительно обогащают содержание книги.
В большинстве случаев в книге представлены материалы малоизвестные и труднодоступные. Автор несколько лет буквально по крупицам собирал их в разных источниках. И если читатель сумеет вынести из этой книги живое и непосредственное впечатление о психологической науке и ее творцах, значит труд автора не пропал даром.
Ф. Гальтон (1822–1911)
Фрэнсис Гальтон – одна из наиболее ярких фигур в мировой психологии, хотя сам себя он психологом не считал ввиду неопределенного статуса этой науки в то время. Тем не менее его исследования на долгие годы определили важные тенденции в развитии психологической мысли, и многие выдающиеся психологи относили себя к его последователям. Это был «один из оригинальнейших ученых-исследователей и мыслителей современной Англии», как писал о нем К.А. Тимирязев в начале ХХ века.
Жизнь и деятельность Гальтона подробно описаны его учеником и другом Карлом Пирсоном в книге «Жизнь, письма и труды Фрэнсиса Гальтона». Поскольку центральным моментом концепции Гальтона было признание наследственной природы человеческих способностей, естественно, что его жизнеописание Пирсон начал с генеалогии, которую проследил по пятидесятого колена.
Среди предков Гальтона мы находим такие фигуры, как император Карл Великий, киевский князь Ярослав мудрый, Вильгельм Завоеватель, несколько английских королей. Это предки Гальтона по женской линии. А вот предки по мужской линии были из простых крестьян. Так что генеалогическое дерево лишь отчасти может служить аргументом в пользу его теории. Противоречивые свидетельства мы находим и среди ближайших (в хронологическом отношении) родственников Гальтона. Так, выдающийся ученый Чарлз Дарвин был его кузеном (их дедом был Эразм Дарвин). А вот отец Фрэнсиса, Самуэль, никакими талантами не блистал, как и все его дети, за исключением девятого, младшего, Фрэнсиса.
Фрэнсис Гальтон родился 16 февраля 1822 года в имении Лэрчес близ Бирмингема, принадлежавшем его отцу. Он был значительно младше своих братьев и сестер и в силу этого сравнительно одинок. Фактически его воспитанием и обучением занималась сестра Адель, которая была на 12 лет старше. Одаренность мальчика проявилась очень рано. Сохранилось письмо, написанное им Адели в 1827 году.
Моя дорогая Адель.
Мне четыре года, и я могу читать любую английскую книгу. Я могу назвать все латинские существительные, прилагательные и глаголы 52 строк латинского стихотворения. Я знаю сложение и могу множить на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11… Я немного читаю по-французски и знаю часы.
Фрэнсис ГальтонДаже не имея возможности проверить достоверность содержания письма, отметим, что оно написано по-английски с одной-единственной ошибкой. Уже одно это, учитывая сложность английской орфографии, явно свидетельствует о незаурядных способностях автора, которому еще не исполнилось пяти лет.
Школьное образование, судя по скептическому отзыву самого Гальтона, было малопродуктивным. Сменив несколько частных школ, он не преуспел в науках. Пирсон расценивает его школьные годы как застой в развитии. Впрочем, сохранилась рукопись 1835 года «Аэростатический проект Фрэнсиса Гальтона». В ней описана (правда, весьма невразумительно) конструкция крылатого летательного аппарата, что само по себе свидетельствует о неординарности и смелости мысли будущего ученого.
Родители Фрэнсиса прочили ему медицинскую карьеру. Начальную подготовку он получил в бирмингемском госпитале и в Лондонской медицинской школе.
В 1838 г. вместе с товарищами по учебе Фрэнсис предпринял свое первое путешествие по Европе, посетив Бельгию, Германию и Австрию. Впоследствии Гальтон оказался страстным путешественником, этот вояж послужил лишь началом целой серии его странствий.
Осенью 1840 г. Гальтон поступил в Кембриджский университет, в знаменитый Тринити-колледж, где некогда учились Ньютон и Байрон. Здесь он изучал математику и естественные науки, с тем чтобы потом по замыслу отца посвятить себя практической медицине.
Энциклопедические справочники, обычно отмечающие, какое высшее учебное заведение окончил тот или иной деятель, в отношении Гальтона предпочитают формулировку: «Образование получил в Кембриджском университете». Дело в том, что медицинская карьера Гальтона не привлекала. В 1844 г. в возрасте 61 года скончался его отец, с которым Фрэнсис был очень дружен. Это событие потрясло его и заставило пересмотреть свои жизненные цели. Он отказался от необходимой медицинской практики в госпитале Св. Георга в Лондоне, поэтому диплом врача не получил. Вместо этого он решил отправиться в путешествие.
Последующий период своей жизни Гальтон в «Мемуарах» называет годами охоты и стрельбы: охота на тетеревов в шотландских болотах, на тюленей – на Гибридских островах и т. д. и т. п. Казалось, праздный образ жизни затягивает молодого джентльмена.
Но в 1849 г. Гальтон вновь испытал чувство, которое назвал «весенней тревогой». У него снова возникла потребность в исследовательской деятельности и творчестве, и он вернулся к научной работе. Плодом его изысканий стало изобретение печатающего телеграфа, или «телотайпа», как его называл автор. Описание этого прибора явилось его первым научным трудом. Правда, сам прибор так и не был полностью построен.
В 1850–1851 гг. Гальтон предпринял экспедицию в Африку, которая в отличие от его предыдущих, по сути туристических вояжей носила исследовательский характер. Экспедиция длилась около двух лет, было пройдено 1700 миль по труднодоступным и малоизученным районам. В ходе путешествия Гальтон собрал ценные материалы для своих евгенических размышлений последующих лет.
По возвращении он опубликовал книгу «Рассказ исследователя тропической Южной Африки», которая была оценена научной общественностью очень высоко. В 1854 г. Географическое общество наградило Гальтона золотой медалью, а в 1856 г. Королевское общество (Академия наук) избрало его своим членом. Чарлз Дарвин также весьма одобрительно отозвался о книге своего кузена.
В 1853 г. Гальтон познакомился с Луизой Батлер и в августе того же года женился на ней. В результате этого события его жизнь приобрела упорядоченность и устойчивость. Дальних путешествий он больше не предпринимал, хотя до самой старости выезжал с женой в разные страны Европы. Гальтон пережил жену на 14 лет. Брак их остался бездетным.
Отчасти в связи с новым укладом жизни упорядочилась и его научная деятельность. Важно отметить, что он был материально вполне обеспечен и работать ради заработка ему не приходилось, поэтому все силы он отдавал науке.
В брошюре Ю.А. Филипченко, вышедшей в 1925 г., отмечается аналогия между главными событиями жизни Гальтона и его родственника Чарлза Дарвина. Оба намеревались стать врачами. Но не осуществили это намерение. В возрасте до 30 лет оба предприняли большое научное путешествие, а потом женились и, перейдя к более основательному образу жизни, целиком предались науке, будучи при этом вполне обеспеченными людьми. Наконец, оба сравнительно поздно выступили со своими главными сочинениями: «Наследственный гений» Гальтона впервые увидел свет, когда автору было 47 лет, «Происхождение видов» было опубликовано пятидесятилетним Дарвином.
Но были, разумеется, и отличия. Дарвин жил уединенно, Гальтон постоянно общался со многими учеными, что благотворно отражалось на его научной работе.
После возращения из Африки Гальтон в течение нескольких лет занимался научно-практическими разработками в различных областях, ни одной не отдавая предпочтения.
Свой опыт путешественника он изложил в книге «Искусство путешествовать» (1855), представляющей собой практическое руководство по организации дальних странствий. Книга имела большой успех. В 1872 г. появилось уже пятое ее издание. А в 1855 г. на ее основе Гальтон подготовил цикл лекций для английских офицеров. Это было вызвано тем, что, когда в 1855 г. английские войска высадились в Крыму, они столкнулись со множеством бытовых трудностей. Рекомендации Гальтона, касавшиеся походного снаряжения, медицинских средств, разведения огня и т. п., оказались весьма полезными.
С Крымской войной связано и изобретение Гальтоном прибора, названного им «гелиостат», или «алтископ». Это был карманный прибор, позволявший вести наблюдение из укрытия – через стену или через головы толпы. По сути это был аналог перископа. Неизвестно, однако, возник ли перископ под влиянием изобретения Гальтона, либо он был создан независимо от него.
В эти же годы ученый активно занимался климатологией и метеорологией. Он был первым, кто стал публиковать метеорологические карты Европы, обозначая на них осадки, облачность, направление ветра. В 1863 г. им был создан атлас под названием «Метеорографика, или Методы нанесения погоды на карту». Занятия этими вопросами привели его к важному открытию. В его время было известно явление циклона, центр которого отличается низким давлением. Гальтон установил наличие центров с высоким давлением и центробежным движением воздуха по направлению часовой стрелки. Эту систему, противоположную циклону, он назвал «антициклон». Данное понятие сохранилось в метеорологии по сей день.
Страсть Гальтона к созданию новых приборов и приспособлений проявилась и в этой области. Он разработал своеобразные приборы для получения метеорологических карт и чертежей, а кроме того – «волновую машину» для использования энергии морских волн.
Однако основные интересы ученого лежали в иной области. Главной сферой его научных изысканий явилось исследование человеческих способностей.
Фундаментальный труд «Наследственный гений» увидел свет в 1869 году. Ему предшествовали несколько статей аналогичного содержания.
Интересна его статья «Стадность у рогатого скота и человека». В ней, рассуждая о «стадном инстинкте» свойственном человеческому обществу, гальтон утверждал, что в прошлом этот инстинкт был оправдан, но в современных условиях он вреден. Его необходимо преодолеть, чтобы вывести человеческий род на путь морального и интеллектуального прогресса. Средство к этому предлагалось то же, что и для улучшения породы скота, – искусственный отбор.
Такие идеи возникли у Гальтона под впечатлением «Происхождения видов» Ч.Дарвина. Первая статья ученого о наследовании человеческих черт – «Наследственный талант и характер» – появилась в 1865 г. Уже в ней намечены основные принципы, которых он придерживался в последующих изысканиях.
Главное убеждение Гальтона состояло в том, что талант человека и вообще все психические свойства так же наследуются, как и его физические качества.
Для аргументации этого положения им был разработан так называемый близнецовый метод. Впоследствии получивший в психологии чрезвычайно широкое распространение. Сопоставляя степень схожести по ряду параметров монозиготных и дизиготных близнецов, Гальтон еще более укрепился в убеждении, что наследственность играет решающую роль в становлении личности, в условия среды – второстепенную.
Признание наследственности таланта неизбежно направило мысль Гальтона на изучение и измерение ее функций, то есть на психометрические исследования. «Психометрия есть искусство охватывать измерением и числом операции ума, как, например, определение времени реакции у разных лиц… Пока феномены какой-нибудь отрасли знания не будут подчинены измерению и числу, они не могут приобрести статус и достоинство науки». Последняя фраза Гальтона стала впоследствии лозунгом биометрической лаборатории, основанной им в Лондоне.
Психологические исследования, проводимые ученым, были очень разнообразны. Некоторые его наблюдения и эксперименты не укладываются в рамки ни одной теории, как, например, так называемая «знаменитая прогулка сэра Гальтона». Суть этого опыта поистине поучительна.
Однажды сэр Фрэнсис решился на своеобразный эксперимент. Прежде чем отправиться на ежедневную прогулку по улицам Лондона, он внушил себе: «Я – отвратительный человек, которого в Англии ненавидят все!» После того как он несколько минут сконцентрировался на этом убеждении, что было равносильно самогипнозу, он отправился, как обычно, на прогулку. Впрочем, это только казалось, что все шло как обычно. В действительности произошло следующее. На каждом шагу Фрэнсис ловил на себе презрительные и брезгливые взгляды прохожих. Многие отворачивались от него, и несколько раз в его адрес прозвучала грубая брань. В порту один из грузчиков, когда Гальтон проходил мимо него, так саданул ученого локтем, что тот плюхнулся в грязь. Казалось, враждебное отношение передалось даже животным. Когда он проходил мимо запряженного жеребца, тот лягнул ученого в бедро так, что он опять повалился на землю. Гальтон пытался вызвать сочувствие у очевидцев, но, к своему изумлению, услышал, что люди принялись защищать животное. Гальтон поспешил домой, не дожидаясь, пока его мысленный эксперимент приведет к более серьезным последствиям.
Эта достоверная история описана во многих учебниках психологии. Из нее можно сделать два важных вывода:
Человек представляет собой то, что он о себе думает.
Нет необходимости сообщать окружающим о своей самооценке и душевном состоянии. Они и так почувствуют.
Практически это означает следующее. Если нас что-то не устраивает в нашем мироощущении и поведении, в отношении к нам других людей, надо попробовать это изменить. Но любому изменению поведения должно предшествовать изменение мышления. Хорошее настроение и высокая самооценка способствуют успеху в делах и гармонии в человеческих отношениях.
Гальтоном был осуществлен ряд опытов по измерению функций разных органов чувств человека: реакции кожи на температуру и прикосновение, зрения, слуха, обоняния, вкуса и так называемого мышечного чувства. Для этих опытов Гальтон, обладавший неиссякаемой изобретательской фантазией, создал различные приборы и инструменты, некоторые из них еще долгое время использовались в практике экспериментальной психологии. Среди них так называемый гальтоновский свисток, с помощью которого можно было выявить предельную высоту звука, воспринимаемую конкретным человеком, а также линейка Гальтона для определения способности оценивать расстояния.
Гальтон считал возможным классифицировать людей на основании измерения скорости «образования суждений». Он разработал несложный опыт, который состоял в том, что испытуемый должен был различать альтернативные сигналы А и В, нажимая на ключ в ответ на А правой рукой, на В – левой. Различение сигналов и соответственно рук требовало известного интервала, неодинакового у разных людей. Это время, необходимое для «образования суждения», измерялось. Такой опыт фактически являет собой пример психометрического теста.
Интересно, что представление Гальтона о времени реакции (ВР) как важном показателе протекания психических процессов на протяжении всей истории психологии остается предметом оживленных научных дискуссий и по сей день находит своих сторонников. Так, признанный эксперт в области психодиагностики Г.Ю. Айзенк (ему в данной книге посвящен отдельный очерк) в одной из публикаций последних лет утверждает, что ВР является одним из наиболее существенных критериев уровня интеллектуальной одаренности, тем самым фактически подтверждая давнюю идею Гальтона.
По мнению многих, Гальтона можно назвать основоположником психометрического направления в психологии, первым среди тестологов. Хотя сам Гальтон созданные им методы тестами не называл. Слово «тест» издавна бытует в английском языке в значении «испытание», «проверка», «проба». Для обозначения психометрических методик его впервые употребил американец Джеймс Маккин Кеттелл в своей статье «Умственные тесты и измерения» (1890). Психологическую подготовку Кеттелл первоначально проходил в Лейпциге в знаменитой лаборатории В.Вундта. Однако он быстро разочаровался в подходе Вундта, которому была совершенно чужда идея исследования индивидуально-психологических различий. Кеттелл перебрался в Лондон, где продолжил свою подготовку под руководством Гальтона. Усвоенные представления он активно развивал в США, где выступил первым тестологом. Разработанные Кеттеллом тесты сегодня в практике не применяются, однако появившиеся впоследствии более совершенные американские тесты по своей сути базируются на той же теоретической основе, корни которой можно проследить вплоть до гальтоновских построений.
В 1844 году на Международной выставке здравоохранения в Кенсингтоне Гальтон открыл Антропометрическую лабораторию. Он хотел получить статистические данные об объеме человеческих способностей. За три пенса посетители выставки проходили обследование, состоявшее из 17 различных испытаний. Ассистент Гальтона заносил данные в особые карточки. Лаборатория вызвала большой интерес, в день ее посещало около 90 человек, и в итоге набралось 9337 карточек с индивидуальными результатами. Это был первый эксперимент такого размаха, первое массовое тестирование.
Антропометрическая лаборатория Гальтона после закрытия выставки в 1885 г. переехала в новое, более просторное помещение и там продолжила свою работу. Она послужила образцом для создания подобных лабораторий в Дублине, Итоне, Кембридже и других местах.
Гальтон расширил спектр своих исследований, обратившись, в частности, к анализу отпечатков пальцев. На основе изучения обширного эмпирического материала он пришел к выводу, что пальцевые узоры не меняются в течение всей жизни человека, их разнообразие достаточно велико и каждый человек отличается по узорам своих десяти пальцев от всякого другого человека, эти узоры можно классифицировать. Этим Гальтон создал новую науку – дактилоскопию, по сей день составляющую важный компонент криминалистической экспертизы.
Особая серия работ ученого возникла в связи с его психометрическими исследованиями. Это была попытка выяснить существование какой-либо связи между психикой и физиономией человека. В 1878 г. Гальтон опубликовал статью под названием «Составные портреты».
В те годы фотографирование осуществлялось посредством засветки фотопластинки, причем для нормальной съемки требовалась выдержка в 80 секунд, ибо чувствительность пластинок была очень низкой. Гальтону принадлежит идея совместить в одном изображении портреты нескольких лиц. Так, засвечивая пластинку в течение 10 секунд, можно было получить совокупный портрет 8 персон. Очевидно, что общие семейные черты на таком сводном портрете выступают более отчетливо, тогда как сугубо индивидуальные – нивелируются.
С помощью этой методики Гальтон пытался получить типичный портрет преступника, а также человека, склонного к чахотке, и т. п. Однако данные попытки едва ли можно назвать успешными. Однозначной корреляции между психическими свойствами и особенностями физиономии найдены не были. Впрочем, Пирсон подчеркивает, что и такого рода отрицательный результат имеет научную ценность. Опыты с целью нахождения подобных корреляций многократно проводились и впоследствии, однако ничего не прибавили к негативному результату, полученному Гальтоном.
Интересно, что методика составного портрета в модифицированной форме используется и в наши дни. Так, в конце 80-х годов ХХ в. в США проводились опыты по изучению привлекательности человеческого лица. материалом служили совокупные портреты, правда созданные уже с помощью компьютера.
Научную деятельность Гальтон продолжал до глубокой старости. Умер он 17 января 1911 г. в Хейзлмире, близ Лондона.
Многие его идеи и разработанные им методы послужили ориентиром для развития психологической науки, и прежде всего, дифференциальной психологии. Оценки его творчества впоследствии давались различные, порой и негативные. Последнее определялось теми злостными извращениями, которым подвергли его евгеническую теорию разного рода воинствующие фанатики. Что, впрочем, не умаляет достоинств концепции Гальтона, глубоко гуманистической по своей сути.
В. Вундт (1832–1920)
Историю психологической мысли исследователи прослеживают с античных времен, анализируя психологические воззрения Платона, Аристотеля, Демокрита… Само понятие «психология» было введено в научный обиход в конце ХVI века. Однако на протяжении всей истории науки психология не выделялась в самостоятельную сферу научного знания, а развивалась в русле философской мысли. Как самостоятельная наука она существует сравнительно недавно – с конца ХIХ века. Ее рождение в этом качестве историки датируют 1879 годом, когда впервые в мире была основана исследовательская психологическая лаборатория. Эту лабораторию, преобразованную впоследствии в институт, основал Вильгельм Вундт, который по праву считается первым их психологов.
Вильгельм Максимилиан Вундт родился 16 августа 1832 г. в Неккерау близ Мангейма. Он был младшим из детей протестантского пастора Максимилиана Вундта и Мари Фредерики Вундт, урожденной Арнольд. В семье было четверо детей. Двое из них умерли в раннем возрасте, остались только Вильгельм и его брат Людвиг, который был на 8 лет старше. Жил Людвиг в Гейдельберге, его воспитанием занималась сестра матери. Таким образом Вильгельм оставался в семье в роли единственного ребенка.
Два года он обучался в народной школе, после чего его обучение было поручено викарию – помощнику отца, с которым Вильгельм до этого жил в одной комнате в доме родителей. В своей автобиографии «Пережитое и познанное» Вундт вспоминал: «Этот еще довольно молодой помощник моего отца по имени Фридрих Мюллер и был моим настоящим воспитателем. Он стал для меня ближе, чем отец и мать, и когда через несколько лет он получил собственный приход в близлежащем местечке Мюнцехайм, я настолько затосковал, что родители согласились, в ответ на его предложение, чтобы я жил у него в течение того года, который оставался до поступления в гимназию». За исключением воскресных дней Вильгельм все время проводил в доме викария. При несомненных педагогических способностях викария, его влияние, как вспоминал позже Вундт, имело и негативные черты: обучение, не стесненное программой и дисциплиной, побуждение к безудержному фантазированию не готовило к условиям обучения в гимназии. В возрасте 13 лет Вундт поступил в католическую гимназию в Брухзале. После занятий с викарием гимназия стала для Вундта «школой страданий». Возможно, это объяснялось также ее католической направленностью, чуждой сыну протестантского пастора.
Через год родители перевели его в гимназию в Гейдельберге. Здесь он приобрел друзей, интенсивно занялся чтением. Изучением древних языков – латинского, греческого, древнееврейского, – в общем, вступил на путь познания, на котором ему потом суждено было стать знаменитым.
Когда ему исполнилось девятнадцать, он был готов к поступлению в университет. С этой целью в 1851 г. он прибыл в Тюбинген. Здесь в университете работал его дядя, анатом Фридрих Арнольд. Однако проучившись здесь только один год, он перешел в Гейдельбергский университет, где проучился три с половиной года. Еще в Тюбингене он принял решение стать физиологом. Считая, что именно эта область знания, а не профессия практического врача в наибольшей степени соответствует его интересам и склонностям (подобным образом до него рассуждал и Г.Гельмгольц).
Первый год обучения в Гейдельберге Вундт посвятил изучению анатомии, физиологии, физики, химии и до некотрой степени практической медицины. Под влиянием интересных лекций и демонстраций опытов химика Бунзена Вундт в 1853 г. выполнил свою первую научную работу. На втором году он стал больше внимания уделять практической медицине. Возрос и его интерес к физиологии. Еще через год Вундт стал ассистентом в медицинской клинике в Гейдельберге. Тут ему стало окончательно ясно, что медицина не будет его профессией.
Весной 1856 г. Вундт отправился в Берлин к И.Мюллеру, чтобы изучать физиологию под руководством человека, считавшегося «отцом экспериментальной физиологии». Он нашел, что характер немецкой науки в Берлине отличается от университетов южной Германии. В Гейдельберге наука была слишком практична для его академического темперамента. В Берлине он встретил не только лучшую науку, но и лучшие умы. Помимо И.Мюллера, большое влияние на него оказал Э. Дюбуа-Реймон, стимулировавший его интерес к экспериментальным исследованиям.
В Гейдельберг Вундт вернулся в 1856 г. Здесь он защитил диссертацию по медицине на тему «Исследование нервов в воспаленных и вырождающихся органах». В 1856–1857 гг. он опубликовал три статьи (чисто физиологического содержания), а в 1858 г. – свою первую книгу «Очерки по изучению мускульного движения». В это время интересы Вундта были сосредоточены на проблемах физиологии, хотя психологические идеи занимали его все больше и больше.
В 1858 г. Г.Гельмгольц перешел из Боннского университета в Гейдельбергский. Вундт стал его ассистентом. Личных дружественных отношений между ними не сложилось, возможно – в силу различия темпераментов. Тем не менее их сотрудничество продолжалось 13 лет, пока в 1871 г. Гельмгольц не переехал в Берлин.
Вундт проработал в Гейдельберге до 1874 г. Здесь окончательно оформились его научные интересы. Теперь приоритетным направлением для него выступала психология.
Еще в 1858 г. Вундт опубликовал первую часть «Очерков по теории чувственных восприятий». Последний параграф содержал краткое обсуждение вопроса о бессознательных умозаключениях как механизме восприятия. «Очерки» выходили частями на протяжении 4 лет. А в 1862 г. книга была опубликована полностью с теоретическим введением к ней. Здесь по существу была изложена программа Вундта, подразделявшая психологию на три основных направления: экспериментальная психологи, этническая психология и научная метафизика.
В 1863 г. увидела свет очень важная работа – «Лекции о душе человека и животных», содержавшая введение ко многим проблемам экспериментальной психологии, разработка которых растянулась на долгие годы.
В 1867 г. Вундт начал читать лекционный курс по физиологической психологии, фактически положивший начало науке под таким названием. Полное изложение его концепции было дано в книге «Основания физиологической психологии» (в 2-х частях, 1873–74; при жизни Вундта увидело свет 6 изданий этой книги).
В 1874 г. Вундт получил приглашение на кафедру индуктивной философии в Цюрих. Рекомендацию ему дал Гельмгольц; в ней он подчеркивал, что философия должна опираться на естественные науки.
В Цюрихе Вундт проработал недолго. Уже в следующем году он становится профессором кафедры философии Лейпцигского университета. Отныне Лейпцигу предстояло на несколько лет стать колюбелью и столицей мировой психологии.
В 1879 г. состоялось открытие небольшой лаборатории. Оборудование ее составляли несложные приборы для экспериментальной работы, довольно скромной по масштабам. Неожиданно для вундта лаборатория вызвала огромный интерес. В ней собралась группа сотрудников, впоследствии сыгравших важную роль в развитии экспериментальной психологии. Это были ученые не только из Германии (Э.Крепелин, О.Кюльпе, Э.Мейман и др.), но и из Америки (Г.С. Холл, Дж. М.Кеттелл и др.) и других стран, в том числе из России. Через два года лаборатория превратилась в Психологический институт. А в 1883 г. стал выходить первый научный психологический журнал, первоначально носивший название «Философские исследования» (сказывалась давняя традиция развития психологии в рамках философии), измененное в 1905 г. на более адекватное – «Психологические исследования».
В. Вундт (сидит) с сотрудниками в лаборатории
Психологическая концепция Вундта была по сути структуралистской. Он пытался применить естественнонаучный метод в анализе осознаваемого внутреннего опыта, окрестив его «мыслительной материей» и стараясь выявить и описать его простейшие структуры. Таким образом, сознание было разбито на психические элементы, подобно тому как материя делится на атомы. В качестве таких элементов для Вундта выступали ощущения, образы и чувства.
Вундт, в отличие от многих психологов ХХ века, проживших наполненную яркими событиями жизнь, вел жизнь скромную, упорядоченную и размеренную. Будучи весьма популярным лектором (лекции он читал без конспектов), публичных выступлений не любил, а участия в каких-либо конгрессах просто избегал.
По словам Х.Гефдинга, «история жизни Вундта – это история его научных работ». А важнейший ее итог – институционализация психологии в качестве самостоятельной науки.
Умер Вильгельм Вундт 31 августа 1920 г. в собственном доме в Гросботоне под Лейпцигом.
В его лаборатории ныне находится музей, известный психологам всего мира.
Й. Брейер (1842–1925)
История богата парадоксами. Например, гигантский материк в Западном полушарии был, как известно, открыт отважным генуэзским мореплавателем, который, однако, сам до конца своей жизни, кажется, не отдавал себе отчета в масштабах своего открытия. А название материк получил по имени другого мореплавателя. Америго Веспуччи также, бесспорно, был личностью выдающейся. Однако новый континент был открыт все-таки не им, а Колумбом. Веспуччи лишь прошел по его стопам, тщательно исследовал дальние берега и описал свои путешествия в письмах, поразивших воображение современников. С легкой руки лотарингского картографа Вальдземюллера ему и было приписано открытие Америки, которая с той поры и называется его именем.
В истории психологии нечто подобное происходило не раз. Например, эпохальные открытия Торндайка и Уотсона, давшие жизнь новому научному направлению – бихевиоризму, фактически воспоследовали за аналогичными изысканиями Уолтера Пилсбери, которому по справедливости и следовало бы отдать в этой сфере приоритет.
Но самый впечатляющий парадокс такого рода принадлежит, пожалуй, истории психоанализа, и знакомство с ним позволяет лишний раз убедиться в справедливости утверждения: «Все верное в открытиях Фрейда отнюдь не ново, а все новое – вряд ли верно». При всех лаврах, собранных Фрейдом на протяжении прошедшего столетия, Колумбом психоанализа по справедливости следовало бы признать не его, а его старшего товарища Йозефа Брейера. Недооценка Брейера в истории науки связана, вероятно, с тем, что и он, подобно Колумбу, не отдавал себе отчета в масштабах своего открытия и спокойно уступил первенство младшему коллеге. К тому же Брейер не признавал того сексуального «соуса», которым Фрейд обильно сдабривал его открытие и который в итоге превратился в основное блюдо психоаналитической гастрономии. Дабы разобраться в тонкостях этой кухни, рассмотрим внимательнее фигуру Йозефа Брейера и его вклад в становление психоанализа.
Йозеф Брейер родился 15 января 1842 г. в Вене. Он рано потерял мать и воспитывался бабушкой по материнской линии. Впрочем, и его отец, Леопольд Брейер, внес в его воспитание немалый вклад. Начальную школу мальчик не посещал, а вместо этого занимался под руководством отца. Судя по всему, такое домашнее образование отличалось высоким уровнем. В возрасте восьми лет Йозеф был принят в Венскую Академическую гимназию, которую закончил с отличием в 1858 г.
Высшее образование Брейер получил на медицинском факультете Венского университета, где учился у физиолога Эрнста Брюкке и терапевта Йоханна Оппольцера. В 1864 г. он окончил университет и получил степень доктора медицины. Несколько лет он проработал ассистентом Оппольцера, а после его смерти занялся частной практикой. В течение 10 лет – с 1875 по 1885 г. – он также преподавал в университете в должности доцента. Эту должность он оставил, объясняя свое решение тем, что ему недостает клинического материала и вследствие этого лекции даются ему с трудом (поистине достойный шаг, на который способен не каждый). Когда Брейеру предложили звание экстраординарного профессора, он по той же причине это предложение отверг, заявив, что не считает себя достойным этого почетного звания. Доводилось вам что-то подобное встречать в наши дни?
В 1868 г. Брейер женился и до конца дней жил счастливой и благополучной семейной жизнью. В своей краткой автобиографии, написанной незадолго до смерти, он писал: «Если ко всему написанному еще добавлю, что я был счастлив в семейной жизни, что моя любимая жена одарила меня пятью прекрасными детьми, ни одного из которых я не потерял и ни с одним из которых у меня не было серьезных проблем, то, наверное, я могу назвать себя счастливцем.» Не этим ли простым фактом объясняется то недоверие, которое Брейер испытывал к извращенческим фантазиям Фрейда? И кому можно больше позавидовать – полузабытому Брейеру, прожившему благополучную и счастливую жизнь, или вознесенному на пьедестал Фрейду, чья пламенная страсть к юной невесте превратилась в разочарование матерью своих детей, чьи инфантильные комплексы и завихрения неутоленной похоти нам по сей день приходится брезгливо примеривать на себя?
С Фрейдом Брейер познакомился на профессиональной почве и, похоже, проникся к нему симпатией, усмотрев в нем подающую большие надежды творческую натуру. Несмотря на значительную разницу в возрасте (Брейер был на 14 лет старше) их эпизодическое профессиональное общение переросло в сотрудничество и даже личную дружбу. В письме невесте, Марте Бернайс, Фрейд писал: «Разговаривать с Брейером – все равно что греться в солнечных лучах; он просто излучает свет и тепло. Это поистине солнечная личность и я никак не могу представить, что такого он мог найти во мне, чтобы так по-дружески со мной обращаться. Будет не совсем точно, если мы ограничимся перечислением его достоинств, так как необходимо просто сказать, что у него вообще отсутствует что-либо плохое или недоброе». Правда, Брейер в этом тандеме явно занимал старшую, почти отеческую роль (тогда как у Фрейда с исполнением сыновней роли всегда были связаны подавленные терзания). Брейер выступал для Фрейда не только профессиональным наставником, но и покровителем в быту. Молодой доктор Фрейд был сильно стеснен в средствах, порой буквально перебивался с хлеба на воду и вынужден был отказывать себе в элементарных удобствах. Великодушный Брейер бескорыстно ссужал его деньгами, по-отечески приглашал к себе домой отобедать и даже… принять ванну. Кстати, последнее было по тем временам очень широким жестом. Брейер жил в доме с водопроводом, а это было роскошью в городе, где даже люди с приличным достатком заказывали себе для мытья чаны нагретой воды, которые им приносили на дом, или нанимали отдельный кабинет в ближайшей бане. В еще одном письме невесте (за годы помолвки их было написано около тысячи) Фрейд восторженно описал ванную Брейера и пообещал, что у них тоже будет такая «и неважно, сколько на это понадобится лет». (Голова идет кругом при мысли о том, в какой роскоши, недосягаемой в свое время для Фрейда, мы сегодня живем, да еще при этом продолжаем занудливо жаловаться на скудость своего быта.)
Как врач Брейер имел очень высокую репутацию. Ему принадлежало несколько немаловажных научных открытий – он открыл механизм рефлексов, управляющих дыханием, и выяснил много важного о вестибулярном аппарате и его функции поддержания равновесия человеческого тела. Брейер был домашним врачом многих выдающихся личностей Вены, с которыми его помимо профессиональных связывали и близкие личные отношения. Особенно тесные узы были у Брейера с семьями Вертхаймштайн и Гомперц, в салонах которых вращались звезды живописи, музыки и науки. Многолетняя дружба связывала его с австрийской писательницей Мари фон Эбнер-Эшенбах, известной у нас главным образом своими блестящими афоризмами. («Самая непоправимая беда – беда воображаемая» – это ее слова.)
Иногда Фрейд ходил вместе с Брейером к его больным и потом они обсуждали наиболее интересные случаи. Одной из пациенток Брейера была Берта Паппенгейм, несчастная дочь богатых родителей, страдавшая уникальным комплексом нервно-психических расстройств. В клинической картине этого случая причудливо сочетались кошмары, галлюцинации, раздвоение сознания, провалы памяти, беспричинные приступы гнева, необъяснимо возникающая глухота и даже паралич. Ни у одного человека ни до этого, ни после не наблюдалось такого сочетания симптомов. Тем не менее именно этот случай считается в психоанализе классическим, и почему-то очень немногие задумываются о том, что его исключительность сводит на нет его полезность для теории. По некоторым версиям, достоверность которых сегодня невозможно убедительно ни опровергнуть, ни подтвердить, в основе сложного симптомокомплекса лежали органические нарушения, что и вовсе развеивает психоаналитическую легенду. В описании Брейера и Фрейда речь идет о значительных улучшениях в состоянии пациентки, едва ли не о полном излечении. Хотя согласно данным, полностью обнародованным лишь недавно, несчастная Берта Паппенгейм всю жизнь провела в скитаниях по психиатрическим клиникам и санаториям и умерла в том же плачевном состоянии, от которого ее когда-то лечили. А точнее – недолечили или просто не вылечили, потому что лечили не от того и не так.
Берта Паппенгейм – она же Анна О.
Брейер лечил пациентку два года – в 1880–1882 гг. Он посещал ее каждый день (один исследователь подсчитал, что он провел с нею тысячу часов) и обнаружил, что после обеда она становится сонной и впадает в некое подобие транса, который он назвал самогипнозом. В этом состоянии она часто рассказывала ему о своих фантазиях – «печальных историях». Сама Берта называла эти встречи «прочисткой дымовой трубы», а Брейер называл свой метод катарсисом, то есть очищением, освобождением от ущемленного аффекта.
Фрейд никогда не был знаком с Бертой Паппенгейм (по странному стечению обстоятельств с ней была довольно близко знакома его невеста), о ее странном случае он узнал из рассказов Брейера в 1882 г. По настоянию Фрейда Брейер опубликовал некоторые результаты лечения в предварительном сообщении «О психическом механизме истеричных феноменов». Сам Фрейд начал использовать катартический метод в 1889 г. Результаты наблюдений Брейера и Фрейда были опубликованы в их совместной работе «Этюды об истерии».
Интересна судьба этой книги, с которой фактически началась карьера Фрейда. Главы, написанные Брейером, не попадают в собрание трудов Фрейда, а одно из сравнительно недавних изданий книги вообще появилось на свет в таком виде, что первым автором на титульном листе указан Фрейд.
Впрочем, это явление объяснимо. Теоретические подходы соавторов к пониманию добытого опыта существенно различались. Брейер, хотя он и сам указывал Фрейду на немаловажную роль сексуальных мотивов в возникновении невротических расстройств, не желал согласиться с мнением Фрейда об исключительной роли этих мотивов. Объединяло их, пожалуй, только общее мнение о том, что истерички (именно к таковым была отнесена Берта Паппенгейм) большей частью страдают от реминисценций (пережитого прежде травматического опыта), и психотерапевтический эффект может быть достигнут путем отреагирования подавленного («ущемленного») аффекта. По сути дела, из этих постулатов, которые трудно оспорить, и выросло психоаналитическое учение. Вот только приоритет Фрейда тут представляется крайне спорным.
Столкновения между Брейером и Фрейдом из-за различных взглядов на проблему этиологии неврозов привели к отчуждению между ними. В «Автобиографии» Фрейд пишет: «Создание психоанализа стоило мне дружбы с Брейером». И еще: «Признание сексуальной этиологии явно шло против его желаний». Правоверные фрейдисты на этом основании даже утверждают, что Брейер был первым, кто принялся бессознательно защищаться от нежелательных психоаналитических откровений. Впрочем, выбор тут невелик – либо стать психоаналитиком, либо его пациентом, либо просто дистанцироваться от этой сомнительной теории. Брейер предпочел последнее. После разрыва с Фрейдом он полностью отдался своей обширной практике терапевта и более не возвращался к исследованиям неврозов. Умер Йозеф Брейер в Вене 20 июня 1925 г.
Сегодня о нем, сказавшем в психоанализе самое главное, вспоминают нечасто. А имя Фрейда гремит. Похоже, людям в самом деле наиболее интересны альковные секреты. А что это, по Фрейду, значит?..
У. Джемс (1842–1910)
«Уильям Джемс возвышается в истории американской мысли – без сомнения, это наиболее выдающийся психолог нашей страны», – писал о своем старшем коллеге американский психолог Гордон Оллпорт. Идеи Джемса, чрезвычайно популярные на рубеже веков, впоследствии оказались в тени набиравших силу психоаналитических и бихевиористских концепций. Сегодня его труды переиздаются и привлекают все большее внимание исследователей. Оказалось, что многие современные представления о душевной жизни предвосхищены пионером американской психологии.
Уильям Джемс родился 11 января 1842 г. в Нью-Йорке. Его дед, протестант кальвинистского толка, эмигрировал в Америку из Ирландии в 1798 г. и нажил неплохое состояние, удачно вложив свои средства в строительство Эри-канала. Отец Уильяма – Генри Джемс старший – снискал известность на ниве теологии. У Уильяма была сестра и трое братьев, один из которых – писатель Генри Джеймс[1] – не менее своего брата-ученого прославился своими литературными трудами.
В становлении личности Уильяма огромную роль сыграл его отец. Человек религиозный, он был чужд ортодоксального догматизма и всячески поощрял в своих детях независимость суждений. Джемс-старший полагал, что каждому из его детей предстоит самому выбрать свой путь в жизни и достойно пройти его, опираясь главным образом на собственные силы. В доме часто бывали интересные люди, велись философские беседы. Юный Уильям далеко не всегда находил в рассуждениях старших ответы на интересовавшие его вопросы, однако сама атмосфера этих встреч не могла не способствовать его интеллектуальному росту.
По мнению Джемса-старшего, в Европе в те годы можно было получить гораздо лучшее образование, чем в Америке. К тому же хорошее образование обязательно предусматривает свободное владение иностранными языками, а язык, как известно, лучше усваивается там, где на нем говорят. В результате для Уильяма и его брата Генри школьное образование вылилось в путешествие по Европе, где они за пять лет сменили несколько частных школ в Англии, Франции, Германии и Швейцарии. В эту пору оформились интересы Уильяма. С одной стороны, он испытывал тягу к естественным наукам, с другой – еще более сильное увлечение искусством, особенно живописью.
К желанию сына стать художником Джемс-старший отнесся неодобрительно, однако его занятиям препятствовать не стал. Впрочем, вскоре Уильям и сам осознал, что его способностей достаточно лишь на то, чтобы стать весьма посредственным живописцем. Такая перспектива его не прельщала, и он скрепя сердце отказался от художественной карьеры. Тем не менее художественные склонности впоследствии проявились и в его научной деятельности – в пристальном внимании к деталям, в стремлении к изяществу стиля.
В 1861 г. Джемс поступил в Гарвардский университет. Он начал учиться на химическом факультете, но вскоре занялся сравнительной анатомией и физиологией. В 1864 г. он перешел на медицинское отделение, хотя с самого начала не намеревался стать практикующим врачом (вероятно в силу этого медицинские дисциплины он изучал без энтузиазма). В 1865–1866 гг. вместе со своим научным руководителем Л. Агасси он принял участие в исследовательской экспедиции в Бразилию. Главным итогом экспедиции явилось катастрофическое ухудшение здоровья Джемса. Так впервые резко проявилась слабость его организма, доставлявшая ему и впоследствии немало огорчений: из-за ухудшения здоровья порой приходилось прерывать научную работу, а периодические поездки в Европу каждый раз, хотя бы отчасти, были продиктованы необходимостью лечения.
Именно такая ситуация побудила Джемса отправиться в 1867 г. в Германию. Немалую роль сыграло стремление поправить здоровье, пошатнувшееся в экспедиции. Не менее важным явилось желание совершенствоваться в области экспериментальной физиологии.
В июне 1869 г. Джемс получил ученую степень по медицине. Перед ним открывалась возможность академической карьеры. Однако из-за затянувшейся болезни к работе в университете он приступил лишь 3 года спустя. Ослабленность организма усугублялась глубокой депрессией. На протяжении долгого времени Джемс испытывал обостренное ощущение собственной никчемности, несколько раз предпринимал попытки самоубийства. Однако именно мировоззренческие искания, которые привели его в столь плачевное состояние, позволили ему в конце концов и справиться с депрессией. Усилием воли Джемс сознательно положил конец душевным терзаниям. «Моим первым актом свободной воли будет верить в свободную волю. Оставшуюся часть года я буду намеренно культивировать чувство моральной свободы», – записал он в своем дневнике.
На мироощущении Джемса весьма положительно сказалась и женитьба на Алисе Хоу Гиббенс. По оценкам биографов, это событие придало ему оптимизма и жизненных сил.
В 1873 г. он начал преподавать в Гарварде анатомию и физиологию, в 1875 г. – психологию, в 1879 г. – философию. Такая последовательность не отражает эволюции научных пристрастий Джемса. Философия всегда была для него первична, а решение любого конкретного вопроса в той или иной области знания тесно увязано с более общими философскими проблемами.
Среди пионеров психологии Джемсу принадлежит особое место. Он не является основоположником психологической школы или системы. По существу, им обозначен целый ряд перспективных линий развития новой, формировавшейся отрасли. «Не прорабатывая деталей. Джемс наметил четко обрисованный широкий план, показывающий другим, в каких направлениях двигаться и как делать первые шаги», – писал о вкладе джемса английский психолог Р. Томсон, автор одной из известных книг по истории психологии.
Оценивая состояние современной ему психологии, Джемс полагал, что научной психологии пока не существует. Эта область пребывает в ожидании своего Галилея, который преобразует ее в науку. Свою задачу Джемс видел в том, чтобы, следуя аналитическому методу непосредственного самонаблюдения, изучать «первичные данные» – душевные явления в их целостности и связи с обусловливающими их физиологическими процессами.
Наиболее полно психологические взгляды Джемса изложены им в двухтомной монографии «Принципы психологии», увидевшей свет в 1890 г. Сокращенный вариант этого труда в виде учебника психологии вышел два года спустя (в русском переводу – в 1922 г.; новое издание – 1991 г.).
Психологические воззрения Джемса энциклопедичны: в поле его зрения оказывается широкий спектр явлений психической жизни – от функционирования мозга до религиозного экстаза. Причем на всех уровнях его подход отличается гармонией научной глубины и блестящего стиля изложения. Возможно, с этим связан неослабевающий интерес, с каким читают книги Джемса как психологи-профессионалы. Так и обычные читатели.
Центральным в психологии Джемса является понятие сознания, которому он дал оригинальную интерпретацию. Он писал о потоке сознания, подчеркивая динамизм душевных явлений, рассматривая их как постоянно сменяющие друг друга неповторяемые состояния. Если до Джемса сознание представлялось как сумма отдельных элементов (так называемый структурализм), то им в качестве первичного факта выделяется поток сознания как непрерывная динамичная целостность. Членить ее – то же, что резать ножницами воду. «Традиционная психология описывает дело так, будто река состоит из ведер, чаш, бадеек и других емкостей, содержащих воду. Даже если бы ведра и кастрюли действительно стояли в потоке, между ними продолжала бы течь свободная вода. Именно эту свободную воду сознания психологи решительно не замечают».
Неослабевающий интерес привлекает теория личности, разработанная Джемсом. Он выступил сторонником широкого определения личности, выделяя ее физический, социальный и духовный компоненты. Его представления о личности оказали большое влияние на становление многих областей персонологических исследований, в частности работ по изучению самосознания, самооценки, уровня притязаний.
Одна из наиболее ярких и широко известных страниц психологии Джемса – его теория эмоций. Эта теория была почти одновременно разработана независимо друг от друга двумя учеными – Джемсом в 1884 г. и датским анатомом К. Ланге в 1885 г. – и вошла в историю науки под названием теории Джемса-Ланге. Вот ее классическая формулировка, данная Джемсом: «…Мы опечалены, потому что плачем; приведены в ярость, потому что бьем другого; боимся, потому что дрожим…» Такой парадоксальный подход породил оживленную научную дискуссию, которая не стихает по сей день и сама по себе свидетельствует о наличии в этой теории рационального компонента.
Психологические изыскания Джемса носили не только умозрительный характер. В 1892 г. им совместно с Г. Мюнстербергом была основана первая в США лаборатория прикладной психологии.
В 1894 г. Джемс был избран президентом Американской Психологической Ассоциации. В этом отразилось признание научной общественностью его роли в институционализации психологии в качестве самостоятельной науки, отличной как от неврологии, так и от философии.
В 1906 г. Джемс оставил Гарвард. Но до конца жизни он продолжал писать, выступать с лекциями. Его выступления были главным образом посвящены прагматизму – основанному им философскому направлению, рассматривавшему практическую пользу как критерий истины. Оригинальные идеи и блестящий стиль изложения снискали ему широкую популярность.
Уильям Джемс умер от инфаркта 26 августа 1910 г. Его идеи продолжают вдохновлять все новые поколения психологов.
Дж. Сёлли (1843–1923)
История психологической мысли на многочисленных примерах убеждает в правоте избитой истины: новое – это хорошо забытое старое. Современные психологи нередко «изобретают велосипеды», сконструированные давным-давно, – в чем нетрудно убедиться, перелистав пожелтевшие страницы забытых книг. Сегодня лишь немногие энтузиасты знают имена пионеров мировой психологии, а их труды вековой давности пылятся невостребованные на библиотечных полках. Среди таких фигур – основатель английской детской психологии Джеймс Селли[2], чьи идеи были очень популярны на рубеже 19–20 веков во всем просвещенном мире, в том числе и в нашей стране, а ныне прочно забыты. Так давайте сдуем пыль с вековых страниц и познакомимся с ученым, проложившим тот путь, которым сотни и тысячи исследователей следуют поныне.
В 1843 г. в небольшом городке Бриджуотер в семье коммерсанта появился на свет девятый (и далеко не последний) ребенок – Джеймс Селли, ставший впоследствии одним из лидеров британской психологии.
Из автобиографии Селли «Моя жизнь и мои друзья. Воспоминания психолога», изданной им на склоне лет, мы узнаем, что первоначальное образование он получил, закончив Йоувильский частный колледж, а затем по настоянию отца занялся коммерцией и посвятил этому делу три года своей жизни. Подешевле купить, подороже продать – упоительное занятие для людей определенного склада. Селли к таким людям явно не принадлежал. В конце концов он забросил спекуляцию и отправился в Лондон, чтобы продолжить свое образование. Кроме традиционного для той поры изучения древних языков основное внимание он уделял знакомству с трудами Дж. С.Милля, Г.Спенсера, А.Бэна. В 1866 г. он получил степень бакалавра философии. Для завершения своего философского образования он в 1867 г. отправился в Германию, в Геттингенский университет. По возвращении домой год спустя он получил ученую степень магистра. Одним из его экзаменаторов выступил его кумир А.Бэн, по предложению которого соискатель был награжден золотой медалью. По протекции Бэна Селли также начал сотрудничать с редакцией «Двухнедельного обозрения» (Fortnightly Review), в котором в дальнейшем были опубликованы несколько его статей по проблемам философии и психологии.
Психологическая проблематика все более увлекала Селли, однако он понимал, что для занятий в этой сфере ему недостает естественнонаучной подготовки. В ту пору психология оформлялась в качестве самостоятельной науки на пересечении философской мысли и биологических знаний. Убедившись в недостаточности своих знаний по физиологии, Селли решил вновь отправиться в Германию – в знаменитую школу физиологической психологии В.Вундта.
Еще в начале 60-х гг. у Селли возникло увлечение эволюционной доктриной Г.Спенсера. Его мечтой было написать статью об эволюции в очередное издание Британской энциклопедии. Творческие планы часто осуществляются, но редко – в полном соответствии с замыслом. В девятом издании Британской энциклопедии появилась статья Селли об эволюционных взглядах Т.Гексли[3], а также статья «Мечты» – скорее научно-популярная, чем справочно-энциклопедическая. Бэн, в целом благоволивший к молодому ученому, к этим его работам отнесся прохладно. Зато пришли положительные оценки от Т.Рибо из Парижа, Р.Авенариуса из Лейпцига и нескольких других выдающихся ученых той поры. Большое значение имела для Селли оценка, которую Ч.Дарвин дал его статье об эволюции: «Я прочитал ее с величайшим удовольствием и очень сожалею, что она не была опубликована раньше, тогда бы я мог извлечь пользу для решения своих проблем».
Свой первый научный труд «Чувства и интуиция» (1874) Селли начал с главы, посвященной проблеме эволюции. Фактически он следовал традиции британской школы Дж. С.Милля и А.Бэна, которую он «усовершенствовал» эволюционным подходом Г.Спенсера. Л.Херншоу, автор книги «Краткая история психологии Великобритании. 1840–1940», назвал психологию Дж. Селли «систематизированной и поставленной на эволюционный фундамент».
Три года спустя Селли издал вторую книгу, «Пессимизм», более философскую по своему содержанию – в ней он проанализировал взгляды А.Шопенгауэра и В.Гартмана. Эта публикация стоила ему должности заведующего кафедрой философии в Ливерпуле – попечительский совет, заметив лишь название книги и не вникая в ее содержание, посчитал автора пессимистически настроенным, а потому не достойным преподавать философию юношеству.
Селли продолжил педагогическую деятельность в различных учебных заведениях Лондона, читая лекции по теории образования, по вопросам психологии искусства, по психологическим основам проницательности. (Небезынтересно отметить, что преподавательские заработки и гонорары на протяжении долгих лет не позволяли ученому сводить концы с концами, так что уже в зрелом возрасте он был вынужден пользоваться материальной поддержкой отца). Селли был увлечен проблемой сущности и причин возникновения иллюзий. Он провел множество оптических экспериментов, результаты которых обобщил в книге «Иллюзии» (1881). В этой работе он рассмотрел причины возникновения иллюзий, которые, по его мнению, заключались в особенностях восприятия человеком неясных форм видимого объекта, вызывающих игру капризной фантазии. Параллельно он детально изучил не только иллюзии зрительного восприятия, но и мечты, грезы, галлюцинации. Характерно, что этот труд Селли вызвал большой интерес у З.Фрейда и был им высоко оценен. А В.Вунд прислал автору письмо, в котором подчеркивал свое согласие с его гипотезой о том, что иллюзии следует рассматривать по аналогии с ошибками памяти. В России данная книга, в отличие от двух предыдущих, не была переведена.
По просьбе своих студентов Селли написал учебник по психологии для будущих педагогов. Это была его основная работа, обобщившая главные представления и взгляды Селли-психолога. «Очерки психологии» писались в течение трех лет и, по воспоминаниям автора, с трудом нашли издателя. Книга увидела свет в 1884 г., а позднее переиздавалась в сокращенных вариантах – под названием «Человеческий разум» (1892) и «Учебник психологии для учителей» (1886). В России данный труд Селли был переведен и опубликован в Петербурге в 1887 г. под названием «Основные начала психологии и ее применения к воспитанию». Впоследствии книга переиздавалась в нашей стране еще трижды (четвертое издание вышло в 1908 г.).
В этой работе автор изложил свой взгляд на концепцию образования и воспитания, которая во многом опиралась на идеи А.Бэна, но вместе с тем содержала и новые подходы к решению ряда проблем.
Селли развел понятия образования и воспитания. Под образованием он понимал систематизацию знаний, а под воспитанием – сознательное воздействие на ребенка, опирающееся за законы развития его психики. Принципы воспитания базируются на данных двух наук – физиологии и психологии. Исходя из данных физиологии строятся подходы к физическому воспитанию, психология же закладывает основы духовности, то есть воспитания интеллекта, эмоций и воли. В воспитании Селли выделял интеллектуальное, эстетическое и моральное направления, которые в свою очередь отвечали трем основным целям: логической (истине), эстетической (красоте) и этической (добру). Если первые две цели связаны с культивированием в человеке способностей к познанию и эмоциональному развитию, то третья развивает волевую сферу, совершенствует характер человека. Представления о воле, ныне совершенно выпавшие из поля зрения современных психологов, представляют, наверное, наиболее интересную часть концепции Селли. Волю он рассматривал в связи с действием. Известно, что начало мотивационного подхода к проблеме воли было положено еще Аристотелем. Но если у Аристотеля источник действия основывается не на желании человека, а на разумном решении о его осуществлении, то Селли утверждал, что любое действие сопряжено с желанием, которое в свою очередь предполагает как необходимое условие своего существования эмоциональный и интеллектуальный компоненты и зависит от объема и характера воспроизведения в памяти прошлого опыта. Трактовка волевой сферы личности у Селли имела точки соприкосновения с учением о воле А.Бэна, о чем свидетельствует, в частности, идея о тренировке действий в результате неоднократно повторяющихся упражнений.
Особую ценность представляет мысль Селли о роли самоконтроля над поступками и побуждениями. Подчинение личного интереса общему делу он считал высшей стадией самоконтроля. Таким образом, проблема выбора соответствующих форм поведения вышла у Селли далеко за рамки простого порождения действия на уровень проблемы овладения собственным поведением. Ученый еще столетие назад поднял важный вопрос о механизмах саморегуляции.
Бич многих лекторов и ораторов – болезнь голосовых связок – поразил Селли особенно остро. Тем не менее, превозмогая недуг, он продолжал активную преподавательскую деятельность, читал лекции в университетах Кембриджа, Манчестера, других учебных заведениях, принимал активное участие в заседаниях Метафизического, Аристотелевского и Неврологического обществ.
В августе 1892 г. Селли принял активное участие во II Международном психологическом конгрессе в Лондоне в качестве секретаря. Проведению конгресса предшествовала большая подготовительная работа. Президентом конгресса был Г.Сидвик – человек, придерживавшийся строго интроспективного взгляда на сущность психического; по этой причине на конгресс не были приглашены представители экспериментальной ветви психологической науки. Селли посчитал необходимым исправить положение дел. Он отправился в Германию, Австрию и другие страны, чтобы лично пригласить на конгресс Г.Эббингауза, В.Прейера, А.Бине и других известных психологов.
В том же году он получил назначение на должность заведующего кафедрой в университетском колледже в Лондоне. Этой работе он отдал последующие 11 лет жизни, пока ухудшающееся состояние здоровья не вынудило его уйти на покой. В 1897 г. он основал здесь первую в Англии психологическую лабораторию, приобретя оборудование у Гуго Мюнстерберга перед его эмиграцией в Америку. Одним из значительных его организационных достижений на этом поприще стало проведение в колледже 24 октября 1901 г. собрания, на котором было основано Британское психологическое общество. На момент основания общество насчитывало 10 членов, включая самого Селли.
Джеймс Селли по праву считается пионером научной детской психологии в Англии. Он был членом Британской ассоциации по изучению ребенка. Эта организация возникла в Эдинбурге в 1894 г., ее создателями стали три женщины-педагога, которые, побывав в качестве делегатов Педагогического конгресса в Чикаго на секции по изучению ребенка под председательством Г.С. Холла, вернулись в Великобританию вдохновленные идеями американского психолога. Отделения ассоциации были затем открыты в Челтенхэме и Лондоне.
В ноябре 1895 г. увидела свет книга Селли «Изучение детства». Это был один из первых учебников по детской психологии – Селли опередили лишь В.Прейер в Германии и Г.С. Холл в Америке. Британское образование, по признанию современников, находилось в ту пору на весьма невысоком уровне. Еще в 1861 г. государственная комиссия констатировала низкую эффективность многих частных школ из-за отсутствия отлаженной системы элементарного обучения. Потребность в изменению существующего положения была очень велика. Англия тех лет остро нуждалась в квалифицированных педагогических кадрах, а следовательно – в учебных пособиях по детской и педагогической психологии. Появление книги Селли было весьма своевременным.
Первое издание этой книги в России вышло через шесть лет под названием «Очерки по психологии детства». Сочинение Селли заключало в себе множество примеров и было написано в легкой, доступной манере. Автор проанализировал ряд важнейших проблем в этой области знания: последовательных стадий усвоения речи, развития творческого воображения, сущности детской игры, развития представлений о собственном Я, причин детских страхов, детской лжи и др.
В развитии мышления ребенка Селли выделил три стадии: понятие, суждение и умозаключение, или вывод. На первой происходит образование общих идей. Первые понятия у детей отвечают узким классам явлений и предметов, которые представляют для них особый интерес. Дети от года до 15 месяцев изобретают собственные слова и самопроизвольно расширяют с помощью аналогии смысл терминов, например, словом «яблоко» они называют другие плоды. С расширением опыта усиливается способность ребенка к абстракции, он начинает схватывать менее выдающиеся и более тонкие черты сходства. Работу детского мышления, связанную со сравнением предметов, Селли называл «трагизмом детства», потому что наивная уверенность ребенка в стройности и правильности мира сталкивается с беспорядочностью объективной реальности. Стремясь разобраться, упорядочить хаос, ребенок вступает в новый «период вопросов» к концу третьего года жизни. Селли разделил детские вопросы на три группы. В первую группу входили вопросы типа «Что?». Эти вопросы связаны с причудливой детской фантазией, обусловленной детским антропоморфным взглядом на мир, где все живые и неживые предметы имеют привычки взрослых людей. Другой тип детских вопросов относится к смыслу и причине вещей, его типичной формой является вопрос «Почему?» Селли считал, что стремление узнать причину явления у ребенка инстинктивно по своей природе. Особенностью детского мышления на этом этапе является антропоцентрическое оценивание ребенком явлений природы в связи со служением человеку. В дальнейшем антропоцентрические воззрения у детей ослабевают и переходят в вопросы о назначении вещей, то есть малыш обращается к проблеме цели и пользы. Затем мысль маленького философа переходит к вопросу о происхождении. И здесь главной тайной для пытливого ума становится проблема исчезновения больших предметов (вопросы типа «Куда девается весь ветер?»), бесконечного числа существующих вещей, проблема начала жизни.
Разумеется, считал Селли, вопросы ребенка нельзя оставлять без ответа, но «чтобы понимать детские вопросы и чтобы отвечать на них, требуется немалое искусство; для того и другого необходимы обширные и основательные познания и способность живо, симпатически вникать в душу спрашивающего ребенка». Вопросы, оставленные без внимания, разрушают драгоценную умственную деятельность ребенка.
Селли писал о том, что практически невозможно определить границы деления детского воображения на две формы – игру и мысль, ясно лишь, что с возникновением у ребенка способности классифицировать и обобщать окружающие предметы начинается его настоящая мыслительная деятельность. Позднее в опытах Ж.Пиаже было доказано, что дети до определенного возраста не умеют отличать субъективный и внешний мир, они отождествляют свои представления с вещами объективного мира, то есть детские представления развиваются от реализма к объективности.
Несомненную ценность представляет разработанная Селли теория о трех стадиях детского рисования. Известно, что она получила высокую оценку В.М. Бехтерева. Селли полагал, что способность ребенка в области искусства, как и развитие языка, имеет «точки соприкосновения с явлениями первобытной культуры». Однако не следует ожидать полного параллелизма между «грубым искусством ребенка и примитивным искусством расы». Селли видел источник возникновения искусства первобытного человека в деятельности, напоминающей игру. В отличие от первобытного человека ребенок живет в условиях уже существующей культуры, взрослые дарят ему игрушки, поют песни, водят в театр. Ученый стремился выделить черты квази-эстетического чувства ребенка, то есть черты эстетического чувства «в чистом виде», без какого-либо воспитательного влияния. К ним он отнес предпочтение ребенком всего блестящего, позднее детям начинают нравиться предметы, имеющие яркий цвет. То, что ребенок трех-четырех лет имеет пристрастие к определенному цвету, кажется вполне очевидным, однако опыты В.Прейера, А.Бине, Д.Болдуина и других не дают возможности однозначно заключить, какой именно цвет любим малышами больше всего (у Прейера – красный и желтый, у Болдуина – синий). Селли отмечал, что есть все основания «полагать, что дети, как и не особенно интеллигентные взрослые, предпочитают сочетание таких цветов, которые отстоят в спектре далеко друг от друга, например, синего с красным или синего с желтым».
Что касается выбора форм, то он связан в первую очередь с удовольствием от красоты движения. Дети очень любят котят за их грациозные прыжки, вообще малыши предпочитают все маленькое. Селли полагал, что это связано с «ласкающей нежностью, в которой, в свою очередь, содержится некоторое чувство товарищества». Понятие о пропорциональности, симметрии, контуре развивается позднее, так как требует от ребенка определенной степени умственного развития. Селли отмечал, что дети более восприимчивы к ограниченным предметам. Вид бескрайнего моря или высокой горы вызывает у них чувство страха перед неизвестным.
Впервые услышанные звуки также вызывают у ребенка чувство страха, затем удивления и любопытства. Среди предпочтений ребенка Селли назвал большее расположение к высокому женскому голосу, а также пристрастие к ритму. Что касается стихов, то «ребенок любит только те, которые отличаются простым построением, звучным ритмом и краткостью стоп».
Большой научный интерес представляет творчество Селли в области изучения детских чувств, в частности причин возникновения детского страха. Свою задачу ученый видел в применении в данном вопросе «точных научных приемов». Вслед за Дарвином Селли описал сопровождающие внешние признаки страха. Он обратил внимание, что причиной страха ребенка часто бывает внезапный громкий звук. Ученый полагал, что ухо человека «является тем органом чувств, посредством которого нервная система возбуждается сильнее всего и глубже всего». Зрительные формы страха возникают позднее и зависят главным образом от перемены привычной для ребенка обстановки, появления нового лица, незнакомого явления природы и др. Что касается появления у ребенка страха перед животными, то точки зрения Дарвина и Селли были различными. Если Дарвин понимал природу детского страха перед животными как унаследованную от предков, закрепленную жизненными условиями, то Селли считал причиной возникновения данного чувства отражение ребенком «поведения суеверных взрослых» или чрезвычайное развитие детского воображения. Боязнь темноты также связана с детским воображением. Эта проблема затрагивалась в работах многих авторов, в частности нашего соотечественника И.Сикорского, на которого Селли в своей работе ссылается. По мнению Селли, ощущение темноты тягостно само по себе, так как «темнота, скрывая видимый мир, вызывает в робком ребенке, который привык к своей обычной домашней обстановке, особое чувство чуждости и одиночества, удаленности от всего того, что он знает и любит». Селли подробно остановился на механизме возникновения фантастических образов в темной комнате. Он объяснил его изменениями в функционировании сетчатки глаза, которые в свою очередь приводят к разнообразию оттенков темного поля зрения, что и создает эффект сочетания грубых темных неясных очертаний с более светлыми. Ученый рекомендовал родителям «побуждать детей исследовать темные комнаты и ощупывать, не видя, различные предметы; таким образом они могут освоиться с тем фактом, что вещи остаются неизменными даже тогда, когда они окутаны темнотой, и что темнота есть лишь наша временная неспособность видеть предметы». Среди важных условий, способствующих преодолению детского страха, Селли называл спокойную обстановку в семье. По его убеждению, у ребенка, растущего в атмосфере родительской любви, не возникает подобного чувства. Хорошим терапевтическим средством для преодоления страха он считал игру.
Селли интересовал и вопрос о причинах детской лжи, но сначала он предлагал уточнить содержание самого понятия «ложь». Он дал следующее определение: «Под ложью понимается утверждение, высказанное с полным сознанием его неправильности и с целью ввести кого-нибудь в заблуждение». (Если бы наш современник Пол Экман, посвятивший психологии лжи, в частности детской, несколько книг, удосужился сначала прочитать Селли, то многое, вероятно, написал бы по-другому, а то и вовсе не стал бы писать за ненадобностью.) Селли исследовал некоторые формы детской лживости, которые не считал возможным строго квалифицировать как ложь. В основе неверного утверждения ребенка может лежать живая фантазия или сильное желание нравиться. Характер и причины детской лжи могут быть полностью раскрыты только при учете тех чувств, которые ребенок испытывает после сказанной им неправды. По мнению Селли, ложь едва ли является органично присущей человеческим существам. Ребенок, выросший в обществе, где взрослые говорят правду, не склонен лгать сам, причем независимо от нравственных наставлений. Только где его найти, такое общество?
Круг научных интересов Селли был удивительно широк и разнообразен: от проблем педагогической психологии до вопросов, касавшихся эстетики. Последним научным трудом Селли было его исследование по проблемам смеха – «Очерк о смехе» (1902).
В 1903 г. в возрасте 60 лет Селли ушел из университетского колледжа. За последние двадцать лет жизни он написал только автобиографию – интереснейший источник по истории психологии, ныне мало кому известный ввиду слабого интереса нынешних психологов к самому этому предмету. Ухудшавшееся состояние здоровья не позволяло Селли принимать активное участие в общественной жизни, в работе психологической лаборатории университетского колледжа в Лондоне, организатором которой он был.
Умер Джеймс Селли в 1923 г. возрасте 80 лет. С той поры его труды, которыми когда-то зачитывались в Англии, Америке, Франции, Германии, России, больше не переиздавались и мало кем перечитывались. А наверное напрасно…
Г.С. Холл (1844–1924)
По признанию коллег, на заре становления психологической науки Стэнли Холл выступил покровителем и наставником для большего числа исследователей, чем любые три его самые выдающиеся современника вместе взятые. Новаторские начинания Холла во многом определили облик психологии ХХ века. Современные психологи хорошо знают его имя, однако упоминают его нечасто. Выступив пионером во многих областях, никакой собственной оригинальной теории он не создал, не основал научной школы, его труды в основном принадлежат истории и едва ли могут служить источником вдохновения для современных исследователей. Кем же был этот выдающийся американец, каков его подлинный вклад в науку?
Гренвилл Стэнли Холл (подобно многим другим сложным английским именам, имя Холла в обиходе употребляется в сокращенной форме, и многим он известен как Стэнли Холл) родился в феврале 1844 г. в небольшом городке Ашфилд, штат Массачусеттс, в семье небогатого фермера. Для своего круга его родители были весьма просвещенными людьми, и в то же время – весьма религиозными. В их мечтах будущее сына было связано с духовным саном. С малых лет мальчик воспитывался в атмосфере пуританской морали, наравне со взрослыми трудился на ферме. Его отличали высокое честолюбие и целеустремленность, еще подростком он дал себе зарок «достичь чего-нибудь в жизни», хотя еще смутно представлял перспективы своей карьеры. К его негативному юношескому опыту можно, пожалуй, отнести лишь эпизод, относящийся к началу гражданской войны. Не желая рисковать жизнью сына, Холл-старший решил поступиться нравственными принципами и за взятку добыл медицинское заключение о его негодности к воинской службе. (Как видим, от армии «косили» и полтора века назад.) Узнав об этом, юноша испытал острый стыд. Впрочем, в его оправдание можно было бы сказать, что в университетских лабораториях он сумел принести больше пользы, чем если бы сумел заколоть пару соотечественников под Геттисбергом.
В 1863 г., следуя пожеланиям родителей, Холл поступил в колледж Уильямса, намереваясь посвятить себя духовной карьере. Учился он хорошо и к последнему курсу сумел собрать множество студенческих регалий. Не слишком увлекаясь богословием, он проявил повышенный интерес к философии, внимательно изучил эволюционную теорию, что впоследствии заметно повлияло на выбор его пути в науке. Однако процесс самоопределения был долгим и непростым. По окончании колледжа Холл все еще плохо представлял, чему он намерен себя посвятить. Скорее по инерции он поступил в Нью-Йоркскую семинарию, хотя пастырское поприще привлекало его все меньше. Прилежного семинариста из него не получилось, да и интерес к философии и биологии этому отнюдь не способствовал. Рассказывают, что, когда по завершении своей пробной проповеди Холл отправился к своему духовному наставнику выслушать его оценку, тот, не говоря ни слова, опустился на колени и принялся молиться за спасение заблудшей души горе-проповедника.
Несмотря на столь сомнительные успехи, Холл получил протекцию со стороны известного проповедника Генри Бичера, который порекомендовал ему продолжить образование в Европе и добился выделения на эти цели стипендии в 500 долларов. Располагая столь крупной по тем временам суммой, Холл отправился в Германию, где поступил в Боннский университет, а затем перебрался в Берлин. Помимо философии и теологии, он по собственной инициативе принялся изучать физику и физиологию, некоторое время работал под руководством известного физиолога Дюбуа-Реймона. В эту пору Холл пережил несколько ярких романтических увлечений, что не очень способствовало усердной учебе. К тому же стипендия, поначалу казавшаяся огромной, быстро таяла, тем более что ее изрядная часть утекала сквозь пальцы в берлинских пивных. Понимая, что это не делает чести студенту-теологу, Холл некоторое время терзался угрызениями совести, пока однажды нос к носу не столкнулся в питейном заведении с одним из своих преподавателей, профессором богословия.
В 1871 г. в возрасте 27 лет Холл возвратился домой, так и не получив диплома и весь в долгах. В духовный сан он так и не был посвящен и окончательно отказался от этой стези после не слишком удачной попытки стать проповедником в сельском приходе. Больше года он жил частными уроками, а затем получил место преподавателя в Антиохском колледже в штате Огайо. Здесь он преподавал литературу, иностранные языки, выполнял обязанности библиотекаря и даже руководил местным хором. Его честолюбивые юношеские устремления постепенно таяли.
В 1874 г. Холл познакомился с «Основами физиологической психологии» В.Вундта, и это стало поворотным пунктом в его карьере. Он перебрался в Кембридж, штат Массачусеттс, и устроился преподавателем английского языка в Гарвардский университет. Параллельно он с усердием принялся за продолжение своего собственного образования, близко сошелся с Уильямом Джемсом. В 1878 г. он представил к защите диссертацию, посвященную тактильному восприятию пространства. Успешно ее защитив, Холл первым в Соединенных Штатах получил докторскую степень в области психологии.
Затем последовала новая поездка в Европу, на сей раз – в лабораторию Вундта. Холл прилежно посещал все лекции, безропотно соглашался на роль испытуемого в экспериментах, пытался проводить собственные исследования. Впоследствии он, однако, отмечал, что эти занятия не оправдали его ожиданий. Обозревая собственные научные достижения Холла, действительно, следует признать, что Вундт на него особого влияния не оказал.
На родине перспективы профессиональной карьеры были весьма туманны. Психологов в Америке были единицы, и никто толком не представлял, какая от них может быть польза. Холл понял, что у него не будет иного способа удовлетворить свое честолюбие, чем применить психологические знания в педагогике. Лейтмотивом его доклада на собрании Национальной педагогической ассоциации в 1882 г. была идея о необходимости сделать изучение психологии ребенка приоритетным в деятельности учителя. Эту мысль он не уставал повторять при каждой возможности, и в конце концов она нашла отклик. Ректор Гарвардского университета предложил Холлу подготовить серию лекций по вопросам образования. На эти выступления поступило множество положительных отзывов, и на карьере Холла это сказалось очень благоприятно. Он был приглашен работать в Университет Дж. Хопкинса, где вскоре получил должность профессора. Здесь он приступил к созданию научной психологической лаборатории, которая считается первой в Соединенных Штатах. Впрочем тут приоритет Холла многие оспаривают. Еще раньше психологическая лаборатория была основана Уильямом Джемсом, однако она предназначалась в основном для демонстрации опытов, то есть была не научной, а учебной. Существенно и то, что университет никогда не причислял лабораторию Холла к числу своих подразделений: она была оборудована им за свой счет, принадлежала ему на правах частной собственности, и, покидая Университет Дж. Хопкинса в 1888 г., Холл все оборудование забрал с собой. (В годы работы лаборатории в ней прошли подготовку многие впоследствии известные специалисты, в частности Джон Дьюи и Джеймс Маккин Кеттелл).
В 1887 г. Холл основал «Американский журнал психологии» – первый в США специализированный журнал в данной области, который существует по сей день и сохраняет высокую репутацию. Журнал выполнял важную функцию консолидации усилий немногочисленных в ту пору американских психологов. Он был основан, благодаря пожертвованию некого анонимного мецената. Правда, вскоре выяснилось, что жертвователь перепутал экспериментальную психологию с оккультизмом (удивительно живучее заблуждение!), и новых взносов на продолжение проекта не последовало. К тому времени, когда Холл продал это предприятие Карлу Далленбаху в 1929 г., он вложил в него 8000 долларов личных средств, не получив ни гроша прибыли. Тем не менее, несмотря на первоначальную финансовую несостоятельность этих проектов, Холл еще неоднократно выступал основателем психологических журналов. Им был основан также «Педагогический семинар», который, сменив название на «Журнал генетической психологии», существует по сей день, а также «Журнал прикладной психологии». С 1904 по 1915 г. Холл издавал «Журнал религиозной психологии».
В конце восьмидесятых в карьере Холла, да и в истории всей американской науки, произошел знаменательный поворот. Богатый предприниматель Джонас Гилман Кларк задумал основать в своем родном городке Вустер, штат Массачусеттс, высшее учебное заведение, которое, по его честолюбивым замыслам, затмило бы все существовавшие ранее американские университеты. Стэнли Холл, который уже успел приобрести репутацию серьезного специалиста в области образования, был приглашен возглавить новый университет в должности его президента. Прежде чем занять этот пост, он предпринял длительное турне за границу, чтобы изучить деятельность европейских высших учебных заведений и пригласить во вверенный ему университет талантливых преподавателей и исследователей. Биографы Холла иронично отмечают, что помимо решения этой практической задачи он не упустил возможности использовать средства мецената на расширение собственной эрудиции за счет всевозможных экскурсий, а также не отказывал себе в развлечениях, в том числе и далеко выходивших за рамки пуританской морали той поры.
По возвращении на родину Холл с энтузиазмом принялся за организационную работу в университете, который официально открылся в 1888 г. и был назван по имени спонсора Университетом Кларка. Правда, и тут не обошлось без финансовых проблем: вопреки ожиданиям Холла мистер Кларк оказался довольно прижимист и разборчив в выборе проектов, достойных финансирования. Будучи человеком набожным, Кларк желал придать некоторый религиозный оттенок своему меценатству. Идя ему навстречу, Холл основал в рамках университета Школу религиозной психологии Кларка. Под влиянием своих юношеских штудий он и сам написал обстоятельный труд «Иисус Христос в свете психологии». Однако выдающийся психолог богословом, вероятно, был действительно никудышним. Его трактовка Христа как своего рода сверхчеловека встретила крайнее неодобрение церковных авторитетов.
Как президент университета Холл стоял на весьма прогрессивных для своего времени позициях. Вопреки бытовавшим предрассудкам он позволял занимать преподавательские должности женщинам и евреям, широко открыл двери университета для представителей национальных меньшинств. Первым чернокожим американцем, получившим докторскую степень по психологии, был его ученик Френсис Самнер. Впоследствии он сделал блестящую карьеру и возглавил отделение психологии в Гарварде.
В течение 36 лет, когда Холл возглавлял университет Кларка, психология в нем процветала. За это время там защитили диссертации более восьмидесяти молодых ученых-психологов. Впоследствии ученики Холла вспоминали долгие оживленные семинары, которые он вечерами проводил у себя дома по понедельникам. Эти занятия затягивались допоздна, порой проходили очень бурно, и, чтобы остудить страсти, всякий раз завершались совместным поеданием мороженого.
Научный авторитет Холла был очень высок, его мнением ученики очень дорожили. Льюис Термен вспоминал: «Холл при проверке работ проявлял столько эрудиции, что нас всегда это поражало. Его экспромты на полях были неизмеримо глубже самой работы, на которую студент затратил месяцы тяжкого труда».
В 1892 г. Холл выступил инициатором встречи двадцати шести ведущих психологов Америки (на ней, правда, отсутствовали Джемс и Дьюи), на которой было принято решение об основании Американской Психологической Ассоциации. Первым президентом Ассоциации присутствовавшие без колебаний избрали Холла.
Одним из первых в Новом Свете Холл проявил интерес к психоанализу. В 1909 г. он пригласил З.Фрейда и К.Г. Юнга на торжества по случаю двадцатилетнего юбилея университета. Выступая перед собравшейся в Вустере аудиторией Фрейд выразил искреннюю признательность за это «первое официальное признание» его трудов. Так началась экспансия психоанализа в западном полушарии, последствия которой в ту пору даже невозможно было вообразить.
Холл (сидит в центре) с гостями юбилейных торжеств в Университете Кларка (1909). Сидят – З.Фрейд (слева) и К.Г. Юнг (справа); стоят (слева направо) – А. Брилл, Э.Джонс,Ш. Ференци
Что же касается собственных научных изысканий Холла, то они относились преимущественно к области детской и педагогической психологии. Для исследования детской психики им широко использовались опросники, которых им совместно с учениками было составлено около двух сотен. (На этом основании его иногда называют пионером данного метода, что не совсем точно, поскольку опросники еще до Холла использовались Ф.Гальтоном.) Дети, отвечая на вопросы, должны были сообщать о своих чувствах (в частности, моральных и религиозных), об отношении к другим людям, о ранних воспоминаниях и т. п. На основе полученных материалов Холл написал ряд работ, среди которых наиболее известен капитальный (около полутора тысяч страниц) труд «Юность» – первая в истории психологии монография, посвященная психическому развитию в подростковом и раннем юношеском возрасте. Эта работа встретила критику, так как строилась на признании полной достоверности высказываний детей о самих себе. Такая критика, в частности, в дальнейшем стимулировала усовершенствование метода опросников, поскольку показала низкую достоверность ответов на «лобовые» вопросы, а также недопустимость буквальной интерпретации каждого ответа. И сегодня, по прошествии века, дилетанты продолжают штамповать по рецептам Холла всевозможные «психотесты» для бульварных газет. Настоящие опросники конструируются уже иначе, во многом благодаря учету негативного опыта Холла.
«Юность» подверглась критике также в связи с тем, что в ней впервые было уделено пристальное внимание вопросам пола. Э.Торндайк писал, что в этой книге «действия и чувства, вытекающие из особенностей пола, как нормальные, так и болезненные, обсуждаются так, как никогда ранее в англоязычной литературе». В то время многих это шокировало, в том числе и психологов. Например, Энджел писал Титченеру: «Что может вытащить Холла из этой треклятой сексуальной колеи? Я всерьез полагаю, что уделять так много внимания этой теме дурно в моральном плане и просто неумно.» Публичные лекции Холла по половым вопросам вызвали бешеный ажиотаж, аудитории были переполнены. (Женщины на лекции не допускались, зато постоянно подслушивали под дверью.) Не желая провоцировать скандал, а может быть – просто постепенно охладев к этой теме, Холл со временем ее оставил.
В объяснении психического развития ребенка Холл опирался на биогенетический закон, на основе которого в детскую и педагогическую психологию вводился принцип рекапитуляции (сокращенного повторения в индивидуальном развитии основных этапов развития человеческого рода). Формирование детской психики трактовалось им как фатальный переход от низших стадий развития человеческого рода к высшим. Например, характер детских игр объяснялся как проявление и «изживание» охотничьих инстинктов первобытных людей, а игры подростков считались воспроизведением образа жизни воинственных племен. Из этого следовали выводы о том, что детям следует предоставить возможность беспрепятственно проходить «примитивные» стадии своего развития.
Холл по праву считается пионером возрастной психологии. Уже на склоне лет, во многом под влиянием собственного опыта, он написал фундаментальный труд «Старость», явившейся первой психологической работой по проблемам старения. В последние годы жизни Холл написал две автобиографии – «Воспоминания психолога» (1920) и «Исповедь психолога» (1923) – во многом субъективные в оценках, но представляющие бесценный материал по истории становления психологической науки.
Холл продолжал активно писать и после своей отставки с поста президента университета Кларка в 1920 г. Он умер четырьмя годами позже, через несколько месяцев после того, как вторично был избран президентом Американской Психологической Ассоциации. После смерти Холла 99 из 120 членов АПА назвали его в числе десяти психологов общемирового значения, отмечая его талант педагога, усилия по организации науки, его вызов ортодоксальности. Многие, правда, невысоко отзывались о его личных качествах. Да и сам Холл в одной из автобиографий признавал, что вся его жизнь – это сплошная череда причуд, ошибок, грехов и безумств. Впрочем, мелкие житейские грешки забываются, ошибки исправляются (в науке в этом, наверное, и состоит в прогресс), а плоды усердного вдохновенного труда остаются надолго.
И.П. Павлов (1849–1936)
Иван Петрович Павлов был первым русским ученым, удостоенным Нобелевской премии. Сегодня его имя и основные положения его теории знакомы любому психологу, даже американскому (хотя этим знакомство с российской психологией в западном полушарии обычно и исчерпывается). Павлов оказал исключительное влияние на мировую науку и как почти всякий ученый такого масштаба заслужил крайне противоречивые оценки. Для одних он выступает выдающимся экспериментатором и теоретиком, который утвердил естественнонаучный подход в психологии и на долгие годы определил магистральное направление психологической мысли. Иные, напротив, воспринимают его как вульгарного материалиста, чьи изыскания фактически выхолостили психологию и сильно исказили и затруднили ее развитие. Впрочем, полярные оценки всегда далеки от истины. А кем же на самом деле был первый российский нобелевский лауреат, какова его роль в отечественной и мировой психологии? За 63 года, прошедшие после смерти Павлова, было опубликовано много научно-биографических работ, посвященных его творческому пути. Почти во всех этих трудах Павлов предстает преимущественно как физиолог (каковым он и сам себя считал). Мы же попробуем взглянуть на его научную биографию с позиций психологов, поскольку именно в психологию он фактически и внес наиболее значительный вклад.
Иван Петрович Павлов родился 26 сентября 1849 г. в Рязани. Его мать, Варвара Ивановна, происходила из семьи священника; отец, Петр Дмитриевич, был священником, служившим поначалу в бедном приходе, но благодаря своему пастырскому рвению со временем ставшим настоятелем одного из лучших храмов Рязани. С раннего детства Павлов перенял у отца упорство в достижении цели и постоянное стремление к самосовершенствованию. В возрасте семи лет он перенес тяжелую травму головы, из-за чего школьное обучение было отложено на несколько лет. Обучением сына занялся сам Петр Дмитриевич. Своего первенца (всего в семье было одиннадцать детей) отец желал видеть священнослужителем, и не обычным – «из семинаристов», а ученым богословом «из академиков». Следуя родительской воле, Павлов начал посещать начальный курс духовной семинарии, а в 1860 г. поступил в рязанское духовное училище. Программа подготовки священнослужителей включала довольно широкий круг дисциплин, в том числе и естественные науки. Именно к этой сфере Павлов почувствовал наибольшую склонность, постепенно охладевая к духовной карьере.
Увлечение физиологией возникло у Павлова после того, как он прочитал русский перевод книги английского критика Джорджа Льюиса «Физиология обыденной жизни». Его увлечение окрепло после прочтения популярных работ Д.И. Писарева, которые подвели его к изучению теории Ч.Дарвина.
Не закончив духовного образования, Павлов в 1870 г. уехал в Петербург, где поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Его интерес к физиологии возрос после прочтения книги И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». Изучением этой науки он занялся в лаборатории И.Циона, который занимался исследованием влияния нервов на деятельность внутренних органов. Именно по предложению Циона Павлов провел свое первое научное исследование – изучение секреторной иннервации поджелудочной железы; за эту работу он был удостоен золотой медали университета.
После получения в 1875 г. степени кандидата естественных наук Павлов поступил на третий курс Медико-хирургической академии в Петербурге (преобразованной впоследствии в Военно-медицинскую). Здесь он надеялся стать ассистентом Циона, который незадолго до этого был назначен ординарным профессором кафедры физиологии. Однако это назначение вскоре было отменено, ибо противоречило государственному установлению, согласно которому к подобным должностям не допускались лица еврейского происхождения. Оскорбленный Цион покинул Россию. Это событие навсегда сохранилось в памяти Павлова, и впоследствии он буквально приходил в бешенство при малейшем намеке на антисемитизм. Отказавшись работать с преемником Циона, Павлов стал ассистентом в Ветеринарном институте, где в течение двух лет изучал пищеварение и кровообращение. Летом 1877 г. он работал в городе Бреслау, в Германии (ныне Вроцлав, Польша) с Рудольфом Гейденгайном, специалистом в области пищеварения. Гейденгайн занимался изучением пищеварения у собак, используя выведенные наружу части желудка. Павлов усовершенствовал эту методику, решив проблему сохранения нервного управления выведенной частью желудка. В следующем году по приглашению С.П. Боткина Павлов начал работать в физиологической лаборатории при его клинике в Бреслау, еще не имея медицинской степени, которую он получил в 1879 г. В лаборатории Боткина Павлов фактически руководил всеми фармакологическими и физиологическими исследованиями.
После длительной борьбы с администрацией Военно-медицинской академии (отношения с которой стали натянутыми после его реакции на увольнение Циона) Павлов в 1883 г. защитил диссертацию на соискание степени доктора медицины, посвященную описанию нервов, контролирующих функции сердца. Он был назначен приват-доцентом в академию, но вынужден был отказаться от этого назначения в связи с дополнительной работой в Лейпциге с Гейденгайном и Карлом Людвигом, двумя наиболее выдающимися физиологами того времени. Через два года Павлов вернулся в Россию.
Многие исследования Павлова в 1880-х годах касались системы кровообращения. Наибольшего расцвета творчество Павлова достигло к 1879 г., когда он вплотную занялся исследованиями физиологии пищеварения, которые продолжались свыше 20 лет. В своей книге «Лекции о работе главных пищеварительных желез» Павлов рассказал о своих опытах и наблюдениях, о приемах работы. За этот труд он и получил в 1904 г. Нобелевскую премию.
Будучи от рождения левшой, как и его отец, Павлов постоянно тренировал правую руку и в результате настолько хорошо владел обеими руками, что, по воспоминаниям коллег, ассистировать ему во время операций было очень трудной задачей: никогда не было известно, какой рукой он будет действовать в следующий момент.
Преданность Павлова экспериментальной науке была всецелой. Его совершенно не интересовали бытовые условия жизни. В 1881 г. он женился, и его жене, Серафиме Васильевне, пришлось полностью взять на себя решение всех текущих проблем. Таково было взаимное соглашение, заключенное в самом начале супружества. Со своей стороны Павлов обязался никогда не пить, не играть в карты и ходить в гости или принимать гостей только в выходные дни. Его бескорыстная одержимость работой доходила до такой степени, что жене иной раз приходилось напоминать ему о получении жалования. Впрочем, жалование ученых в нашем отечестве никогда не было высоким. Долгие годы семья Павловых жила крайне стесненно. В 1884 году, когда Павлов работал над докторской диссертацией, родился первый ребенок. Хрупкий и болезненный младенец не сможет выжить, говорили врачи, если мать и ребенок не смогут отдохнуть за городом, в благоприятных условиях. Деньги на поездку пришлось занимать, однако было уже поздно: ребенок умер. Некоторое время Павлов вынужден был ночевать на койке в своей лаборатории, а жена и второй ребенок жили у родственников, ибо собственное жилье было не по карману. Группа студентов Павлова, зная о его финансовых затруднениях, передала ему деньги под предлогом покрытия расходов на демонстрации опытов. Из этой суммы ученый не взял себе ни копейки, все потратил на своих лабораторных собак.
На протяжении всей своей научной деятельности Павлов сохранял интерес к влиянию нервной системы на функционирование внутренних органов. В начале ХХ в. его эксперименты, касающиеся пищеварительной системы, привели к изучению условных рефлексов. Открытие условных рефлексов, как и многие другие выдающиеся научные достижения, произошло, по мнению многих ученых, совершенно случайно, когда Павлов, исследуя работу пищеварительных желез, – для того, чтобы получить возможность собирать желудочный сок вне организма собаки, – воспользовался методом хирургического вмешательства. Павлов и его коллеги обнаружили, что если пища попадает в рот собаки, то начинает рефлекторно вырабатываться слюна. Когда собака просто видит пищу, то также автоматически начинается слюноотделение, но в этом случае рефлекс значительно менее постоянен и зависит от дополнительных факторов, таких, как голод или переедание. Суммируя различия между рефлексами, Павлов заметил, что «новый рефлекс постоянно изменяется и поэтому является условным». Таким образом, один только вид и запах пищи действует как сигнал для образования слюны. «Любое явление во внешнем мире может быть превращено во временный сигнал объекта, стимулирующего слюнные железы, – писал Павлов, – если стимуляция этим объектом слизистой оболочки ротовой полости будет связана повторно… с воздействием определенного внешнего явления на другие чувствительные поверхности тела».
Пораженный ролью условных рефлексов в поведении, Павлов после 1902 г. сконцентрировал все свои научные интересы на изучении высшей нервной деятельности. Тут необходимо отметить, что хотя исследования рефлекторной природы поведения по сути были психологическими, Павлов намеренно не вторгался в область психологии, постоянно подчеркивая их физиологический характер (своих сотрудников он даже штрафовал за использование психологической терминологии). В своих выступлениях он не раз склонял «несостоятельные психологические претензии». Он был знаком со структурной и функциональной психологией, но соглашался с Джемсом в том, что психология еще не достигла уровня подлинной науки. Собственный подход он считал конструктивной альтернативой психологическим рассуждениям. В своей известной речи, произнесенной в Мадриде, он указывал: «Полученные объективные данные, руководясь подобием или тождеством внешних проявлений, наука перенесет рано или поздно и на наш субъективный мир и тем сразу и ярко осветит нашу столь таинственную природу, уяснит механизм и жизненный смысл того, что занимает человека все более, – его сознание, муки его сознания». В дальнейшем Павлов не раз подчеркивал социальную значимость исследования условных рефлексов, направленного на разработку точной науки о человеке, которая «выведет его из теперешнего мрака и очистит его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений».
По иронии судьбы самое сильное влияние идеи Павлова оказали именно на психологию – то есть ту область, к которой он не особенно благоволил. Уже первые сведения о нем, дошедшие до западных психологов, получили широкий резонанс. На VI Международном психологическом конгрессе в Женеве (1909) прозвучало имя Павлова. Оно упоминалось неоднократно, однако не русскими участниками конгресса (они составляли небольшую группу во главе с Г.И. Челпановым), а американскими исследователями Р.Йерксом, М.Прайнсом, Ж.Лебом. Открытие условного рефлекса американские психологи восприняли как революцию с изучении поведения. В докладе Р.Йеркса «Научный метод в психологии животных» высказывалась уверенность, что новые научные устремления, среди выразителей которых первым назывался Павлов, позволят дать объективный анализ восприятию животных, их памяти, привычек и т. д. Заметим, что в этом же году Йеркс опубликовал на английском языке сводку работ павловской лаборатории, впервые познакомившую западного читателя с учением об условных рефлексах; это сыграло важную роль в разработке объективных методов в американской психологии. Методы Павлова предоставили психологической науке базовый элемент поведения, конкретную рабочую единицу, к которой могло быть сведено сложное человеческое поведение для его изучения в лабораторных условиях. Дж. Уотсон ухватился за эту рабочую единицу и сделал ее ядром своей исследовательской программы. Павлов был удовлетворен работами Уотсона, заметив, что развитие бихевиоризма в Соединенных Штатах является подтверждением его идей и методов. Не будет преувеличением сказать, что все поведенческое направление в психологии выросло из павловской рефлекторной теории. На протяжении десятилетий и западная, и отечественная психология развивалась именно в этом ключе. Ограниченность такого подхода выступила лишь по прошествии длительного времени, и было бы необоснованно с сегодняшних позиций упрекать в ней именно Павлова.
В советской науке условнорефлекторная теория была поднята на щит, поскольку в полной мере отвечала насущному социальному запросу. Принципы формирования «нового человека» как нельзя лучше выводились из приемов натаскивания павловских собак. Правда, сам ученый к большевистскому социальному экспериментированию относился резко критически, открыто заявляя, что для таких опытов он пожалел бы даже собаки. Как писал позднее академик Петр Капица, Павлов «без стеснения, в самых резких выражениях критиковал и даже ругал руководство, крестился у каждой церкви, носил царские ордена, на которые до революции не обращал внимания».
Сам Павлов писал: «В первые годы революции многие из почтенных профессоров лицемерно клялись в преданности и верности большевистскому режиму. Мне было тошно это видеть и слышать, так как я не верил в их искренность. Я тогда написал Ленину: «Я не социалист и не верю в Ваш опасный социальный эксперимент».
Ответ главы Совнаркома был неожиданным: он распорядился обеспечить Павлову все условия для научной работы, организовать (в голодном Петрограде!) питание подопытных собак. Совнарком принял по этому поводу особое постановление. (Рассказывают, что академик Алексей Крылов, встретив как-то Павлова на улице, с горькой иронией попросил взять его к себе в собаки.)
Академик Павлов считал своим долгом заступаться за несправедливо арестованных или осужденных людей. Иногда его заступничество спасало людям жизнь.
Резко критические обращения академика Павлова к властям представляют собой одни из самых замечательных документов эпохи. 21 декабря 1934 г., через 3 недели после убийства Кирова и начала новой волны репрессий, 85-летний ученый направляет в правительство обращение, в котором пишет: «Революция застала меня почти в 70 лет. А в меня засело как-то твердое убеждение, что срок дельной человеческой жизни именно 70 лет. И поэтому я смело и открыто критиковал революцию. Я говорил себе: «Черт с ними! Пусть расстреляют. Все равно жизнь кончена, а я сделаю то, что требовало от меня мое достоинство». На меня поэтому не действовало ни приглашение в старую Чеку, правда, кончившееся ничем, ни угрозы при Зиновьеве в здешней «Правде»…
Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Я всего более вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками. Как это понимать? Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного достоинства. Не один же я так чувствую и думаю? Пощадите же родину и нас».
Когда 27 февраля 1936 г. ученого не стало, профессор медицины Дмитрий Плетнев (позднее оклеветанный и расстрелянный) дал в некрологе совсем неожиданную для той эпохи характеристику Ивана Петровича Павлова: «Он никогда, никогда, ни в молодости, ни в старости не лицемерил, не приспособлялся. Он глубоко презирал людей, которых историк эпохи Смутного времени охарактеризовал словами: «Телом и духом перегибательные».
В одной из биографических статей о Павлове можно найти довольно типичное для советской науки высказывание: «Учение И.П. Павлова до конца раскрыло тайну сказочной «души». Вот только вряд ли в это верил сам академик. По крайней мере, похоронить себя он завещал с полным соблюдением православного обряда.
Честный и здравомыслящий человек, Павлов много сделал для объяснения механизмов поведения, но никогда не претендовал на исчерпывающее толкование всей душевной жизни. Зато в этом преуспели его рьяные «последователи», попытавшиеся довести павловскую теорию до абсурдной крайности. В 1950 г. состоялась научная сессия АН и АМН СССР, посвященная учению Павлова (в дальнейшем ей присвоили название «павловской»). На сессии были сделаны два главных доклада. С ними выступили академик К.М. Быков и профессор А.Г. Иванов-Смоленский. С этого момента они обрели статус верховных жрецов культа Павлова. Всем было ясно, чья могущественная рука подсадила их на трибуну сессии. Уже не было необходимости сообщать, что доклады одобрены ЦК ВКП(б). Это разумелось само собой – на основе учета опыта августовской сессии ВАСХНИЛ, где информация об одобрении ЦК была сообщена Т.Д. Лысенко уже после того, как некоторые выступавшие в прениях неосторожно взяли под сомнение непогрешимость принципов «мичуринской» биологии. Подобного на «павловской» сессии дожидаться не стали, и начались славословия в адрес главных докладчиков, «верных павловцев», наконец, якобы открывших всем глаза на это замечательное учение.
Сессия с самого начала приобрела антипсихологический характер. Идея, согласно которой психология должна быть заменена физиологией высшей нервной деятельности, а стало быть, ликвидирована, в это время не только носилась в воздухе, но уже и материализовалась. Так, например, ленинградский психофизиолог М.М. Кольцова заняла позицию, отвечавшую санкционированным свыше указаниям: «В своем выступлении на этой сессии профессор Теплов сказал, что, не принимая учения Павлова, психологи рискуют лишить свою науку материалистического характера. Но имела ли она вообще такой характер? С нашей точки зрения, данные учения о высшей нервной деятельности игнорируются психологией не потому, что это учение является недостаточным, узким по сравнению с областью психологии и может объяснить лишь частные, наиболее элементарные вопросы психологии. Нет, это происходит потому, что физиология стоит на позициях диалектического материализма; психология же, несмотря на формальное признание этих позиций, по сути дела, отрывает психику от ее физиологического базиса и следовательно, не может руководствоваться принципом материалистического монизма».
Что означало в те времена отлучение науки от диалектического материализма? Тогда было всем ясно, какие могли быть после этого сделаны далеко идущие «оргвыводы». Впрочем, и сама Кольцова предложила сделать первый шаг в этом направлении: «Надо требовать с трибуны этой сессии, чтобы каждый работник народного просвещения был знаком с основами учения о высшей нервной деятельности, для чего надо ввести соответствующий курс в педагогических институтах и техникумах наряду, а может быть, вместо курса психологии».
Перед историками психологии не раз ставились вопросы, связанные с оценкой этого периода ее истории. Причины «павловской» сессии? Очевидно, проблему надо поставить в широкий исторический контекст. В конечном счете, это была одна из многих акций, которые развертывались в этот период, начиная с 30-х годов и почти до момента смерти Сталина, по отношению к очень многим наукам. Это касалось педологии и психотехники, еще раньше – философии. Такие кампании были и в литературоведении, языкознании, в политэкономии. Особо жесткий характер это приобрело в биологии. Таким образом определялась позиция каждой науки на путях ее бюрократизации и выделения группы неприкасаемых лидеров, с которыми всем и приходилось в дальнейшем иметь дело как с единственными представителями «истинной» науки. Происходила канонизация этих «корифеев», как был канонизирован «корифей из корифеев» Сталин. А так как они признавались единственными держателями «истины», то ее охрану обеспечивал хорошо налаженный командный, а в ряде случаев и репрессивный аппарат. Поэтому речь идет об общем процессе. Впрочем, иначе и быть не могло. Было бы, в самом деле, странно, если бы все это произошло именно и только с психологией.
Но неужели психологи не могли решительно протестовать против вульгаризаторского подхода к психологии, закрывавшего пути ее нормального развития и ставившего под сомнение само ее существование? Почему все на сессии клялись именами Сталина, Лысенко, Иванова-Смоленского, а не только именем Павлова?
Современникам просто невозможно представить себе грозную ситуацию тех лет. Любая попытка прямого протеста и несогласия с утвержденной идеологической линией сессии двух академий была чревата самыми серьезными последствиями, включая прямые репрессии. И все-таки поведение психологов на сессии нельзя считать капитулянтским. Их ссылки на имена тогдашних «корифеев» были не более как расхожими штампами, без которых не обходилась тогда ни одна книга или статья по философии, психологии, физиологии (иначе они просто не увидели бы света). Вместе с тем, если внимательно прочитать выступления психологов, их тактику можно не только понять, но и вполне оценить, разумеется, если не подходить к ней с позиций сегодняшнего дня.
Конечно, сейчас тяжело перечитывать самообвинения и «разбор» книг чужих и собственных со скрупулезным высчитыванием, сколько раз на их страницах упоминалось имя Павлова, а сколько раз оно отсутствовало. Нельзя отрицать, что психология фактически привязывалась к колеснице победителей – физиологии ВНД. Однако цель оправдывала средства. На сессии психология отстаивала свое право на существование, которое оказалось под смертельной угрозой. Во время одного из заседаний Иванов-Смоленский получил и под хохот зала зачитал записку, подписанную так: «Группа психологов, потерявших предмет своей науки». Но если бы такое было сказано в резолюции сессии, то это означало бы ликвидацию психологии как науки. Поэтому пафос выступлений психологов сводился к отстаиванию предмета своей науки. И признание «ошибок» лидерами психологической науки сегодня не должно вызывать никаких иных эмоций, кроме сочувствия и стыда за прошлое науки. Едва ли справедливо бросать камень в тех, кто перед лицом упразднения целой отрасли знания каялся «галилеевым покаянием».
Менее всего есть основания считать, что сложившаяся ситуация отвечала генеральной линии развития павловского учения и позициям самого Павлова. Надо иметь в виду, что сам Павлов, недолюбливавший психологов, тем не менее считал, что психология и физиология идут к одной цели разными путями. Примечательно, что он приветствовал открытие психологического института в Москве, а уже при советской власти приглашал его изгнанного директора, профессора Г.И. Челпанова на работу в свою лабораторию. Поэтому нельзя рассматривать «павловизацию» психологии со всеми ее драмами и курьезами (к примеру, попытки строить обучение школьников, ориентируясь на механизмы выработки условных рефлексов) как запоздалый результат каких-то волеизъявлений великого ученого. Надо сказать, что к концу жизни с ним вообще не очень-то считались. Он был нужен и полезен как икона и предпочтительнее мертвый, чем живой.
На протяжении долгого времени сохранялся миф о якобы благотворном влиянии «павловской» сессии на развитие психологической науки. Историю психологии, как и предполагал К.М. Быков, делили лишь на два перида: «допавловский» и «павловский». Лишь с конца 50-х годов крайности антипсихологизма «павловской» сессии стали постепенно преодолеваться. Хотя надо признать, что они не изжиты до сих пор. Так, единственный для многих источник научных представлений о душевной жизни – современный школьный учебник «Человек» – фактически всецело трактует психику как систему рефлексов. Однако современный этап развития отечественной психологии все же можно назвать скорее «послепавловским».
Так или иначе, сам академик Павлов был и остается великим ученым, разгадавшим многие тайны поведения. Не его вина, что его имя начертали на своих знаменах научные погромщики. Павлов поистине выше упреков и не нуждается в защите и оправдании.
Г. Эббингауз (1850–1909)
24 января 1850 г. родился Герман Эббингауз – один из основателей экспериментальной психологии. В отличие от своего современника В. Вундта, изучавшего «первоэлементы» сознания и убежденного, что высшие психические функции невозможно экспериментально исследовать, Эббингауз предпринял смелую попытку изучать память с помощью строгих научных методов.
Выпускник Боннского университета, Эббингауз несколько лет провел в Англии и во Франции, зарабатывая на жизнь репетиторством. В лавочке парижского букиниста он случайно нашел книгу Т. Фехнера «Основы психофизики». Это событие не только круто изменило жизнь самого Эббингауза, но и существенно повлияло на судьбу всей психологической науки.
В книге Фехнера были сформулированы математические законы, касающиеся отношений между физическими стимулами и вызываемыми ими ощущениями. Воодушевленный идеей открытия точных закономерностей психических процессов, Эббингауз решил приступить к опытам над памятью. Он ставил их на самом себе и при этом руководствовался давней идеей о том, что люди запоминают, сохраняют в памяти и воспроизводят факты, между которыми сложились ассоциации. Но обычно эти факты подвергаются осмыслению, и поэтому трудно установить, возникла ли ассоциация благодаря памяти, или в дело вмешался ум. Эббингауз задался целью установить законы памяти «в чистом виде» и для этого изобрел особый материал. Единицами такого материала стали отдельные бессмысленные слоги, состоявшие из двух согласных и гласной между ними (наподобие «бов», «гис», «лоч» и т. п.). Предполагалось, что такие элементы не могут вызвать никаких ассоциаций, и их запоминание никак не опосредуется мыслительными процессами и эмоциями.
Недавние изыскания позволили уточнить особенности экспериментального материала Эббингауза. При тщательном изучении записок исследователя выяснилось, что в некоторых из придуманных им слогов было по четыре, пять и даже шесть букв. Но более важно другое. Помимо родного немецкого Эббингауз свободно владел английским и французским, неплохо знал греческий и латынь. При этом ему было крайне нелегко найти такие сочетания звуков, которые звучали бы для него абсолютно бессмысленно и не рождали бы никаких ассоциаций. Но на самом деле он к этому и не стремился. В неточном переводе его экспериментальный материал принято было называть «рядом бессмысленных слогов», тогда как на самом деле он имел в виду «бессмысленный ряд слогов». По Эббингаузу, лишенными смысла должны быть не отдельные слоги (хотя и этого ему в большинстве случаев удалось добиться). Бессодержательным, не вызывающим никаких ассоциаций, должен быть весь набор в целом. По мнению некоторых исследователей, это ставит под сомнение чистоту экспериментов Эббингауза. Однако не подлежит сомнению, что для своего времени его опыты были поистине новаторскими. Э. Титченер оценил их как первый значительный шаг в этой области со времен Аристотеля.
Составив список бессмысленных звукосочетаний (около 2300 слогов, выписанных на карточках), Эббингауз экспериментировал с ними на протяжении пяти лет. Основные итоги этого исследования он изложил в ставшей классической книге «О памяти» (1855). Прежде всего он выяснил зависимость числа повторений, необходимых для заучивания списка, от его длины, установив, что при одновременном прочтении запоминается, как правило, 7 слогов. При увеличение списка требовалось значительно большее число его повторений, чем количество присоединенных к первоначальному списку слогов. Число повторений принималось за коэффициент запоминания.
Разработанный Эббингаузом метод сохранения заключался в том, что через определенный промежуток времени после того, как ряд был заучен, вновь предпринималась попытка его воспроизвести. Когда определенное количество слогов не могло быть восстановлено в памяти, ряд снова повторялся до его правильного воспроизведения. Число повторений (или время), которое потребовалось для восстановления знания полного ряда, сопоставлялось с числом повторений (или временем), затраченным при первоначальном заучивании.
Особую популярность приобрела вычерченная Эббингаузом кривая забывания. Быстро падая, эта кривая становится пологой. Оказалось, что наибольшая часть материала забывается в первые минуты после заучивания. Значительно меньше забывается в ближайшие последующие минуты и еще меньше – в ближайшие дни. Сравнивалось также заучивание осмысленных текстов и бессмысленных слогов. Эббингауз заучивал текст «Дон Жуана» Байрона и равный по объему список слогов. Осмысленный материал запоминался в 9 раз быстрее. Что же касается кривой забывания, то она в обоих случаях имела общую форму, хотя в первом случае (при осмысленном материале) падение кривой шло медленнее. Эббингауз подверг экспериментальному изучению и другие факторы, влияющие на память (например, сравнительную эффективность сплошного и распределенного во времени заучивания).
Эббингаузу принадлежит также ряд других работ и методик, поныне сохраняющих свое значение. В частности, им был создан носящий его имя тест на заполнение фразы пропущенным словом. Этот тест стал одним из первых в диагностике умственного развития и нашел широкое применение.
Хотя Эббингауз и не разработал специальной теории, его исследования стали ключевыми для экспериментальной психологии. Они на деле показали, что память можно изучать объективно, не прибегая к субъективному методу, выяснению того, что происходит в сознании испытуемого. Была также показана важность статистической обработки данных с целью установления закономерностей, которым подчинены, при всей их прихотливости, психические явления. Эббингауз разрушил стереотипы прежней экспериментальной психологии, созданной школой Вундта, где считалось, что эксперимент приложим только к процессам, вызываемым в сознании субъекта с помощью специальных приборов. Был открыт путь экспериментальному изучению, вслед за простейшими элементами сознания, сложных форм поведения – навыков. Кривая забывания приобрела значение образца для построения в дальнейшем графиков выработки навыков, решения проблем и др.
Эббингауз основал психологические лаборатории в университетах Берлина, Бреслау и Галле. В 1902 г. вышло имевшее огромный успех руководство «Основы психологии», которое автор посвятил памяти Фехнера. Основанный Эббингаузом «Журнал психологии и физиологии органов чувств» явился первой попыткой выйти за рамки «цеховых» изданий и представить результаты научных исследований широкой публике; тому способствовали высокие требования к ясности и доступности стиля публикаций.
Эббингауз не создал формальной психологической системы, не основал собственной научной школы. Да он едва ли и стремился к этому. Тем не менее ему удалось занять исключительное место в истории психологической науки. Настоящим мерилом ценности ученого является то, насколько его взгляды и выводы прошли проверку временем. А с этой точки зрения Эббингауз оказал на науку влияние даже более значительное, чем Вундт. Исследования Эббингауза привнесли объективность количественных и экспериментальных методов в изучение высших психических функций. Именно благодаря Эббингаузу работа в области изучения ассоциаций из теоретизирования об их свойствах превратилась в подлинно научное исследование. Многие из его заключений о природе обучения и памяти остаются справедливыми даже столетие спустя.
З. Фрейд (1856–1939)
Ежегодно в начале мая психоаналитическое сообщество более или менее пышно (в зависимости от округлости даты) отмечает день рождения того, кто на долгие годы обеспечил это сообщество смыслом существования и куском сдобного хлеба, – Зигмунда Фрейда, психиатра, который научил добрую половину человечества втайне стыдиться любви к родителям и находить сексуальный подтекст в банальных оговорках. В ХХ веке учение Фрейда превратилось в один из столпов западной культуры. Правда, далеко не все перед этим учением благоговеют. Кое-кто даже утверждает, что оно относится не столько к сфере науки, сколько мифологии, что свои суждения о природе человека Фрейд по большей части выдумал. Наверное, это преувеличение. Трудно согласиться с тем, что теория Фрейда универсальна, то есть справедлива для всех и каждого. Но не подлежит сомнению, что встречаются люди, вполне отвечающие фрейдистским представлениям. По крайней мере, имя одного такого человека известно совершенно точно. Это Зигмунд Фрейд. Свою теорию психосексуального развития личности он отнюдь не выдумал, а в полном смысле слова выстрадал. Наверное, погорячился лишь в том, что распространил ее и на нас с вами. И это вполне соответствует открытому им феномену проекции: коли окружающие не лучше меня, а то и хуже, то мне – чего стыдиться?
Попробуем разобраться, так ли это. Ибо если справедливо, что индивидуальный жизненный опыт накладывает неизгладимый отпечаток на все мировоззрение человека, то понять это мировоззрение можно лишь с опорой на этот опыт. Что же пережил тот мальчик, который повзрослев сочинил на основе мифа об Эдипе миф об Эдиповом комплексе?
О детстве Фрейда достоверно известно немного – не больше, чем о детстве любого другого человека. Ведь это только если случится человеку стать знаменитым, сразу найдется толпа друзей дома и сотни три бывших одноклассников, которые насочиняют о его детстве ворох слащавых небылиц. Потом официальный биограф, отобранный по критерию безупречной лояльности, отфильтрует эти басни и отлакирует сухой остаток. Таким биографом после смерти Фрейда выступил один из его верных соратников Эрнст Джонс, с чьих слов в основном и известен жизненный путь основателя психоанализа. Однако при всем обилии фактов ценность такой парадной биографии невелика – слишком уж очевидно стремление автора приукрасить канонизированный образ. К тому же и сам мистер Джонс – слишком противоречивая, мягко скажем, фигура, чтобы с почтением относиться к его словам. Небезынтерсный факт: Джонс, некоторое время работавший в детской больнице, был оттуда с позором уволен после многочисленных обвинений в сексуальных контактах с детьми; бежав от ареста в Канаду, он принялся практиковать там, но вскоре вынужден был откупаться от своей пациентки, дабы она не предавала огласке тот факт, что он ее совратил. Что ни говори, а доверия к его славословиям это не прибавляет – в трезвый взгляд и кристальную честность совратителя и педофила верится с трудом. Так что восстанавливая более или менее объективную картину ранних лет жизни Фрейда, приходится опираться на иные источники, в частности – обнародованные в самое недавнее время.
Затрудняет дело то, что сам человек о первых годах своей жизни не помнит почти ничего. Разумеется, отсутствует в памяти и сам акт появления на свет. (Попытки его «припомнить» под действием «кислоты» или надышавшись до асфиксии и помрачения рассудка ничего, кроме иронии, у здравомыслящего человека не вызывают.) «Детская амнезия», явление, до сих пор не получившее удовлетворительного объяснения, – это исчезновение воспоминаний практически обо всем, что происходило с человеком до 5–6 лет. Очень немногие взрослые могут вспомнить хотя бы столько моментов из раннего детства, сколько хватило бы на полчаса реальной жизни. Фрейда очень интересовала эта «странная загадка», и он пытался преодолеть собственную амнезию в надежде, что это поможет ему лучше разобраться в себе и вообще понять человеческую природу (в спорности вопроса – насколько второе выводимо из первого – он, похоже, не отдавал себе отчета). Самым многообещающим источником представлялись сны – если их должным образом истолковать. Сомнения в истинности фрейдистского толкования сновидений появились много позже – когда полученные «результаты» уже обрели характер догмы. Каковы же были те реальные факты, которые определили становление личности будущего ученого и его научного мировоззрения?
Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в полседьмого вечера на втором этаже скромного домика на Шлоссергассе, 117, во Фрайберге, в Моравии (ныне г. Пршибор, Чехия). Семья, в которой он появился на свет, словно специально была создана как иллюстрация к психоаналитической доктрине. Его отец, Якоб Фрейд, был уже немолод (ему было за сорок) и имел двух взрослых сыновей от первого брака. Его первая жена умерла. По некоторым сведениям, достоверность которых спорна, Якоб вскоре женился второй раз на некоей Ребекке, но этот брак продлился недолго, и о судьбе Ребекки не известно ничего. Джонс в своей биографии о ней даже не упоминает, называя второй женой Якоба Фрейда Амалию Натансон. Вторая или третья, именно Амалия стала матерью Зигмунда. Она была более чем вдвое моложе своего мужа и души не чаяла в своем первенце, «золотом Зиги». Взаимную нежную привязанность мать и сын пронесли через всю жизнь (Амалия Фрейд умерла в 1930 г. в возрасте 95 лет). Они еще могли себе это позволить. Ведь о существовании Эдипова комплекса еще долго никто не догадывался!
Самыми ранними воспоминаниями первенца Амалии были искры, летающие над узкой лестницей в доме кузнеца Заджика, где квартировала семья Фрейд. Восемь месяцев спустя после рождения Зигмунда Амалия снова забеременела, и в октябре 1857 года у нее родился второй сын, Юлиус. Зигмунд ревновал мать к нему, и смерть Юлиуса полгода спустя вызвала в нем раскаяние, которое постоянно проявлялось впоследствии в его снах. В этом отношении детство Фрейда было необычным: он утверждал, будто помнит о нем больше, чем большинство людей. Возможно ли это? Доказать справедливость этого утверждения невозможно, как и большинства догматов психоанализа. Так или иначе, в письме своему другу, доктору В.Флиссу от 1897 г. Фрейд признает наличие злобных желаний в отношении своего соперника Юлиуса и добавляет, что исполнение этих желаний в связи с его смертью возбудило упреки в собственный адрес – склонность, которая не покидала его с тех пор. В том же письме он рассказывает, как между двумя и двумя с половиной годами было разбужено его либидо по отношению к матери, когда он однажды застал ее обнаженной.
Детская сексуальность занимает центральное место в теории Фрейда, и поэтому исследователи стремятся найти ее следы в его собственной биографии. Весьма вероятно, что он видел, как его родители занимаются сексом в их тесном жилище. Фрейд, впрочем, никогда не упоминал об этом, но как психоаналитик очень интересовался «первичной сценой» – фантазией, которую младенец выстраивает вокруг занятий взрослых в постели. По крайней мере именно этот сюжет всплыл в ходе психоанализа Сергея Панкеева (Человека с Волками). Интересна реакция на это самого Панкеева. Этот русский плейбой жировал за границей на деньги своих родителей-помещиков и от праздности и пресыщенности терзался душевной смутой. Психоанализ Фрейда якобы вернул ему душевное равновесие. Дожил Панкеев до преклонных лет, но всю жизнь уклонялся от обсуждения этого эпизода своей биографии. Лишь в старости он дал интервью, которое разрешил опубликовать только после своей смерти. Вероятно, сказалась признательность к психоаналитическому сообществу, которое сделало из него культовую фигуру и почти в буквальном смысле долгие годы его подкармливало, после того как он был разорен революцией. Так вот, домыслы Фрейда сам Панкеев всегда считал совершенно безосновательными – хотя бы по той причине, что в доме его родителей (точнее – в многокомнатном особняке, так не похожем на каморку семьи Фрейд) детская находилась в изрядном удалении от родительской спальни, и вряд ли полуторагодовалый мальчик решился бы проделать этот путь среди ночи.[4] Не говоря уже о том, что, по признанию Панкеева, никакого душевного облегчения такой анализ ему не принес.
В биографии, написанной Джонсом, непосредственно фигурирует эпизод подглядывания маленького Зигмунда за родителями. Упоминается также, какой гнев это вызвало у Якоба. Легко понять, насколько был напуган малыш гневом отца, который только что совершал нечто непонятное и по всей вероятности насильственное над его любимой матерью. Так что впоследствии выдумывать пресловутый Эдипов комплекс ему не было никакой нужды. Уж по крайней мере в данном случае для возникновения этого комплекса имелись все основания.
В возрасте двух лет Зигмунд все еще мочился в постель, и строгий отец, а не снисходительная мать, ругал его за это. Именно из подобных переживаний в нем зародилось убеждение в том, что обычно отец представляет в глазах сына принципы отказа, ограничения, принуждения и авторитета; отец олицетворял принцип реальности, в то время как мать – принцип удовольствия. Джонс, тем не менее, настаивает, что Якоб Фрейд был «добрым, любящим и терпимым человеком». А вот менее лояльные исследователи приходят к совсем иным выводам.
Голландский психолог П. Де Врийс, проанализировав окло 300 писем Фрейда к Флиссу, пришла к выводу, что маленький Зигмунд весьма вероятно подвергался сексуальным посягательствам со стороны отца.
После смерти отца в 1896 г. Фрейд начал свой самоанализ. Он объяснял его необходимость тем, что сам себе диагностировал «невротическую истерию», по причине которой часто страдал «истерическими головными болями». В чем же виделась ему психогенная природа этой боли. В письме Флиссу от 8 февраля 1897 г. Фрейд описывает аналогичные симптомы у одной пациентки (?). Ощущение давления в висках и темени он связывал со «сценами, где с целью действий во рту фиксируется голова». Характерно, что следующий абзац письма посвящен отцу, умершему несколько недель назад. В письме читаем буквально следующее: «К сожалению, мой отец был одним из извращенцев и стал причиной истерии моего брата и некоторых младших сестер». Незадолго до этого, в письме от 11 января 1897 г. Фрейд четко сформулировал, что он понимает под словом «извращенец» – отец, который совершает сексуальные действия над своими детьми.
Ничего себе – семейка!
Разумеется, ревностные фрейдисты такую трактовку воспримут в штыки. Оно и понятно. Стоит аналитику усомниться в непорочности отца-основателя, и под вопросом оказываются не только долгие годы учебы (и затраченные на нее немалые средства), не только право «лечить» других (и получать за это солидное вознаграждение), но также важнейшие убеждения относительно себя самого, ядро личности психоаналитика. Вот только что это за ядро?..
Ныне вышел из моды термин «моральная дефективность», а похоже – зря. По крайней мере в данном случае истоки этого явления кажутся достаточно ясными. И здоровым людям, выросшим в полноценных семьях, остается только пожалеть маленького невротика из Фрайберга.
В Фрайберге Зигмунд прожил недолго. Коммерческие начинания Якоба Фрейда успеха не имели, что поставило семью на грань финансового краха. К тому процветавший в Моравии антисемитизм заставлял задуматься о перемене места жительства. В октябре 1859 г. семья покинула Фрайберг и после нескольких месяцев, проведенных в Лейпциге в бесплодных поисках новых доходов, наконец обустроилась в Вене. Этому городу и суждено было впоследствии стать цитаделью психоанализа. Здесь Фрейд прожил около 80 лет. Здесь он получил образование. В гимназии он был первым учеником и, по собственному признанию, пользовался известными привилегиями: его даже переводили из класса в класс без экзаменов. Родители ценили успехи сына, заметно превосходившего своими способностями других детей. Для приготовления уроков ему была выделена керосиновая лампа, тогда как остальным приходилось довольствоваться свечами.
В возрасте 17 лет Зигмунд с отличием окончил гимназию и решил посвятить себя науке. Он испытывал в тот период «непреодолимую потребность разобраться в загадках окружающего мира и по возможности сделать что-либо для их решения». Но осуществлению его замыслов препятствовала государственная политика Австро-Венгрии, ограничивавшая сферу деятельности евреев коммерцией, юриспруденцией и медициной. Известное влияние на Фрейда оказала его дружба с Генрихом Брауном, который позднее стал одним из видных деятелей социал-демократического движения, основал совместно с К. Каутским и К. Либкнехтом журнал «Новое время». Под его влиянием Фрейд склонялся к изучению права, но вскоре оставил этот замысел. Не чувствовал он особой склонности и к карьере врача, но тем не менее выбрал медицину как сферу наиболее близкую его интересам.
В 1873 г. он поступил на медицинский факультет Венского университета. Учебные занятия Фрейд совмещал с работой в Институте физиологии при университете, руководимом Эрнстом Брюкке. Сотрудничество с этим выдающимся ученым укрепило научный склад мышления Фрейда. Под руководством Брюкке он осуществил несколько оригинальных исследований, способствовавших оформлению теории нейронов.
Работая в институте Брюкке, Фрейд не мог оставаться в стороне от острых научных дискуссий своего времени. Революция, совершавшаяся в естествознании, требовала мировоззренческого осмысления научных открытий, и это дало толчок его интересу к философии. Однако к тому времени, когда он поступил на медицинский факультет, курс философии был упразднен, и свою склонность к философии Фрейд удовлетворял лишь посредством самообразования. С этой целью в 1874–1875 гг. он прослушал цикл лекций немецкого философа Ф.Брентано. Учение Брентано о психических актах как направленных действиях души, его полемика с английским психиатром Г.Модсли по проблемам бессознательного вызвали живой интерес Фрейда. Брентано не разделял идею бессознательного, но благодаря его работе «Психология с эмпирической точки зрения» (1874) Фрейд смог познакомиться с существовавшими в истории философии трактовками этой проблемы. По-видимому, общение с Брентано не ограничивалось стенами университетской аудитории, поскольку именно благодаря его рекомендации Фрейд получил заказ на перевод сочинений английского философа Джона Стюарта Милля. В ходе этой работы Фрейд приобщился, в частности, к философии Платона, о которой Милль был весьма высокого мнения. Платоновская идея воспоминания произвела на Фрейда глубокое впечатление и впоследствии была использована им при разработке техники психоанализа.
В 1881 г., закончив медицинский факультет Венского университета, Фрейд получил ученую степень по медицине. Он намеревался стать профессиональным научным работником. Однако осуществить намерение не представлялось возможным. Вакансий в институте Брюкке не было, а на перспективные вакансии претендовали другие его ассистенты, начавшие работу раньше Фрейда. Это положение усугублялось тяжелым материальным положением семьи, едва сводившей концы с концами после финансового кризиса 1873 г. К тому же в 1882 г. Фрейд познакомился и тайно обручился с двадцатилетней Мартой Бернайс, также происходившей из небогатой семьи. Ему было известно непреложное условие матери невесты: замуж Марта выйдет только за человека, способного ее обеспечить. В отчаянии писал он невесте: «Ежедневно и ежечасно одни и те же вопросы: в доме нет денег, нет дров, мать больна и нуждается в свежем воздухе». Единственным выходом из создавшегося положения была частная практика. Пройдя стажировку в Венской народной больнице, Фрейд открыл врачебный кабинет и занялся лечением неврозов.
Однако вскоре он обнаружил, что не располагает ни исчерпывающей теорией, ни эффективными методами для борьбы с этим распространенным, но малоизученным заболеванием. психология, делавшая свои первые шаги, мало чем могла ему помочь. Лишь в 1879 г. В.Вундтом был создан первый в мире Институт психологии и издан официальный документ, определявший ее статус в системе наук. Психология в ту пору не располагала теорией, способной пролить свет на феномен невроза. «Психология, – писал Фрейд, – могла предложить нам очень мало, а для наших целей совсем ничего, нам пришлось заново открывать как наши методы, так и теоретические гипотезы, на которых эти методы основывались».
Страстное желание как можно быстрее отыскать новое терапевтическое средство, энтузиазм и нетерпение Фрейда отражает история с кокаином. В 1883 г. по заказу химической фабрики Мерка в Дармштадте он предпринял экспериментальное исследование свойств кокаина, причем эксперименты осуществлял главным образом на себе и своих близких. На основании этих исследований его друг Карл Коллер ввел кокаин в офтальмологию в качестве анестезирующего средства. Однако эксперименты Фрейда нанесли серьезный ущерб здоровью некоторых его добровольных испытуемых. Разразился скандал. В медицинских кругах за Фрейдом надолго закрепилась репутация авантюриста и шарлатана.
В этот нелегкий период жизни произошли и некоторые позитивные события, сыгравшие важную роль в становлении научного мировоззрения Фрейда. В 1885 г. по рекомендации Брюкке он занял место приват-доцента неврологии в Венском университете. Новая должность дала возможность отправиться на стажировку в Париж, во всемирно известную клинику Сальпетриер, которую возглавлял крупнейший невропатолог своего времени Жан Мартен Шарко, признанный «Наполеоном неврозов». Возможность блестящей стажировки окрылила Фрейда. В письме невесте от 20 июня он писал: «Я поеду в Париж, стану великим ученым и вернусь в Вену, окруженный великой, огромной славой, мы сразу поженимся, и я вылечу всех неизлечимых нервнобольных…»
Парижские впечатления несколько охладили его энтузиазм. Стипендия была невелика, и жить приходилось чрезвычайно скромно. К тому разговорным французским Фрейд владел не блестяще, мешал сильный акцент. Коллеги встретили его корректно, но весьма прохладно. Тем не менее молодой венский врач присоединился к большой толпе ассистентов, практикантов и стажеров, которая постоянно сопровождала Шарко во время обходов больных и при сеансах их лечения гипнозом. Случай помог Фрейду сблизиться с Шарко, к которому он обратился с предложением перевести на немецкий язык его лекции. Шарко был очень доволен предложением, хотя впоследствии выразил неудовольствие в связи с многочисленными сносками и комментариями, которыми Фрейд снабдил перевод.
Фрейд благоговел перед Шарко, и не будет преувеличением сказать, что влияние на него французского мэтра было исключительным. «Мне случалось, – писал он Марте 24 ноября 1885 г., – выходить с его лекций с таким ощущением, словно я выхожу из Нотр-Дам, полный новыми представлениями о совершенстве». «Ни один человек не имел на меня такого влияния», – утверждал он.
Основное внимание Шарко привлекали функциональные психические расстройства, в частности истерия и истерический паралич. Он считал, что истерия – психогенное заболевание, то есть протекает без изменения в тканях и вызывается чисто душевными причинами, которые нельзя обнаружить с помощью микроскопа. (Надо отметить, что до Шарко понятие психогенного заболевания было медицине совершенно чуждо.) Мысль Шарко о том, что причины функциональных психических расстройств следует искать не в анатомии, а в психологии, глубоко запала в сознание Фрейда.
Кроме того в одной из бесед с Фрейдом Шарко заметил, что источник странностей в поведении невротика таится в особенностях его половой жизни. Впоследствии эта идея, развитая Фрейдом, послужила краеугольным камнем психоанализа.
Полное собрание его сочинений составляет 24 тома, и наивно пытаться их пересказать. Предельно упрощая, идеи Фрейда можно сформулировать так. Сознание – это лишь поверхностный пласт человеческой психики. Корни нашего мироощущения и поведения лежат глубже и недоступны сознанию. В их основе – природное влечение к удовольствию. А поскольку сексуальное удовлетворение – это квинтэссенция удовольствия, то и влечения человека по сути своей сексуальны. Однако суровая общественная мораль ограничивает сексуальность. Вхождение человека в общество – это череда болезненных столкновений с запретами. Ушибы от этих столкновений всю жизнь болят в виде неосознаваемых комплексов и неврозов. И вся душевная жизнь – это сплошное противоречие природных влечений и навязанной извне самоцензуры.
Не вдаваясь в даний спор сторонников и противников Фрейда (и тех, и других всегда было немало: еще при жизни он удостоился мемориальной доски на родном доме и публичного сожжения своих трудов), попробуем взглянуть на проблему с иной стороны. Ибо верно замечено: человек – это то, что с ним происходит. Наши суждения и представления – результат нашего жизненного опыта. А какой же опыт стоит за плечами величайшего теоретика сексуальности? Разобравшись в этом, мы наверное многое поймем, в том числе – и про самих себя.
Период взросления и возмужания Фрейда пришелся на эпоху, которую принято называть викторианской. А викторианская мораль по сути своей была категорически антисексуальна. Достаточно сказать, что существовал жесткий запрет на наготу, даже в интимных супружеских отношениях. Появление нагой натуры неохотно допускалось на живописном полотне, которое викторианский зритель рассматривал, как наш современник – фотографию лунного пейзажа, то есть как нечто такое, что, конечно, существует в действительности, но что едва ли когда удастся увидеть своими глазами. В викторианской Англии даже было принято на ножки стульев надевать нечто наподобие юбочек во избежание ассоциаций с наготой женской ножки. Современное искусство нередко забывает о таких деталях. Так, в советской экранизации «Анны Карениной» режиссера А.Зархи Анна и Вронский в любовной сцене, пускай и намеком (цезура не дремала!), показаны обнаженными, хотя в ту эпоху подобная сцена была просто немыслима. Авторы английской экранизации «Женщины французского лейтенанта», действие которой происходит как раз в викторианскую пору, более точны: герой и героиня предаются любви, одетые в ночные рубахи до пят. Теряя в выразительности, кадр выигрывает в достоверности. Сегодня это кажется невероятным, но в то время даже супруги могли за всю жизнь ни разу не увидеть друг друга обнаженными. Сегодня любой подросток знает, что зрительные образы сильно стимулируют эротические чувства. Каково же было викторианским супругам! Не говоря уже о том, что соприкосновение закутанных тел не очень-то возбуждает.
Вообще сексуальность викторианской моралью расценивалась как нечто низменное и постыдное. Удовольствие от секса считалось признаком испорченности, и ни одна порядочная женщина не могла себе позволить к этому стремиться. То, что все-таки можно было себе позволить (в современной сексологии это определяется как диапазон приемлемости), исчерпывалось удручающим минимумом при абсолютной недопустимости каких-либо вариаций поз и ласк. Новаторский для своего времени труд доктора Крафт-Эббинга (кстати, настольная книга Фрейда) мало того, что назывался «Сексуальная психопатия», но и трактовал ряд проявлений сексуальности, ныне вполне приемлемых и практикуемых в каждой спальне, как грубые извращения. Можно себе представить, сколь скудный сексуальный рацион ожидал молодого Фрейда в супружестве. Судя по всему, только его он и получил.
Здесь уместно заметить, что Фрейд, умевший погружаться в самые интимные тайны людей и пытавшийся узнать о них даже больше, чем люди сами о себе знали, сделал все, чтобы его личная жизнь была окутана завесой тайны. Переписку, касающуюся интимных вопросов, он беспощадно уничтожал. Тем не менее, по некоторым высказываниям близко знавших его людей можно составить приблизительно представление о его личной жизни.
Однажды Фрейд обмолвился, что впервые влюбился в шестнадцатилетнем возрасте. Гизелла Флюсс надменно отвергла любовь будущего светила, чем, возможно, способствовала вытеснению его грешных мыслей в подсознание. Механизм вытеснения будет детально описан Фрейдом тридцать лет спустя.
Взаимности Фрейду удалось добиться лишь через десять лет. В 26-летнем возрасте он познакомился с Мартой Бернайс (ей был тогда 21 год), которая вскоре согласилась выйти за него замуж. Свадьба состоялась только через четыре года, поскольку мать невесты выдвинула категорическое требование: мужем Марты станет только человек, способный ее обеспечить.
За годы помолвки Зигмунд и Марта виделись редко. Однако, страстно желая близости, Фрейд буквально заваливал невесту письмами: их сохранилось около полутора тысяч. То есть ежедневно жених обращался мысленным взором к невесте. Эти письма, преисполненные трепетной нежности, доносят до нас томление духа молодого Фрейда. Нетрудно догадаться, что имело место и томление плоти. Утолить его Фрейду удалось лишь в тридцатилетнем возрасте.
По замечанию одного из биографов, «Фрейд обладал ненасытным сексуальным аппетитом». За первые девять лет супружества у Марты и Зигмунда родилось шестеро детей. Но это, вероятно, и было основным итогом сексуальной активности. С рождением последнего ребенка совпала определенная потеря интереса к сексу. Не исключено, что причина кроется в том, что отцу многочисленного семейства приходилось теперь больше задумываться о средствах предохранения, чем о плотских радостях.
В 1907 году в гости к Фрейду приехал его коллега Карл Густав Юнг с женой. Впоследствии он рассказывал: «Когда я прибыл в Вену со счастливой молодой женой, Фрейд пришел повидать нас в гостиницу и принес цветы для Эммы. Он старался быть очень предупредительным и в один из моментов сказал мне: «Я прошу прощения за то, что не могу проявить подлинного гостеприимства. У меня дома нет ничего, кроме старой жены». Встреча со «старой женой» все-таки состоялась, и после нее Юнг отметил: «Было более чем очевидно, что отношения между Фрейдом и его женой носили весьма поверхностный характер».
О том же еще более откровенно свидетельствует письмо самого Фрейда, датированное 1908 годом: «Семейная жизнь перестает давать те наслаждения, которые она обещала сначала. Все существующие сейчас противозачаточные средства снижают чувственные наслаждения». За несколько лет до этого он писал своему близкому другу Вильгельму Флиссу: «Сексуального возбуждения для меня больше не существует».
Из шестерых детей Фрейда развитию идей отца посвятила свою жизнь лишь дочь Анна, словно компенсируя свою сексуальную невостребованность. Кстати, другим ее увлечением было вязание, которое родоначальник фрейдизма считал символическим замещением полового акта.
Судя по этим разрозненным данным, личная жизнь отца сексуальной революции вполне соответствует теории, которую он выдвигал. «Сексуальная жизнь цивилизованного человека серьезно искалечена общественной моралью», – писал он и собственной судьбою доказал правоту своих слов. А как знать, что мы сегодня понимали бы под фрейдизмом и существовал бы он вообще, будь фрау Марта немножко поласковее к своему ученому супругу?
Из Парижа в Вену Фрейд вернулся окрыленным. Однако коллеги встретили его прохладно. Его доклад о стажировке был встречен скептически. Предстояли еще годы становления собственной концепции, которая должна была принести ему признание.
Несколько лет Фрейд продолжал без особого успеха испытывать различные фармакологические и физиотерапевтические средства лечения больных. Пациентов ему в основном направлял его старший коллега и друг Йозеф Брейер, взявший его под свое покровительство.
В 1888 г. Фрейд ознакомился с книгой ученика Шарко – доктора Ипполита Бернгейма – «Внушение и его применение в качестве терапии», в которой описывались результаты лечения невротиков методом гипнотического внушения. С целью освоить технику гипноза Фрейд в 1889 г. отправился в Нанси, где работал Бернгейм. Метод гипноза произвел на него большое впечатление. В ряде случаев гипнотическое внушение вело к полному исчезновению у больных истерических симптомов. Особенно поразил Фрейда эксперимент Бернгейма с пациенткой, которой в состоянии гипнотического сна было приказано по пробуждении раскрыть стоявший в углу зонтик, что она и сделала. На вопрос, зачем понадобилось раскрывать зонт в помещении, пациентка смущенно ответила, что хотела удостовериться, ее ли это зонтик. Факт гипнотического внушения не отложился в ее памяти. Это натолкнуло Фрейда на мысль, что работа мозга не всегда осознается, что в основе поведения могут лежать бессознательные мотивы, которые можно обнаружить с помощью специфических приемов, например – гипноза.
Однако собственная практика лечения гипнозом продемонстрировала ограниченные возможности этого метода. Пытаясь из разрозненных наблюдений и гипотез построить целостную картину невротического заболевания, Фрейд вспомнил случай, рассказанный Брейером и впоследствии ставший широко известным как «случай Анны О.» Пациенткой Брейера (установлено, что ее подлинное имя – берта Паппенгейм) была молодая женщина, страдавшая расстройством мышления и речи, нервным кашлем и параличом ног. С помощью гипноза Брейеру удалось добиться воспроизведения больной тревоживших ее образов и фантазий. Оказалось, что травмировавшие ее психику переживания были связаны с болезнью и смертью отца. По мере того как пациентка заново переживала травмировавшую ее ситуацию, болезненные симптомы постепенно исчезали. На этом основании Брейер сделал вывод, что болезненный симптом является заменителем подавленного импульса. Суть предложенного им нового метода лечения истерии, названного катарсическим (от греческого «катарсис» – очищение), состояла в том, чтобы заставить больного вспомнить, осознать и тем самым разрядить подавленный психический импульс.
Фрейд решил проверить этот метод и вскоре уже мог привести несколько аналогичных случаев из собственной практики. В 1895 г., обобщив накопленный опыт, Брейер и Фрейд опубликовали совместную работу «Этюды по истерии» (в русском переводе – «Очерки истерии»). Книга вышла тиражом всего 800 экземпляров и не привлекла внимания специалистов, хотя в ней впервые была предпринята попытка установить связи неврозов с неудовлетворенными влечениями. В дальнейшем из-за разногласий соавторов о механизмах истерии, роли сексуального фактора и других причин произошел разрыв их почти пятнадцатилетней дружбы.
Последующий этап научной деятельности Фрейда проходил, по его собственному признанию, «в блестящей изоляции». Коллеги фактически бойкотировали его, поскольку развиваемая им теория сексуальности слишком далеко выходила за рамки привычных воззрений. Но именно в этот период были разработаны основные положения психоанализа – новаторского учения, перевернувшего традиционные представления о душевной жизни.
Понятие «психоанализ» Фрейд впервые употребил в 1896 г. в докладе «Этиология истерии». Первоначально он называл так метод терапии, направленный на выявление скрытых причин психических отклонений. Позднее так стали называть всю систему теоретических воззрений Фрейда.
Пытаясь раскрыть механизмы возникновения неврозов, Фрейд обратил внимание на болезненные последствия неудовлетворенных влечений и неотреагированных эмоций. Эти разрывающие единство сознания стремления и аффекты, о существовании которых сам больной и не подозревал, были восприняты Фрейдом как главное свидетельство существования бессознательного – столь же и даже более влиятельной сферы психики, сколь и сознание. Поскольку содержанием бессознательного в большинстве случаев оказывалось для больного нечто неприятное, неприемлемое с точки зрения социальных и нравственных норм, Фрейд предположил, что бессознательный характер этих психических сил обусловлен особым защитным механизмом, получившим название «вытеснение».
Согласно Фрейду, механизм вытеснения подобно плотине ограждает сознание от потрясений, связанных со столкновениями с тягостными воспоминания, недопустимыми влечениями и импульсами. Но и в бессознательном состоянии эти влечения сохраняют заряд психической энергии и потому могут прорываться в виде патологических симптомов. Таким образом, на первом этапе развития теории психоанализа бессознательное представлялось как тождественное вытесненному. По мере развития психоанализа представления Фрейда о бессознательном уточнялись и усложнялись. Из случайного чужеродного фактора бессознательное превратилось в неотъемлемую часть психического аппарата всякого человека. Бессознательное – это кипящий котел страстей и инстинктов, рвущихся наружу с целью получения разрядки. В замаскированном виде бессознательное обнаруживает себя то в патологических симптомах, то в таких проявлениях обыденной жизни, как сновидения, шутки, обмолвки и т. п., то в преобразованном творческом виде «как культурные, художественные и социальные ценности человеческого духа».
Еще в 1897 г. Фрейд приступил к систематическому самоанализу сновидений и принял решение написать работу о снах и сновидениях. Книга «Толкование сновидений» увидела свет в 1900 г. Публикация этой работы не вызвала интереса в научных кругах (тираж 600 экземпляров был распродан за 8 лет). Но сам Фрейд считал ее «поворотным пунктом».
В 1898 г. Фрейд начал разработку проблемы юмора, которую исследовал на основе собственной коллекции еврейских анекдотов. Впоследствии результаты его изысканий воплотились в работе «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905).
В 1901 г. Фрейд опубликовал книгу «Психопатология обыденной жизни» – наиболее популярную и известную работу по психоанализу. В ней на основе теории вытеснения он показал, что неосознаваемые мотивы обусловливают поведение человека в норме и патологии, а различного рода ошибочные действия (оговорки, описки, забывание имен и названий и т. п.) свидетельствуют о наличии бессознательных мотивов и могут быть использованы в целях диагностики и терапии.
В 1902 г. Фрейду было присвоено звание профессора. В том же году, стремясь преодолеть бойкот и изоляцию, он организовал «Общество психологических сред», призванное обеспечить обмен идеями и консолидацию сторонников психоанализа. Первоначально это был дискуссионный кружок, который лишь через несколько лет обрел статус научного общества. В 1903 г. у Фрейда наконец появились первые ученики – Пауль Федерн, Вильгельм Штекель и др., которые сыграли значительную роль в исторической судьбе психоанализа. В 1904 г. идеи Фрейда привлекли внимание группы швейцарских психиатров – Э.Блейлера, М.Эйтингона, К.Абрахама, К.Г. Юнга, – которые обратились к ним как к перспективному учению и психотерапевтическому методу. В 1907 г. состоялись первые встречи Фрейда со швейцарскими коллегами, положившие начало слиянию Венской и Цюрихской школ психоанализа. В 1908 г. в Зальцбурге состоялся первый Международный психоаналитический конгресс, объединивший сторонников психоанализа. В 1909 г. начал выходить первый психоаналитический журнал. Его издателями выступали Блейлер и Фрейд, редактором – Юнг.
В сентябре 1909 г. произошло знаменательное событие – в американском городе Вустер (шт. Массачусетс) состоялось празднование двадцатилетней годовщины со дня основания Университета Кларка, организованное президентом Университета, известным психологом Г.С. Холлом. Сам по себе этот факт, подобно многим другим парадным церемониям, едва ли вошел бы в историю науки, если бы не состав гостей, приглашенных Холлом на торжества. Почетными гостями юбилея стали Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг, получившие возможность выступить перед американской аудиторией с лекциями о своих научных открытиях. Это событие, с одной стороны, явилось формальным международным признанием психоанализа, с другой – послужило толчком к интенсивному развитию психоанализа в Новом Свете.
Фрейд, не избалованный признанием на родине, воспринял приглашение с энтузиазмом. Немаловажно было и то, что американская сторона брала на себя все расходы на дорогостоящую поездку. Собственные изыскания Фрейда еще не принесли ему материального благосостояния, и предложенные Холлом 3000 марок – немалая по тем временам сумма – оказались отнюдь не лишними. Таких денег хватило бы на поездку для двоих, и Фрейд не преминул этим воспользоваться: хотя никто из его ближайшего венского окружения персонального приглашения из Америки не получил, Фрейд нашел себе компаньона. Им оказался Шандор Ференци, к которому Фрейд относился с нескрываемой симпатией и которого даже втайне мечтал увидеть своим зятем (чему, впрочем, не суждено было сбыться). Ференци был очень воодушевлен. Он засел за изучение английского, накупил для себя и Фрейда множество книг об Америке. Фрейд, однако, так и не удосужился прочесть эти книги. Вообще к Америке и американцам он относился с некоторым высокомерием. Щедрую дотацию от Университета Кларка он принял как должное со словами: «Америка должна давать мне деньги, а не требовать расходов». Такое отношение к американцам в первую очередь как к спонсорам он сохранил на всю жизнь и активно прививал его своей дочери Анне. (Надо признать, что, наряду с иными фрейдистскими установками, этот подход унаследован многими европейскими психологами и исповедуется по сей день.) По собственному признанию Фрейда, главное, что он хотел бы увидеть в Америке, – это Ниагарский водопад. Будучи тонким ценителем античного искусства, он намеревался также осмотреть богатые коллекции, собранные в Нью-Йоркских музеях. К запланированным лекциям он даже не готовился, намереваясь посвятить этому часы вынужденного досуга на корабле.
В июне Фрейд узнал, что приглашение в США получил также К.Г. Юнг, и заметил по этому поводу: «Это увеличивает значение всего предприятия». Они сразу же условились ехать вместе.
21 августа Фрейд, Юнг и Ференци отплыли из Бремена на корабле Северно-немецкой компании Ллойда «Джордж Вашингтон». Во время путешествия три товарища анализировали сновидения друг друга – первый пример группового анализа. Впоследствии Юнг делился своим впечатлением, что сновидения Фрейда были посвящены преимущественно будущему его семьи и его работе. В частности, Фрейд рассказал, как ему во сне привиделось, будто стюард, обслуживавший его каюту, принялся читать «Психопатологию обыденной жизни». Этот случай впервые натолкнул Фрейда на мысль, что он может стать знаменит.
«Джордж Вашингтон» пришвартовался в Нью-Йоркском порту воскресным вечером 27 августа. На причале путешественников встречал Абрахам Брилл – в ту пору единственный американский практикующий психоаналитик (два года спустя им будет основано Нью-Йоркское психоаналитическое общества). Ступив на американскую землю, Фрейд произнес знаменитую фразу, которую с тех пор не устают повторять фрейдисты по обе стороны Атлантики: «Они и не подозревают, что я привез им чуму!» Судя по всему, он полагал, что притворно добродетельная Америка, подчиненная лишь власти доллара, будет вскоре заражена пагубными концепциями сексуальности. По убеждению Фрейда, психоанализ в США проникнется духом янки, пройдет периоды адаптации, успеха и господства и сделается неузнаваемым в глазах европейских психоаналитиков.
(Тому, насколько он был прав, может служить подтверждением колоритный эпизод из американской кинокомедии «В джазе только девушки». Один из персонажей фильма, пытаясь оригинальным способом соблазнить героиню Мерилин Монро, рассказывает ей, что якобы страдает полным отсутствием полового влечения. «К кому я только не обращался за помощью! Был даже в Вене у доктора Фрейда. И все безуспешно!» – сетует «несчастный» в надежде, что его возлюбленная составит конкуренцию европейскому светилу и сама возьмет на себя инициативу в пробуждении подавленных чувств. Именно в этом аспекте и был многими воспринят психоанализ в Америке, да впрочем и в Европе. По сей день в обыденном сознании Фрейд фигурирует как специалист по «постельным проблемам».)
На берегу Фрейда встретили и репортеры местных газет, предвкушавшие скандальную сенсацию. Их ожиданиям не суждено было сбыться. Гость из Европы не выделялся никакими эксцентричными чертами, а его немногословное интервью не содержало даже намека на «проповедь вседозволенности». В результате на следующий день лишь в одной газете появилась краткая заметка, в которой к тому же фамилия Фрейда оказалась искажена.
Подготовиться к лекциям Фрейд так и не успел. По его словам, он не имел никакого понятия, о чем ему здесь говорить. Юнг, который намеревался рассказать американской публике о своем ассоциативном эксперименте, советовал Фрейду посвятить выступления теме сновидений. Джонс предлагал избрать более обширную тему. Поразмыслив, Фрейд согласился, что американцам тема сновидений может показаться недостаточно «практичной», если вовсе не легкомысленной. Поэтому он решил дать более общий отчет о психоанализе. Каждая лекция составлялась в течение одного часа во время прогулок в обществе Ференци. Никаких конспектов Фрейд не готовил.
Фрейд прочитал на немецком языке пять лекций перед аудиторией, внимательно слушавшей, несмотря на то, что многие были разочарованы отсутствием пикантных откровений на сексуальную тему. Он ясно и сжато обрисовал историю происхождения психоанализа, основные результаты по исследованию сновидений и ошибочных действий, теорию сексуальности и терапевтические методы. Текст лекций был опубликован в 1910 г. в «Американском психологическом журнале» и вскоре переведен на многие языки. Среди наиболее характерных отзывов Джонс отмечает высказывание декана университета Торонто: «Обычный читатель может сделать вывод, что Фрейд выступает за свободную любовь, за отказ от всяких ограничений и за впадение вновь в первобытное состояние». (Поистине пророческие слова!)
Особенно волнующим был момент на заключительных церемониях, когда Фрейд встал для того, чтобы поблагодарить университет за присуждение ему степени почетного доктора (этой чести был удостоен и Юнг). То, что ему оказывают такой почет после многих лет остракизма на родине, походило на волшебный сон, и Фрейд с глубоким волнением произнес: «Это первое официальное признание наших трудов».
На торжествах присутствовали видные американские психологи, в том числе Э.Титченер и Дж. М.Кеттелл. В своей автобиографии Фрейд описал трогательную встречу с Уильямом Джемсом, который в ту пору был уже смертельно болен. «Непреходящее впечатление произвела на меня встреча с философом Уильямом Джемсом. Я не могу забыть маленькой сцены, когда он во время нашей прогулки вдруг остановился, передал мне свою сумку и попросил меня пройти вперед, сказав, что нагонит меня, как только справится с внезапным приступом грудной жабы. Через год он умер от болезни сердца; с тех пор я всегда желаю себе такого же бесстрашия перед лицом близкой кончины».
Джемс, который хорошо знал немецкий, с большим интересом следил за лекциями. К гостям из Европы он относился очень дружески и при прощании сказал: «Будущее психологии принадлежит вашей работе».
Стэнли Холл, основатель экспериментальной психологии в Америке, также восторженно расхваливал и Фрейда, и Юнга. Вернувшись домой, Фрейд писал о нем в письме одному из коллег: «Приятно представить себе, что где-то вдалеке, хотя сам ты об этом ничего и не слышал, живут порядочные люди, которые находят свой путь к нашим мыслям и стремлениям и которые, в конце концов, внезапно дают о себе знать. Именно это произошло у меня со Стэнли Холлом. Кто бы мог подумать, что где-то там в Америке, всего в часе езды от Бостона, живет респектабельный пожилой джентльмен, который с нетерпением ожидает выхода очередного номера Jahrbuch, который читает и понимает все, что там написано, и который, как он сам выразился, «звонит о нас во все колокола». Вскоре после этого Джонс предложил Холлу занять пост президента основанной им американской психопатологической ассоциации. Но это предложение было отклонено: интерес Холла к психоанализу оказался непродолжительным. Несколько лет спустя он стал одним из сторонников индивидуальной психологии А.Адлера, известие об этом сильно огорчило Фрейда.
13 сентября Фрейд, Юнг и Ференци посетили Ниагарский водопад, который Фрейд нашел еще более грандиозным и величественным, чем он себе ранее представлял. Впечатление от этой экскурсии было испорчено неуклюжей галантностью гида: когда посетители находились в Пещере ветров, он отодвинул одного из мужчин и крикнул, указывая на Фрейда: «Пускай пожилой джентльмен пройдет первым!» Фрейд всегда был болезненно чувствителен к намекам на свой возраст (к тому же тогда ему было всего 53 года).
Вообще, Фрейд в ходе поездки утвердился в своем убеждении, что американцы – люди вульгарные и бесцеремонные. Однако, что касается американок, их раскованность вызывала у Фрейда противоречивые чувства. Он даже признался Юнгу, что манеры американских женщин заставляют его порой испытывать нездоровое возбуждение. Юнг, никогда не отличавшийся щепетильностью, тут же предложил пригласить парочку сговорчивых американок, чтобы сообща решить эту проблему. На это Фрейд с негодованием ответил: «Но я же женат!» (Характерный штрих к портрету «сексуального реформатора»).
В целом, несмотря на оказанный ему восторженный прием, у Фрейда осталось не слишком благоприятное впечатление об Америке. Сам он объяснял это особенностями американской кухни, знакомство с которой скверно сказалось на его желудке. В течение нескольких лет Фрейд приписывал многие из своих физических недомоганий визиту в Америку. Он пошел в этом настолько далеко, что жаловался Джонсу, будто после поездки в США у него даже ухудшился почерк.
Еще один известный биограф Фрейда – Фриц Виттельс – полагает, что эта мотивировка выступала лишь средством психологической защиты. По его мнению, на самом деле основатель психоанализа предвидел приближение «фрейдомании» (Freud-crazy), в результате которой его учение будет воспринято так, что кроме имени и самых примитивных положений из труда всей его жизни почти ничего не останется. Фрейда неоднократно и настойчиво приглашали вновь посетить Америку, когда он уже достиг мировой славы. Но он всякий раз отказывался. По этому поводу Виттельс пишет: «Я полагаю, что Фрейд опасается крупного недоразумения: он слишком честен, чтобы принять на себя гигантскую волну похвал из уст людей, которые его не поняли».
В ту пору Фрейд еще не мог предвидеть, что в результате социальных катаклизмов нашей эпохи центр психоанализа переместится из Европы в Новый Свет. Вспоминая о своей поездке, он однажды сказал: «Америка – это одно сплошное недоразумение, грандиозное, но все же недоразумение!»
Последующие годы характеризовались противоречивыми тенденциями. Консолидации психоаналитического сообщества сопутствовали начавшиеся распри, приведшие к отходу от психоанализа некоторых недавних сподвижников Фрейда. В 1911 г. последовал разрыв с А. Адлером, который Фрейд очень болезненно переживал. Вскоре ряды психоаналитического движения покинул Юнг. Теоретические расхождения и впоследствии порождали постоянные противоречия в стане психоаналитиков.
Фрейду и самому приходилось вносить коррективы в свою теорию. События первой мировой войны продемонстрировали ограниченность объяснительных принципов психоанализа. Военные, вернувшиеся из окопов, терзались совсем иными переживаниями, чем венские буржуа конца ХIХ века. Фиксация новых пациентов Фрейда на психических травмах, связанных с тем, что им пришлось заглянуть в глаза смерти, послужила основание версии об особом влечении, не менее сильном, чем сексуальное, – влечении к смерти. Это влечение Фрейд обозначил древнегреческим понятием Танатос как антипод Эросу – силе любви.
В 1926 г. Фрейд встретил свой семидесятилетний юбилей. Официальная Вена проигнорировала торжество, что однако было скрашено приветствиями А.Эйнштейна, Р.Роллана, С.Цвейга и многих других деятелей науки и культуры.
После прихода к власти нацистов в Германии в 1933 г. началось свертывание психоаналитического движения в Европе. Во время печально известного книжного аутодафе в Берлине труды Фрейда как «еврейская порнография» были подвергнуты публичному сожжению «во имя благородства человечества». Получив известие об этом, он горько пошутил о прогрессе человечества: «В прежние времена они сожгли бы меня, а теперь сжигают лишь мои книги». Впрочем, там, где жгут книги, как правило кончают тем, что сжигают людей. Именно такая судьба постигла впоследствии сестер Фрейда.
В первый же день после присоединения австрии к нацистской Германии Фрейд был заключен под домашний арест, его квартира подвергнута обыску, а дочь Анна вызвана на допрос в гестапо. Казалось, судьба ученого предрешена. Однако стараниями влиятельных последователей после уплаты выкупа в 100 000 австрийских шиллингов Фрейду вместе с женой и дочерью Анной было разрешено покинуть Австрию. Семья обосновалась в Лондоне, где несмотря на прогрессировавшую болезнь, Фрейд продолжал напряженно работать, встречался с деятелями науки и искусства, в частности с Сальвадором Дали. Однако мучения становились нестерпимыми.
Зигмунд Фрейд ушел из жизни 23 сентября 1939 г… Просто сказать «умер» было бы, наверное, неправильно, ибо это был осознанный уход, фактически – самоубийство. Танатос возобладал над Эросом.
Долгие годы основатель психоанализа страдал тяжелой болезнью, возникшей вследствие пагубной привычки – курения, – от которой он не находил сил отказаться. Фрейд пристрастился к курению еще в детстве, в шести– или семилетнем возрасте, а в зрелые годы выкуривал ежедневно по два десятка сигар, не находя в этом ничего дурного. Более того, в полном соответствии с открытым им механизмом психологической защиты, он даже стремился рационализировать свою пагубную страсть. Своему племяннику он говорил: «Мой мальчик, курение – одна из самых больших и самых дешевых радостей жизни. Если ты в будущем решишь не курить, мне будет тебя искренне жаль». Правда, если следовать логике психоанализа, пристрастие к курению представляет собой форму оральной навязчивости. Возможно, смутное осознание этого факта самим Фрейдом привело к тому, что в разработке своей периодизации психосексуального развития он довольно мало внимания уделил именно оральной фазе, а на мягкую иронию коллег, усматривавших в любимых им длинных и толстых сигарах фаллический символ, безапелляционно отрезал: «Иногда сигара – это просто сигара».
В 1923 г. у него во рту появилась опухоль, вызванная курением. Неутешительный диагноз – рак – Фрейд воспринял стоически. Началась многолетняя борьба с болезнью, изнурительная череда хирургических операций (всего Фрейд перенес их тридцать девять).
В 1929 г. верная последовательница Фрейда Мария Бонапарт рекомендовала ему терапевта Макса Шура, который с этого времени стал его личным врачом и находился при нем практически неотлучно. Опыт общения со своим именитым пациентом и историю его болезни Шур описал в биографической книге «Зигмунд Фрейд. Жизнь и смерть», ставшей важным источником по истории заключительного этапа развития классического психоанализа и биографии его создателя.
Чтобы облегчить страдания больного, Шур прибег к сильному обезболивающему – морфию, к которому Фрейд быстро пристрастился и уже не мог без него обходиться – то ли из-за постоянных мучительных болей, то ли из-за усиливающейся наркотической зависимости. У него ухудшилась артикуляция, боль терзала его неотступно. Однако, по рассказам очевидцев, Фрейд постоянно улыбался. Верные фрейдисты расценивают это как свидетельство железной воли. Далеко не столь восторженный биограф Ричард Осборн лаконично заключает: «Это была наркомания».
Фрейд взял с Шура обещание: когда положение станет совсем безнадежным, а страдания нестерпимыми, тот доступными ему средствами положит этому конец. В конце сентября 1939 г. Фрейд объявил своему личному врачу, что такой день настал. Скрепя сердце, Шур ввел пациенту запредельную дозу морфия. Фрейд погрузился в наркотический сон, из которого уже не вышел. Три дня спустя состоялись похороны. С надгробными речами выступили Эрнст Джонс и Стефан Цвейг, отметившие исключительную роль Фрейда в истории мировой науки и культуры.
После смерти отец-основатель был фактически канонизирован психоаналитиками, а его отлакированная Джонсом биография превратилась в своего рода житие. Эту несколько кощунственную параллель можно и продолжить. Полное собрание сочинений Фрейда выступило догматом универсального учения, не подлежащим ни критике, ни сомнению. Теория Фрейда была объявлена его последователями безупречной и совершенной. Тем самым, однако, они невольно загнали себя в ловушку: вся их практическая деятельность и теоретические изыскания оказались ограничены строгим каноном, отступления от которого приравнивались к ереси. Наверное, поэтому собственные труды психоаналитиков традиционной ориентации в основном вторичны и далеко не столь популярны, как классические работы Фрейда. Тут невольно вспоминается историческая аналогия: предводитель арабских завоевателей мотивировал свой приказ сжечь богатейшее книжное собрание Александрийской библиотеки такими словами: «Если эти книги соответствуют Корану – они излишни, если противоречат – они вредны».
Парадокс, однако, состоит в том, что на протяжении четырех десятилетий, которые Фрейд посвятил развитию своего учения, психоанализ вовсе не представлял собою раз и навсегда застывший монолит, а претерпевал весьма динамичные перемены. В ранних трудах Фрейда – «Психопатология обыденной жизни», а также «Толкование сновидений» (которое автор считал своей лучшей психоаналитической работой) – еще и речи нет о таких конструкциях, как, например, Эдипов комплекс, без которого фрейдистское учение невозможно представить. Трехступенчатая структура психики была обозначена Фрейдом в работе «Я и Оно», которая увидела свет лишь в 1921 г. К позднейшим новациям Фрейда относится и противопоставление деструктивного Танатоса жизнелюбивому Эросу. Все эти перемены происходили под влиянием клинической практики, в немалой степени – личного жизненного опыта самого Фрейда, а также, безусловно, под влиянием объективных перемен в общественной жизни и умонастроении людей. Сытый венский буржуа рубежа веков, ветеран мировой войны и эмигрант, спасающийся от нацистского террора, терзались совсем разными комплексами, и это не могло не сказаться как на клинической практике, так и на теоретических постулатах психоанализа.
А теперь представим себе, как мог бы преобразиться психоанализ, если бы его основатель прожил еще лет тридцать и увидел Нюрнбергский процесс, Хиросиму, Берлинскую стену, Пражскую весну. Как отнесся бы он к психоделическим изысканиям Тимоти Лири, к экспансии восточного оккультизма и сексуальной революции детей-цветов? Разумеется, верные последователи Фрейда все эти события и явления старались истолковать, исходя из классических постулатов. Однако не приходится сомневаться, что сам классик, проживи он подольше, нашел бы более интересные объяснения.
За годы, прошедшие после кончины Фрейда, мир неузнаваемо изменился. Эти перемены, происходившие и грядущие, похоже, ощущал и сам патриарх психоанализа. В Библиотеке Конгресса США – в спецхране, как сказали бы у нас, – ждут исследователей неопубликованные записки и письма Фрейда, доступ к которым по настоянию родственников закрыт до следующего столетия. Чем вызвана такая секретность? Не тем ли, что позднейшие размышления Фрейда, не успевшие оформиться в печатные труды, содержат переоценку «незыблемых» постулатов?
В.М. Бехтерев (1857–1927)
«Большая советская энциклопедия», пытаясь определить профессиональную принадлежность выдающегося русского ученого, была вынуждена выстроить длинную дефиницию: невропатолог, психиатр, психолог, физиолог и морфолог. То есть в том числе и психолог. Впрочем, там же, в БСЭ, читаем: «В центре научных интересов Бехтерева стояла проблема человека. Решение ее он видел в создании широкого учения о личности, которое было бы основой воспитания человека и преодоления аномалий в его поведении».
По сути дела, все высказывания Бехтерева глубоко психологичны, и его по праву следует назвать одним из первых и наиболее выдающихся психологов России. Не будем забывать, что именно им была основана первая русская психологическая лаборатория. И это – достойный повод для более пристального внимания к его психологическим воззрениям, жизненному пути и научной деятельности. Тем более что отдельные моменты его жизни и творчества по сей день вызывают неоднозначные суждения и противоречивые домыслы.
Характерно, что в «Истории современной психологии» – учебнике для американских университетов, принадлежащим перу Д.П. и С.Э. Шульц, который издан и в переводе на русский язык, – упоминаются имена всего двух российских ученых – И.П. Павлова и В.М. Бехтерева (вероятно, с американской точки зрения, этим вклад России в современную психологию и исчерпывается). Оба удостоены этой чести как предтечи бихевиоризма, не более того.
В этом учебнике лаконичная биографическая справка о Бехтереве указывает, что в 1927 г. он, осмотрев И.В. Сталина, поставил тому диагноз «паранойя», за что и поплатился жизнью. «Существует мнение, что Бехтерев был отравлен по приказу Сталина в отместку за страшный диагноз». Эта крайне малодостоверная версия последние годы активно муссируется в различных изданиях.
В результате у психолога, который пытается составить представление о мировой науке по современным реферативным источникам вроде названного учебника, может сложиться одностороннее, спорное и ограниченное мнение о Бехтереве как о предшественнике бихевиоризма, оппоненте Павлова, крупном психиатре и жертве сталинизма. Иными словами, колоритная, но перевернутая страница в истории науки. Однако вглядимся в эту страницу повнимательнее.
К психологии Бехтерев пришел от неврологии и психиатрии, которыми занимался (после окончания Медико-хирургической академии в Петербурге и заграничной стажировки в клиниках Германии, Австрии и Франции) в Казанском университете. Здесь в 1885 г. он организовал так называемую психофизиологическую лабораторию. Это было первое в России психологическое научно-исследовательское учреждение.
При организации лаборатории Бехтерев опирался, в частности, на опыт В. Вундта, с которым познакомился в зарубежной командировке. Однако собственный подход Бехтерева отличался принципиальной новизной.
Для Вундта предметом психологии выступало сознание, а его материальному субстрату – мозгу – внимания не уделялось. Изучение сознания велось субъективно, методом интроспекции – изощренного самонаблюдения специально натренированных экспертов.
Бехтерев, говоря о природе психических процессов, указывал: «Было бы совершенно бесплодно еще раз обращаться в этом процессе к методу самонаблюдения. Только экспериментальным путем можно достичь возможно точного и обстоятельного решения вопроса». Преобладание объективных методов исследования в психологии уже тогда, на ранних этапах творчества Бехтерева качественно отличало его позицию от вундтовской.
Для проведения экспериментов, кроме стандартного лабораторного оборудования, использовались приборы, сконструированные самими сотрудниками лаборатории: большая схематическая модель проводящих путей головного и спинного мозга, выполненная на основе исследований в области анатомии центральной нервной системы (в том числе исследований Бехтерева); пневмограф – аппарат для записи дыхательных движений; рефлексограф – прибор для записи коленных рефлексов; рефлексометр – аппарат для измерения силы коленного рефлекса. Практически все эти приборы и аппараты предложены и сконструированы Бехтеревым.
За относительно небольшой период существования лаборатории ее сотрудники провели и опубликовали около 30 исследований. Собственно психологические разработки занимали небольшую часть их общего объема: исследование М.К. Валицкой, содержащее данные психометрического изучения больных, страдающих нервными расстройствами; работа Е.А. Геника и Б.И. Воротынского, посвященная психометрическому обследованию людей, находящихся в состоянии гипноза; исследование П.А. Астанкова и М.М. Грана, представляющее результаты измерения скорости психических процессов у испытуемых в разное время дня.
Таким образом, все эти исследования относились к области психометрики и были выполнены на клиническом материале. Их значение чрезвычайно велико: это были, по сути, первые исследования, в которых оформлялись общие принципы организации психологического эксперимента.
Материалистическая позиция Бехтерева отчетливо проявилась в его выступлении на III международном психологическом конгрессе в Мюнхене (1896), где он заявил: «В конце ХIХ века среди ученых мира еще раздаются голоса, которые снова хотят отбросить психолога в область схоластики и догматики». Ученый подчеркивал также свою приверженность взглядам на развитие психики, ранее высказанным И.М. Сеченовым: «Наш прославленный физиолог Сеченов, первым изучивший в 60-х годах задерживающие центры в мозгу, на вопрос о том, кто должен разрабатывать психологию, дал в результате продолжительной работы ответ – физиологи. На того, кто, не проведя серьезных исследований в качестве физиолога и психиатра, назовет себя в будущем психологом, серьезные люди будут смотреть как на человека, который считает себя архитектором, но не учился в технической школе или в строительной академии. Это мое твердое убеждение».
С позиций сегодняшнего дня совершенно очевидно, что такое убеждение легко довести до абсурда и вульгарно-механистического материализма. По сути дела, рефлексологические изыскания бехтерева отчасти тяготели к этой крайности.
Однако сегодня многие психологи, брезгливо морщась при одном упоминании о материализме, склонны впадать в противоположную крайность. А ведь методологическая позиция Бехтерева – это один из краеугольных камней современной психологии. Невозможно проникнуть в дущевный мир человека, игнорируя открытия Дельгадо и Кеннона, Пенфилда и Лурии (кстати, на Пенфилда ссылается столь любимый многими Эрик Берн, Дельгадо цитирует Абрахам Маслоу, и т. д. и т. п.).
Из наследия Бехтерева мы сегодня можем извлечь и еще один важный урок. Не секрет, что в обывательском сознании психология напрямую ассоциируется с диагностикой кармы, коррекцией биополя, ясновидением и снятием порчи. Все это не ново как в истории науки, так и в истории нашей многострадальной страны. Любая переломная эпоха характеризуется повышенным интересом к мистицизму и оккультному вздору.
Похожая картина наблюдалась в России и сто лет назад. В начале ХХ века при Военно-медицинской академии в Петербурге было создано общество любителей «психизма» для занятий спиритизмом, телепатией и другими мистическими течениями. В его работу пытались вовлечь и Бехтерева. Он дал согласие при условии, что будет разработан устав, определяющий научный характер деятельности общества. При этом предложил назвать его «Российским обществом нормальной и патологической физиологии».
Вскоре Бехтерев стал председателем общества. Главной его целью было изучение еще не получивших объяснения психических процессов. Ученый считал недопустимым отвергать непонятные пока проявления психической деятельности, внимательно следил за тем, чтобы за научный факт не выдавалась досужая выдумка, плод болезненной фантазии или ловкое трюкачество.
Особое внимание Бехтерева привлекла проблема телепатического внушения. Многочисленные опыты дали ученому основание заключить: «Все попытки доказать передачу мыслей на значительном расстоянии рушатся тотчас же, как только их подвергают экспериментальной проверке, и в настоящее время не может быть приведено в сущности ни одного строго проверенного факта, который говорил бы в пользу реального существования телепатической передачи психических состояний. Поэтому, не отрицая в принципе дальнейшей разработки вышеуказанного вопроса, мы должны признать, что предполагаемая некоторыми подобная передача мыслей на расстоянии при настоящем состоянии наших знаний является совершенно недоказанной».
Перед нами поучительный пример объективности и подлинного научного мужества перед лицом обывательских суеверий. Ведь нам и сегодня приходится постоянно напоминать себе, что психологи и создатели сериала «Пси-фактор» работают в разных плоскостях и преследуют разные цели. Тому, кто это не до конца осознал, лучше попытаться найти себя не в психологии, а в черно-белой магии.
В 1907–1912 гг. увидела свет «Объективная психология» Бехтерева. Она была переведена на немецкий, французский, английский языки и стала важной вехой в истории современной психологии, что отмечают и зарубежные исследователи (Флюгель, Р.Уотсон, Боринг и др.). Впоследствии Бехтерев выдвинул программу создания новой науки, названной им рефлексологией. На основе экспериментальных работ по изучению сочетательных, то есть вырабатываемых прижизненно двигательных рефлексов, совокупность которых была названа соотносительной деятельностью, Бехтерев сделал вывод о том, что именно эта деятельность должна стать объектом изучения как воплощение строго объективного подхода к психике.
В отличие от бихевиористов, Бехтерев не сводил предмет психологии к поведению, не игнорировал феномены сознания. Его подход страдал некоторым механицизмом, особенно в анализе социальных явлений, но включал и перспективные линии развития наук о человеке.
Сегодня нам доступны многочисленные труды В.М. Бехтерева по широкому кругу психологических проблем. Это не просто памятник научной мысли, а подлинный источник вдохновения для ищущих умов. Однажды сказано: «Прочитанная книга – твой капитал, твои мысли по поводу прочитанного – проценты с капитала». Наследие Бехтерева сулит нам огромные возможности такого обогащения.
А. Бине (1857–1911)
В истории психологии известно немало примеров того, когда имя выдающегося ученого и мыслителя оказалось прочно связано с созданным им исследовательским или диагностическим методом, хотя этот метод был лишь одной из его конкретных разработок, служащей для уточнения какого-то аспекта его учения. Так, Ганс Айзенк преимущественно известен как автор популярных опросников, а его теория личности, которую и призваны были подтвердить данные опросников, столь широкого признания не получила. Генри Мюррей известен как создатель всемирно популярного ТАТа, но мало кто может похвастаться знанием той теории, которую данные этого теста призваны иллюстрировать. То же можно сказать про Леопольда Сонди, чей тест достаточно широко известен, а лежащая в его основе теория прочно забыта. Но первый и, пожалуй, самый известный пример такого рода – Альфред Бине. О шкале Бине-Симона знает сегодня любой третьекурсник психфака (в 1984 г. журнал Science отнес ее к 20 главным изобретениям ХХ столетия), но далеко не каждый профессор психологии знает хоть что-нибудь еще о ее создателе, разностороннем исследователе и мыслителе. Постараемся восполнить этот пробел. Тем более, что многое из наследия Бине и современному психологу может оказаться интересно и полезно.
Альфред Бине, единственный сын врача и художницы, родился 11 июля 1857 года в Ницце. Вскоре после его рождения родители расстались, и Альфред воспитывался одной матерью, вместе с которой в возрасте 15 лет переселился в Париж. Здесь он поступил в престижный юридический колледж, окончание которого впоследствии позволило ему получить степень доктора юриспруденции и лицензию, дававшую право на адвокатскую практику. Однако Бине, будучи человеком весьма обеспеченным, отказался от открывавшихся перед ним перспектив и предпочел продолжить свое образование, вернее – самообразование, которому он с упоением предался в стенах Национальной библиотеки. На этом основании некоторые авторы биографических очерков о Бине называют его психологом-самоучкой. Впрочем, такое определение подходит почти любому пионеру экспериментальной психологии, ибо в конце XIX века психологическое образование как таковое практически не существовало.
Чтение трудов Джона Локка, Чарлза Дарвина, Александра Бэна, Джона Стюарта Милля возбудило у Бине живой интерес к психологическим проблемам. Интересно отметить, что Бине, владевший английским языком почти так же свободно, как родным французским, предпочитал английских авторов, а немецких, чьи труды прочесть в оригинале затруднялся, – практически игнорировал.
В 1882 г. Бине познакомился с Ж.-М.Шарко и приступил под его руководством к научным исследованиям в клинике Сальпетриер. Это сотрудничество продолжалось 7 лет, на протяжении которых Бине демонстрировал полную солидарность с научной позицией своего руководителя. (Следует отметить, что влияние Шарко испытали многие психологи той поры, а З.Фрейд, стажировавшийся в Сальпетриер примерно в ту же пору, даже назвал в честь Шарко одного из своих сыновей). В 1886 г. были опубликованы первые психологические труды Бине – «Психология умозаключения» и «Животный магнетизм», которые вскоре (соответственно в 1889 и 1890 гг.) были переведены и на русский язык. Однако в отличие от того же Фрейда, сохранившего на всю жизнь благоговение перед Шарко, Бине постепенно разочаровался в научной доктрине «Наполеона неврозов» и в 1890 г. решился публично выступить с ее критикой, указав, что экспериментальные данные ее не подтверждают.
Естественно последовавшее за этим увольнение из Сальпетриер не оставило, однако, Бине безработным. В 1891 г. он случайно – на железнодорожной платформе – познакомился с Анри Бони, директором психологической лаборатории Сорбонны, и предложил ему свои услуги, причем совершенно безвозмездно. Бескорыстие Бине подкупило Бони, и он взял его своим ассистентом. В этой должности Бине и проработал (жалования, как и договорились, не получая) до последовавшей в 1894 г. отставки Бони, которого он и сменил на посту директора лаборатории. (Как видим, бескорыстие иной раз окупается сторицей!) На этом посту Бине бессменно пребывал до самой смерти. Занимался он и преподавательской деятельностью, причем сумел снискать репутацию блестящего лектора. Однако эта работа его не слишком увлекала, и от нескольких предложений занять профессорский пост в том или ином университете от без колебаний отказывался.
В 1894 г. Бине выступил одним из основателей журнала «Психологический ежегодник» (L’Annee Psyychologique), который по сей день является психологическим журналом № 1 во Франции, и занял пост его главного редактора. Примерно в то же время он принял лестное предложение из-за океана и вошел в редколлегию американского журнала «Психологическое обозрение» (Psychological Review).
В 1899 г. Бине был приглашен войти в состав вновь созданного Свободного общества по изучению ребенка. В ту пору французская система образования переживала драматические перемены в связи с введением обязательного школьного обучения для детей в возрасте до 14 лет. Становилось очевидно, что традиционные педагогические доктрины плохо применимы в условиях массового обучения. Общество ставило своей задачей содействие психологическому обоснованию процессов воспитания и обучения. (С этой же целью, в частности, Бине совместно с Ф.Бюиссоном в том же году основал лабораторию экспериментальной педагогики.)
Бине, интересовавшийся широким кругом психологических проблем, со временем все большее внимание уделял проблемам детской и педагогической психологии. Основу его знаменитой книги «Экспериментальное изучение интеллекта» (1903) составили длительные, длившиеся три года наблюдения над учащимися начальной школы, а также, что особенно интересно, над двумя собственными дочерьми – Маргаритой и Армандой[5]. Тщательно организованное исследование с использованием 20 различных методик (описание предметов, запоминание чисел, сочинение на заданную тему и др.) позволило Бине сделать обоснованный вывод о том, что его дочери принадлежат к разным мыслительным типам. Маргариту он определил как тип наблюдательный, или объективный. Образы, возникавшие у нее, были четкими и конкретными, преобладали ассоциации по смежности, выбор предпочитаемых слов относился к предметам, воспринимавшимся в данный момент или взятым из ближайших воспоминаний. У Арманды образы были расплывчатыми и фантастичными, преобладали ассоциации по сходству, предпочтение она отдавала словам абстрактным, редко употребляемым. Нередко из области фантазии. Поэтому Арманду отец-исследователь отнес к типу фантазирующему, или субъективному.
Отмечая различие этих двух типов, Бине не считал преграду между ними непреодолимой, не рассматривал их как врожденные и неизменные. По его мнению, различия между типами в значительной мере могут быть сглажены педагогическим воздействием. Дальнейшие исследования подтвердили это предположение.
Проведенные исследования заставили Бине все больше разочароваться в принятых методах определения умственного развития, каковыми в ту пору преимущественно выступали школьные оценки в сочетании с измерением остроты чувствительности (поклон сэру Гальтону!), краниометрией (идеи Галля еще не вышли из моды) и т. п. В 1905 г. в статье «По поводу измерения интеллекта», опубликованной в «Психологическом ежегоднике», Бине подверг резкой критике существовавшие методы. Взамен их он рекомендовал определять уровень развития интеллекта по образовательному уровню, достигнутому ребенком данного возраста, и предложил шкалу для измерения интеллекта. Непосредственным поводом для ее разработки была необходимость тщательного отбора детей во вспомогательные школы. Совместно с Т.Симоном, с которым Бине активно сотрудничал с 1899 г. до конца своей жизни, он разработал шкалу для определения уровня умственного развития и опубликовал ее в «Психологическом ежегоднике» в 1908 г.
Строение этого первого в мире теста интеллекта психологам хорошо известно и не требует подробных разъяснений. Следует лишь отметить, что Бине, предлагая свою шкалу, настойчиво предупреждал: ее применение в обязательном порядке требует тщательного анализа результатов, подробного их комментария, сопоставления с иными диагностическими данными. В противном случае, по мнению Бине, предложенная им процедура утрачивает всякую ценность. Столь же высокие требования он предъявлял к квалификации экспериментатора. Важно также отметить указание Бине на то, что недопустимо смешивать уровень умственного развития, измеряемый с помощью его методики, с так называемыми школьными способностями, которые включают не только интеллект, но и внимание, желание учиться (в современной терминологии – мотивацию учения), характерологические особенности ребенка. В оценке интеллектуальных характеристик ученика следует учитывать сложный комплекс врожденного интеллекта, школьных знаний, жизненных наблюдений и языковой компетентности.
Вторую редакцию своей шкалы Бине опубликовал незадолго до своей безвременной кончины (он умер в 1911 году в возрасте 54 лет). Нет сомнения: проживи он дольше, то и далее продолжал бы совершенствовать свой метод. Увы, за него это сделали другие, причем во многом вопреки его замыслам. В 1912 г. В.Штерном было предложено понятие коэффициента интеллекта, использованное Л.Терменом в его Стэнфордской редакции шкалы Бине, которая и получила всемирную известность. Вряд ли сам Бине одобрил бы такую трактовку. Ведь задолго до Штерна идея численной квантификации ума высказывалась В.Вундтом. Бине отнесся к этому крайне негативно. Он заявил: природа ума слишком сложна, чтобы ее можно было выразить одним числом. Так что во всех последовавших издержках тестирования IQ Бине не виноват, более того – совершенно к ним не причастен. Его попытка найти для каждого возрастного периода задачи, показательные для умственного развития детей на данном этапе, не может вызвать возражений.
Результаты наблюдений и экспериментов Бине в области детской и педагогической психологии наиболее полно представлены в его книге «Современные идеи о детях» (1908). Из трудов Бине эта книга приобрела наибольшую популярность. Сразу после выхода в свет она была переведена на русский язык. Книга появилась в тот период, когда в большинстве стран Европы и в Америке очень остро стоял вопрос о взаимоотношении традиционной и новой педагогики, основанной на использовании данных экспериментальной психологии. Содержание новой педагогики было еще весьма неопределенным, возможности и границы применения эксперимента были не обозначены. Об этом свидетельствует само разнообразие терминологии, применявшейся для ее названия, – «экспериментальная педагогика», «педагогическая психология» «педология» и др. Издавалось довольно много литературы, имевшей разную научную и практическую ценность. Разобраться в этом вопросе, определить, какие работы достойны внимания и применения в практике обучения, а какие должны быть отринуты, какие из предлагаемых методов могут привести к прогрессу обучения, а какие нет, было нелегко. Бине предпринял попытку дать ответ на эти вопросы, опираясь на свой многолетний опыт исследовательской работы. Поэтому он свой труд определил как «книгу итогов». Такое определение кажется странным для пятидесятилетнего ученого. Увы, оно оказалось верным.
К решению проблем образования с точки зрения старой, традиционной, и новой, экспериментальной педагогики Бине подходил очень осторожно, стараясь объективно оценить достоинства и недостатки каждого подхода. «Это старое – значит лучшее», – так говорят глупцы. «Это новое – значит лучшее», – говорят другие глупцы». Под этим ироничным современным афоризмом Бине, наверное, охотно подписался бы. Традиционная педагогика складывалась эмпирически, ее правила и приемы вырабатывались для решения реальных, жизненно важных вопросов, соприкасались непосредственно со школьной действительностью. Бине признавал за такой педагогикой определенные достоинства, сравнивая ее со старой телегой, которая скрипит и движется очень медленно, но все-таки везет. Достоинство новой, научной педагогики состоит в том, что она выдвинула на первый план психологию ребенка и стремление найти точные методы его изучения и обучения, соответствующие детской природе. Однако на деле полученные экспериментальные данные нередко оказываются малопригодными и вызывают разочарование практических работников. Характеризуя эту ситуацию, Бине сравнил экспериментальную педагогику со сложной машиной, с первого взгляда поражающей воображение, однако составные части которой как будто бы не приспособлены друг к другу, и машина имеет один недостаток: она не работает. Поэтому Бине считал не только возможным, но и необходимым найти золотую середину, признать за каждой свои функции. «Нам представляется нетрудным, – писал он, – примирить эти две тенденции, так как мы предъявляем различные требования к старой и новой педагогике. Старая педагогика должна нам дать проблемы, подлежащие изучению; новая педагогика укажет нам способы изучения». По существу, это суждение Бине по сей день сохраняет свою научную и житейскую мудрость.
Задачу своей книги Бине видел в том, чтобы помочь педагогу не только понять ребенка, но и построить обучение так, чтобы подготовить его к будущей жизни, помочь ему найти свое место в обществе. С этой точки зрения, по его мнению, и следует оценивать, хорошо или дурно построено образование. При этом всегда следует иметь в виду интересы обеих сторон: и индивида, и общества. Анализируя некоторые статистические данные о судьбе школьников в послешкольной жизни, Бине пришел к заключению, что хорошо успевающие школьники сумели лучше устроить свою жизнь в дальнейшем. Это обусловлено тем, что школьная и социальная жизнь подобны друг другу, подвергаются влиянию одних и тех же факторов. К числу факторов несомненно влияющих на успех человека в школе и жизни, Бине отнес три главных – здоровье, ум и характер. Определенную роль играет и четвертый фактор – имущественное положение, дающее возможность успешно реализовать природные потенции. Поэтому содержание школьного образования должно сообразовываться с особенностями и возможностями учащихся, с их темпераментом и характером, а также учитывать экономические условия, в которых будет протекать их жизнь. Так как школьные и жизненные успехи во многом координируются, очень важно уделять самое серьезное внимание правильной оценке школьной успеваемости.
Это и побудило Бине скрупулезно заняться разработкой методов объективной оценки успешности обучения. Предложенная им система основывалась на двух принципах: 1) содержание экзаменационных вопросов не должно иметь случайного характера; оно должно слагаться из системы вопросов, имеющих неизменное содержание и строго соразмеряющих степень трудности; 2) достигнутые ребенком успехи должны оцениваться не по субъективным меркам экзаменатора («хорошо», «удовлетворительно» и т. п.), а сравниваться со средней успешностью детей того же возраста и того же социального положения, посещающих те же школы. Таким путем определяется не только успешность учения, но и умственное и физическое развитие ребенка. Это сразу дает возможность понять, соответствует ли ребенок норме, опережает ее или отстает.
Но одного установления успешности или неуспешности учения и развития ребенка недостаточно. Постановка диагноза, по убеждению Бине, составляет лишь половину дела. Педагогика в известном смысле подобна медицине, которая включает не только диагностику, но и лечение. Необходимо помочь школьнику преодолеть имеющиеся у него недостатки. И в этом случае подход должен быть сугубо индивидуальным. Найдя причину отклонения в развитии ребенка, надо искать наиболее подходящие средства для устранения недостатков. В этих целях надо поочередно исследовать физическое состояние ребенка, его органы чувств, его умственные способности, его память и характер. В такой последовательности Бине и рассматривает в своей книге каждый из этих вопросов.
Значительное место в книге занимает проблема умственных способностей школьников, возможность их измерения и воспитания. Указывая на несовершенство детского ума, Бине вместе с тем утверждал и возможность его совершенствования. Он был убежден, что воспитание интеллекта возможно и необходимо. «Интеллект любого лица способен к развитию: упражнением и настойчивостью, а особенно методичностью можно сделаться в буквальном смысле более умным, чем раньше… Я бы еще прибавил, что для разумного образа действий не столько важен объем способностей, сколько манера пользования ими, – так сказать, интеллектуальное искусство, а это искусство необходимо должно изощряться вместе с упражнением». Поэтому первостепенная задача школы заключается в том, чтобы научить ребенка учиться.
В этих целях под руководством Бине была разработана система упражнений по так называемой умственной ортопедии. В качестве важнейшего требования она предусматривала активность самого учащегося. Суть предлагаемого подхода заключалась в стремлении создать из ученика деятеля, вместо того чтобы превращать его в слушателя. («Новаторы», ау! Вот уж поистине – «хорошо забытое старое»…)
В то же время, поощряя активный характер обучения, Бине вовсе не отрицал, что многое достигается путем заучивания. Отсюда следовала и высокая оценка роли памяти в успешности обучения. «Учиться – значит упражнять свою память, приобретать воспоминания; кто имеет слабую память, тот не выучивается почти ничему или выучивается плохо». Важно лишь, чтобы интеллект и память находились в гармонии. Память Бине образно сравнивал с полем, подлежащим обработке, а интеллект уподоблял капиталу, необходимому для этого. «Нужно желать, чтобы память следовала за развитием интеллекта и соизмерялась с ним», – писал он.
Природа оделяет людей памятью в разной мере. Педагогу необходимо учитывать это обстоятельство. Применяя приемы, измеряющие память, учитель сможет лучше соразмерять задаваемые уроки со способностями учеников, не будет наказывать ребенка с плохой памятью за ленность и т. п.
Рассмотрев различные виды мнемической деятельности, Бине наметил обширную программу воспитания памяти. Она включала целую систему упражнений. Особенно настаивал он на постепенном усложнении этих упражнений.
Не обошел вниманием Бине и вопрос о соотношении умственных способностей. Темпы развития разных способностей могут быть различны. Поэтому нельзя делать скороспелых выводов о способностях ребенка и планировать его дальнейшую судьбу. Бине выступал против ранней специализации. Столь же осторожным он советовал быть в решении вопроса о соотношении специальных способностей и общего образования: «Полезно уделять известное место общему образованию в тех случаях, когда природные данные ученика позволяют ему усвоить его; но необходимо также пользоваться в качестве рычага образования специальными способностями, если они достаточно резко выражены».
Завершается книга главой о нравственном воспитании. Обращение Бине к этой проблеме не случайно. Он был убежден, что забота о нравственном здоровье так же важна, а может быть и важнее, как забота о материальном благополучии, ибо именно нравственной силе «принадлежит руководство миром».
Много внимания Бине уделял также умственно отсталым детям. Его интересовали их психологические особенности, специфика их обучения и воспитания, в известной мере их трудоустройство. Совместно с Т.Симоном им была написана книга «Ненормальные дети», явившаяся руководством для отбора детей во вспомогательные школы. Указывал он и на такое явление, как «мнимо неспособные дети»: ребенок может лишь в силу не зависящих от него причин казаться неспособным, тогда как при соответствующих условиях он вполне способен нормально учиться в обычной школе. Впоследствии к таким детям стали применять понятие «педагогическая запущенность».
В последние годы жизни Бине стал много заниматься проблемами патопсихологии, продолжая сотрудничество с Т.Симоном. Ими были описаны психологические признаки различных душевных болезней. Очень важное значение придавали они отношению больного к своим психическим отклонениям. Например, галлюцинация не является свидетельством патологии, если человек отдает себе отчет в том, что это галлюцинация, и она не нарушает общего хода его душевной жизни. Бине было сделано множество тонких психологических наблюдений над душевнобольными и их отношением к своей болезни.
Бине был создан также ряд оригинальных работ и по другим проблемам – по проблеме внушаемости, умственного утомления, по психологии шахматистов и феноменальных счетчиков, по психологии искусства и судебной психологии, и др.
За свою недолгую жизнь пионер французской экспериментальной психологии сумел очень много создать как в научном, так и в организационном плане. Многие его труды в начале прошлого века были переведены на русский язык. Увы, сегодня мало надежды на их переиздание. (Единственное исключение – недавнее переиздание книги «Ненормальные дети». Наверное, никакая другая издателям в руки не попалась. Да и название ради политкорректности и рыночной привлекательности пришлось поменять на… естественно, «Измерение умственных способностей»). Похоже, занимавшие Бине проблемы перестали рассматриваться как приоритетные современными психологами. А жаль…
Н.Н. Ланге (1858–1921)
Вышедшее недавно в серии «Психологи отечества» новое издание трудов Н.Н. Ланге не привлекло особого внимания психологического сообщества. Наша историческая память, увы, коротка. Сегодня даже те немногие, кто слышал это имя, путают Н.Н. Ланге с его однофамильцем – датским физилогом К.Ланге – и считают его соавтором известной теории эмоций. Наш знаменитый соотечественник вошел в историю как создатель совсем другой теории – так называемой моторной теории внимания. Не говоря уже о том, что он по праву считается одним из основателей экспериментальной психологии в России. Впрочем, это был мыслитель широкого гуманитарного профиля, автор работ по философии, логике, педагогике, истории культуры, видный организатор науки, активный участник общественного движения по коренному обновлению русской жизни. Но приоритетной областью была для него главная наука о человеке – психология. Вклад в разработку ее проблем и определил его научную судьбу. Он пришел в эту область, когда из раздела философии она превратилась в самостоятельную дисциплину, ориентированную на методы стремительно развивавшегося естествознания. Обращение Ланге к проблемам психологии произошло под влиянием идейной атмосферы пореформенной России, где не умолкали споры о душе, о движущих силах поведения человека. Так запросы исторической логики развития психологического знания, с одной стороны, и запросы социокультурной среды, в которой Ланге формировался как ученый, с другой, обусловили его творческий путь.
Николай Николаевич Ланге родился в Петербурге 12 (24) марта 1858 г. в семье профессора Военно-юридической академии. Окончив с золотой медалью гимназию, он в 1878 г. поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Это были годы революционного подъема, когда активность охотившихся за царем народников достигла апогея. В первый же год учебы студент Ланге принял участие в революционной сходке, за что был предан университетскому суду. К счастью, на его судьбу этот инцидент серьезно не повлиял и не помешал блестяще завершить университетское образование. Не исключено, что серьезная острастка удержала его от того, чтобы присоединиться к стану бомбистов (иных юных интеллигентов авантюрные страсти привели на виселицу), и побудила впоследствии предпочесть менее радикальные формы борьбы за социальное переустройство.
По окончании историко-филологического факультета Ланге был оставлен в университете при кафедре философии (этому способствовало то, что еще на IV курсе он был удостоен университетской золотой медали за блестящую работу «Учение Лейбница и его полемика с Локком»), а затем в 1883 г. направлен на стажировку в Германию и Францию. Здесь он продолжал свои историко-филосфские штудии, итогом которых стала диссертация «История нравственных идей ХIХ века» – за нее он в мае 1888 г. был удостоен звания магистра философии. В том же году была опубликована на немецком языке (для образованных людей той поры свободное владение европейскими языками было нормой) его работы «К теории чувственного внимания и активной апперцепции». Эта работа обощала результаты экспериментов, проведенных Ланге в лаборатории «отца экспериментальной психологии» Вильгельма Вундта.
Важно отметить, что приехав в Лейпциг в качестве стажера к Вундту, Ланге не принял ни одну из его методологических ориентаций – ни учение о параллельности психических и физических процессов (психофизический параллелизм), ни принцип психической причинности, согласно которому психические явления определяются психическими же, и только ими, ни волюнтаризм, возведший волю в высшую силу души, для которой «нет закона». Под знаком этих концепций шла работа в Лейпцигском институте Вундта, ставшем в тот период главным международным центром психологических исследований. Но не для освоения этих концепций Ланге приехал к Вундту. У него еще ранее, на родине, сложились представления, противоположные вундтовским. Он отверг представление о сознании как замкнутом в себе внутреннем мире, о воле как действующем из глубины этого мира первоначале и другие постулаты лейпцигского профессора. Ланге, имевшему философское образование, но не имевшему навыков лабораторной работы, важно было ими овладеть, чтобы реализовать свой собственный план экспериментов, на которые он рассчитывал в поисках обоснования своих теоретических представлений.
Приступив к психометрическим опытам (так назывались тогда исследования времени реакции), Лланге поставил перед собой задачу наути реальные детерминанты акта внимания. Предпосылкой этого стал принципиально новый методологический подход, отразивший общую переориентацию мировой психологической мысли на эволюционно-биологический способ объяснения ее объектов. Взамен отношения сознания к организму на передний план выступило его отношение к системе «организм – среда». Взаимодействие организма со средой происходит посредством двигательной активности. Если прежде эту активность выводили из интеллектуальных, эмоциональных, волевых операций, то теперь эти зависимости меняются и сами эти операции выступают в качестве производных от мышечных процессов. Зарождаются моторные теории различных психических процессов.
Одним из пионеров этого направления выступил Ланге. Им была предложена моторная теория внимания – феномена, в котором внутренняя активность и избирательность сознания выступают в концентрированном виде. Моторная теория внимания ланге явилась антиподом трактовки внимания, запечатленной в вундтовском понятии об апперцепции. Исходным и фундаментальным является, согласно Ланге, непроизвольное поведение организма, имеющее биологический смысл, который заключается в том, что посредством мышечных движений организм занимает наиболее выгодную позицию по отношению к внешним объектам с тем, чтобы воспринять их возможно яснее и отчетливее. Предметом специального экспериментального изучения Ланге сделал непроизвольные колебания внимания при зрительном и слуховом восприятии. Этот феномен и его объяснение, предложенное Ланге в работе 1888 г., вызвали в психологической литературе оживленную дискуссию, в которую были вовлечены лидера тогдашней западной психологии – В.Вундт, У.Джемс, Т.Рибо, Дж. Болдуин, Г.Мюнстерберг и др.,
Моторная теория внимания Ланге принесла ему широкую известность на Западе. Публикация, в которой она излагалась, получила высокий индекс цитирования. Прочно став на почву биологического детерминизма, Ланге отверг любые трактовки внимания и воли, основанные на древнем, восходящем к августину постулате о том, что первопричиной этих процессов является внутренняя активность души.
В ноябре 188 г. Ланге был назначен на должность приват-доцента в Новороссийский (ныне Одесский) университет по кафедре философии. Наряду с чтением лекций он работал в физиологической лаборатории П.Спиро – ученика и последователя И.М. Сеченова. Здесь он продолжил начатые за рубежом эксперименты. В одном из писем жене ученый сообщал, что для завершения опытов об ощущении движения ему потребовались некоторые инструменты. Он нашел их в лаборатории Спиро, который отвел Ланге отдельную комнату, ставшую вскоре «кабинетом экспериментальной психологии».
Одесса той поры была крупным культурным центром юга России. С этим городом многие годы была связана жизнь Ланге. С ноября 1888 г. и до самой смерти он проживал в Одессе, работая в Одесском университете и других учебных заведениях города. Весьма продуктивными были первые годы его работы. В 1889 г. он издает учебник логики, впоследствии удостоенный малой золотой медали. В 1890 г. в центральном журнале «Вопросы философии и психологии» выходит его статья «Элементы воли», а в 1891 г. в журнале «Русская школа» – статья «Механизм внимания». В 1893 г. Ланге обобщил результаты своих исследований, представив их в качестве докторской диссертации «Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого внимания». Эта работа Ланге ознаменовала начало открытой борьбы за утверждение экспериментального метода в отечественной психологии. В своей диссертации он подчеркивал необходимость создания при русских университетах кабинетов экспериментальной психологии, обосновывая это: «1) современным положением научной психологии, 2) примером университетаов Германии, Франции, Соединенных Штатов Северной Америки и др., 3) пользой, имеющей отсюда произойти, как практической для педагогов, врачей, так и теоретической для дальнейшего развития наук антропологических в широком смысле этого термина».
Получив диплом доктора философии в 1893 г., а затем и звание экстраординарного профессора, Ланге перешел от общих соображений о необходимости организации самостоятельных психологических лабораторий к реализации этого проекта в стенах Новороссийского университета. Его лаборатория преследовала цели развития психологии как объективной науки и преподавания ее как учебной дисциплины. Организованная по таким принципам при кафедре философии в 1896 г., она стала по сути первой самостоятельной экспериментальной психологической лабораторией в России.
Занятия общей психологией (в частности, проблемами внимания и восприятия) Ланге сочетал с изучением психического развития детей. Об этом говорит его небольшая книга «Душа ребенка в первые годы жизни».
Не ограничиваясь академической деятельностью, он живо откликался на общественные запросы. В течение нескольких лет он, председательствуя в историко-филологическом обществе при Новроссийском университете, создал при нем педагогический отдел, ставший центром научно-методической и общественной работы учителей начальной и средней школы. Отдел направлял и организовывал деятельность учительства, обсуждал наиболее актуальные проблемы образовани, в частности связанные с назревшей реформой школы. В марте 1905 г. на одном из заседаний отдела ланге выступил с речью «В чем должна состоять реформа нашей школы». Он критически оценил систему классического образования, осудил бюрократический режим школы, ратовал за отмену цензуры, за доступность образования для всех слоев населения. «Стремление удержать младшие классы на низших ступенях образования в результате неизбежно приводит к общей остановке в развитии страны, к тому, что высшие силы, лишенные постоянного прилива новых жизненных сил и талантов снизу, приходят к истощению и вырождени., – говорил он, – ограничение же прав просвещения известным народностям всегда порождает внутреннюю ненависть, так что страна всегда будет заключать в себе неисчерпаемый фонд разрушительных сил».
В последующие годы Ланге страстно защищал принцип общедоступности образования, доказывая, что школа призвана пробуждать у детей научные интересы, учить их мыслить. Став председателем школьного комитета при городской думе, Ланге непосредственно занимался организацией деятельности одной из начальных школ, где, осуществляя идеи Песталоцци, предпринял попытку реализовать принципы трудового обучения. Так что, как видим, первые психологи пришли в отечественную школу отнюдь не вчера, еще в начале прошлого века, когда и психологов-то были единицы. Но каких!
Занимаясь активной общественной деятельностью, Ланге не переставал быть ученым. Он редактировал книги, писал отзывы на работы как признанных ученых, так и начинающих студентов, вел экспериментальные и теоретические исследования. Его отзывы на работы «Теория познания Локка и полемика против нее Лейбница» (1899), «Учение Канта о пространстве и времени» (1901), «Основание философии Вундта» (1904) и др. Сами по себе представляют серьзные научные исследования. Немалый интерес вызывали его публичные лекции «Современная экспериментальная педагогика» (1909), «Об играх животных и людей в связи с вопросом о происхождении искусства» (1909) и др.
На кончину Ланге (15.02.1921) откликнулся сотрудничавший с ним и сменивший его на кафедре психологии Одесского университета С.Л. Рубинштейн. В своем некрологе он отнес Николая Николаевича к ученым, труды которых не исчерпали их творческого потенциала. У ученых такого типа «всегда чувствуется какая-то, не сполна еще реализовавшаяся возможность, какая-то сила, которая не исчерпала себя в действии и которой не измеришь произведенной ей работой».
Дж. Дьюи (1859–1952)
Пытаясь определить сферу деятельности Джона Дьюи, авторы энциклопедий и биографических словарей предпочитают тройственную дефиницию – «американский философ, психолог и педагог». Действительно, Дьюи с интервалом всего в несколько лет возглавлял сначала Американскую Психологическую Ассоциацию (1899–1900), затем Американское философское общество (1905–1906), а с целью объединения усилий педагогов и общественности в деле воспитания им была основана Ассоциация родителей и учителей. Кого-то, наверное, поразят и восхитят столь разносторонние достижения. На самом деле восхищения достойно их нерасторжимое единство. Так, кафедра, которую Дьюи на протяжении десяти лет (1894–1904) возглавлял в Чикагском университете, представляло собой уникальное явление – это была объединенная кафедра философии, психологии и педагогики.
Унылое зрелище являет собой педагог, игнорирующий психологию. Жалок психолог, пренебрегающий философией. Скучен философ, чьи рассуждения не вплетаются в живую ткань психологического исследования и школьного дела. Дьюи не был ни уныл, ни жалок, ни скучен. Это был поистине выдающийся мыслитель и ученый.
На праздновании его семидесятилетнего юбилея в Колумбийском университете один из выступавших, профессор Герберт В. Шнейдер позволил себе вольную импровизацию на тему античной мифологии. Вот его рассказ.
Когда великая Эллада пришла в упадок, ее боги покинули Олимп и разбрелись по свету в поисках нового пристанища. Игривый Пан, воплощение вольности и жизнелюбия, после долгих странствий облюбовал лесистые холмы Новой Англии и поселился на западных склонах. Там он повстречался с Логосом, воплощением рациональности и порядка, избравшим восточный склон. Частенько сходились они на вершине и ожесточенно спорили. Не найдя компромисса, они захотели найти третье божество, которое разрешило бы их противоречие. Однако никого из Олимпийцев в западном полушарии повстречать не удалось. Тогда Пан предложил соединиться в одном теле. «Боюсь, – возразил Логос, – тогда не станет двух замечательных богов». «Зато, – усмехнулся Пан, – получится на редкость толковый человек». Так появился на свет Джон Дьюи, земная инкарнация непримиримых древних божеств.
Дьюи родился 20 октября 1859 г. в городке Берлингтон, шт. Вермонт, в семье владельца табачной фабрики. Там же, в родных краях, он получил высшее образование – закончил в 1879 г. университет штата Вермонт и со степенью бакалавра поступил на работу в среднюю школу. Так что педагогика выступила его первичным интересом, философией он заинтересовался уже в школе, а философия и психология в ту пору были нерасторжимы. Например, крупнейший американский мыслитель той поры, Уильям Джемс, выступавший непререкаемым авторитетом для Дьюи, параллельно разрабатывал психологические идеи (воплощенные, в частности, в его знаменитых «Беседах с учителями о психологии») и философские представления, составившие ядро концепции прагматизма.
Опираясь на идеи Джемса, Дьюи разработал собственный вариант прагматизма – так называемый инструментализм. Различные виды человеческой деятельности он рассматривал как инструменты, созданные человеком для решения индивидуальных и общественных проблем. Познание он трактовал как сложную форму поведения, в конечном итоге – средство борьбы за выживание, а критерием истины считал практическую эффективность, полезность. В силу этого не существует неизменных истин. То, что для одного человека истинно, может быть ложным для другого; то, что было для человека истинно вчера, может уже не быть таковым сегодня. Таково непременное условие приспособления к меняющимся условиям существования.
Понятие изменчивости – одно из ключевых в философии Дьюи. Соответственно, разум определяется им как мысль в действии, ориентированная на происходящие в жизни перемены.
Говорят, истина глаголит устами младенца. Отец пятерых неугомонных детей, Дьюи постоянно сталкивался с результатами их проказ. Его кабинет находился прямо под ванной комнатой. Однажды, когда с потолка закапала вода, ученый поспешил наверх, чтобы разобраться в происходящем. Его маленький сын Фредди тем временем безуспешно пытался перекрыть кран, переполнявший усеянную игрушечными корабликами ванну. Зная склонность отца к философствованию, Фредди взмолился: «Папа, не надо слов – сделай что-нибудь!»
«Не надо слов – сделай что-нибудь!» – так можно вкратце резюмировать и философскую теорию Дьюи. Философии он отводил роль методологической основы психологии и общей теории образования.
Основу его взглядов составляют пять фундаментальных посылок. Во-первых, как уже говорилось, это положение о том, что не существует каких бы то ни было вечных истин и абсолютов в области идей, религии, философии. Критерием истинности той или иной идеи являются последствия ее практического применения, подтверждаемые экспериментальным исследованием. Иными словами, проверяемая исходная посылка или идея, если она окажется правомерной, приобретает, по Дьюи, качество «доказанной правомерности».
Вторую чрезвычайно важную посылку Дьюи, связанную с обучением и усвоением знаний, составляет идея о том, что разум не является самодовлеющей сущностью, оторванной от человеческого организма в его целостности. То, что мы называем разумом, формируется в процессе социального опыта: умственные способности создаются опытом, подобно тому как плотиной создается энергия воды. Дьюи рассматривал психику как функцию человеческой деятельности. По его мнению, если провести аналогию с лингвистикой, разум скорее предстает в виде глагола, чем существительного, поскольку это понятие относится именно к человеческому поведению, к установлению и оценке его последствий, а не к некой субстанции, состоящей из миллиардов нервных клеток, в которых фиксируется жизненный опыт индивида. Иными словами, эмпирический акцент делался Дьюи на процесс становления, а не бытия как статичного состояния.
Третья посылка Дьюи относится к сфере морали. В его представлении она есть не что иное, как способ поведения, зависящий от последствий тех или иных действий индивида в ситуациях реальной действительности. Дьюи указывал также, что ни абстрактная философия, ни религия не обладают абсолютными истинами, которых должны придерживаться люди. Он утверждал, что вместо ориентации на метафизические и другие неверифицируемые интеллектуальные ограничения человеку следует обратиться к научному методу решения проблем, с опорой на поисковую деятельность в качестве основы для принятия моральных решений. Впрочем, несмотря на свою светскую интерпретацию морали, Дьюи отнюдь не был настроен атеистически. Отвергая традиционные формы религии, он выдвигал свою «натуралистическую» или «гуманистическую» религию.
Со всей решительностью отстаивая значение свободы для достижения личностной самореализации в условиях всеобщего благосостояния, Дьюи в то же время не ассоциировал счастье или самоосуществление с простой свободой от социальных, религиозных или иных ограничений. Напротив, он был убежден в том, что абсолютная свобода способствует лишь превращению людей в рабов своих прихотей и сиюминутных побуждений. Столь модный ныне культ спонтанности, который иные теоретики склонны выводить из концепции Дьюи, на самом деле был ему абсолютно чужд.
Четвертая важная посылка Дьюи заключается в его взгляде на умственные способности, интеллект как на «основной инструмент индивида, с помощью которого он решает возникающие в жизни проблемы, включая научные». Эта формулировка проливает свет на употребление термина «инструментализм» по отношению к его философии и психологии.
При более внимательном рассмотрении этой посылки становится очевидным, что Дьюи трактовал человеческую психику как источник энергии, делающий нас существами с разносторонним потенциалом, способными к различному самоосуществлению или же неспособными к этому – в зависимости от характера и качественного своеобразия жизненного опыта.
Отсюда вытекает то формальное определение, которое Дьюи дал образованию. По его мнению, «это такая реконструкция или реорганизация опыта, которая увеличивает значимость уже имеющегося опыта, а также способность направлять ход усвоения последующего опыта». Через четыре десятилетия историк М. Кэрти для большей ясности перефразировал это определение. По его мнению, под образованием следует просто понимать то, что «прошлый опыт переживается и критически реконструируется в свете нового опыта».
На основе этих представлений Дьюи сформулировал основные принципы образования, которые определили направление многих педагогических новаций ХХ века. Вот эти постулаты.
Обучение и усвоение знаний должно осуществляться на активной, а не пассивной основе. Положение Дьюи о том, что необходимо помогать детям в активном усвоении знаний, а не превращать их в пассивных реципиентов, образно перефразировал Г.С. Коммэджер: «Ребенок – это не сосуд, который необходимо заполнить, а светильник, который нужно зажечь».
В управлении школой и практике ее работы следует применять демократические принципы. Дьюи рассматривал принцип демократического участия как средство приобщения индивида, будь то ребенок или учитель, к самоуправлению в условиях справедливого и служащего интересам всеобщего благосостояния общества. В то же время не вызывает сомнения его критическое отношение к любой форме «ничегонеделания», то есть лишенным педагогического руководства групповым процессам, которые предполагают участие лишь ради участия и не преследуют какой-либо разумной цели.
Мотивация является чрезвычайно важным фактором в сфере образования. Дьюи проводил четкое разграничение между простым эфемерным любопытством и собственно познавательной мотивацией. Он со всей ясностью подчеркивал также, что учитель несет ответственность за зрелое педагогическое руководство учащимися и что ему не следует ради их мотивации допускать такое положение, когда «каждый занимается, чем хочет». В этой связи он писал:
Гораздо большая зрелость опыта, которая должна отличать взрослого как педагога, дает ему возможность оценивать опыт молодого поколения на основе такого подхода, который недоступен менее искушенному юному уму. Следовательно, задача педагога состоит в том, чтобы предвосхитить направление усваиваемого молодым поколением опыта. Не следует отбрасывать свой гораздо более зрелый опыт, если речь идет о создании условий для развития юных умов.
В обучении следует делать упор на решение реальных проблем. Хотя создание методов обучения на основе организации поисковой деятельности учащихся было начато еще до Дьюи, его работы отражают необходимость приобщать учащихся к решению реальных, вызывающих у них активное отношение проблем не только в целях умственного развития, но и для расширения их сознательного и эффективного участия в социальных процессах.
Исследовательская свобода учащихся является существенным элементом методики обучения. Деятельные умы, убеждал Дьюи, не могут развиваться без исследовательской свободы. Она должна быть связана с актуальным уровнем развития ребенка. Развитию интеллектуальных способностей не благоприятствует такая среда, в которой политические, религиозные или культурные табу препятствуют исследовательской свободе.
Следует осуществлять постоянный поиск новых решений в отношении содержания обучения. Со всей очевидностью Дьюи выступал против того, чтобы школьная программа оставалась раз и навсегда неизменной. Напротив, по его мнению, сдвиги в социально-культурной сфере должны служить важным источником и стимулом к непрерывному отбору и изменению содержания образования и того опыта, к которому оно призвано приобщить молодое поколение.
Учитель призван стать творческой личностью в той или иной области. По мнению Дьюи, образцовый учитель должен отличаться способностью выразительно проявлять себя, начиная от вербальных умений и кончая более специфическими видами творческого самовыражения. Дьюи мечтал о том, чтобы будущие учителя формировались не только на основе программ узкопрофессиональной подготовки, но и свободных искусств, поскольку наивысших результатов в преподавании добивается именно тот, кто наилучшим образом может приобщить учащихся к глубокому пониманию сути вещей и тем самым открывать перед ними возможности все более полной самореализации.
Впервые концепция Дьюи получила практическое воплощение в экспериментальной «школе-лаборатории», которую он совместно с женой организовал при Чикагском университете. Сегодня его идеи могут даже показаться тривиальными – настолько пронизаны ими общественные настроения рубежа веков, а сто лет назад это было новацией чрезвычайной смелости, которая не всем пришлась по душе. Разногласия с руководством Чикагского университета по поводу управления школой вынудили его перейти в Колумбийский университет, где он и продолжал работать до своей отставки в возрасте 80 лет в звании заслуженного профессора.
Дьюи неоднократно посещал разные страны – Китай, Японию, Мексику, Великобританию, Турцию – с целью пропаганды своих идей. В 1928 г. он побывал в СССР и высоко отозвался о советской школе той поры. В самом деле, это была школа, наполненная духом демократизма и творческого новаторства, еще не задавленная партийными постановлениями и не выстроенная по линейке. А вот в начале тридцатых, когда Дьюи едва успевал получать почетные степени и звания по городам и весям, у нас его принялись ругать и по инерции поносили вплоть до недавних пор. Сегодня его полузабытые у нас труды переиздаются снова, побуждая новые поколения философов, педагогов и психологов к разумному сочетанию свободы и порядка, импровизации и здравомыслия.
П. Жане (1859–1947)
В календаре памятных для психологии дат август отмечен днями рождения сразу нескольких выдающихся ученых, в частности Зигмунда Фрейда, родившегося 6 августа 1856 г. Отмечая эту дату, поклонники основателя психоанализа наверняка воздадут ему хвалу и не преминут отметить, какая новаторская, революционная роль принадлежит ему в истории науки. Менее восторженные специалисты обычно на это замечают, что научный и мировоззренческий переворот, произведенный венским психиатром на рубеже веков, на самом деле произошел не на пустом месте. Высказанные им идеи в ту пору буквально носились в воздухе, более того – высказывались не только им, из-за чего болезненно мнительный Фрейд полжизни провел в ожесточенных спорах о своем приоритете. Надо признать, что с его стороны эти споры в итоге увенчались успехом. Так, сегодня лишь редкие знатоки психологической науки вспоминают о его выдающемся современнике – французском психологе Пьере Жане, который родился тремя годами позже и почти одновременно с Фрейдом разрабатывал собственную концепцию бессознательного, кое в чем удивительно перекликающуюся с фрейдистской теорией. Говорят: есть люди, забытые незаслуженно, но нет таких, о которых бы незаслуженно помнили. Разумеется, авторитет Фрейда заслужен им сполна. А вот Жане забыт, пожалуй, незаслуженно. Для восстановления справедливости вспомним и о нем.
Пьер Жане родился 30 мая 1859 г. в Париже. Его семья принадлежала к кругам обеспеченной французской интеллигенции, многие его родственники были юристами, филологами, инженерами, а его дядя – Поль Жане – довольно известным по тем временам философом. Вероятно, следуя по его стопам, Пьер поступил в знаменитую парижскую Эколь Нормаль, где вместе с ним учились многие юноши, впоследствии прославившие французскую науку. Среди его однокурсников были, в частности, Анри Бергсон и Эмиль Дюркгейм, которые стали известными философами и внесли немалый вклад в развитие психологической науки.
В 1882 г. Жане получил ученую степень магистра философии (позже, в 1889 г., ему будет присвоена в Сорбонне докторская степень по литературе, а в 1893 г. – и по медицине; вероятно, по сей день такое сочетание оптимально для психолога). В течение нескольких лет он преподавал философию в Гавре и даже написал собственный учебник, который, однако, особого признания ему не снискал. Жане предстояло прославиться как психологу. Но и в этом качестве его характеризует удивительная глубина и многосторонность научного подхода, а также совершенно особый стиль, во многом, вероятно, обусловленный его личными особенностями.
«Мои научные занятия, – писал он в своей автобиографии (а таковых он опубликовал две – в 1930 и 1946 г.), – оказались результатом конфликта между несовместимыми, различными тенденциями. В детстве я увлекался естественными науками. С раннего возраста я начал интересоваться ботаникой и коллекционировать растения. И каждый год до сих пор пополняю свой гербарий. Эта страсть, определившая мою склонность к анализу, точному наблюдению и классификации, должна была привести меня к карьере натуралиста или врача.
Но во мне была и другая наклонность, так и не нашедшая удовлетворения, слабые отблески которой можно узнать в ее теперешней трансформации. В возрасте 18 лет я был очень религиозен и всегда был подвержен мистическим наклонностям, которые мне, однако, удавалось контролировать. Проблема примирения научной склонности и религиозного чувствования оказалась нелегким делом. Оно могло произойти с помощью усовершенствованной философии, удовлетворяющей как разум, так и веру. Мне не удалось создать этого чуда, но я остался философом».
В 1889 г. Жане возвратился в Париж и успешно защитил диссертацию «Психический автоматизм (Экспериментальное исследование низших форм психической деятельности)», впоследствии опубликованную в виде книги. Докторская степень была ему присвоена по философии, ибо в представлении французской научной общественности той поры психология продолжала оставаться ветвью философских наук (представление, наверное, небезосновательное и, не смотря ни на что, отчасти справедливое и поныне). В 1890 г. Жане получил пост в Парижском лицее, и в том же году Ж.М. Шарко отдал в его ведение психологическую лабораторию в своей клинике Сальпетриер, где Жане и ранее вел активную клиническую работу, а свои научные взгляды излагал в лекциях, пользовавшихся большой популярностью. Фрейд, стажировавшийся у Шарко в клинике Сальпетриер, впоследствии утверждал, что никогда даже не сталкивался с Жане и ничего не слышал о его идеях. В «Очерке истории психоаналитического движения» Фрейд не без горечи отмечает: «В Париже, кажется, господствует убеждение, что все верное в психоанализе с небольшими изменениями повторяет взгляды Жане, все же остальное никуда не годится». Даже в написанной в 1925 г. «Автобиографии» Фрейда читаем: «В то время как я пишу это, из Франции до меня доходят многочисленные статьи из журналов и газет, свидетельствующие о сильном сопротивлении принятию психоанализа, причем часто они содержат самые неверные предположения по поводу моего отношения к французской школе. Так, например, я читаю, что своим пребыванием в Париже я воспользовался для того, чтобы познакомиться с учением Пьера Жане, а затем сбежал, прихватив уворованное. Я должен ясно сказать в связи с этим, что вообще не слыхал имени Жане во время моего пребывания в Сальпетриер».
Те, кто интересуется подробностями этого болезненного спора о научном приоритете, могут найти подробное изложение ситуации в блестящей работе Генри Элленбергера «Открытие бессознательного» (первый том этой книги завершает глава, посвященная сопоставлению взглядов Фрейда и Жане), а также в книге Альфреда Лоренцера «Археология бессознательного» (М., 1996).
В 1893 г. Жане защитил медицинскую диссертацию «Умственное состояние истериков». С декабря 1895 г. по август 1897 г. он заменял Т.Рибо в Коллеж де Франс и окончательно сменил его там в 1902 г., получив должность профессора психологии. В 1904 г. основал совместно с Ж.Дюма «Журнал нормальной и патологической психологии» и оставался его главным редактором свыше 30 лет. В 1936 г. ушел в отставку, но продолжал частную практику и научные исследования.
Жан Пиаже, посвятивший Жане специальную статью, выделяет в его творчестве три периода. Первый начинается работой «Психический автоматизм» и характеризуется некоторой статичностью. Начальная точка второого периода – работа «Навязчивость и психастения» (1903), где внимание Жане уже направлено на динамический аспект психического процесса. Третий период (со второй половины 20-х годов) интересен генетическим анализом разных форм поведения.
Вполне в духе своего времени Жане на раннем этапе своей научной деятельности был увлечен исследованием таких процессов, как гипнотизм, внушение мыслей на расстоянии. «Мои первые пробы в изучении расстройств нервной системы путем обследования мистических феноменов и сомнительной реальности не следовало бы наверное, рассматривать как полностью бессмысленные. Прежде всего потому, что эти странные исследования познакомили меня с такими важными людьми, как Шарко, Рише, Мэйер, Сидвик, имевшими те же наклонности и интересы. Они поделились собственными идеями и сомнениями, показали свою исследовательскую работу, познакомили с методами… Эти первые работы над чудесами животного магнетизма ориентировали меня на изучение сомнамбулизма и гипнотической практики, которые были чрезвычайно популярны и по крайней мере казались средством подхода к психологическому изучению психической патологии». В этот период Жане также формулирует основные методические правила своей работы, которым следует и в дальнейшем: 1) обследовать пациента самому, насколько это возможно без ассистентов и другого рода «посторонних»; 2) точно записывать все, что говорит и делает пациент; 3) учитывать не только актуальное состояние пациента, но и всю историю его жизни и ход предшествующих заболеваний и их лечения.
Сам Жане дает достаточно противоречивую характеристику своим ранним исследованиям и считает, что они были «опубликованы и популяризированы слишком рано, и с тех пор цитировались во всех работах, посвященных возможностям человеческой психики. Рассматривая эти цитаты и эти злоупотребления моими прошлыми наблюдениями, я всегда испытывал чувство удивления и сожаления. Странно, что исследователям, с такой методичностью повторявшим эксперименты 1882 года, никогда не приходило в голову написать все еще живущему их автору и спросить, что он о них думает. Я бы ответил уже тогда и еще полнее сейчас, что я сомневаюсь в интерпретации фактов и склонен критиковать их сам и рассматривать как отход от более серьезных и глубоких исследований».
Следует отметить, что Жане не просто много работал, обследуя больных, но и серьезно теоретически разрабатывал интересовавшую его тему. Он собрал грандиозную библиотеку по магнетизму и гипнологии, проанализировал множество разнообразных источников. В итоге он пришел к выводу о недостаточности такого подхода и необходимости углубленного изучения неврозов. Первые результаты этих исследований и послужили основой обобщающего труда «Психический автоматизм». Большая часть работы основана на изучении клинических случаев четырех женщин, фигурирующих в отчетах как Рози, Люси, Мари и Леони, хотя в исследовании в общей сложности участвовало 19 пациентов с истерией и 8 с эпилепсией.
Научный метод для Жане, как и для большинства исследователей того времени, должен был быть сочетанием анализа и синтеза. Первоочередной задачей оказывался анализ, а соответственно и вопрос о первоэлементах. Многие философы и психологи пытались реконструировать психику с помощью анализа и синтеза, используя в качестве базового элемента ощущение. Жане же начинает с выделения не чистого ощущения, но действия, и считает невозможным отделение сознания от активности. Так здесь Жане обращается к таким динамическим понятиям, как психическая сила и слабость, без которых немыслима активность, деятельность.
Первой пациенткой, на которой им был продемонстрирован метод психологического анализа, была некая Марсель. Жане попытался проранжировать ее симптомы по степени их глубины. Поверхностный уровень составляли особенности, сравнимые с результатами гипнотического внушения; средний – импульсы, которые Жане приписывал действию неосознанных фиксированных идей, исходящих из определенных травмирующих воспоминаний; наиболее глубинный уровень – наследственные факторы, перенесенные тяжелые заболевания, ранние травматические события. (Вам это ничего не напоминает? И не только вам! Недаром так кипятился венский патриарх…) За психологическим анализом должен следовать психологический синтез, то есть реконструкция хода болезни. Такое взаимодействие анализа и синтеза в ходе работы с невротическим пациентом выступает отличительной, самобытной чертой метода Жане. Основным результатом психологического анализа является открытие неосознанных фиксированных идей и их патогенной роли (!). Их причина – травмирующее или пугающее событие, ставшее бессознательным и замещенное симптомами (!!). Процесс замещения, по Жане, связан с сужением поля сознания. Неосознанные фиксированные идеи являются как причиной, так и результатом психологической слабости. Для излечения мало перевести их в план сознания (становясь осознанной, идея рискует приобрести статус навязчивости —!!!). Необходимо разрушить патогенную идею путем диссоциации или трансформации. Поскольку она является частью заболевания, ее устранение должно сопровождаться синтетическим лечением, переобучением или другим умственным тренингом.
Во втором периоде творчества Жане рассматривал две формы невроза – истерию и психастению. Его концепция неврозов сочетает психогенный компонент (исходящий от жизненных событий, фиксированных идей) и органический фактор. Жане предлагает двухуровневую модель этих расстройств: первый уровень связан с фиксированными идеями (неосознанными у истерика и осознанными у психастеника), а второй, глубинный, заключается в расстройстве некоторых базовых функций (сужение поля сознания у истерика и расстройство функций реальности у психастеника). Важно отметить, что изучая поведение больных, Жане интересовался и гораздо более широким кругом явлений психической жизни, избегая, однако, смешения нормы и патологии.
Последний период творчества Жане ознаменовался построением того колассального психологического синтеза, который должен логически следовать за психологическим анализом (только уж ене применительно к анализу невроза, а к осмыслению психологической науки в целом). Сам Жане подчеркивал, что к ХIХ веку было написано огромное количество психологических по своей сути монографий на частные темы, и пришла пора систематизации и объяснения полученных данных. Он как раз и пытался создать такую модель и использовал в ней данные не только из психологии взрослого человека и психопатологии, но и из детской психологии, этнопсихологии, психологии животных. Им была создана система, в рамкой которой получили свое освещение практически все психические явления. Материал этого колоссального синтеза не был собран в одной работе, он представлен рядом публикаций конца 20-х – начала 30-х годов.
Своей интенсивной педагогической, практической, научной деятельностью Жане способствовал развитию современной психологии. На него неоднократно ссылается К.Г. Юнг (лекции Жане он посещал в Париже во время зимнего семестра 1902/03 г.). Влияние «Психического автоматизма» Жане ощутимо в методе рассмотрения Юнгом человеческой психики как состоящей из ряда «подсознательных личностей» (у Жане – «единовременные психические существования»). То, что Юнг назвал «комплексом», первоначально было ничем иным, как эквивалентом «подсознательной фиксированной идеи» Жане. Работы Жане оказали также значительное влияние на индивидуальную психологию А.Адлера. Он признавал, что его работа о чувстве неполноценности была развитием наблюдений Жане. Впрочем, как знать – не были ли эти признания «отступников» сделаны в пику Фрейду, категорически отказывавшемуся признать какую бы то ни было преемственность идей французского коллеги…
В России вышли в переводе на русский язык «Психический автоматизм» (1913), «Неврозы» (1911), «Неврозы и фиксированные идеи» (1903). В сборнике «Новые идеи в философии» за 1914 год была напечатана его статья «Подсознательное». Российские ученые старших поколений были знакомы с его трудами и идеями. Л.С. Выготский и П.Я. Гальперин, формулируя свои представления об интериоризации, ссылаются на работы Жане. А.Н. Леонтьев обращается к его исследованиям при рассмотрении социально ориентированных направлений в психологии. Однако не переиздававшиеся с тех давних пор работы Жане сегодня труднодоступны, и многие современные психологи даже не слышали его имени.
Пьер Жане умер в Париже 24 февраля 1947 г. В это время газеты из-за забастовки печатников не выходили. В изданиях, вышедших только в конце марта, после окончания забастовки, факт смерти выдающегося психолога был отмечен двухстрочным упоминанием среди прочих заметок на различные темы.
В 1956 г. в связи со 100-летием Фрейда в клинике Сальпетриер была установлена мемориальная доска в память о его визите. Но никому не пришло в голову три года спустя, в день столетия Жане, установить здесь мемориальную доску в его честь (хотя именно в Сальпетриер он проработал несколько лет и провел здесь огромную часть своих исследований). В 1960 г., когда был выпущен памятный том, посвященный юбилею коллежа Сент Барб, где он получил образование перед поступлением в Эколь Нормаль, имени Жане не оказалось в списках знаменитых людей, учившихся там.
И тем не менее бесспорно, что Пьер Жане – один из выдающихся психологов. Он считал необходимым разрабатывать психологию как объективную науку и всей своей деятельностью способствовал этому. И справедливо звучат слова Генри Элленбергера: «Труды Жане можно сравнить с огромным городом, погребенным под пеплом, подобно Помпеям. Судьба всякого погребенного города неопределенна. Он может на века остаться сокрытым, хотя его и грабят мародеры. Но когда-нибудь он может выйти на свет, вернуться к жизни…»
Дж. М. Кеттелл (1860–1944)
История психологии как науки о душевном мире человека, его мироощущении и поведении уходит корнями в глубокую древность. В известном смысле психологами можно назвать Эзопа и Диогена, Конфуция и Мэн-Цзы, Спинозу и Монтеня. Само слово «психология» впервые прозвучало из уст немецкого теолога Р.Гоклениуса в 1590 г. Однако возникновение той или иной науки принято исчислять, опираясь на некие формальные вехи, которые в психологии обозначились лишь в конце ХIХ века. И одной из таких вех можно считать официальное вступление в должность первого в мире профессора психологии, которое состоялось в Пенсильванском университете 11о лет назад. Этим профессором был Джеймс Маккин Кеттелл.
Сегодня это имя вспоминают нечасто, и даже многие профессионалы иной раз путают Дж. Кеттелла с его известным однофамильцем, англичанином Раймондом Кеттелом, создателем теории личностных черт и популярного опросника. Но не будет преувеличением нахвать Дж. Кеттелла не просто первым в длиннейшем списке профессоров, а поистине выдающимся психологом (список которых гораздо короче). Сегодня небесполезно будет еще раз обозреть его вклад в мировую науку. Ибо пример настоящих психологов (в отличие от банальных проповедей титулярных профессоров) весьма поучителен.
Фактически Кеттелл был не первым преподавателем психологии, который вышел к студенческой аудитории. Он сам был еще студентом университета Дж. Хопкинса, когда его интерес к психологии пробудился под влиянием лекций Г. С. Холла. Однако получить основательную психологическую подготовку в конце прошлого века в Америке было невозможно, и Кеттелл отправился в Германию, к В.Вундту.
Рассказывают, что, едва появившись в Лейпцигском университете, честолюбивый американец с порога заявил Вундту: «Господин профессор, вам нужен помощник, и этим помощником буду я». Достоверность этой истории спорна, но так или иначе Кеттелл стал первым американцем, приобщившимся к психологии в стенах первого и единственного в те годы психологического научного центра. Он и сам кое-чему научил Вундта, а именно – пользованию пишущей машинкой (благодаря чему, по ироническому наблюдению коллег, авторская продуктивность Вундта удвоилась).
Однако научная атмосфера, царившая в Лейпциге, не устраивала Кеттелла. Он сосредоточился на изучении индивидуальных различий во времени реакции вопреки неприятию Вундтом такого типа исследований. В 1886 г. Кеттелл покинул Лейпциг и вскоре оказался там, куда влекли его научные интересы, – в лаборатории Ф.Гальтона в Лондоне.
Здесь все его внимание поглотила проблема индивидуально-психологических различий. Гальтон полагал, что интеллектуальные функции можно объективно измерять с помощью испытаний сенсорного различения и времени реакции. Кеттелл с энтузиазмом воспринял эту идею и начал соответствующие испытания.
Тут снова следует отметить, что слово «испытание» (проверка, проба) по-английски звучит как «тест». Благодаря Кеттеллу оно обрело тот психологический смысл, который мы вкладываем в него сегодня.
В 1890 г. в журнале «Mind» увидела свет статья Кеттелла «Умственные тесты и измерения» с послесловием Гальтона, где впервые было научно обосновано практическое использование психометрических методов. «Психология, – писал Кеттелл, – не может стать прочной и точной, как физические науки, если не будет базироваться на эксперименте и измерении. Шаг в этом направлении может быть сделан путем применения умственных тестов к большому числу индивидов. Результаты могут иметь значительную научную ценность в открытии постоянства психических процессов, их взаимозависимости и изменений в различных обстоятельствах».
Таким образом, статистический подход – применение серии тестов к большому числу индивидов – выдвигался как средство преобразования психологии в точную науку. Наряду с чисто научной ценностью такого подхода Кеттелл подчеркивал и его возможное практическое значение.
Кеттелл создал серию тестов для оценки интеллекта студентов колледжей. Предложенные испытания содержали измерения мышечной силы, скорости движений, чувствительности к боли, остроты зрения и слуха, различения веса, времени реакции, памяти и даже объема легких, что тоже почему-то увязывалось с умственными способностями. Выбор Кеттелом этих параметров для измерения объяснялся, с одной стороны, приверженностью идеям Гальтона, с другой – тем простым соображением, что элементарные функции можно измерить с большой точностью, а разработка объективных методов измерения более сложных функций казалась в то время совершенно безнадежной задачей.
Предпринятые вскоре попытки оценить эффективность подобных испытаний принесли неутешительные результаты. Индивидуальная проверка показала слабую согласованность между собой результатов отдельных тестов, а также несоответствие полученных данных независимым оценкам интеллектуального уровня, основанным на мнении преподавателей или академической успеваемости.
Этот момент принципиально важен для методологии психодиагностики. Ведь и по сей день, как и во времена гальтона и Кеттелла, любой тест фактически представляет собой компактное испытание, по результатам которого дается расширенное толкование.
Сегодня уже никто не берется оценить интеллект по объему легких (хотя, например, между умственными способностями и временем реакции обнаруживается определенная связь). Но любая тестовая задача представляет собой модель некоей гораздо более сложной ситуации. Вопрос об адекватности такой модели продолжает оставаться крайне важным для любого теста. Мы же, безоглядно доверяя стандартизированным методикам, а то и изобретая собственные, порою не отдаем себе отчета, что воспроизводим заблуждения столетней давности.
Впрочем, старинные заблуждения удивительно живучи. Так, идеи Гальтона об улучшении человеческого рода методом искусственного отбора по сей день находят приверженцев. В свое время им отдал дань и Кеттелл. Он призывал материально поощрять браки между здоровыми и интеллектуально полноценными людьми и не останавливаться перед стерилизацией «недоразвитых». Семерым своим детям он предложил по тысяче долларов каждому (огромные деньги по тем временам), если они найдут себе пару среди сыновей или дочерей преподавателей колледжа. (Разумеется, евгенические идеи, особенно будучи заострены до абсурда их рьяными проповедниками, представляются более чем спорными. Однако не вызывает сомнения, что в психологическом отношении супружеские союзы между представителями одного социального, интеллектуального и культурного круга являются оптимальными хотя бы с точки зрения здравого смысла).
Еще одним важным вкладом Кеттелла в психологическую науку послужили результаты его опытов по изучению объема внимания и навыка чтения.
С помощью тахистоскопа Кеттелл определял время, необходимое для восприятия и называния различных объектов – формы, буквы, слова и т. п. Установленный объем внимания колебался в пределах пяти объектов. Он оставался таким же и тогда, когда испытуемому предъявлялись не разрозненные буквы, а целые слова и даже предложения, то есть речевые или смысловые единицы, состоящие из значительно большего числа букв или знаков.
При экспериментам с чтением букв и слов на вращающемся барабане Кеттелл зафиксировал феномен антиципации («забегания» восприятия вперед).
Полученные результаты повышали статус не только экспериментальной психологии, но и общей психологической теории, ибо оба направления всегда неразрывно связаны.
Научная общественность высоко оценила заслуги Кеттелла. В 1895 г. он был избран президентом Американской Психологической Ассоциации. В 1929 г. председательствовал на IХ Международном психологическом конгрессе (впервые проводившемся в США).
В истории психологии Кеттелл сыграл огромную роль и как организатор, и как популяризатор науки. С 1895 г. он издавал журнал «Наука», а в 1894 г. совместно с Дж. М. Болдуином основал журнал «Психологическое обозрение», в 1915 г. – журнал «Школа и общество».
Исследования и воззрения Кеттелла оказали значительное влияние на многих ученых. В 1904 г., выступая на Всемирной ярмарке в Сент-Луисе, он произнес знаменательные слова: «…Не вижу причин, почему применение систематизированного знания к изучению человеческой природы не может в нынешнем веке привести к результатам, которые сравнятся с достижениями физики девятнадцатого века и их значением для изучения материального мира. На этом выступлении присутствовал Джон Уотсон, прославившийся впоследствии как родоначальник поведенческой психологии – бихевиоризма. Идею Кеттелла он воспринял с необычным энтузиазмом. Некоторым историкам это даже дало повод предложить именовать Кеттелла «дедушкой» бихевиоризма (хотя такая проекция, откровенно говоря, очень косвенна).
Учеником Кеттелла был и Э.Торндайк, однажды появившийся у его дверей с корзиной в руках. В ней ворочались дрессированные цыплята, из опытов над которыми впоследствии возникли знаменитые законы упражнения, эффекта и другие постулаты бихевиоризма. Среди учеников Кеттелла – блестящий экспериментатор Р.Вудвортс и основоположник американской клинической психологии Л.Уитмер.
Неуживчивый характер Кеттелла изрядно осложнял его научную карьеру и в 1917 г. привел к увольнению. Формальным основанием для этого послужили откровенно пацифистские высказывания ученого, которые университетская администрация сочла неуместными в годы мировой войны. Кеттелл судился с чиновниками, выиграл дело и получил астрономическую по тем временам компенсацию – 40 тысяч долларов. На эти деньги он основал Американскую психологическую корпорацию – первую издательскую фирму, специализировавшуюся на выпуске тестов. К экспериментальным исследованиям и преподаванию ученый больше не вернулся, но продолжал активную издательскую и общественную деятельность вплоть до своей смерти в 1944 г.
Таким был первый профессор психологии, который в годы господства лабораторных штудий призывал коллег «заниматься практическими проблемами и развивать специальность «прикладная психология». Сам он не очень преуспел на этой ниве, но история психологии свидетельствует: его призыв подхвачен и успешно реализуется.
Дж. М. Болдуин (1861–1934)
12 января 1861 г. родился Джеймс Марк Болдуин – выдающийся американский психолог конца ХIХ – начала ХХ в., один из первых президентов Американской Психологической Ассоциации (он был избран на этот пост в 1897 г.). В истории психологии он известен как организатор науки: им основаны такие авторитетные периодические издания, как «Психологическое обозрение», «Психологические монографии», а также (совместно с Дж. М. Кеттеллом) «Психологический бюллетень». Изданный в 1901–1905 гг. под его редакцией «Словарь философии и психологии» стал значительным научным событием того времени и неоднократно переиздавался. Научные труды Болдуина были в свое время широко известны, переводились на иностранные языки; в 1900–1910-х гг. большинство из них увидели свет и на русском языке. Однако его научная карьера нелепо оборвалась, и еще при жизни (умер Болдуин в 1934 г.) он был предан забвению. В последние годы интерес к его научному наследию возобновился. Конечно, с позиций сегодняшнего дня какие-то его воззрения кажутся наивными, но иные, напротив, позволяют некоторым исследователям даже называть его отцом американской возрастной и социальной психологии.
К психологии Болдуин пришел не сразу, начав свою карьеру преподавателем иностранных языков. Первоначально его интерес к психологии не выходил за рамки тем, интенсивно разрабатывавшихся в 80–90-е гг. прошлого века во всех психологических лабораториях мира. Болдуин и сам выступил организатором таких лабораторий в университете Торонто (1898), в Принстоне (1893) и в Университете Дж. Хопкинса (1903). Его ранние исследования посвящены оптическим иллюзиям и процессам запечатления. Однако решение конкретных эмпирических проблем все меньше удовлетворяло психологов. Уильям Джемс публично сетовал: психологические лаборатории, которые растут, как грибы, увязают в эмпиризме и не способны решать серьезные, подлинно психологические проблемы. Под влиянием этих настроений приверженность Болдуина эмпиризму пошла на убыль. Его увлекли философский и социологический аспекты психологии – прежде всего в сфере психического развития.
В своем произведении «Духовное развитие с социологической и этической точки зрения (исследование по социальной психологии)» Болдуин отмечал, что необходим диалектический подход к анализу духовного развития, то есть изучение личности с социальной точки зрения и изучение общества с точки зрения личности. Говоря о том, что в духовном развитии переплетаются приобретенные и врожденные качества, Болдуин отмечал, что и социальная среда и наследственность определяют уровень социальных достижений человека в данном обществе, так как в процессе социализации дети обучаются одинаковым вещам, всем даются одинаковые знания, всех учат одинаковым нормам поведения, моральным законам. Индивидуальные различия заключаются не только в скорости усвоения, но и в возможности адаптации к тем нормам, которые приняты в обществе. Поэтому, отмечал ученый, индивидуальные различия должны лежать в пределах того, чему индивиды должны выучиться и что принять.
Процесс социализации, по мнению Болдуина, влияет и на формирование самооценки, так как «хороший» человек хорош, как правило, с точки зрения людей его круга, то есть в самооценке, как и в оценке окружающих, проявляется общая система ценностей, наблюдающаяся в обычаях, условностях, ритуалах, социальных учреждениях. При этом существует как бы два круга норм (санкций, по Болдуину) – более узкий, относящийся непосредственно к тому семейному кругу, в котором живет ребенок, и более широкий, относящийся к социууму, к которому ребенок принадлежит. Так как все дети данного круга и данной нации попадают примерно в одинаковые условия и учатся одному и тому же, то не существует противоречий между личными и общественными нормами у среднего человека, подчеркивал Болдуин. Такие противоречия возникают только у выдающихся людей, которые считают возможным поставить себя выше общества и жить по собственным законам. Тут невольно возникает мысль о сверхчеловеке. Однако, в отличие от Ницше, Болдуин, как и античные мыслители, подчеркивал, что это не обязательно асоциальная личность, это может быть и человек, просто обогнавший свое время.
С позиций общественных норм и ценностей Болдуин рассматривал и такие понятия, как одаренность и гениальность. Для него в исследовании одаренности важно было не только изучить интеллектуальные различия между нормальными и одаренными, но проанализировать, насколько одаренность данного человека принимается обществом. Таким образом, гений и общество должны быть согласны относительно пригодности и правильности новых мыслей, их соответствия общественным ценностям. Исходя из такой оценки одаренности, Болдуин настаивал на необходимости общественного воспитания и обучения всех детей, в частности – обучения игре. Он одним из первых отметил социальную роль игры и рассмотрел ее не только как форму «предупражнения», но и как инструмент социализации, подчеркнув, что она подготавливает человека к жизни в условиях сложных социальных отношений.
В своем трехтомнике «Генетическая логика» Болдуин обосновал концепцию познавательного развития ребенка. Он указывал, что это развитие состоит из нескольких стадий, начинающихся с совершенствования врожденных двигательных рефлексов. Затем идут стадия развития речи и стадия логического мышления, которая завершает этот процесс. Отмечая огромное значение социального окружения, которое стимулирует формирование познавательных функций, Болдуин выделял и специальные механизмы развития мышления – ассимиляцию (интериоризацию воздействий среды) и аккомодацию (изменения организма). Эти положения оказали влияние на формирование концепции Ж. Пиаже, который обучался в Женевском университете у одного из ближайших друзей Болдуина – Э. Клапареда.
В 1908 г. Болдуин оказал протекцию Джону Уотсону, пригласив его возглавить лабораторию в Университете Дж. Хопкинса. Для рядового преподавателя Чикагского университета это было очень заманчивое предложение, и Уотсон поспешил в Балтимор, чтобы приступить к работе под началом Болдуина. Однако их совместная деятельность продолжалась всего год.
Карьера Болдуина оборвалась в одночасье в результате неожиданно разразившегося скандала. Во время полицейской облавы по злачным местам почтенный профессор был задержан в местном борделе. Болдуин неуклюже оправдывался: он якобы вовсе не намеревался предаться разврату, а случайно заглянул в сие малопочтенное заведение из чистого любопытства. Разумеется, в этот лепет никто не поверил, и психологу было указано на дверь во всех домах, где его еще вчера радушно принимали, и во всех официальных структурах, где он служил. Поверженный остракизмом, Болдуин покинул страну в надежде, что европейцы будут к нему более снисходительны. Однако его репутация была подорвана навсегда. Коллеги от него отвернулись, и последние годы жизни он провел в Париже в полной безвестности.
Отставка Болдуина неожиданно сыграла на руку Уотсону: он получил повышение по службе и даже занял оставленный Болдуином пост редактора влиятельного журнала «Психологическое обозрение». А через 11 лет повторил судьбу своего покровителя: был принужден оставить академическую карьеру под вопли моралистов. Если бы только люди умели учиться на чужих ошибках!
Г.И. Челпанов (1862–1936)
Палитра российской психологии нового века пестрит такими несовместимыми тонами, от сочетания которых у самого экстравагантного авангардиста голова может пойти кругом. Так, в памятном сборнике «Выдающиеся психологи Москвы», увидевшем свет на рубеже веков, под одной обложкой соседствуют такие фигуры, чьи непримиримые противоречия, казалось бы, навсегда развели их по разные стороны идеологических и научных баррикад. Сборник открывает очерк об И.М. Сеченове – по традиции хвалебный. Чуть далее еще один очерк (пера того же автора!) – о Г.И. Челпанове, также сплошь окрашенный в позитивные тона. Жесткий антагонизм позиций этих ученых оказался вынесен за скобки. А чуть далее – благожелательные очерки об учениках Челпанова – Корнилове и Блонском, фактически предавших своего наставника и вытеснивших его из науки. Поистине – «Пусть расцветают все цветы!» В атмосфере такого благодушного плюрализма современному психологу очень трудно составить объективное представление об отечественной науке, путях ее развития и ее ключевых фигурах. С Челпановым, пожалуй, труднее всего. Еще не так давно его обличали как реакционера, сегодня превозносят как выдающегося мыслителя. Кем же он был на самом деле, какую роль сыграл в развитии психологической науки?
В известной книге «Развитие и современное состояние психологической науки в СССР» (1975), долгое время являвшейся одной из немногих историко-научных работ в нашей стране, ее автор А.А. Смирнов писал: «Несмотря на полную неприемлемость теоретических взглядов Челпанова, создание им этого института [ныне – Психологический институт РАО] составляет его бесспорную заслугу перед русской психологической наукой». В самом деле, и по прошествии трех десятилетий с момента написания этих строк, после всех идеологических кувырков и перерождений последних лет, эту организационную заслугу оспорить невозможно. А в чем же состояла та теоретическая позиция Челпанова, которая в советскую пору однозначно считалась неприемлемой, а теперь, в нашу эру подросткового негативизма считается чуть ли не программой современной психологии? Можно ли сегодня на нее опереться в формировании научного мировоззрения и на что опирался сам Челпанов в формировании своего мировоззрения?
В справочных источниках Челпанова как правило называют философом и психологом – так же, кстати, как и В.Вундта, у которого Черпанов некоторое время учился. Такая дефиниция во многом определяется тем, что во времена профессионального становления этих ученых психология еще не обрела самостоятельного статуса, развивалась преимущественно в недрах философии, а выделилась в автономную научную дисциплину благодаря именно их стараниям – Вундта в Германии, Челпанова (не в последнюю очередь) в России.
Жизненный путь и научная карьера Георгия Ивановича Челпанова вместили много противоречивых страниц. Это и свободный творческий поиск, и мучительные попытки адаптироваться к социальным катаклизмам, увлеченная научная работа на взлете карьеры и поиски куска хлеба на закате, восторженное признание со стороны крупнейших российских мыслителей и отступничество ближайших учеников.
Он родился 16 (28) апреля 1862 г. в Мариуполе. После окончания гимназии поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета (Одесса). Психологического образования как такового в ту пору еще не существовало. Историко-филологические факультеты готовили гуманитариев широкого профиля, обеспечивая им солидную подготовку по различным областям науки и культуры. Неудивительно, что из специалистов такого и рода и сформировалось первое поколение российских психологов. Это были люди высокого культурного уровня и широчайшей эрудиции, и редкий современный психолог в этом отношении с ними сравнится. Среди прочих дисциплин студентам преподавалась и психология. В Новороссийском университете курс психологии читал Н.Я. Грот, заведовавший кафедрой философии. Именно он и оказал особое влияние на Челпанова, пробудил у него интерес к психологии. Грота, а также Вундта, у которого Челпанов также впоследствии учился, он до конца жизни считал своими главными наставниками и именно их подходы к исследованию душевной жизни принципиально исповедовал.
Научные контакты Челпанова с Гротом продолжились и в Москве. После окончания университета в Одессе Челпанов приехал в Москву, сдал в 1890 г. магистерские экзамены и занял должность приват-доцента Московского университета. Однако пребывание в Москве на сей раз было непродолжительным. В 1892 г. Челпанов переехал в Киев и начал преподавать в Университете св. Владимира, а уже в 1897 г. возглавил кафедру философии. В том же году он посетил Лейпцигскую лабораторию Вундта. Во время стажировки в Германии он также общался с К.Штумпфом и во многом под влиянием его работы «О психологическом происхождении пространственных представлений» написал свою диссертацию. Воодушевленный примером немецких ученых – основоположников экспериментальной психологии, – Челпанов по возвращении в Киев организовал психологический «семинарий», в котором студенты знакомились с психологической литературой и методами исследования душевной жизни. В этом семинарии начинали свою научную деятельность такие видные представители отечественной психологической науки, как Г.Г. Шпет, В.В. Зеньковский и П.П. Блонский.
После защиты докторской диссертации Челпанов получил предложение возглавить кафедру философии в Московском университете. С 1907 г. начался почти тридцатилетний период его московской научной деятельности, хотя по-настоящему активным и плодотворным можно считать лишь первую половину этого периода – до 1923 г. В эти годы им был опубликован ряд научных работ – «Психологические лекции» (1909), «Психология и школа» (1912), «Психологический институт» (1914), «Введение в экспериментальную психологию» (1915). Но главной его работой следует, пожалуй, назвать книгу «Мозг и душа» с характерным подзаголовком «Критика материализма и очерк современных учений о душе». Книга увидела свет в 1900 г. и при жизни автора выдержала 6 изданий; новое, седьмое, неожиданно (впрочем, чему тут удивляться в наше-то время!) увидело свет совсем недавно, в 1994 г. (перекормленные материализмом советские психологи с особым упоением предались его критике).
Во многих историко-научных и справочных источниках научное мировоззрение Челпанова совершенно справедливо определяется как идеалистическое. В советские времена такая оценка звучала приговором, ныне чуть ли не сияет нимбом. Если же не впадать в патетику, следует всего лишь отметить, что психологию Челпанов пытался построить на основе концепции «эмпирического параллелизма» души и тела. Полагая, что психология должна исследовать природу души и сознания, он считал материализм учением, непригодным для решения этих задач, поскольку, по его мнению, такие понятия, как материя и атом, являются умозрительными, а не опытными. В психике он усматривал два полюса – материю (головной мозг) с одной стороны, и субъективные переживания с другой. В работе «Мозг и душа» он писал, что «дуализм, признающий материальный и особенный духовный принцип, во всяком случае, лучше объясняет психические явления, чем монизм».
Задачи психологического исследования Челпанов видел в точном и объективном изучении отдельных элементов и фактов психической жизни, основанном как на экспериментальных данных, так и на результатах самонаблюдения. Таким образом, подход Челпанова к эксперименту вытекал из его методологических, философских позиций. Главным методом в его концепции оставалось самонаблюдение, хотя он подчеркивал необходимость дополнения этого метода данными эксперимента, сравнительной и генетической психологии. Ведущая роль интроспекции, по мнению Челпанова, связана с тем, что многие факты душевной жизни трансцендентны, а потому не поддаются объективному объяснению и исследованию.
В начале ХХ века Челпанов был одной из центральных фигур в научной жизни Москвы, в его доме собирались многие видные представители московской научной интеллигенции. Он принимал живое участие в работе Московского психологического общества, товарищем председателя которого являлся… Многие его статьи публиковались в психологических и философских журналах.
Однако главным делом его жизни стала организация психологического института, который начал строиться в 10-х гг. на деньги известного мецената С.И. Щукина. Для ознакомления с работой психологических институтов и лабораторий он в 1910–1911 гг. неоднократно выезжал в командировки в Германию и США, по его проектам было закуплено оборудование для института, организованы различные лаборатории. Благодаря ему Московский психологический институт, первый в мире выстроенный именно как психологическое научно-исследовательское и учебное учреждение, стал одним из лучших по оснащенности оборудованием и по количеству применявшихся исследовательских технологий.
Большое значение придавал Челпанов и подбору кадров, стремясь собрать под крышей института талантливых ученых. Он пригласил в институт К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, Н.А. Рыбникова, В.М. Экземплярского, Б.Н. Северного и других, ставших впоследствии известными психологами. Уже после революции он предложил работу в институте А.Н. Леонтьеву и А.А. Смирнову. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что Челпановым взращена целая плеяда молодых ученых, которые стояли у истоков отечественной психологической науки.
Фактически работа в институте началась еще в 1912 г., однако официальное открытие состоялось 23 марта 1914 г. На торжествах, посвященных этому событию, Челпанов выступил с речью «О задачах Московского психологического института», в которой подчеркивал, что свою главную цель он видит в объединении всех психологических исследований под одной крышей для того, чтобы сохранить единство психологии.
В 1917 г. институт начал издавать печатный орган «Психологическое обозрение» под редакцией Челпанова и Шпета. Первый выпуск открывался программной статьей Челпанова «Об аналитическом методе в психологии», в которой он излагал свой подход к психологическому эксперименту.
Насыщенная научная и педагогическая деятельность Челпанова после революции круто оборвалась. В 1923 г. он был отстранен от работы в университете, фактически изгнан оттуда, а также из основанного им института. Инициаторами его ухода стали его бывшие ученики и сотрудники, в первую очередь Корнилов и Блонский, выступавшие за перестройку психологии на основе марксизма. Глубокий знаток философии и сам по натуре философ, Челпанов неоднократно писал, что психология, как и математика, физика и другие науки, должна быть вне любой философии. В том числе и марксистской. Для того, чтобы лишиться права на преподавание и научную деятельность в условиях новой России, этого было более чем достаточно.
Некоторое время Челпанов еще пытался продолжать научную деятельность, сотрудничая в Государственной академии художественных наук (ГАХН), вице-президентом которой был Шпет. Однако в 1930 г. академия была закрыта, и Челпанов окончательно остался без работы и фактически без средств к существованию. В одном из писем к дочери он рассказывал о том, как не смог прочитать чудом разрешенную публичную лекцию, поскольку у него не нашлось для этого приличного костюма. Из бывших учеников только Шпет пытался помочь ему, но и его собственное материальное и политическое положение было в ту пору очень сложным. В 1935 был инициирован судебный процесс над бывшими сотрудниками ГАХНа, по приговору которого Шпет был расстрелян. Та же участь постигла сына Челпанова, Александра, также в свое время работавшего в академии. Окончательно сломленный жизненными невзгодами, Челпанов скончался 13 февраля 1936 г.
Сегодня, по прошествии лет, предпринимаются активные (и даже несколько экзальтированные) попытки восстановить справедливость в отношении нашего знаменитого соотечественника. В научных публикациях имя Челпанова встречается все чаще, причем уничижительных оценок уже не встретишь. Пожалуй, наиболее объективно на этом фоне звучат слова известного историка психологии Т.Д. Марцинковской: «Хотя Челпанов и не создал оригинальной психологической теории, отечественная психология обязана ему появлением многих значительных научных имен. Будучи видным педагогом и организатором науки, он сыграл важную роль в формировании высокой исследовательской культуры российской психологической школы». А это само по себе немало.
Г. Мюнстерберг (1863–1916)
Во многих справочных источниках по психологии Гуго[6] Мюнстерберг назван немецко-американским психологом. Это, пожалуй, единственный случай, когда такое немного неуклюжее определение вполне оправдано и адекватно. Родившись и получив образование в Германии, Мюнстерберг сделал карьеру в Америке, явив собой один из первых впечатляющих примеров «утечки мозгов» из Европы за океан. Он искренне полюбил свою новую родину (которая не всегда отвечала ему взаимностью), отверг несколько соблазнительных профессиональных предложений из других стран. Но и к Германии он сохранил глубокую привязанность, из-за чего в свое время подвергся настоящему остракизму в Новом Свете. Может быть, именно это дало повод автору статьи о Мюнстерберге в американском биографическом справочнике «Психология» назвать его «скелетом в шкафу» американской психологической науки. А такие «скелеты», понятно, предпочитают не тревожить. Ныне во многих обзорных работах по проблемам, начало исследованию которых положено Мюнстербергом, его имя даже не упоминается. И это кажется более чем странным в отношении человека, являющегося, по признанию А.Анастази, первым практическим психологом Америки.
Гуго Мюнстерберг родился 1 июня 1863 г. в Данциге, Восточная Пруссия (ныне польский город Гданьск). С юных лет он мечтал посвятить себя медицинской карьере и с этой целью в возрасте 19 лет покинул родной город и направился в Лейпциг, где собирался изучать медицину. Посещение нескольких лекций Вильгельма Вундта настолько воодушевило юношу, что заставило изменить профессиональные планы. Медицинских интересов он не оставил и продолжил подготовку в этой области; в 1887 г. в Гейдельбергском университете получил степень доктора медицины. Но этому предшествовало получение докторской степени по психологии (1885). Диссертацию Мюнстерберг подготовил под руководством Вундта, у которого обучался на протяжении трех лет. Еще в студенческие годы он также увлекся философией, причем весьма серьезно, что впоследствии дало основание относить его также и к философам. В своих философских воззрениях он был близок к идеям Фихте, развивал учение о ценностях. Им создана философская система «волюнтаристического идеализма», в центре которой – представление об априорных ценностях, связанных не с причинами, а с целями. Впрочем его изыскания в этой сфере известны сегодня лишь самым дотошным историкам философии и, в самом деле, не идут ни в какое сравнение по масштабам с его вкладом в психологическую науку.
В 1891 г. Мюнстерберг получил должность профессора в Фрейбургском университете, где на свои средства организовал экспериментально-психологическую лабораторию. Последний шаг был продиктован даже не столько личным бескорыстием, сколько банальным отсутствием средств у администрации университета. Как видим, проблема эта вечная. Так же как и недостаток помещений, из-за чего лабораторию профессору пришлось разместить у себя дома.
Он быстро заслужил репутацию блестящего экспериментатора и этим привлек внимание У.Джемса, мечтавшего стимулировать развитие молодой американской психологии притоком перспективных европейских кадров. По приглашению Джемса Мюнстерберг в 1892 г. перебрался в США, получил профессорскую должность в Гарвардском университете. В том же 1892 году Джемс и Мюнстерберг организовали в Гарварде психологическую лабораторию, которую последний и возглавил. Весь американский период работы Мюнстерберга связан с Гарвардским университетом, для руководства которого он поначалу выступал предметом гордости, постепенно сменявшейся раздражением и недовольством. Но так или иначе Мюнстерберг до конца жизни оставался Гарвардским профессором и умер в буквальном смысле слова на кафедре – во время чтения лекции.
Неверно было бы утверждать, будто в Америку Мюнстерберг приехал одержимый идеей развивать прикладную психологию. Скорее наоборот. Поначалу он резко критиковал университетскую администрацию, которая платит научным работникам слишком мало, вынуждая их «размениваться» на прикладные исследования, популярные лекции и частные консультации. Вскоре, однако, именно в этих сферах сам Мюнстерберг преуспел настолько, что затмил всех своих коллег, а число его публикаций в популярной периодике намного превысило число научных работ. Последнее вызывало особое раздражение коллег (в большинстве случаев вызванное – насколько могу судить, побывав в подобном положении, – банальной завистью). Общественное же признание было ошеломляющим. Мюнстерберг был частым гостем Белого Дома, накоротке знаком с Теодором Рузвельтом и Уильямом Тафтом, дружбой с ним дорожили сталелитейный магнат Энрю Карнеги, философ Бертран Рассел, звезды молодого американского кино; получить его консультацию стремились многие представители деловой элиты. Не говоря уже про то, что многочисленные щедрые гонорары позволяли забыть о скудости академического жалованья.
Первой прикладной областью, к которой обратился Мюнстерберг, была судебная психология. Он много писал по таким темам, как профилактика преступности, использование гипноза в практике допроса подозреваемых, психологическое тестирование с целью определения виновности. Попытки решения им последней проблемы видятся далеко не бесспорными, да и современниками в итоге они были оценены негативно. Мюнстерберг был привлечен в качестве эксперта к громкому судебному процессу над профессиональным киллером. Тот обвинялся ни много ни мало в 18 убийствах, но вину пытался переложить на заказчика злодеяний – некоего профсоюзного деятеля. Последний также был привлечен к суду, хотя его виновность представлялась крайне сомнительной. Мюнстерберг провел над киллером около ста различных тестов и по их результатам вынес заключение об истинности его показаний, то есть о виновности профсоюзного босса. Когда же суд в результате подробнейшего рассмотрения всех показаний и улик признал того невиновным, это совершенно подорвало репутацию Мюнстерберга как судебного эксперта.
Но один из аспектов его изысканий в этой области и по прошествии лет заслуживает самой позитивной оценки. Особым вниманием Мюнстерберга пользовалась проблема достоверности свидетельских показаний. Он поставил задачу экспериментально проверить, какова вероятность ошибочного воспроизведения свидетелями деталей преступления. В опытах Мюнстерберга испытуемых, выступавших в роли «свидетелей», опрашивали сразу же после того, как те наблюдали имитацию некоего инцидента. И со всей очевидностью выступил тот факт, что даже показания «по горячим следам» значительно расходятся в своих деталях. Насколько же можно доверять свидетельствам в зале суда, – вопрошал исследователь, – если их от описываемого события отделяет несколько месяцев?
Эти наблюдения были обобщены Мюнстербергом в книге о психологии свидетельских показаний, вышедшей в 1908 г. (Всего же им было написано свыше дюжины книг, пользовавшихся ввиду привлекательности тематики и доходчивого стиля огромным читательским спросом.) Впоследствии эта проблема изучалась в самых разных аспектах многими психологами, о чем, в частности, свидетельствуют обширные главы в современных учебниках по социальной психологии. Имя Мюнстерберга в них упоминается редко. И когда в 1976 г., спустя почти 70 лет после первой публикации, его книга на эту тему была переиздана, для многих это явилось настоящим откровением. Оказалось, что многие вопросы судебной психологии, изучавшиеся на протяжении ХХ в., много лет назад были поставлены и даже отчасти решены Мюнстербергом.
Другой сферой его интересов выступала психотерапия. Его книга на эту тему, которая так просто и называется – «Психотерапия», вышла в 1909 г. В ту пору психотерапия понималась несколько иначе, чем теперь. Концепция Фрейда еще не получила широкого признания, хотя специалистам была уже достаточно известна. Мюнстерберг выступал ее решительным противником. «Никакого бессознательного не существует», – заявлял он. Достаточно сказать, что когда Фрейд по приглашению Г.С. Холла в 1909 г. посетил США, Мюнстерберг специально уехал за рубеж, дабы избежать встречи с ним и не вступать в конфронтацию.
Смысл психотерапии Мюнстерберг видел в том, чтобы помочь пациенту забыть негативные переживания, устранить неприятные мысли, избавить его от привычек, мешающих жить. С этой целью им, в частности, применялся гипноз, который в ту пору вызывал крайне настороженное отношение со стороны ревнителей морали (с этим в свое время столкнулся еще Месмер). Чтобы избежать сплетен и наветов, Мюнстерберг в конце концов от гипноза отказался. Однако в целом его опыт свидетельствует – опробованные им приемы в ряде случаев продемонстрировали высокую эффективность, в частности при лечении алкогольной и наркотической зависимости, фобий и сексуальных расстройств. Это лишний раз заставляет убедиться, что в психотерапии не существует единственно верной системы (каковой, например, многие пытаются представить психоанализ), и позитивные результаты в разных случаях могут быть достигнуты самыми разными методами.
Еще одной сферой интересов Мюнстерберга была педагогика, точнее – использование психологических закономерностей в школьной практике. Его книга на эту тему – «Психология и учитель» – доступна и российскому читателю. Совсем недавно, в конце 90-х, она была у нас переиздана. Поразительно, но даже сегодня рассуждения Мюнстерберга о психологии учебного процесса звучат убедительно и актуально. Но, с другой стороны, это свидетельствует и о том, что все новым поколениям педагогов приходится сталкиваться все с теми же психологическими проблемами, которые не могут быть решены раз и навсегда. И психологическое знание тут необходимо – и сто лет назад, и сегодня.
Самой, пожалуй, важной сферой интересов Мюнстерберга выступила индустриальная психология, понимавшаяся им чрезвычайно широко – в его работах на эту тему освещались проблемы профориентации (в частности, с применением психодиагностических процедур), управления персоналом, повышения трудовой мотивации и производственной дисциплины, преодоления негативного влияния монотонного труда, и т. п. Мюнстерберг доказывал, что наилучший способ повысить производительность труда – подбирать работникам должности, которые соответствуют их индивидуально-психологическим особенностям, в частности характерологическим и интеллектуальным. Результаты этих наблюдений и исследований были обобщены им в книге «Психология и эффективность производства» (1915).
Именно с индустриальной психологией принято связывать оформление в особую научно-практическую отрасль так называемой психотехники (вероятно, в связи с характерной для русского языка прямой ассоциацией «техника – промышленность»). Именно Мюнстерберга считают основоположником психотехники (наряду с В.Штерном). Но и Мюнстерберг, и Штерн понимали психотехнику шире – как прикладную отрасль, затрагивающую не только проблемы промышленного труда, но также военного и школьного дела, торговли, юриспруденции, рекламы и пр. Психотехнические изыскания выводили психологию на совершенно новый уровень, демонстрируя, что психологам не только до всего есть дело, но и почти всюду они могут быть исключительно практически полезны.
Впрочем, для самого Мюнстерберга эта ситуация оказалась не однозначно позитивной. Его стремление объять все актуальные проблемы порой ставило его, как в случае с судебной психологией, в неловкое положение. Так, накануне принятия сухого закона он принял участие в дискуссии о целесообразности этого шага. Вопреки официальной политике он осмелился утверждать, что умеренное потребление спиртного, особенно пива, не может принести вреда и к тому же выгодно с коммерческой точки зрения, а вот всяческие запреты – это лишь стимул к злоупотреблениям (впоследствии вся история сухого закона в США подтвердила его правоту). Такая позиция привела в восторг немецких пивных магнатов, поставлявших свою продукцию в Америку, и побудила их пожертвовать крупные средства, с помощью которых Мюнстерберг мог бы и далее способствовать, как они полагали, пропаганде германских ценностей в Америке. Однако в атмосфере шпиономании, сгустившейся накануне Первой мировой войны, этот шаг был воспринят общественностью крайне подозрительно. Мюнстерберг, который и после начала войны продолжал придерживаться активной прогерманской позиции, подвергся общественному остракизму. Коллеги уже без стеснения выражали свою неприязнь, университетская администрация всерьез подумывала о его увольнении, и даже соседи пристально наблюдали, не служат ли голуби, которых кормила его дочка на заднем дворе, для передачи шпионской информации.
16 декабря 1916 г. затравленный ученый умер на глазах своих студентов от обширного инфаркта. Похороны были скромные, никто из именитых персон, когда-то дороживших дружбой с ученым, на них не появился. И добрые слова, говорившиеся впоследствии о его достижениях, уже как бы и не адресовались самому Мюнстербергу. Хотя по большому счету были им сполна заслужены. Как, например, такое высказывание Э.Торндайка: «Создать психологию для бизнеса, промышленности или армии труднее, чем создать психологию для психологов, и это требует большего таланта».
Р. Вудвортс (1869–1962)
Полвека назад, когда отечественная психология, отгородившись железным занавесом от «тлетворного буржуазного влияния», пребывала в гордой самоизоляции, издание на русском языке книги зарубежного автора, да еще и американца, было событием исторического масштаба. Таким событием стала публикация в 1950 г. книги Роберта Вудвортса «Экспериментальная психология», сразу ставшей настольной для немногочисленных советских психологов. Шли годы, железный занавес потихоньку ветшал, переводы перестали быть редкостью, но еще несколько поколений советских психологов именно с Вудвортса начинали свое образования, считая американского мэтра классиком мировой психологии. Нынешнее поколение российских психологов, избалованное книжным изобилием, поклоняется другим авторитетам и уже почти забыло, чьими трудами создана та наука, от имени которой сегодня принято торговать полезными советами на все случаи жизни. «Практически психологам» (по меткому выражению А.В. Юревича) имя Вудвортса уже ничего не говорит. Правда, остаются еще и психологи без кавычек, которым и сегодня, пожалуй, нелишне вспомнить о замечательном ученом, чья принадлежность к когорте классиков вовсе не является преувеличением. Да, сегодня мы выше наших предшественников, потому что… стоим на их плечах! Постараемся отдать себе в этом отчет, обратившись к еще одному яркому примеру.
Роберт Сессионс Вудвортс родился 17 октября 1869 года в городке Белчертаун в штате Массачусетс. В своей научной автобиографии (написанной, кстати, в 1930 г., задолго до завершения научной карьеры по просьбе Карла Мёрчисона, редактора многотомной серии «История психологии в автобиографиях») Вудвортс как истинный психолог попытался (хотя и несколько иронично) проанализировать влияние семьи на становление его личности. В ту пору как раз входили в моду фрейдистские толкования жизненного пути, и без упоминания Эдипова комплекса в автобиографии не обошлось – в том, однако, смысле, что собственная «психоистория» виделась ученому в совсем ином ракурсе, чем могла бы привидеться фрейдистам.
А семейная ситуация Роберта, непростая и запутанная, была бы находкой для психоаналитика. Когда будущий психолог появился на свет, его отцу было уже 55, и он состоял в третьем браке с женщиной на четверть века моложе себя. Роберт был их первенцем, позднее у него появилось еще двое братьев. Еще у него было четверо взрослых сводных братьев и сестер – детей отца от предыдущих браков. Ситуация очень похожая на ту, которая сложилась и в родительской семье Зигмунда Фрейда. А ведь тот сам признавал, что она внесла сильную сумятицу в его детские представления о том, кто кем кому приходится среди близких, и каково его собственное место в этом непростом раскладе. Самоанализ этих ранних переживаний во многом повлиял на становление теории Фрейда. У Вудвортса, однако, всё сложилось иначе. В зрелые годы, пытаясь примерить на себя фрейдистскую схему становления личности, он пришел к выводу о ее полной негодности – по крайней мере для себя.
Вудвортс-старший, конгрегационистский священник, потомок нескольких поколений фермеров Новой Англии, вызывал у Роберта уважение в силу своей широкой эрудиции и спокойного нрава, однако большим авторитетом не пользовался – он был уже слишком немолод, чтобы установить с младшими детьми тесные эмоциональные связи, не очень ими интересовался и практически никакого влияния на них не оказывал, не вызывал у них ни благоговения, ни трепета, то есть «эдипальным объектом» был довольно бледным. К тому же Роберт в силу непростых семейных обстоятельств изрядную часть своего детства – с 6 до 12 лет – прожил в доме сводной сестры, общаясь преимущественно с ее детьми, своими ровесниками, которым он непостижимым образом приходился дядей. По собственному убеждению Роберта, влияние сверстников – родных и друзей – сказалось на становлении его личности гораздо больше, чем влияние родительское. С некоторым недоумением он отмечал, что столь важный аспект социализации оказывается обойден вниманием психологов, тогда как родительское влияние явно преувеличивается. Любопытно, что уже в наши дни идеи современных английских и американских психологов о преимущественной роли сверстников в становлении личности ребенка произвели эффект настоящей научной сенсации. А ведь большинство таких сенсаций щедро рассыпаны, хотя бы в виде намеков, в суждениях классиков. Как саркастически заметил Стивен Фрай: «Оригинальная мысль? Нет ничего проще! Библиотеки переполнены ими».
Впрочем, влияние матери на Роберта нельзя недооценивать. Для своего времени она была женщиной весьма просвещенной, закончила учительскую семинарию (нечто вроде педучилища) в Массачусетсе, а потом даже сама основала подобное заведение в штате Огайо, а также учительствовала в провинциальных школах – преподавала математику. Воодушевленный ее примером, Роберт и сам вознамерился вступить на педагогическую стезю (более ранняя мальчишеская мечта стать астрономом разбилась о жестокую необходимость зарабатывать на хлеб). После окончания Колледжа Амтхерст (шт. Массачусетс) в 1891 г. он также начал работать школьным учителем математики. Но этот этап его карьеры продлился недолго – интересы юноши были гораздо шире, а амбиции выше.
Тут нелишне отметить, что наряду с математикой миссис Вудвортс преподавала и еще один предмет – «ментальную философию». Фактически это было одним из названий психологии до той поры, как она превратилась в самостоятельную науку. Большого успеха этот курс не имел – у деревенских ребятишек «ментальное философствование» не вызывало ни малейшего энтузиазма. Зато сын учительницы начатки психологических знаний почерпнул в самом юном возрасте. Этим отчасти и определилась направленность его дальнейших интересов.
Психологию Вудвортс принялся изучать в одном из немногих мест, где это в ту пору было возможно в Америке, – в Гарвардском университете, где преподавал Уильям Джемс. Степень бакалавра он получил в 1896 г., магистра – в 1897 г. А докторскую диссертацию защитил в 1899 г. уже в Колумбийском ун-те под руководством Дж. М. Кеттелла. В 1902 г. в ходе годичной стажировки в Ливерпульском ун-те (Великобритания) работал ассистентом известного английского физиолога Ч. Шеррингтона. У него молодой ученый перенял мало свойственное психологам внимание к различным проявлениям активности живого организма, а также естественно-научную четкость экспериментирования.
Еще одним результатам английской стажировки явилось знакомство с юной англичанкой Габриэллой Шот. В Америку он вернулся уже женатым человеком и прожил со своей избранницей всю оставшуюся жизнь благополучно и счастливо (как видим, сомнительный пример отца, троекратно менявшего жен, и тут влияния на него не оказал).
По возвращении на родину Вудвортс начал преподавать в Нью-Йоркском университете, но пробыл там недолго. В 1903 г. он стал профессором Колумбийского университета, где проработал последующие почти 40 лет до своей отставки. За годы своей работы вудвортс заслужил широкое признание в профессиональном сообществе. В 1914 г. он был избран президентом Американской Психологической Ассоциации. Позднее стал членом Американской Академии Наук и Искусств. В 1956 г. Американским Психологическим Фондом была учреждена золотая медаль за выдающийся вклад в организацию психологической науки; Вудвортс первым удостоился этой почетной научной награды.
За свою более чем полувековую научную карьеру Вудвортс сумел внести вклад в разработку широкого круга психологических проблем. Ранние его исследования были выполнены совместно с его университетским товарищем Э. Торндайком и были посвящены проблеме переноса усвоенных навыков в ходе научения. Именно эти опыты (наряду со множеством им подобных) послужили тем экспериментальным фундаментом, на котором несколько лет спустя Джоном Уотсоном была возведена твердыня американского бихевиоризма. На этом основании и Вудвортса часто причисляют к бихевиористам, что вряд ли справедливо. Ученик Джемса (который ввел в научный обиход понятие «поток сознания»), он никогда не одобрял провозглашенный бихевиористами отказ от изучения сознания и считал такой подход обедняющим психологию. В годы господства бихевиоризма в американской психологии Вудвортс выдвинул идеи о том, что объяснительная формула поведения, основополагающая для этого научного направления, – «стимул → реакция» (S → R) – является ограниченной и неполной и требует введения промежуточного звена, а именно организма с присущими ему мотивационными параметрами (S → O → R). Тем самым Вудвортс предвосхитил эволюцию традиционного бихевиоризма в сторону более гибкого необихевиоризма. В 1918 г. он опубликовал книгу «Динамическая психология» (ему принадлежит сам этот термин, который он активно популяризировал), в которой развивались идеи о принципиальной важности мотивов в организации поведения.
Небезынтересно, что и Торндайк, которого также причисляют к бихевиористам, активно от этого ярлыка открещивался. Завершив цикл опытов над животными, позволивших сформулировать непреложные законы научения, Торндайк оставил эту сферу и переключился на исследования интеллекта – явления, трудно объяснимого в поведенческой парадигме. У Вудвортса с Торндайком сохранились самые добрые отношения – долгие годы они жили по соседству, дружили семьями. Однако их научные интересы больше пересекались.
В наши дни ранние работы Вудвортса, посвященные научению, представляют, пожалуй, лишь историко-научный интерес. Зато другое исследование, которое он также выполнил на заре своей карьеры, привлекло большое внимание и цитируется до сих пор. В 1904 г. в ходе работы Международной выставки в Сент-Луисе Вудвортс провел широкомасштабное психологическое обследование представителей разных народов и рас и убедительно продемонстрировал: спектр индивидуальных различий между представителями одной расы гораздо шире, чем диапазон межрасовых различий. К сожалению, объективные результаты психологических исследований имеют слишком мало влияния на общественные настроения. Более ста лет минуло с тех пор, а межнациональные отношения и поныне омрачаются предрассудками, основанными на некорректных обобщениях.
В годы I Мировой войны разработал опросник для новобранцев (так называемый Бланк личностных данных) с целью оценки эмоциональной устойчивости в боевых условиях. Ввиду скорого окончания войны этот метод не был широко использован по прямому назначению, однако послужил основой для последующей разработки подобных опросников и ныне признан первым в истории психологии личностным тестом.
Широкую известность Вудвортсу принесли написанные им учебники, руководства и монографии по экспериментальной психологии и истории психологии, многократно переизданные суммарным тиражом свыше 400 000 экземпляров. Такой успех позволил ученому жить безбедно и независимо (что, помимо содержания его книг, коллегам также можно воспринять как ценный урок).
Среди прочих хотелось бы отметить мало у нас известную книгу Вудвортса «Школы в психологии», в которой им дана трезвая и объективная оценка разнообразных научных направлений, отмечены их сильные и слабые стороны и явно прослеживается призыв к интеграции первых и компенсации вторых. Таким образом, плодотворная идея извлечения рациональных зерен из всех, пускай даже крайне противоречивых источников, – столь популярная ныне – высказана на самом деле еще полвека назад.
Жизненный путь ученого завершился 4 июля 1962 г. Его учитель Уильям Джемс когда-то сказал: «Величайшая польза, которую можно извлечь из жизни, – потратить жизнь на дело, которое переживет вас». Роберту Вудвортсу это удалось.
А. Адлер (1870–1937)
Концепция бессознательной психики, разрабатываемая З.Фрейдом, привлекла немало сторонников и последователей. Некоторые из них, однако, стремились по-своему интерпретировать идеи Фрейда и развить их в русле собственных представлений. Такие попытки, как правило, встречали со стороны отца-основателя негативную реакцию, что порой приводило не только к острым разногласиям, но и к личному разрыву с «отступниками». Первой трещиной в психоаналитическом монолите явился разрыв Фрейда с А.Адлером. Однако для Адлера отход от классического психоанализа не стал крахом. Он развил собственную концепцию, нашедшую немало сторонников. Индивидуальная психология А.Адлера выступила влиятельным течением в глубинной психологии и по сей день привлекает исследователей и практиков.
Альфред Адлер родился 7 февраля 1870 г. в Пенциге, предместье Вены, в семье еврейского торговца среднего достатка. В детстве он болел многими серьезными болезнями, в том числе – рахитом, из-за которого лишь в возрасте 4 лет сделал свои первые шаги. Еще нетвердо стоя на ногах, он несколько раз попадал в уличные аварии, оказываясь на волосок от смерти. Не будет преувеличением сказать, что смерть буквально витала над его колыбелью. Его младший брат умер в их общей постели, когда Альфреду едва исполнилось 3 года. В 5 лет, только что оправившись от рахита, Альфред заболел тяжелейшей пневмонией. Семейный врач счел этот случай безнадежным. Однако нашелся другой доктор, который сумел спасти мальчика. Выздоровев, Альфред принял твердое решение стать врачом.
Несмотря на слабое здоровье Альфред рос жизнерадостным и общительным ребенком, очень любил играть с соседскими детьми. Не будучи способен заниматься спортом вместе со сверстниками, он проводил много времени за чтением классики. Впоследствии умение сходу процитировать библию или греческую трагедию, Шекспира или Канта, а также блестящие ораторские способности сделали его центром внимания среди завсегдатаев известных венских кофеен. Общительный характер и чувство юмора способствовали его популярности.
Вероятно, именно в его детском опыте лежат истоки таких существенных аспектов его психологической теории, как признание важности общественного интереса и идея компенсации органической неполноценности.
В детстве свой интерес к наукам о жизни Адлер удовлетворял разведением цветов и голубей. В возрасте 18 лет он поступил в Венский университет, чтобы изучать медицину.
Тогда же обозначились его политические пристрастия. Адлер глубоко интересовался социализмом, участвовал во многих политических митингах. На одном из них он встретил свою будущую жену – Раису Эпштейн, студентку из России.
Адлеру было присуще глубокое гражданское чувство. Особо его волновали нечеловеческие условия жизни и труда венских рабочих. Его памфлет и лекции о состоянии здоровья швейников до такой степени всколыхнули общественное мнение, что даже побудили власти провести некоторые реформы социального обеспечения.
В 1895 г. Адлер получил медицинскую степень. Частную практику он начал сначала в области офтальмологии, что было в значительной мере обусловлено его обостренным вниманием к факту распространенности глазных болезней среди рабочих. Позднее он переориентировался на общую медицину, а под влиянием лекций Р.Крафт-Эббинга, президента Венского неврологического общества, заинтересовался неврологией в надежде объединить свои общественные интересы и медицинские знания.
Свою теоретическую работу Адлер начал еще до того, как встретил Фрейда. К моменту этой встречи он имел уже несколько публикаций по вопросам социальной медицины и образования. В начале века идеи Фрейда еще не приобрели широкой популярности, но уже встречали критическое отношение и негативные оценки. Адлер был едва ли не единственным, кто публично выступил в защиту взглядов Фрейда, за что удостоился расположения со стороны основателя психоанализа, а также приглашения принять участие в одной из дискуссионных сред – собрании узкого круга аналитиков, послужившем основой Венского психоаналитического общества.
В 1902 г. в возрасте 32 лет Адлер вошел в круг ближайших сподвижников Фрейда. Он был наиболее активным членом этой группы и пользовался большим уважением Фрейда, который, тем не менее, испытывал некоторые подозрения в связи с его обостренным честолюбием. Сам Адлер никогда не считал себя фрейдистом, полагая, что присоединился к Венской группе как равный. Это противоречит утверждению, содержащемуся в большинстве учебников психологии, о том, что Адлер был учеником Фрейда. С самого начала сотрудничества он исповедовал собственные взгляды, которые нашли отражение в его работе «О неполноценности органов» (1907).
В этой книге Адлер попытался объяснить, почему болезнь по-разному действует на людей. По его мнению, у каждого индивидуума одни органы несколько слабее других, что создает предрасположенность к заболеваниям именно этих органов. Вместе с тем он отмечал, что люди стремятся компенсировать эту слабость и в результате упражнений слабый орган может получить значительное развитие. Понятия компенсации и сверхкомпенсации стали центральными в теории Адлера.
«Почти у всех выдающихся людей, – писал он, – мы находим какое-либо несовершенство органов; создается впечатление, что они встретили значительное препятствие в начале жизни, но боролись и преодолели свои трудности».
Исследование неполноценности органов Адлер дополнил изучением психологического чувства неполноценности. Первоначально его внимание привлекали дети, страдавшие какими-либо физическими дефектами. Потом он распространил свои представления на всех детей, в том числе и здоровых. Он полагал, что все дети испытывают чувство неполноценности, являющееся неизбежным следствием их малого роста и недостатка сил. Сильное чувство неполноценности или «комплекс неполноценности» (это понятие введено Адлером) может затруднить позитивный рост и развитие. Однако умеренное чувство неполноценности может побудить индивидуума к конструктивным усилиям и достижениям. «Он [ребенок] в раннем возрасте обнаруживает, что есть другие человеческие существа, которые способны удовлетворять свои потребности более полно, лучше подготовлены к жизни… Он научается переоценивать размеры и рост, дающие возможность открыть дверь, передвинуть тяжелую вещь или право отдавать приказания и требовать подчинения им. В душе возникает желание расти, стать таким же сильным или даже сильнее других», – писал Адлер. И далее: «Чувства неполноценности сами по себе не являются ненормальными. Они – причина всех улучшений в положении человечества».
Согласно Адлеру, основным фактором развития личности следует считать наличие конфликта между комплексом неполноценности и порожденным им стремлением к превосходству. Последнее проявляется уже в первые 4–5 лет жизни ребенка в виде «цели победы», которая направляет его помыслы и действия, создает определенный «стиль жизни». Цель победы может быть как позитивной, так и негативной. Если она включает заинтересованность в благополучии других, то развивается в конструктивном направлении. Однако некоторые люди пытаются достичь ощущения превосходства посредством господства над другими, а не становясь более полезными другим. По мнению Адлера, борьба за личное превосходство – невротическое извращение, результат сильного чувства неполноценности и отсутствия социального интереса.
Очевидно, что такая трактовка развития личности, а также патологических отклонений в этом развитии далеко отстоит от теоретических представлений Фрейда. Сам Фрейд, в целом положительно оценив книгу «О неполноценности органов», не смог скрыть настороженности в связи с таким теоретическим расхождением. А это расхождение становилось все глубже. Адлер фактически игнорировал представления Фрейда о сексуальных механизмах психической жизни. Центральное понятие фрейдизма – Эдипов комплекс – он предлагал рассматривать не как стремление мальчика иметь сексуальные отношения с матерью, а как сиволическую борьбу. Чувствуя себя слабым и беззащитным, мальчик использует механизм сверхкомпенсации, чтобы добиться превосходства над отцом и подчинить себе мать. Позднее Адлер даже заявил, что «так называемый Эдипов комплекс – это не фундаментальное явление, а просто порочный и неестественный результат чрезмерного материнского баловства».
Стремясь сохранить хорошие отношения, Фрейд поначалу проявлял к Адлеру знаки повышенной благосклонности. В 1910 г. он предложил его на пост первого президента Венского психоаналитического общества. Однако к 1911 г. теоретические расхождения достигли степени, неприемлемой для Фрейда. На заседании психоаналитического общества Адлеру было предложено покинуть его ряды. Он с готовностью сложил с себя полномочия президента. Вместе с ним общество покинули еще девять членов, образовавшие собственное «Общество свободного психоанализа». Самим названием они подчеркнули презрение к замкнутому и изолированному, по их мнению, кружку Фрейда.
Горько переживая этот разрыв, Фрейд тем не менее расценивал его как научную победу. В своем письме К.Г. Юнгу от 12 октября 1911 г. он писал: «…Усталый после борьбы и победы, сообщаю Вам, что вчера я заставил всю банду Адлера выйти из Общества». Но это было лишь начало борьбы в стане аналитиков. Три года спустя последовал разрыв с Юнгом. А острые противоречия со вчерашними единомышленниками преследовали Фрейда до конца жизни.
А «банда Адлера» превратилась в Ассоциацию индивидуальной психологии, которая постепенно распространилась по всей Европе. Практические интересы Адлера сместились в сферу педагогических проблем. В 1919 г. он основал в Вене психопедиатрический центр и стал читать лекции в Педагогическом институте. Он был, вероятно, первым психиатром, применившим принципы психогигиены в школе. Мечтой Адлера было создать настоящее содружество единомышленников – педагогов, родителей и медиков, которые бы работали совместно для того, чтобы способствовать развитию мужества и социальной ответственности у детей и подростков. К 1927 г. в Вене насчитывалось 22 психопедиатрических центра и еще 20 – в других европейских странах. В 1931 г. была основана Экспериментальная школа индивидуальной психологии. Это была средняя школа для мальчиков 10–14 лет, где широко применялись психологические и педагогические принципы Адлера.
В 1928 г. Адлер побывал в США, где читал лекции в Новой Школе Социальных Исследований в Нью-Йорке. Через год он снова вернулся туда с курсом лекций. А в 1932 г. окончательно переехал в США в связи с опасностью нацизма. Умер Альфред Адлер 28 марта 1937 г. в шотландском городе Абердине во время лекционного турне по Европе.
У. Кеннон (1871–1945)
Психология занимает особое место в ряду социальных и биологических наук, поскольку ее трудно уловимый предмет – душа – не только находит выражение в феноменах, обусловленных культурой и обусловливающих культуру, но и к тому же размещается в бренном теле. Поэтому нельзя недооценивать роль тех ученых мужей, которые подходили к предмету психологии с его телесной стороны, и даже не относя себя к психологам, внесли в нашу науку неоценимый вклад. К этой когорте можно причислить Сеченова, Павлова, Ухтомского, Бернштейна, Дельгадо и еще многих других ученых, традиционно относимых к физиологам. В этом созвездии выдающихся физиологов, оказавших влияние на развитие психологический мысли, Уолтер Кеннон выступает одной из самых значительных фигур. Венцом его научных достижений явилось учение о гомеостазе (ему принадлежит сам этот термин) как о саморегуляции постоянства внутренней среды организма. Влияние этого учения не ограничилось физиологией, но распространилось далеко за ее пределы, став одной из предпосылок кибернетики и общей теории систем, новых идей в психологии и социологии.
Уолтер Бредфорд Кеннон признавался, что с возрастом среди его увлечений, не имевших прямого отношения к профессиональным занятиям, главным становилось чтение биографий. Быть может, это сыграло известную роль в том, что он наряду с научными трудами оставил нам сведения о собственной жизни и деятельности в произведении автобиографического жанра «Путь исследователя». Это знаменательный документ, запечатлевший особенности самосознания человека науки ХХ века, когда коренным образом изменились отношения между обществом и «людьми лаборатории», когда занятия наукой превратились в массовую профессию. Хотя книга «Путь исследователя» и насыщена автобиографической информацией, Кеннон предпринял попытку написать не столько автопортрет, сколько обобщенный портрет научного работника, нарисовать определенный социальный тип.
В предисловии к книге Кеннон напоминает об известной концепции своего учителя по Гарварду У.Джемса о социальном Я. Это Я складывается на основе представлений человека о том, как он выглядит в глазах тех групп людей, мнение которых для него небезразлично. Поскольку подобных групп (в дальнейшем их стали называть референтными) может быть несколько, то по их числу у каждого человека складывается несколько социальных Я. Эта мысль побудила Кеннона говорить о «научном Я» как особом социально-психологическом образовании, которое формируется у человека, когда он вступает в мир науки, привыкает смотреть на себя его глазами, ориентироваться на его ценности. «Путь исследователя» и есть прежде всего книга о социально-научном Я.
Кеннон писал: «Биография представляет специальный интерес, так как раскрывает влияния, от которых зависит жизнь людей, рассказывает, как они справлялись со своими проблемами». Под каким же влиянием и с какими проблемами справился на своем пути выдающийся ученый?
Предки Кеннона прошли на своих фургонах путь американских первопроходцев и обосновались в штате Висконсин в верховьях Миссисипи. Здесь Кольберт Кеннон познакомился с молодой учительницей Сарой Денио. Они поженились. Своего первенца назвали Уолтер Бредфорд. Он родился 19 октября 1871 г.
Отец Кеннона работал на железной дороге. Это был угрюмый человек, постоянно испытывавший неудовлетворенность из-за тех материальных затруднений, которые не позволили ему преуспеть в качестве фермера или врача. Интерес к сельскому хозяйству и медицине побуждал его выписывать книги и журналы по этим вопросам. Сам факт упоминания об этом в автобиографии свидетельствует, что эта литература не прошла мимо внимания мальчика. Незаурядные способности отца сказались и в том, что он, как и его брат-инженер, занимался изобретательством, конструировал различные технические приспособления. Иногда он работал в присутствии маленького Уолтера, для которого самым светлым воспоминанием детства остались минуты, когда отец учил его с помощью столярных инструментов мастерить игрушки (готовые игрушки мальчику не покупались, изготавливать их он должен был сам). И хотя Кеннон прославился впоследствии не техническими, а научными достижениями, выработанное в детстве умение делать все собственными руками оказалось очень полезным. Описывая особое состояние инсайта – творческого озарения – и отмечая, что оно может возникнуть даже во сне, Кеннон на склоне лет вспоминал, что уже в детстве, пытаясь наладить сложную игрушку, он нередко во сне догадывался, как это сделать.
Если отец был суровым человеком, впадавшим порой в глубокую депрессию, то мать отличалась мягкостью характера и нежностью. Когда Уолтеру было 10 лет, она скончалась от пневмонии, напутствуя его словами: «Будь добрым для мира». Этот завет матери, подчеркивал Кеннон, стал для него на всю жизнь священным.
По настоянию отца, который строго придерживался религиозных убеждений (как и его предки, он был протестантом-кальвинистом), в юности Кеннон усердно штудировал труды кальвинистских теологов. Эти занятия породили у него множество сомнений, которыми он захотел поделиться с пастором, надеясь получить от него объяснения. Однако священник грубо осадил его, указав, что юноше не пристало критиковать мужей, жизнь положивших на алтарь веры. Такая реакция ввергла Уолтера в тяжелый внутренний конфликт и способствовала его разрыву с религией.
На этой почве осложнились отношения молодого Кеннона с отцом, который долго не мог смириться с происшедшим и лишь впоследствии стал терпимее относиться к атеизму Уолтера. Новая личностная позиция Кеннона имела значение для его становления как исследователя. Протестантская религия, под знаком которой его предки осваивали новый континент, поощряла опору на собственные силы, предприимчивость, изобретательность во всем, что касалось и промышленных дел, прибыли и накопления. Но она не могла допустить свободу и независимость человека по отношению к ней самой, к ее догматам. Между тем критическое отношение к любому убеждению, любой идее – необходимая предпосылка научного мышления, ничего не приемлющего без доказательств и проверки.
Эта рационально-критическая установка зародилась, как видно, у Кеннона в противовес религиозным запретам задолго до занятий наукой. Забросив теологические сочинения, он зачитывается Томасом Гексли – несравненным полемистом, противником идеалистического понимания живой природой и места человека в ней.
Кеннон увлекался и другими авторами – популяризаторами естественнонаучных идей. Он знакомится с принципами причинного объяснения мироздания, приобщается к эволюционному учению Дарвина, ставшему в дальнейшем основой его научного мышления. У него нарастает интерес к науке и желание учиться дальше – идти в колледж. Случайная встреча в одним из выпускников Гарварда склонила Кеннона поступить именно в это учебное заведение. Гарвардскую медицинскую школу он окончил в 1900 г. со степенью доктора наук.
В годы учения серьезное влияние на будущего исследователя оказал Уильям Джемс. Некогда он преподавал физиологию, затем занялся психологией, став в Соединенных Штатах лидером этого нового направления исследований. В 1890 г. вышел приобретший огромную популярность первый том его «Основ психологии».
Джемс выступал против господствовавшего в Западной Европе структурализма в психологии. Разрабатывавший это направление В.Вундт и его последователи считали, что задача новой науки состоит в том, чтобы с помощью метода интроспекции выделить исходные психические элементы и способы их сочетания в сознании. Джемс считал эту позицию искусственной, игнорирующей реальные функции сознания, которые, согласно его учению, состоят в том, чтобы обеспечить приспособление организма к среде.
Функциональный подход и принцип адаптации целостного организма к условиям существования переносился тем самым из биологии, развивавшейся под знаком эволюционного учения, в психологию. Этот общий подход, несомненно, оказал влияние на Кеннона, когда он перешел к изучению таких интегральных приспособительных реакций живых существ, как эмоции. Вместе с тем впоследствии, в 20-х годах, Кеннон выступил с критикой теории эмоций Джемса именно потому, что в ней, по его мнению, недостаточно учитывается адаптивный смысл этих психологических явлений.
В годы, когда Кеннон стал студентом в Гарварде, Джемс со все меньшим энтузиазмом относился к психологии, увлекшись философскими проблемами. Влияние блестящих лекций Джемса на молодого Кеннона было столь значительным, что студент решил посвятить себя философии. Он вспоминал, как однажды, сопровождая возвращавшегося домой Джемса, советовался с ним по этому поводу. Однако профессор порекомендовал ему «наполнить свои паруса другим ветром». Кеннон последовал этому совету и отправился к профессору физиологии Генри Боудичу. Под его руководством он проработал много лет и впоследствии сменил его на посту заведующего лаборатории физиологии Гарвардской медицинской школы.
В этой лаборатории Кеннон проработал несколько десятилетий и выполнил свои новаторские исследования, снискавшие ему всемирную известность. Спектр его научных интересов был чрезвычайно широк, и на протяжении своей карьеры он обращался к нескольким, казалось бы, независимым темам, которые на самом деле были объединены общей логикой научного исследования. Первые работы Кеннона были сугубо физиологическими. Они были посвящены двигательной функции пищеварительного тракта, и почти невозможно усмотреть их связь с психологической проблематикой. В то же время сам исследователь в своей научной автобиографии отмечал: «Ранние наблюдения над моторной деятельностью пищеварительного тракта обнаружили его заметную чувствительность к эмоциональному возбуждению. Приостановка этой деятельности при возбуждении привела к изучению других телесных изменений, связанных с сильными эмоциями».
Всю профессиональную жизнь ученый провел в своей экспериментальной лаборатории
В ту пору (10-е гг. ХХ в.) самой влиятельной теорией эмоций была теория Джемса-Ланге, трактовавшая эмоциональное переживание как отражение соматических изменений. «Я совершенно не могут представить себе, что за эмоция страха останется в нашем сознании, если устранить из него чувства, связанные с сильным сердцебиением, коротким дыханием, дрожью губ, с расслаблением членов и с возбуждениями во внутренностях», – писал Джемс. Кеннон, ученик Джемса, конечно же, был хорошо знаком с этой теорией. В то же время он отдавал себе отчет, что эта теория не имела никакой опоры к экспериментально проверяемых физиологических фактах. Ее авторы соотносили свои предположения с воображаемыми, а не реальными экспериментами. Давайте, предлагали они, устраним из картины эмоций внутрителесные модификации, и тогда эта картина сразу же испарится. Кеннон предпринял проверку этой гипотезы, исходя не из умозрительных рассуждений, а из того, что подсказывал физиологический опыт. В эксперименте (при рассечении нервных путей между внутренними органами и корой головного мозга) им было установлено, что при исключении физиологических проявлений субъективное переживание все равно сохранялось. При этом Кеннон отметил два существенных обстоятельства. Во-первых, физиологические сдвиги, возникающие при разных эмоциях, бывают весьма похожи друг на друга и не отражают их качественное своеобразие. Во-вторых, эти физиологические изменения развертываются довольно медленно, в то время как эмоциональные переживания возникают быстро, то есть предшествуют физиологической реакции. Кеенону также удалось показать, что искусственно вызванные физиологические изменения, характерные для определенных сильных эмоций, не всегда вызывают ожидаемое эмоциональное поведение. Все это позволило ему заключить, что эмоции возникают вследствие специфической реакции центральной нервной системы и в частности – таламуса.
Таким образом, по Кеннону, схема этапов возникновения эмоций и сопутствующих ей физиологических сдвигов выглядит так:
раздражитель → возбуждение таламуса → эмоция → физиологические изменения
В более поздних исследованиях, выполненных в середине 30-х П.Бардом, было показано, что эмоциональные переживания и физиологические сдвиги, им сопутствующие, возникают почти одновременно. С этим уточнением такая трактовка эмоционального переживания получила название теории Кеннона-Барда и в качестве альтернативы теории Джемса-Ланге сегодня представлена во всех источниках по психологии эмоций и чувств.
Рентгеновская установка, которую Кеннон использовал в своих экспериментах, сегодня выглядит настоящим музейным экспонатом
Еще одним важным вкладом американского физиолога в психологию явилось разработанное им учение о гомеостазе – постоянстве внутренней среды организма, достигаемом за счет гибкого приспособления к меняющимся условиям внешней среды. Кенноновское учение о гомеостазе – детище 20-х годов. Изложенное в физиологических и медицинских журналах, оно было обращено первоначально к специальной научной аудитории. Благодаря книге «Мудрость тела», понимание которой не требовало специальной подготовки, оно вызвало широкий интерес и резонанс далеко за пределами научного сообщества. Объяснялось это не только популярностью изложения. На обложке книги было сказано, что она представляет «первое детальное изложение способа, благодаря которому наши тела, вопреки многим возмущающим силам, сохраняют свою стабильность; оно подсказывает, как проблемы, извлеченные из мудрости тела, могут быть применены к проблемам социальной и экономической стабилизации».
Модель организма как саморегулирующейся системы оказалась востребована многими направлениями психологии и была перенесена в них для объяснения взаимодействия с окружающей средой. Такой перенос характерен, в частности, для необихевиоризма, считающего, что новая двигательная реакция закрепляется благодаря освобождению организма от потребности, нарушившей его гомеостаз; для концепции Ж.Пиаже, признающей, что умственное развитие происходит в процессе уравновешивания организма со средой; для теории поля К.Левина, согласно которой мотивация возникает в неравновесной «системе напряжений»; для гештальтпсихологии, отмечающей, что в случае нарушения баланса между компонентами психической системы она стремится к его восстановлению.
В то же время гомеостатическая модель с самого начала породила оживленную дискуссию в научных кругах. Еще в 1934 г. Курт Гольдштейн в своем главном труде «Организм» показал недостаточность понятия гомеостаза для объяснения жизнедеятельности организмов. Тем самым было инициировано зарождение многих идей гуманистической психологии, в частности – концепции Маслоу о насыщаемых и ненасыщаемых потребностях.
Так что неудивительно, что ссылками на Кеннона пестрят психологические работы самых разных направлений, и эта ситуация не меняется вот уже на протяжении более полувека. Классика!
Заслуги Кеннона еще при его жизни были отмечены очень широко. Он был почетным доктором Гарвардского, Йельского, Виттенбергского, Бостонского, Вашингтонского, Льежского, Страсбургского, Парижского, Мадридского и Барселонского университетов. Кеннон являлся членом стольких научных обществ, что ни в одном списке его регалий их перечень не приводится полностью ввиду непомерной громоздкости.
Кеннон совершил первое восхождение на эту гору, впоследствии названную его именем
Выйдя на пенсию, Кеннон оставил Гарвард и принял приглашение занять должность профессора-консультанта в Нью-Йоркском университете. Затем он на некоторое время выехал в Институт кардиологии в Мексику, где совместно со своим учеником А.Розенблютом приступил к серии исследований по электрофизиологии головного мозга. Он предвидел большую перспективность этого нового направления, но разрабатывать его оставил другим. Возвратившись из Мексики домой, Кеннон по совету друзей взялся за книгу «Путь исследователя». Однако силы его покидали, и он скончался во Франклине (шт. Нью-Хемпшир) от лейкемии, осложненной пневмонией, 1 октября 1945 г.
А.Ф. Лазурский (1874–1917)
Александр Федорович Лазурский – яркая фигура в истории науки, один из пионеров российской психологии. В первой четверти ХХ века его труды неоднократно переиздавались в нашей стране и за рубежом, снискали ему широкую известность и признание. Лазурский по праву может быть назван одним из основоположников отечественной дифференциальной психологии (сам он, однако, полемизируя с В. Штерном, предлагал отдать предпочтение иному названию – «индивидуальная психология»; одноименная адлерианская теория в ту пору еще не была широко признана). Однако, умерший незадолго до Октябрьской революции, Лазурский, естественно, не мог предвидеть, какими путями пойдет оформление советской психологической мысли на основе марксистско-ленинской доктрины. Вероятно, вследствие такой «недальновидности» о нем с годами вспоминали все реже, и в советской психологической литературе упоминания о нем как правило ограничивались несколькими скупыми строчками. В середине 90-х одна из его книг была переиздана в серии «Памятники психологической мысли», но не привлекла широкого внимания и фактически затерялась в половодье переводных бестселлеров. Сегодня, когда постепенно пробуждается интерес новых поколений психологов к отечественным научным традициям, следует отдать дань одному из видных представителей российской психологии, стоявшему у ее истоков.
Александр Федорович Лазурский родился 12 апреля (31 марта по старому стилю) 1874 г. в городе Переяславе Полтавской губернии (ныне – Переяслав-Хмельницкий Киевской области Украины). Через несколько лет после его рождения его отец, священнослужитель, получил приход в уездном городке Лубны. Здесь Лазурский поступил в мужскую гимназию, с отличием ее окончил, а в 1891 г. уехал отсюда в Петербург, где поступил в Военно-Медицинскую Академию. В Петербурге судьба свела его с крупнейшим ученым того времени, одним из основоположников целостного человекознания в отечественной науке, В.М. Бехтеревым, под руководством которого в возглавляемой им анатомо-физиологической лаборатории при клинике душевных и нервных болезней Лазурский, будучи третьекурсником, сделал свои первые шаги на нелегком пути научного познания. Наверное, именно царившая в лаборатории атмосфера научного поиска обусловила жизненный выбор Лазурского – его ориентацию не на медицинскую практику, а на исследовательскую деятельность.
На раннем этапе научной деятельности интересы молодого ученого были сосредоточены в сфере анатомии мозга. Этому были посвящены его первые научные работы, выполненные в студенческие годы и опубликованные в издававшемся в Казани журнале «Неврологический вестник».
В ноябре 1896 г. на заседании Собрания врачей Санкт-Петербургской клиники душевных и нервных болезней студенты Лазурский и Акопенко представили на обсуждение результаты выполненного ими психофизиологического исследования «О влиянии мышечных движений (ходьба) на скорость психических процессов». В работе рассматривалась динамика протекания психических процессов (простой реакции, процессов различения, выбора, счета чисел и подбора рифм) до мышечной нагрузки и после нее. Авторы пришли к выводу, что мышечные движения «ускоряющим образом» влияют на психические процессы, хотя указанный эффект проявляется применительно к конкретным исследуемым явлениям по-разному. Обращает на себя внимание высказанная уже в этой ранней работе мысль, что при анализе соотношения психических и физиологических процессов необходимо «считаться с индивидуальностью».
С самого начала творческой деятельности Лазурский активно участвовал в жизни научного сообщества. В журнале «Обозрение психиатрии» неоднократно публиковались его отчеты о научных дискуссиях той поры, в которых он сам принимал участие. Своеобразным признанием молодого ученого явилось его избрание в 1899 г. действительным членом Петербургского Общества психиатров и невропатологов.
После окончания академии с отличием в 1897 г. Лазурский был оставлен в клинике для продолжения исследований и «научного усовершенствования». Научную деятельность он совмещал с лечебной практикой, работая в доме призрения душевнобольных, а также в школе для детей с нервно-психическими отклонениями.
Уже в ранних работах Лазурского закладывались основы объективного, естественнонаучного подхода к пониманию человека и исследованию его психики. Ученый был глубоко убежден, что прогресс в развитии психологического знания обусловлен его связью с естественнонаучной методологией, с исследованиями природных основ психической деятельности, он подчеркивал невозможность разработки проблем психологии без опоры на знания в области анатомии и физиологии центральной нервной системы. Следуя традиции клинической школы Бехтерева, Лазурский большое значение придавал также изучению психопатологии, рассматривая последнюю в качестве важного условия углубления познания механизмов функционирования психики в норме.
Постепенно интересы Лазурского переключились с анатомии и физиологии ума на собственно психологические исследования. В немалой степени этому способствовало открытие в 1895 г. Бехтеревым в клинике душевных и нервных болезней специальной Психологической лаборатории. В 1897 г. именно Лазурскому Бехтерев поручил руководство этой лабораторией.
Еще более укрепилась психологическая ориентация ученого под влиянием зарубежной командировки, в которую он был направлен по решению академии «на казенный счет» с ежегодным содержанием в 3500 рублей на два года (1901–1902 гг.) «для усовершенствования» после получения степени доктора медицины. Во время своего пребывания за границей Лазурский посетил наиболее важные центры мировой психологической науки того времени. Он практиковался в Психологическом институте В. Вундта в Лейпциге, работал в лаборатории экспериментальной психологии Э. Крепелина в Гейдельберге, слушал лекции К. Штумпфа в Берлине.
Первые психологические работы Лазурского появились в 90-е гг. ХIХ в. Приступая к разработке психологических проблем, молодой ученый учитывал сложившиеся в данной области традиции, но они становились предметом серьезного критического осмысления, глубокой творческой переработки. Главным критерием истинности вывода, основным способом получения научной фактологии Лазурский однозначно признавал опыт. Опытная стратегия исследования психической активности в работах самого ученого, его учеников и сотрудников Психологической лаборатории оставалась неизменно доминирующей. И поэтому естественным являлось обращение Лазурского к эксперименту в поисках наиболее точного объективного изучения психической реальности. В своих экспериментальных исследованиях он отдавал дань традиционным для того времени проблемам психологии – изучению объема сознания (памяти), процесса образования ассоциаций.
Уже ранние психологические работы Лазурского привлекли к себе внимание научной общественности. Так, после доклада о методе наблюдения (1898 г.) в собрании врачей психиатрической клиники состоялась беседа ученого с репортером «Петербургской газеты», а его доклад «О взаимной связи душевных свойств и способах ее изучения» на одном из заседаний Санкт-Петербургского Философского Общества под председательством А.И. Введенского в марте 1890 г. обсуждался с 9 утра до полуночи. Такой интерес к работам Лазурского был вызван не только актуальностью, новизной и оригинальностью развиваемых им идей, но и четко обозначенной естественнонаучной методологической позицией. Именно поэтому, встречая позитивные в целом отклики в среде врачей, психиатров и других ученых, разделявших позиции объективного подхода к психике человека, научные сообщения и статьи Лазурского вместе с тем подвергались критике сторонниками традиционной метафизической психологии. Так, уже упомянутый доклад в Философском Обществе, по оценке самого Лазурского, потерпел «торжественный провал». Это было следствием развернувшейся в этот период в русской психологии борьбы между принципиально различными подходами в познании психической реальности, водоразделом между которыми явилось понимание роли эксперимента и интроспекции в психологических исследованиях. Лазурский, оказавшийся одним из участников этих достаточно жестких и нелицеприятных дискуссий, тяжело переживал сложившуюся ситуацию и едва не забросил свои изыскания в психологии. Тем не менее, очевидно, не без помощи своего учителя Бехтерева и других, близких по духу коллег, он преодолел этот «творческий кризис» и продолжил работу в области психологии.
Более того, решаемые им задачи становились все более сложными, оригинальными. Он встал на путь, который до него еще никем в отечественной науке не был пройден. Наряду с традиционными для той поры научными проблемами, его чрезвычайно привлекла задача изучения не отдельных психических процессов, а целостной личности. Именно к этому вопросу ученый обратился в первом опубликованном им в 1897 г. психологическом труде «Современное состояние индивидуальной психологии» (заметим: двадцатисемилетний Альфред Адлер в это время только вынашивал свои теоретические идеи). Вероятно, именно подготовка этой статьи, содержащей обзор фактически всех ключевых в то время мировых и отечественных исследований по изучению характера и темперамента, определила сферу будущих научных интересов Лазурского – разработка проблем индивидуальной психологии, точнее – психологии индивидуальности. Цель ее он видел в рассмотрении того, «как видоизменяются душевные свойства у различных людей и какие типы создают они в своих сочетаниях».
Уже в этой работе четко обозначена перспектива научных исследований Лазурского, которая приведет его к созданию нового самостоятельного направления психологической науки – «научной характерологии». Именно она и стала фундаментальным вкладом Лазурского в сокровищницу отечественной психологической науки. При этом важно отметить, что «индивидуальная психология» полностью отождествлялась им с характерологией, то есть русский ученый выдвинул на передний план решение типологических задач путем выявления наиболее обобщенных типов характеров. Тем самым он противопоставлял свой подход взглядам В. Штерна, который ограничивал задачи дифференциальной психологии лишь анализом индивидуально-психологических различий, не ставя задачей этой области изучение целостной личности.
В 1906 г. тиражом 1000 экземпляров вышел в свет первый крупный труд Лазурского – «Очерк науки о характерах». Как отмечает автор, «две мысли положены в основу этой книги: во-первых, возможность сознательного, научного изучения человеческих характеров; во-вторых – необходимость пользоваться для этой цели понятием наклонности или душевного качества». Основой книги послужил авторский курс лекций по характерологии, прочитанный в Петербурге на педологических курсах при экспериментально-педагогической лаборатории А.П. Нечаева, о котором Лазурский с гордостью писал брату: «Смело могу сказать, что это первый и единственный на сегодня на земном шаре систематический курс характерологии, основанной на современных данных». Именно с этого сочинения начинается известность Лазурского как специалиста по индивидуальной психологии.
Большое внимание ученый уделял поиску и исследованию интегральных личностных образований, которые в наибольшей степени отражали бы специфику индивидуальности человека. В этом контексте особый интерес представляет учение Лазурского о способностях, поскольку понятия «наклонность», «склонность», «способность», «душевное качество» занимают центральное место в его концепции личности.
В феврале 1913 г. на заседании Петербургского Философского Общества он сделал доклад, изложив свою «новую классификацию личностей». До последних дней жизни именно эта проблема оставалась центральной в его творчестве.
Исходя из идеи целостности, функционального единства нервно-психической организации личности и стремясь реализовать ее в конкретном эмпирическом исследовании, Лазурский обращается к поиску адекватного данному подходу метода. Направление и смысл методических поисков Лазурского в это время достаточно точно выражают следующие его высказывания: «Чем выше и сложнее исследуемое явление, тем проще и ближе к жизни должен быть применяемый метод», «общий ход развития экспериментальной психологии неизбежно ведет к тому, что мы постепенно будем расширять область применения эксперимента, но в связи с этим будем расширять также и само понятие эксперимента».
В декабре 1910 г. на I съезде экспериментальной педагогики он выступил с докладом о «естественном эксперименте», в котором изложил суть нового метода, подчеркивая его «несомненные преимущества» по сравнению с наблюдением и лабораторным экспериментом. Суть данного метода состоит в том, что любой вид реальной деятельности рассматривается с точки зрения того, какая группа личностных характеристик выступает в нем ярче всего. И исследователь, предлагая человеку или группе лиц этот вид деятельности в реальной, конкретной жизненной ситуации, фиксирует степень выраженности изучаемой характеристики. Особую ценность этого метода Лазурский видел в его применении в школьной практике для составления целостной характеристики школьника, так как он давал возможность педагогу «глубже заглянуть в психическую жизнь своих питомцев с помощью тех средств, которые всегда находятся в руках». Таким образом, можно сказать. Что Лазурский фактически одним из первых в отечественной психологии осуществил конкретно-эмпирическое исследование психики ребенка в условиях деятельности, заложив тем самым «первые кирпичики» в будущую психологическую теорию деятельности, получившую развитие в последующих трудах советских психологов. С.Л. Рубинштейн подчеркивал высокую ценность и значимость предложенного Лазурским метода естественного эксперимента, развивая этот метод с позиций субъектно-деятельностного подхода.
Занимаясь разработкой острейших для своего времени вопросов психологии, Лазурский постоянно сталкивался с негативным отношением к себе со стороны как метафизических психологов, так и некоторых психиатров, которые находили его психологические исследования надуманно-умозрительными. Вследствие назревшего конфликта в 1913 г. он увольняется из Военно-медицинской Академии и устраивается штатным клиническим ассистентом по психиатрии в Женский Медицинский институт.
Безвременная кончина Лазурского в марте 1917 г. не позволила завершить большие творческие планы. В частности, осталась незаконченной книга, над которой он работал в последние годы «Классификация личностей». Подготовить эту разработку к изданию по инициативе товарищей и учеников было предложено ближайшему его сотруднику В.Н. Мясищеву. Книга была опубликована в 1921 г.
Похороны состоялись 16 марта (по старому стилю) 1917 г. на Смоленском кладбище в Петрограде. Обнаружить его могилу к настоящему времени не удалось…
По мнению близко знавших его людей, Лазурский, «всю свою жизнь отдавший изучению личности человека, сам был глубоко гармоничной, светлой, высокоморальной личностью. Необыкновенно скромный и миролюбивый, он не имел врагов; чуждый рисовки и стремления к популярности, он завоевал широкую известность. Мягкий, чуткий и деликатный, щепетильно честный и добрый, он привлекал к себе сердца окружающих, и смерть его в расцвете сил и таланта кажется такой несправедливой!»
Э. Торндайк (1874–1949)
Эдвард Ли Торндайк – сын озабоченных спасением души благочестивых родителей, который перевел «науку о душе» в плоскость изучения рефлексов; крупнейший специалист по научению, за всю жизнь так и не выучившийся водить автомобиль; создатель теории, название которой сохранилось лишь в учебниках по истории психологии (так называемый коннекционизм), но которая фактически предвосхитила содержание огромного пласта психологической науки ХХ столетия. Таков Э. Торндайк – одна из самых ярких и противоречивых фигур в истории психологической мысли.
Он родился 31 августа 1874 г. в городке Вильямсбург, штат Массачусетс, в семье методистского священника. Семья вела аскетичный образ жизни, сыновей (их было трое) воспитывали в строгости, прививая им привычку к упорному труду и самоотверженному следованию нравственным заповедям. С современных позиций гуманистической педагогики такой стиль воспитания может показаться слишком суровым, однако его позитивные плоды налицо: все трое братьев Торндайк поступили в Университет Уэсли и впоследствии стали крупными учеными.
В университете Торндайк прослушал курс психологии, основанный на учебнике англичанина Джеймса Селли «Очерки психологии». Особого интереса этот предмет у него не вызывал – до той поры, пока он по собственной инициативе не прочитал «Принципы психологии» У. Джемса. Воодушевленный идеями Джемса, Торндайк перевелся в Гарвардский университет и здесь прослушал его курс.
Собственные научные исследования он намеревался провести в сиротском приюте. Им был задуман и частично осуществлен интересный эксперимент. Экспериментатор мысленно представлял различные слова, объекты, числа. Сидящий против него ребенок должен был угадать, о каких вещах думает экспериментатор. В случае успеха ребенок получал конфету.
Схема опыта не была досужей игрой торндайковского ума. Она отражала новые веяния в психологии. В те годы представление о непосредственной связи мысли и слова стало общепризнанным. Слово является также и моторным актом. Из этого следовало, что в случае мышления «про себя» должны происходить почти незаметные изменения мышц речевого аппарата. Обычно они не осознаются самим субъектом и не воспринимаются окружающими. Но нельзя ли повысить чувствительность к ним других людей с целью «прочтения» речевых микродвижений, а тем самым и соответствующих мыслей? В качестве средства усиления чувствительности к этим микродвижениям Торндайк избрал такой рычаг, как заинтересованность в отгадке, создаваемая подкреплением. Вместе с тем он предполагал, что чувствительность в ходе опытов постепенно обостряется (впоследствии обучаемость восприятию была названа «перцептивным научением»).
Для схемы этих опытов молодого Торндайка существенно то, что, во-первых, исключалось обращение к сознанию (ведь реакции экспериментатора, а именно изменения в мышцах его лица при думании «про себя», возникают непреднамеренно, и испытуемый, отгадывающий эти реакции, не знает, какими признаками он руководствуется, пытаясь их различить); во-вторых, исследовалось научение, приобретение опыта; в-третьих, вводился фактор положительного подкрепления. Все эти моменты определили в дальнейшем экспериментальные изыскания Торндайка. Опыты над детьми ему пришлось прервать: администрация университета их запретила по не зависевшим от него причинам. Тогда Торндайк занялся опытами над животными. Он стал обучать цыплят навыкам прохождения лабиринта. Цыплят негде было держать, и Торндайк по предложению Джемса, который к нему явно благоволил, устроил импровизированную лабораторию в подвале его дома. Фактически это была первая в мире экспериментальная лаборатория экспериментальной зоопсихологии. Вскоре, захватив корзину с двумя дрессированными цыплятами, он переехал в Колумбийский университет к Дж. М. Кеттеллу – горячему приверженцу объективного метода в психологии. Здесь Торндайк продолжал исследования над кошками и собаками и изобрел специальный аппарат – «проблемный ящик», в который помещались подопытные животные. Попав в ящик, они могли из него выйти и получить подкормку лишь тогда, когда приводили в действие специальное устройство (нажимали на пружину, тянули за петлю и т. п.).
Поведение животных было однотипным. Они совершали множество движений: бросались в разные стороны, царапали ящик, кусали его и т. п., пока одно из движений случайно не оказывалось удачным. При последующих пробах число бесполезных движений уменьшалось, животному требовалось меньше времени, чтобы найти выход, пока наконец оно не научалось действовать безошибочно.
Ход опытов и результаты изображались графически в виде кривых, где на оси абсцисс отмечались повторные пробы, на оси ординат – затраченное время (в минутах). Характер кривой («кривой научения») дал Торндайку основание утверждать, что животное действует методом «проб и ошибок», случайно добиваясь успеха. Резких падений кривой, которые свидетельствовали бы о том, что животное внезапно поняло смысл задачи, почти не наблюдалось. Напротив, иногда кривая резко подскакивала вверх, то есть при последующих пробах затрачивалось больше времени, чем при предыдущих. Произведя однажды правильное действие, животное в дальнейшем совершало множество ошибочных.
Свои факты и выводы Торндайк изложил в 1898 г. в докторской диссертации «Интеллект животных. Экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных». Термины Торндайк употреблял традиционные – «интеллект», «ассоциативные процессы», но содержанием они наполнялись новым.
То, что интеллект имеет ассоциативную природу, было известно со времен Гоббса. То, что интеллект обеспечивает успешное приспособление животного к среде, стало общепринятым после Спенсера. Но впервые именно опытами Торндайка было показано, что природа интеллекта и его функция могут быть изучены и оценены без обращения к идеям или другим явлениям сознания. Ассоциация означала уже связь не между идеями или между идеями или движениями, как в предшествующих ассоциативных теориях, а между движениями и ситуациями.
Свои наблюдения Торндайк обобщил в нескольких законах:
закон упражнения, согласно которому при прочих равных условиях реакция на ситуацию связывается с ней пропорционально частоте повторений связей и их силе. Этот закон совпадал с принципом частоты повторений в ассоциативной психологии;
закон готовности: упражнения изменяют готовность организма к проведению нервных импульсов;
закон ассоциативного сдвига: если при одновременном действии раздражителей один из них вызывает реакцию, то другие приобретают способность вызывать ту же самую реакцию.
Торндайк не собирался посвятить всю жизнь экспериментам с проблемными ящиками. Целеустремленный и амбициозный, он в свое время писал невесте: «Я решил за пять лет достигнуть самых вершин психологии, потом буду преподавать еще десять лет, а затем уйду из науки». В области зоопсихологии он проработал недолго. Он занимался этими вопросами лишь для того, чтобы написать докторскую диссертацию и создать себе имя.
В 1899 г. Торндайк стал преподавателем психологии в педагогическом колледже Колумбийского университета. Там он продолжил экспериментальные исследования, перенеся методы изучения поведения животных на людей. Вся его дальнейшая работа была посвящена проблемам обучения людей, а также таким близким отраслям, как тестирование интеллекта. Торндайк, как и намеревался, действительно достиг вершин: в 1912 г. он был избран президентом Американской психологической ассоциации. За полвека работы в Колумбийском университете им было написано свыше 500 научных работ, многие из которых пользовались немалым спросом на книжном рынке. На издании своих книг и тестов он сумел составить себе состояние. Так, в 1924 г. его годовой доход составил почти 70 тысяч долларов, что по тем временам было просто огромной суммой. В 1939 г. Торндайк ушел в отставку, но продолжал научную деятельность до самой смерти (он умер в 1949 г.).
Исследования Торндайка в области научения стали эпохальным явлением в психологии. Его работы стимулировали подъем теории научения в американской науке, а тот дух объективности, которого он строго придерживался, нашел воплощение в теории бихевиоризма. Основатель бихевиоризма Джон Уотсон писал, что исследования Торндайка стали краеугольным камнем его учения. Дань уважения Торндайку отдал и Павлов. Он писал: «Через несколько лет после начала работы с моим новым методом я узнал, что подобные опыты проделаны в Америке, причем не физиологами, а психологами. С тех пор я начал внимательно изучать американские публикации, и должен был признать, что честь сделать первый шаг по этой дороге принадлежит Э.Л. Торндайку. Его эксперименты опережали наши примерно на два или три года, а его книгу можно считать классической, как по смелому подходу к гигантской работе, так и по точности результатов».
И.Д. Ермаков (1875–1942)
История отечественной психологии долгие годы трактовалась весьма прямолинейно и упрощенно: борьба материалистических и идеалистических идей в дореволюционной науке, возобладание материалистической тенденции после 1917 г., ее полная победа в 20–30-е годы и дальнейшее поступательное шествие советской психологии под знаменем диалектического материализма. В такой трактовке совершенно не оставалось места психоаналитической концепции, которую ее создатель З.Фрейд сам затруднялся однозначно определить как материалистическую либо идеалистическую. А психоанализ в России имеет богатую историю. Первым иностранным языком, на который переведены труды Фрейда, был русский. Сам Фрейд Москву считал третьим мировым психоаналитическим центром после Вены и Берлина. Интерес к психоанализу проявлял В.М. Бехтерев, на разных этапах своего научного творчества идеи Фрейда разделяли А.Б. Залкинд, П.П. Блонский, А.Р. Лурия и многие другие видные ученые. Но главенствующей фигурой в русском психоанализе выступал И.Д. Ермаков.
Биографические сведения об этом человеке весьма скупы и почерпнуты главным образом из лаконичных, скорее справочных материалов, опубликованных в последние годы дочерью Ермакова М.И. Давыдовой.
Иван Дмитриевич Ермаков родился 6 октября 1875 г. в Константинополе. В 1896 г. окончил Тифлисскую классическую гимназию. Медицинское образование он получил в Московском университете, после окончания которого в 1902 г. был оставлен для работы в должности врача-психиатра в университетской клинике. Уже в эти годы проявился интерес Ермакова к психологическим проблемам художественного творчества. В автобиографии, написанной в 1926 г., он отмечает, что еще студентом наблюдал и пользовал в клинике М.А. Врубеля и на основании своих наблюдений впоследствии написал очерк о личности и творчестве великого художника.
В 1904 г. в связи с началом русско-японской войны И.Д. Ермаков был призван на военную службу и исполнял обязанности психиатра в госпиталях Харбина и Москвы. Первые его научные работы, опубликованные в Журнале невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, отразили опыт и наблюдения психиатра. Столкнувшегося в своей практике с психопатологическими последствиями военных действий.
После демобилизации И.Д. Ермаков вернулся к преподавательской и клинической деятельности в Московском университете. В 1906 г. стал действительным членом Общества невропатологов и психиатров. В университетских стенах он проработал до 1921 г., пройдя путь от ординатора до заведующего психиатрической клиникой. Остался он в университетской клинике и в 1911 году, когда ее покинули его учитель В.П. Сербский и еще один видный деятель психоаналитического движения Н.Е. Осипов. Сербский и Осипов таким образом выразили свой протест против политики министра просвещения Л.А. Кассо, стремившегося ограничить студенческие свободы. С этого момента пути Ермакова и Осипова расходились все дальше, а отношения становились все более неприязненными, что, впрочем, характерно для личных взаимоотношений многих видных представителей психоаналитического движения.
И.Д. Ермаков успешно сочетал общественную и научную деятельность. В 1910–1917 гг. он был казначеем Благотворительного общества им. С.С. Корсакова. С научными командировками посетил Париж (в 1913 г. избран членом Парижского общества невропатологов и психиатров), Берлин, Берн, Цюрих, Мюнхен.
21 сентября 1913 г. И.Д. Ермаков выступил перед коллегами в университетской клинике с докладом об учении З.Фрейда. С этого времени большинство его работ, увидевших свет, связаны с пропагандой психоаналитических идей. Его активность на этом поприще была такова, что впоследствии (в 1929 г.) журнал «Под знаменем марксизма», обличая в идеализме видных русских мыслителей, писал: «Разве неизвестно, что по-русски Гуссерль читается Шпет, Фрейд, скажем, Ермаков, а Бергсон – Лосев?»
Накануне февральской революции 1917 г. в журнале «Психоневрологический вестник» появилась статья Ермакова «О белой горячке». Интересно, что в работе на такую казалось бы специальную психиатрическую тему прозвучали патетические слова, ставшие по сути своей кредо будущих советских психоаналитиков:
Мы живем накануне новой эпохи в развитии нашего общества. Не уходить от действительности, не одурманивать себя призваны мы, – но расширить зрачки наши, постараться понять и разобраться в том, что нас окружает, и отдать все силы для того светлого будущего, которое (мы верим) ждет нашу страну.
В послереволюционные годы И.Д. Ермаков стал членом Совета психоневрологического музея-лаборатории и библиотеки профессора Ф.Е. Рыбакова, преобразованного вскоре в Государственный психоневрологический институт, при котором он организовал и возглавил отдел психологии. При этом отделе в 1921 г. был создан детский дом-лаборатория, где подопечные дети изучались с точки зрения проявлений бессознательных влечений. Детский дом располагался в красивом здании по адресу Малая Никитская, 6, известным москвичам как особняк Рябушинского. В 1922 г. шефство над этим учреждением принял союз германских горнорабочих «Унион», в результате чего детский дом стал называться «Международная солидарность». Контингент его воспитанников (весьма немногочисленный) составляли дети крупных советских и партийных руководителей, в том числе сын И.В. Сталина Василий. По признанию А.Р. Лурии, бывшего в ту пору секретарем психоаналитического общества, «большого воспитательного эффекта работа наша не дала, но возможность заниматься интереснейшими проблемами науки в идеальных условиях мы на какое-то время получили».
Государственный психоаналитический институт размещался в Москве на Малой Никитской улице, в бывшем особняке Рябушинского – памятнике архитектуры русского модерна
В 1923 г. на базе детского дома был создан Государственный психоаналитический институт, который возглавил профессор Ермаков. В «Положении» об институте определялись его задачи: а) организация научно-теоретических исследований в области психоанализа взрослых и детей; б) научное изучение вопросов, вызванных государственными потребностями; в) подготовка научных работников вузов в области психоанализа.
Последовавшие затем два года можно считать «золотой эрой» психоанализа в России. Эта эра, однако, была короткой: 14 августа 1925 г. государственный психоаналитический институт по постановлению Совета народных комиссаров был закрыт. Прошло еще несколько лет, и фрейдизм в СССР был громогласно заклеймен как вредное буржуазное лжеучение. (Показательно, что в ту же пору в нацистской Германии труды З.Фрейда бросали в пламя костров).
Но краткая пора расцвета оказалась весьма продуктивной и отмеченной огромной активностью самого И.Д. Ермакова. Как директор института он в 1923–1925 гг. занимался организацией исследовательской, терапевтической и просветительской работы, читал в институте для врачей, педагогов и социологов курс психоанализа, вел семинарии (кружки) по гипнологии и изучению художественного творчества. В 1923 г. И.Д. Ермаков выступил одним из организаторов Русского психоаналитического общества, стал его председателем, а также возглавил в нем секцию психологии искусства и литературы.
Важнейшим вкладом Ермакова в развитие психоанализа явилась организация им издания книжной серии «Психологическая и психоаналитическая библиотека», в которой с 1922 по 1925 г. были опубликованы переводы на русский язык основных работ З.Фрейда, а также труды его последователей. Ермаков выступил редактором серии и автором предисловий к большинству книг. В этой серии были опубликованы и две его собственные книги – «Этюды по психологии творчества А.С. Пушкина. Опыт органического понимания «Домика в Коломне», «Пророка», «Маленьких трагедий» (1923) и «очерки по анализу творчества Н.В. Гоголя» (1924). Интерес к творчеству Гоголя возник у Ермакова давно. Повесть «Нос», изданная в Москве в 1921 г., содержит его послесловие. Впоследствии психоаналитическая трактовка художественного творчества вызвала ожесточенную критику. Так, в первой советской «Литературной энциклопедии» Ермаков в этой связи удостоился даже персональной статьи – разумеется, критической. Хотя нельзя не признать, что, скажем, его трактовка носа как фаллического символа – весьма органичная для классического психоанализа – действительно, многим может казаться спорной.
Неизданной осталась книга Ермакова «Ф.М. Достоевский. Он и его произведения», книги «Психоанализ и художественное творчество», «Психоанализ и педагогика», «Психоанализ детской души», а также две его работы, аннотированные в упомянутой серии – «Гипнотизм» и «Органичность и выразительность в картине». Впрочем, из 32 объявленных выпусков «Психологической и психоаналитической библиотеки» увидели свет лишь 15.
Отстраненный от официальной деятельности, И.Д. Ермаков продолжал психиатрическую практику, занимался частным лечением неврозов, заикания, алкоголизма, выступал консультантом в клиниках Москвы. Однако основное внимание он продолжал уделять главной интересовавшей его теме – исследованию литературы и искусства с позиций психоанализа. В кругах научной и художественной интеллигенции пользовались известностью очерки Ермакова об искусстве, в частности эссе «Незнакомка» о картине К.Сомова «Дама в голубом платье». Интересно, что после долгих лет забвения первой публикации удостоилась именно «Незнакомка». Однако, словно по иронии, – в эротическом журнале «Андрей» (впрочем, в обыденном сознании психоанализ всегда ассоциировался с чем-то эротически-пикантным).
Особой сферой деятельности И.Д. Ермакова была живопись. Он был участником ряда художественных выставок в 1916–1921 гг. (44-я Передвижная выставка, Выставка мира искусств и др.), до 1923 г. участвовал в исследовательской работе, которая велась в Государственной Третьяковской Галерее. Сохранилась его неопубликованная работа «Как смотреть картины», содержащая интересные наблюдения за поведением рабочих и крестьян – посетителей Третьяковки. В семейном архиве сохранились его живописные и графические работы, а также две рукописные книжечки лирических стихов.
Летом 1941 г. И.Д. Ермаков был арестован по политическому обвинению. Умер год спустя в Бутырской тюрьме. В 1956 г. посмертно реабилитирован. Еще много лет спустя фактически реабилитирована и его научная позиция.
К.Г. Юнг (1875–1961)
В одной из ранних отечественных работ, посвященных психоанализу, в примечаниях редактора упоминаются различные трактовки фрейдистских терминов и в частности те, которые разрабатывает «фрейдист Юнг». С той поры на долгие годы утвердилось представление о Юнге как фрейдисте-раскольнике, поднявшем бунт против учителя. Сегодня работы Юнга стали доступны нашему читателю, и знакомство с ними убеждает многих, что разрыв Юнга с Фрейдом был не столько бунтом непокорного последователя, сколько естественным отходом равновеликой фигуры, не пожелавшей вращаться в чужой орбите. Аналитическая психология К.Г. Юнга – самостоятельная сложная теория, играющая в мировой науке не меньшую роль, чем классический фрейдовский психоанализ.
Карл Густав Юнг родился в швейцарском местечке Кесвиль 26 июля 1875 г. Семья Юнгов происходила из Германии: прадед Юнга руководил военным госпиталем во времена наполеоновских войн, брат прадеда некоторое время занимал пост канцлера баварии. Дед Юнга по отцу (в честь которого он был назван) переехал в Швейцарию в 1822 г., когда Александр фон Гумбольт добился для него должности профессора хирургии в Базельском университете (из Германии за ним шлейфом тянулся слух, будто он – внебрачный сын Гете). Отец Юнга – Иоганн Пауль Ахилесс Юнг – был священником. Помимо теологического образования он получил также степень доктора филологии, но, разуверившись в способностях человеческого разума, оставил занятия восточными языками и вообще какими бы то ни было науками, полностью посвятив себя служению Богу. Мать Юнга – Эмилия Прейсверк – происходила из семьи местных бюргеров, которые на протяжении многих поколений становились протестантскими пасторами. Так медицина и религия переплелись в семье Юнга еще до его рождения.
Когда мальчику было 4 года, семья переехала в Кляйн-Хюнинген, близ Базеля. Там фактически началось его образование. Отец обучал его латыни, а мать, как он рассказывает в своих мемуарах «Воспоминания, сны, размышления», читала ему книжку об экзотических религиях, к которой он постоянно возвращался, завороженный рисунками с изображениями индийских богов.
Семья Юнга была респектабельной, но небогатой. Карл Густав получил возможность учиться в лучшей гимназии Базеля лишь благодаря старым связям отца и материальной помощи родственников. Он рос застенчивым, тонко чувствующим ребенком, часто не разделявшим мнение родителей и не слушавшимся учителей. Друзей среди сверстников он не приобрел. Впрочем, от опасности конфликтов с ними его избавляла изрядная физическая сила и высокий рост. Он был легко ранимым и склонным к вспышкам гнева, если подвергался несправедливым нападкам – например, когда учитель обвинял его во лжи. Но именно тогда его второе «Я» становилось для него надежным убежищем. Эта вторая личность была его истинной, подлинной сущностью, корнями уходящей глубоко в общечеловеческую почву.
Где-то глубоко в себе я знал, что меня – двое. Один из нас был сыном моих родителей, он ходил в школу и был менее умен, внимателен, трудолюбив, искренен и чист, чем многие другие мальчики. Второй был взрослым – фактически, уже старым, скептиком и маловером, далеким от мира людей, но близким к природе, земле, солнцу, луне, погоде, всем живым существам. Но ближе всего он был к ночи, к снам, ко всему, что взрастил в нем «Бог».
К традиционной религии Юнг охладел довольно рано. Еще в детстве под влиянием ярких сновидений, содержавших величественные, но святотатственные образы, он усомнился в догматах христианства. Позднее знакомство с теологическими трудами привело его к мысли, что они являются «образцом редкостной глупости, единственная цель которых – сокрытие истины». «Мне вспоминается, – писал он много лет спустя, – подготовка к конфирмации, которую проводил со мной мой собственный отец. Катехизис был невыразимо скучен. Я перелистал как-то эту книжечку, чтобы найти хоть что-то интересное, и мой взгляд упал на парагрофы о троичности. Это заинтересовало меня, и я с нетерпением стал дожидаться, когда мы дойдем на уроках до этого раздела. Когда же пришел этот долгожданный час, мой отец сказал: «Данный раздел мы пропустим, я тут сам ничего не понимаю». Так была похоронена моя последняя надежда. Хотя я удивился честности моего отца, это не помешало мне с той поры смертельно скучать, слушая все толки о религии».
Однажды в библиотеке отца своего одноклассника любознательный юноша наткнулся на небольшую книжку и спиритических явлениях. Она его чрезвычайно увлекла, поскольку описываемые там феномены вызывали в памяти те истории, которые он во множестве слышал в детстве. Более того, он знал, что подобные рассказы бытуют не только в каждой швейцарской деревушке, но и доходят со всех концов света. Они не могли быть продуктами религиозных суеверий, поскольку религиозные учения различны, а эти описания очень сходны. Карл Густав полагал, что они должны быть связаны со строением психики. Так стали складываться его интересы, и он начал жадно читать об этом, удивляясь однако тому неприятию, какое эти темы встречали у его друзей.
Еще одной сферой его интересов была археология. Именно эту специальность он хотел освоить в университете. (Интересно, что Фрейд неоднократно сравнивал психоанализ с этой наукой и сожалел, что название «археология» закрепилось за поисками памятников культуры, а не за «раскопками души».) Однако в Базельском университете археология не преподавалась, а рассчитывать на стипендию Юнг мог лишь в родном городе. Выбрать предстояло между юриспруденцией, теологией и медициной. Юнг выбрал последнее, ибо ни юридическая, ни богословская стезя его нимало не привлекали.
Как и раньше в гимназии, в университете Юнг учился отлично, посвящая помимо учебных дисциплин немало времени философии. До последнего курса он специализировался по внутренним болезням, и ему уже было обеспечено место в престижной клинике. Интерес к психиатрии возник у него в связи с рутинной необходимостью сдавать соответствующий экзамен. Подготовиться он решил по учебнику Р. Крафт-Эббинга, в котором и наткнулся на утверждение, что психозы суть заболевания личности. «Мое сердце неожиданно резко забилось, – вспоминал Юнг в старости. – Возбуждение было необычным, потому что мне стало ясно, как при вспышке просветления, что единственно возможной целью для меня может быть психиатрия. Только в ней слились воедино два потока моих интересов. Здесь было эмпирическое поле, общее для биологических и духовных фактов, которое я искал повсюду и нигде не находил. Здесь же коллизия природы и духа стала реальностью».
Юнг принял решение специализироваться в области психиатрии. Надо отметить, что это решение было довольно смелым, поскольку психиатрия в ту пору считалась наименее престижной областью медицины.
В 1900 г. после окончания университета Юнг переехал в Цюрих. С тех пор Цюрих стал его постоянным домом. Юнг получил место второго ассистента в клинике Бургхёльци, руководимой Э.Блейлером, о котором Юнг всю жизнь вспоминал с благодарностью как о первом из своих учителей. Вторым он считал Пьера Жане, у которого обучался в парижской клинике Сальпетриер в течение зимнего семестра 1902–1903 гг.
Среди прочих интересов Юнга немалое место занимал оккультизм. Еще в детстве он обращал внимание на некоторые загадочные явления и стремился понять их природу. Стимулировала его интерес и распространившаяся в ту пору мода на всевозможные спиритические опыта, проводимые медиумами. Медиумом была и дальняя родственница Юнга, малограмотная деревенская девушка, которая умела впадать в транс и которую трудно было заподозрить в шарлатанстве. Кстати, со временем ее паранормальные способности стали угасать, и она принялась компенсировать их утрату театральными эффектами. После этого интерес Юнга к ней сразу пропал. Но ряд предшествующих опытов произвел на него сильное впечатление. Под руководством Блейлера он подготовил диссертацию «О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов» (1902). Эта работа по сей день сохранила определенное научное значение. В ней Юнг дает психологический анализ медиумического транса в сопоставлении с помраченными состояниями сознания.
Юнг с молодой женой Эммой (1903)
В 1903 г. Юнг женился на двадцатилетней Эмме Раушенбах, которой было суждено стать матерью четырех его дочерей и сына и оставаться до самой смерти (умерла она в 1955 г.) его ближайшим помощником. В 1906 г. молодая семья переехала в собственный дом в местечке Кюснахт, близ Цюриха. Годом раньше Юнг становится главным врачом в клинике и начинает преподавательскую деятельность в Цюрихском университете. Практикуя в качестве психиатра, он занимался главным образом гипнотическим лечением сомнамбулизма, истерии и т. п. А благодаря одному чудесному исцелению, которое однажды имело место в его лекционном классе, его практика значительно расширилась и упрочилась.
Однажды в присутствии нескольких студентов Юнг намеревался гипнотизировать женщину, которая в течение 17 лет страдала тяжелым параличом ноги. Едва он сообщил ей об этом намерении, она без всякого гипноза впала в транс и принялась с живостью описывать встававшие перед ней видения. Это продолжалось довольно долго, причем Юнг ощущал все возраставшую неловкость от своей непонятной роли в этой ситуации. Наконец ему удалось разбудить пациентку. Каково же было удивление всех собравшихся, когда дама с возгласом «Я исцелилась!» покинула комнату, отбросив костыли. Впоследствии с ее слов пошла молва о «кудеснике Юнге».
В научных кругах известность Юнгу принес разработанный им словесно-ассоциативный тест, позволявший выявлять содержание бессознательного. В лаборатории экспериментальной психологии, созданной Юнгом в Бургхёльци, испытуемому предлагался список слов, на которые требовалось тут же реагировать первым приходящим на ум словом. Время реакции фиксировалось с помощью секундомера. Затем тест был усложнен – с помощью различных приборов отмечались физиологические реакции испытуемого на различные слова-стимулы. (Впоследствии этот метод, модифицированный А.Р. Лурией для целей криминалистической экспертизы, послужил основой создания так называемого детектора лжи.) Любая необычная задержка между стимулом и реакцией интерпретировалась как индикатор эмоционального напряжения, каким-то образом связанного со словом-стимулом. Из этого Юнг сделал вывод о том, что такие нарушения в реагировании связаны с наличием заряженных психической энергией «комплексов». Немалое значение имела и интерпретация психологического смысла возникающих в тесте ассоциаций. Этим искусством Юнг овладел в совершенстве.
Важной вехой в научной биографии Юнга явилась встреча с З.Фрейдом. Книгу Фрейда «Толкование сновидений» он прочитал в год ее выхода (1900) по совету Блейлера, но в ту пору еще не оценил ее по достоинству. Вернувшись к ней 3 года спустя, Юнг понял, что в ней содержится лучшее из всех попадавшихся ему объяснений механизма вытеснения, наблюдаемого при проведении ассоциативного теста. Однако фрейдовское толкование сексуальной природы вытеснения сразу вызвало настороженное отношение Юнга, поскольку он в собственной практике встречал случаи, в которых, говоря его словами, «вопрос сексуальности играл подчиненную роль, выдвигая на авансцену другие факторы, такие, например, как проблема социальной адаптации, подавленности трагическими жизненными обстоятельствами, соображения престижа и т. п.»
Юнг вступил в переписку с Фрейдом, отправив ему в 1906 г. собрание своих ранних сочинений под общим названием «Исследования словесных ассоциаций». Фрейд любезно откликнулся, и Юнг отправился посетить его в Вену. Их встреча состоялась в феврале 1907 г., причем первый разговор длился 13 часов почти без перерыва.
В 1907 г. Юнг послал Фрейду еще одну свою работу – только что опубликованную монографию «Психология раннего слабоумия». Ранним слабоумием в то время называли болезнь, которую 4 года спустя Блейлер (несомненно испытавший влияние работы Юнга) предложил называть шизофренией.
Ответ Фрейда содержал новое приглашение приехать в Вену. С этого момента контакты Юнга и Фрейда приобрели характер конструктивного сотрудничества. Их личные отношения также стали весьма доверительными. Фрейд не скрывал от молодого коллеги своих прохладных отношений с женой и гораздо более близких отношений с сестрой жены. Впоследствии он, вероятно, сожалел о своей откровенности. Юнг же считал, что наряду с теоретическими расхождениями немалую роль в их последующем разрыве сыграл факт его осведомленности о любовном треугольнике Фрейда (о котором, впрочем, известно главным образом со слов самого Юнга, так что достоверность этой истории представляется довольно сомнительной).
Фрейд был опытнее Юнга и старше его на 19 лет. Неудивительно, что он испытывал к молодому последователю чувства, родственные отцовским. Впрочем, в психоанализе отношения отца и сына окрашены глубокими противоречиями, что и проявилось в действительности.
В 1909 г. Юнг вместе с Фрейдом, а также еще одним психоаналитиком Ш.Ференци, посетил США, где прочел курс лекций по методу словесных ассоциаций. Университет Кларка в штате Массачусетс, праздновавший свое двадцатилетие, присудил ему вместе с другими почетную степень доктора.
Частная практика Юнга росла день ото дня, и в 1910 г. он оставил свой пост в клинике Бургхёльци. Тогда же, в 1910 г., он по настоянию Фрейда был избран президентом Международной психоаналитической ассоциации. Напутствуя его, Фрейд говорил: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне никогда не изменять сексуальной теории. Это важнее всего. Вы понимаете, мы должны сделать из нее догмат, несокрушимый бастион».
«Прежде всего, – комментирует Юнг этот эпизод, – меня смутили слова «бастион» и «догмат», ибо утверждение догмата, или, иными словами, не подлежащего обсуждению символа веры, преследует цель подавить какое бы то ни было сомнение раз и навсегда. Но к научным суждениям это уже не имеет никакого отношения; речь идет лишь о силе личного авторитета». Далее Юнг говорит: «Для нашей дружбы это был удар в самое сердце. Я знал, что не смогу согласиться с подобным подходом».
Следовать напутствию Фрейда и отстаивать пансексуализм психоанализа Юнг не намеревался. Его изыскания уже приняли иное направление. Напряженность в отношениях, поначалу неявная, неизбежно должна была обернуться разрывом.
Раньше других почувствовав угрозу, Эмма Юнг тайком от мужа писала Фрейду 6 ноября 1911 г.: «Не думайте о Карле с отцовским чувством: «Он вырастет, и я должен буду уйти», думайте о нем как о человеке. Который, как и Вы, должен исполнить собственную волю».
Основание для разрыва фактически послужила книга Юнга «Метаморфозы и символы либидо», увидевшая свет в 1912 г. (окончательный вариант названия: «Символы трансформации», 1952). В ней Юнг по сути отверг одностороннюю трактовку либидо как сексуального влечения и предложил собственное, более расширенное толкование.
Фрейд расценил эту книгу как измену психоанализу. Отношения коллег обострились настолько, что не хватало только повода для разрыва. И повод не замедлил найтись. В июне 1912 г. Фрейд, находясь в Крейцлингене, неподалеку от Цюриха, не нанес визита Юнгу. Это событие, вошедшее в историю как «крейцлингенский жест», послужило Юнгу поводом для ссоры. Не разубедило его даже письмо Фрейда, в котором тот исчерпывающе объяснил невозможность приехать к Юнгу (он спешил навестить Л.Бинсвангера, только что перенесшего операцию). В начале января 1913 г. Юнг и Фрейд обменялись последними письмами, декларировав разрыв своих отношений.
Это событие явилось для Юнга глубокой личной драмой. Он находился в состоянии духовного кризиса, близкого к расстройству. «Он не только слышал неведомые голоса, играл как ребенок или бродил по саду с нескончаемыми разговорами с воображаемым собеседником, – отмечает один из его биографов, – но и серьезно верил, что его дом населен приведениями».
В момент расставания с Фрейдом Юнгу исполнилось 38 лет – середина жизни, поворотный пункт в личностном развитии. Этот возрастной этап сам Юнг впоследствии определил как «кризис середины жизни». Но именно этот критический период совпал с рождением его основных идей, вошедших в историю науки под именем аналитической психологии.
Расцвет творчества Юнга приходится на годы с начала Первой и до конца Второй мировой войны. Осенью 1913 г. его потрясли и глубоко встревожили не раз повторявшиеся у него ужасные видения утопающей в крови Европы. В августе следующего года разразилась мировая война, словно явившая собой категорическое отрицание рациональных оснований культуры и цивилизации. Пребывая на чудом сохранившемся островке мирной жизни, Юнг поставил перед собой задачу как можно глубже исследовать духовную историю человека, чтобы выявить и преодолеть то, что толкает его к иррациональному саморазрушению.
Плоды юнговских размышлений увидели свет в 1921 г. в монументальном труде под названием «Психологические типы или психология индивидуации». Объем этой книги превышал 700 страниц, из которых первые 470 представляли собой широчайшую панораму философской мысли – западной и восточной, древней и современной. Оставшиеся 240 страниц занимало изложение собственной концепции Юнга. Следует отметить, что его последующие изыскания встречали в научных кругах неоднозначные оценки, однако концепция психологических типов была признана широко и принесла Юнгу еще большую известность, чем прежде.
В качестве главного фактора дифференциации психологических типов Юнг выделил четыре функции сознания – мышление, чувствование, ощущение и интуицию. Каждая функция может осуществляться интровертивно или экстравертивно. Среди прочих введенных Юнгом понятий интроверсия и экстраверсия получили наибольшее распространение.
Юнг полагал, что каждый индивидуум может быть охарактеризован как первично ориентированный на внутреннее или на внешнее. Энергия интровертов более естественно направляется к внутреннему миру, энергия экстравертов – к внешнему.
Согласно Юнгу, никто не является чистым интровертом или экстравертом. Юнг сравнивал эти два процесса с работой сердца – ритмической сменой в цикле сжатия (интроверсия) и расширения (экстраверсия). Однако каждый индивидуум более склонен к одной из этих ориентаций и действует преимущественно в ее рамках.
Концепция экстраверсии-интроверсии была впоследствии развита Г.Ю. Айзенком, который выделил этот параметр (наряду с эмоциональной устойчивостью) в качестве главного измерения личности, определяющего содержание всех ее свойств. В интерпретации Айзенка эти понятия по сей день широко используются в психологии личности.
Взгляды Юнга на природу психической жизни стали складываться еще в полемике с фрейдистской трактовкой либидо. Юнг дал собственную – энергетическую – трактовку либидо как потока витально-психической энергии. Все феномены сознательной и бессознательной жизни человека он рассматривал как различные проявления единой энергии либидо. Неврозы и другие расстройства оказываются результатом регрессии либидо, способности поворачиваться вспять под влиянием непреодолимых жизненных препятствий. Такое оборачивание либидо приводит к репродукции в сознании больного архаических образов и переживаний, которые представляют собой первичные формы адаптации человека к окружающему миру. Под этим углом зрения Юнг радикально переосмыслил фрейдовскую концепцию природы бессознательного. С его точки зрения, бессознательное включает в себя не только субъективное и индивидуальное, вытесненное за порог сознания, но прежде всего коллективное и безличное психическое содержание, уходящее корнями в глубокую древность. «Бессознательное никоим образом не является пустым мешком, где собираются отбросы сознания… это целая вторая половина души». Эмпирической базой введения идеи «коллективного бессознательного» была установленная Юнгом в его психиатрической практике схожесть между мифологическими мотивами древности, образами сновидений у нормальных людей и фантазиями душевнобольных. Эти образы – носители коллективного бессознательного – Юнг назвал архетипами. При том, что Юнг описывал архетипы весьма разнообразно, все его трактовки имеют нечто общее: фундаментальные образы-символы принципиально противостоят сознанию, их нельзя дискурсивно осмыслить и адекватно выразить в языке. Единственное, что доступно психологической науке, – это описание, толкование и некоторая типизация архетипов, чему и посвящена значительная часть сочинений Юнга. Символические толкования Юнга не всегда отвечали требованиям научной рациональности. Осознавая это, он был склонен подчеркивать близость методов аналитической психологии методам искусства, а иногда прямо заявлял об открытом им новом типе научной рациональности.
Интерес к фундаментальным психологическим процессам привел Юнга к изучению древних западных традиций алхимии и гностицизма, а также к исследованию неевропейских культур. В 1924–1925 гг. он долгое время жил среди индейцев пуэбло в штате Нью-Мексико, в 1926 г. предпринял экспедицию в Кению к племени элгонов, в 1937 г. – путешествие в Индию.
В 1944 г. в возрасте 69 лет Юнг перенес сильный сердечный приступ. В больнице он пережил знаменательное видение: летя в пространстве на огромной высоте над землей, он ступил на скалу, которая тоже летела. В этой огромной скале был выдолблен замок. Восходя по ступеням, которые вели ко входу в замок, Бнг почувствовал, что все осталось позади; все, что осталось от его земного существования, это лишь его опыт, история его жизни. Он увидел свою жизнь как часть значительной исторической матрицы, которую он не сознавал раньше. Прежде, чем он вошел в замок, перед ним возник его врач, который сказал, что еще не настало время покидать землю. На этом видение прекратилось.
В течение нескольких недель после этого Юнг постепенно выздоравливал. Днем он был слаб и подавлен. А ночью просыпался около полуночи, переживая глубокий экстаз, чувствуя, что он плывет в благословенном мире. Могущественное видение длилось около часа. После чего он снова засыпал.
После выздоровления для Юнга настал высокопродуктивный творческий период, когда он написал многие из своих наиболее значительных работ. Его видения дали ему смелость сформулировать наиболее оригинальные идеи. Этот опыт также изменил его мировоззрение, приведя к глубоко положительному отношению к своей судьбе.
В последние десятилетия жизни Юнга в его распоряжении оказался уникальный лекционный зал под открытым небом близ Лаго Маджоре. Начиная с 1933 г. сюда ежегодно со всего мира съезжались целые созвездия ученых, чтобы выступить с докладами и принять участие в дискуссиях по разнообразным вопросам, созвучным юнговской мысли. Это были собрания общества «Эранос», проходившие в поместье его основательницы Ольги Фройбе-Каптейн. Многие наиболее важные работы, относящиеся к последним годам его жизни, впервые были представлены научному сообществу именно на этих собраниях.
Карл Густав Юнг скончался после непродолжительной болезни в своем доме в Кюснахте 6 июня 1961 года.
…Моя задача выполнена, моя работа завершена, и теперь можно остановиться.
Р. Йеркс (1876–1956)
В истории психологии Роберт Йеркс – фигура яркая и примечательная. Достаточно сказать, что это единственный американский психолог, чей образ увековечен в бронзе в Восточном полушарии, причем именно в России – бюст Йеркса работы В.А. Ватагина украшает один из московских музеев. Однако современным российским психологам он если и известен, то лишь как соавтор знаменитого закона Йеркса-Додсона. При этом мало кто знает, что закон оптимума мотивации был первоначально открыт Йерксом в опытах на мышах и лишь впоследствии удалось установить, что он распространяется и на человека (в чем Йеркс, склонный к смелым аналогиям, с самого начала не сомневался). Аналогично, механизмы сексуального поведения человека Йеркс изучал на шимпанзе. Сын своего времени, он был прагматиком и реалистом, порой – сверх меры. Некоторые его открытия стали хрестоматийными, иные еще при его жизни вызывали иронию. Но так или иначе, это был действительно крупный психолог, которого наверняка будут цитировать и в ХХI веке.
Роберт Мирнс Йеркс родился 26 мая 1876 г. в городке Брэдисвилл, шт. Пенсильвания, в семье фермера. Его отец, Смайлс Маршалл Йеркс, был человеком простым, бесхитростным и грубоватым и не видел для своих трех сыновей (Роберт был старшим) иного жизненного пути, кроме традиционного для семьи фермерства. Детство Роберт провел среди овец, коров, гусей и коз, чем в ту пору нимало не тяготился, напротив, впоследствии вспоминал: «Ферма дала мне образование, которого не могла дать школа». Еще тогда, в детские годы, зародился его интерес к поведению животных, определивший направление его зоопсихологических исследований. По-русски Йеркса можно было бы в буквальном смысле назвать ученым «от сохи». Впрочем, соху он забросил довольно рано, вознамерившись получить высшее образование. Отец эту «причуду» не одобрил и отказал сыну в финансовой поддержке. Из-за этого отношения отца и сына, и прежде не очень теплые, надолго испортились. Оплачивать обучение Роберта взялся его дядя, за что юноша должен был убирать дядин дом и чистить конюшню.
Научные интересы Йеркса, первоначально лежавшие в сфере медицины, окончательно оформились и сместились к психологии на завершающем этапе его высшего образования – в Гарвардском университете. Здесь Йеркс в 1898 г. получил степень бакалавра, год спустя – магистра, и стал соискателем докторской степени по психологии. Защитив диссертацию в 1902 г., он получил должность преподавателя в Гарвардском университете, где проработал последующие 15 лет. В эти годы он познакомился с Адой Уоттерсон, которая изучала в Гарварде ботанику. Молодые люди поженились и прожили в браке всю оставшуюся жизнь. Это особенно примечательно на фоне далеко не благонравного поведения многих коллег Йеркса, которые, несмотря на господство в те годы пуританской морали, отнюдь не были ее приверженцами. Йеркс, напротив, был ревнителем семейных ценностей и с гордостью утверждал, что наследует традицию своего рода, в котором на протяжении многих поколений не было ни единого адюльтера или развода. Помимо прочего, Йеркс, в отличие от многих коллег, всю жизнь оставался убежденным трезвенником.
В своем отношении к женщинам он придерживался традиционных, точнее – консервативных представлений. По мнению Йеркса, «женщины по сравнению с мужчинами более глубоко вовлечены в процесс сохранения вида, более тяготеют к сфере домашнего быта». Соответственно, «с самого рождения практика воспитания должна быть приспособлена к полу». Мысль сама по себе здравая, если бы она не выливалась в категорическое игнорирование самой возможности женского участия в общественной деятельности и научном творчестве. Среди учеников и сотрудников Йеркса не было ни одной женщины. Психолог Элеонора Гибсон, изъявившая желание с ним сотрудничать, была шокирована резкой отповедью: «В моей лаборатории женщинам делать нечего». (Интересно, что бы сказал мэтр, случись ему побывать на современном факультете психологии, где – и в Америке, и в России – на одного студента приходится полсотни студенток?)
Первая крупная публикация Йеркса – книга с экзотическим названием «Танцующая мышь» – увидела свет в 1907 г. Она была посвящена наблюдениям и экспериментам над поведением мышей и фактически стала первой в мировой науке книгой по зоопсихологии. Однако самые впечатляющие результаты, которые удалось получить в опытах над хвостатыми испытуемыми, были опубликованы год спустя в «Журнале сравнительной неврологии и психологии». Йерксом совместно с Дж. Д.Додсоном был поставлен сравнительно несложный опыт, который продемонстрировал зависимость продуктивности выполняемой деятельности от уровня мотивации. Выявленная закономерность получила название закона Йеркса-Додсона, многократно экспериментально подтверждена и признана одним из немногих объективных, бесспорных психологических феноменов.
Законов фактически два. Суть первого состоит в следующем. По мере увеличения интенсивности мотивации качество деятельности изменяется по колоколообразной кривой: сначала повышается, затем, после перехода через точку наиболее высоких показателей успешности, постепенно снижается. Уровень мотивации, при котором деятельность выполняется максимально успешно, называется оптимумом мотивации.
Согласно второму закону Йеркса-Додсона, чем сложнее для субъекта выполняемая деятельность, тем более низкий уровень мотивации является для нее оптимальным.
Сам Йеркс всегда тяготел антропоморфизму, не проводил принципиальных различий между поведением животных и людей, легко усматривал аналогии, далеко не бесспорные. Иногда это звучало наивно, однако в отношении открытого им закона оказалось абсолютно справедливо. Эксперимент, повторенный на людях, продемонстрировал аналогичные результаты. В качестве экспериментального материала выступали задачи-головоломки, в качестве мотивирующего стимула – денежное вознаграждение (сумма награды за правильное решение, поначалу ничтожная, постепенно возрастала до весьма значительной). И вот что обнаружилось. За чисто символический выигрыш люди работали «спустя рукава», и результаты были невысокими. По мере возрастания награды рос и энтузиазм; соответственно улучшались и результаты. Однако в определенный момент, когда выигрыш достиг немалой величины, энтузиазм перерос в ажиотаж, и результаты деятельности стали снижаться. С этого момента, чем выше становилась награда, тем меньше оказывалась реальная возможность ее получить: все помыслы человека сосредоточивались на вожделенной сумме, что мешало интеллектуальной деятельности по решению задач. Таким образом выяснилось, что слабая мотивация недостаточна для успеха, но и избыточная вреда, поскольку порождает ненужное возбуждение и суетливость.
Похоже, авторы популярных самоучителей жизненного успеха плохо знакомы с психологией. Выдвигаемый ими лозунг «Сосредоточить всего себя на желанной цели» – не совсем точен. Цель, безусловно, нужно перед собой иметь, к ней нужно стремиться. Но при этом нельзя забывать, что одержимость целью может оказать и скверную услугу. Согласно закону Йеркса-Додсона, для достижения успеха необходим оптимальный (а проще говоря – умеренный, средний) уровень мотивации, избыток здесь столь же плох, как и недостаток.
Эксперименты Йеркса принесли ему широкую известность и признание коллег. Эксперименты над животными приобретали все большую популярность. В те же годы свои знаменитые опыты ставил Э. Торндайк, а также Дж. Уотсон. С последним Йеркс несколько лет плодотворно сотрудничал (им принадлежит несколько совместных публикаций), однако потом разошелся на почве теоретических разногласий.
В то же время все возрастающее влияние на мировую психологию оказывало учение И.П. Павлова. Уже первые сведения о нем, дошедшие до западных психологов, получили широкий резонанс. На VI Международном психологическом конгрессе в Женеве (1909) прозвучало имя Павлова. Оно называлось неоднократно, однако не русскими участниками конгресса (они составляли небольшую группу во главе с Г.И. Челпановым), а американцами, в первую очередь – Йерксом. Открытие условного рефлекса американские психологи восприняли как революцию в изучении поведения. В докладе Йеркса «Научный метод в психологии животных» высказывалась уверенность, что новые научные устремления, среди выразителей которых первым назывался Павлов, позволят дать объективный анализ поведения. В том же году Йеркс совместно со своим русским студентом С. Маргулисом опубликовал в «Психологическом бюллетене» сводку работ павловской лаборатории, познакомившую западного читателя с учением об условных рефлексах. Это сыграло важную роль в разработке объективных методов в американской психологии. (Были, оказывается, времена, когда наша наука выступала не свалкой заморского мусора, а источником вдохновения для американских коллег!)
В 1911 г. Йеркс, уже признанный к тому времени специалист, опубликовал свой учебник психологии, не снискавший, впрочем, особой популярности. В 1913 г. он начал сотрудничать с отделением психопатологии Бостонской центральной больницы. Здесь он принял участие в разработке тестов умственных способностей в скоро выдвинулся в ряды ведущих специалистов и в этой области. Признанием его научных заслуг стало избрание в 1916 г. президентом Американской Психологической Ассоциации. Для ученого, пребывавшего в Гарварде в должности доцента, это было очень почетно. Однако, несмотря на широкое признание научной общественности, гарвардская администрация не удостоила Йеркса повышения в должности. Обидевшись, он в 1917 г. оставил Гарвард.
Впрочем, ему было чем заняться. По поручению правительства США он возглавил комитет, в задачи которого входила разработка надежных методов психологического тестирования новобранцев (в те годы необходимость психологического отбора в ходе широкомасштабных военных действий стала особенно очевидна). Под его руководством были созданы так называемые армейские тесты Альфа и Бета, предназначенные для диагностики интеллектуальных способностей. Тесты были апробированы на почти полутора миллионах военнослужащих. Практического значения это уже не имело, поскольку мировая война завершилась, однако позволило сделать многие важные выводы, касающиеся как природы интеллекта, так и механизмов его измерения. По сей день Йеркса называют одним из пионеров психологического тестирования, хотя эта работа была для него временной и носила откровенно прикладной характер. Его интересы лежали совсем в другой сфере.
По окончании войны Йеркс некоторое время работал в Вашингтоне в должности администратора Национального научно-исследовательского совета. Именно в этот период он завязал контакты, которые сыграют важную роль в исполнении его давнего желания – создать лабораторию по изучению приматов. Эта мечта, по признанию самого Йеркса, зародилась у него еще в студенческие годы. Несколькими годами позже он опубликовал свой научный план и работал над его реализацией в течение ряда лет, по возможности проводя исследования приматов в самых разных местах. В 1911 г. он купил в штате Нью-Гемпшир ферму, которая несколько лет одновременно служила ему дачей и научной лабораторией. Незадолго до начала I мировой войны он запланировал совместные с В. Кёлером исследования на острове Тенерифе, но война помешала этим планам осуществиться. Вместо этого Йеркс в 1914–1915 гг. изучал поведение приматов в частном поместье в Калифорнии. Результаты этой работы обобщены в двух книгах, написанных совместно с женой (характерно название одной из них – «Почти люди»).
Всецело осуществить свою давнюю мечту Йерксу удалось лишь в 1929 г., когда им на средства Фонда Рокфеллера (полмиллиона долларов!) была основана «Экспериментальная станция по исследованию антропоидов» во Флориде. После ухода Йеркса на пенсию с поста директора в 1941 г. эта лаборатория была названа его именем. Ныне она находится в г. Атланта, шт. Джорджия. Здесь проходят стажировку многие ученые, специализирующиеся в области сравнительной психологии.
В последние годы жизни Йеркс работал над автобиографией, которую назвал «Путь в науке, или Завещание». Опубликовать ее ему и в Америке стоило большого труда, а выход ее на русском языке в наше время суеверий и идолопоклонства и вовсе представляется маловероятным. Тем не менее, вчитаемся повнимательнее хотя бы в те несколько строк, которыми Йеркс завершает свое «Завещание».
Я верю:
В знание естественного порядка как основу человеческой жизни.
В сверхъестественное – душу, дух, абсолют – как возможное.
В религиозный опыт как осознание сверхличностного влияния.
В ответственность человека за свою жизнь, но не за вечность, судьбу, бессмертие.
В обязанность человека стремиться гарантировать каждому неотъемлемое право на достойное рождение и воспитание.
В достоинство человека и его способность к совершенствованию, поскольку он является частью естественного порядка.
В поклонение идеалу человека, а не божества, и человечности, а не святости.
В полезность посредством оказания помощи другому человеку.
В естественное происхождение совести, морали и правил человеческого поведения.
В приоритет жизни над смертью, усилий над молитвой, знаний над верой и разума над стремлением принять желаемое за действительное.
Л.М. Термен (1877–1956)
В ходе обострившихся в последние годы дискуссий о природе интеллекта и возможностях его измерения часто упоминается имя американского психолога Л.М. Термена – одного из пионеров исследований в этой области. При том, что современные психологи знают о Термене очень мало, ссылки на его труды как правило поверхностны, а нередко и недостаточно точны. Например, ему порой приписывается введение в научный обиход понятия IQ, что небезосновательно, но не совсем верно. Сторонники широкого понимания интеллекта нередко упрекают Термена за попытку сузить это явление, формализовать до крайности его измерение. Критика тестов IQ часто обращается персонально на их создателя.
В полемике о природе ума вряд ли когда-нибудь будет поставлена точка. И любому современному психологу приходится вольно или невольно, прямо или косвенно в ней участвовать, солидаризируясь с той или иной позицией. И дабы делать это взвешенно и осознанно, полезно подробнее разобраться во взглядах одного из пионеров интеллектуальной диагностики, в истории их становления, в их предпосылках и практических приложениях.
Льюис Медисон Термен принадлежит к тому поколению американский психологов, которое сформировалась на заре ХХ века и во многом испытало влияние европейской науки. В первой половине века Термен входил в круг самых влиятельных американских ученых, в 1923 г. возглавил Американскую Психологическую Ассоциацию. Его краткая научная биография была включена в справочник «Американские ученые мужи» (American Men of Science) наряду с биографиями еще тысячи выдающихся представителей всех областей науки. В силу своих научных интересов обостренно внимательный к биографическим подробностям, сам Термен обратил внимание, что из всей этой тысячи он единственный был выходцем из семьи, насчитывавшей более дюжины детей.
Он родился 15 января 1877 г. в семье небогатого фермера. У своих родителей он был двенадцатым из 14 детей. Вспоминая современную гипотезу о неуклонном снижении интеллекта по мере порядка рождения, следует признать, что пример Термена служит ее ярким, хотя и исключительным, опровержением. В школу он поступил в шестилетнем возрасте и уже через полгода был переведен сразу в третий класс. Правда, о переводе в буквальном смысле речь не шла – школа была малокомплектная, «однокомнатная». Но судя по всему – весьма неплохая. Эта была единственная провинциальная школа такого рода, из выпускников которой двое впоследствии оказались включены в почетное собрание «Американские ученые мужи».
Биографические источники расходятся в указании места его рождения, приводя разные географические названия, не каждое из которых и на карте-то найдешь. Одно из них – название, которое его отец присвоил своему скромному «поместью», другое – название округа, где ферма находилось; называют даже город Индианаполис, хотя до него от фермы надо было ехать 17 миль. Одним словом, глубинка. И жизненный путь крестьянского сына с большой вероятностью обещал повторение пути нескольких поколений его предков. Но самого Термена такая перспектива не устроила. Он вознамерился получить образование, избрав самый доступный для себя вариант – учительский колледж. Тем же путем последовал один из его братьев и двое сестер, хотя во всех случаях их побуждала не столько склонность к педагогическому ремеслу, сколько стремление вырваться из фермерской рутины.
На педагогической стезе Термен пробыл недолго, некоторое время проучительствовав в школе наподобие той, которую заканчивал сам. Но его амбиции простирались дальше. В 1902 г. он окончил Университет штата Индиана, а в 1905 г. получил докторскую степень в Университете Кларка.
В знаменитый Университет Кларка Термена привел сильный интерес к трудам Стэнли Холла, занимавшего в ту пору пост президента Университета и декана педагогического факультета.
Психологией Термен заинтересовался еще в студенческие годы, ознакомившись со многими доступными в ту пору психологическими трудами, в первую очередь европейскими. С большим интересом он прочитал переведенные на английский работы А.Бине. Позднее он напишет: «Моим любимым психологом является Бине – и не столько благодаря созданному им тесту, который фактически был побочным продуктом его обширной научной деятельности, сколько благодаря оригинальности его прозрений, открытости ума и редкому личному обаянию, пронизывающему все его труды».
Однако в оформлении научных интересов решающим фактором стали события его личной жизни. В 1899 г., еще будучи студентом, он женился; менее чем через год в семье родился ребенок. Нежная отцовская любовь, помноженная на познавательный интерес начинающего ученого, побудили Термена к углубленному изучению проблем психического развития.
В центре научных интересов Термена стояла проблема, привлекшая широкое внимание благодаря нашумевшей книге Ф.Гальтона «Наследственный гений», в которой выдающийся англичанин весьма убедительно доказывал врожденную природу умственных способностей. Фигура Гальтона также стала для Термена культовой. Под его влиянием он увлекся изучением творческих биографий выдающихся личностей, пытаясь в каждом конкретном случае с первых шагов жизненного пути проследить признаки особой одаренности. Кстати, изучив биографию Гальтона, Термен пришел к выводу, что его IQ приближался к 200, свидетельства чему можно найти еще в продуктах детского творчества английского ученого.
Проблеме человеческого ума была посвящена и докторская диссертация Термена, бесхитростно озаглавленная «Одаренность и глупость». По современным меркам это было исследование довольно скромного масштаба – испытуемыми в нем выступали 14 мальчиков, отобранных по критериям школьной успеваемости, – 7 отличников и 7 отстающих. Термена интересовали сравнительные особенности их мыслительных процессов, которые он пытался оценить с помощью разнообразных приемов. К последним относились традиционные задачи на логическое мышление, математические задачи, задания на творческое воображение, проверка памяти, моторные испытания, оценка навыков чтения.
Ознакомившись с аналогичной работой Бине, Термен пришел к самокритичному заключению о том, что французский коллега его значительно обогнал в данном направлении, создав гораздо более надежный и исчерпывающий метод испытания умственной одаренности. Последующие усилия Термена были сосредоточены на адаптации французской шкалы к американской выборке. Эта работа была им проделана уже в Стэфордском университете, куда он поступил на работу в 1910 г. и где проработал вплоть до своей отставки в 1942 г., последние 20 лет возглавляя факультет психологии.
Разработанная им шкала получила название Стэнфорд-Бине (название «шкала Бине-Термена» отчего-то не прижилось). По сравнению с европейским прообразом, она явилась не простой адаптацией, а принципиальным шагом вперед. Позаимствовав у В.Штерна понятие IQ, Термен выстроил психодиагностическую процедуру таким образом, чтобы в каждом индивидуальном случае вычислялся именно этот количественный показатель. Правда, с точки зрения Бине, это скорее было шагом назад, поскольку идею сведения ума к единому численному показателю он не одобрял. Но возразить против американского новшества он уже не мог – Стэнфордская шкала увидела свет в 1916 г., когда Бине уже 5 лет не было в живых.
До наших дней шкала Стэнфорд-Бине (с момента создания неоднократно модифицированная – самим Терменом, а после его смерти его последователями) остается самым авторитетным и популярным инструментом диагностики интеллекта. Иное дело, что в наш политкорректный век результаты ее использования далеко не всех могут порадовать, а потому подвергаются массированной критике. Но адресовать эти упреки Термену не более разумно, чем в горячечном бреду упрекать изобретателя градусника. Или, скажем, когда в кармане пусто, в этом вряд ли виноват счетчик купюр, а тем более его изобретатель.
Изобретение блестящего измерительного инструмента принесло Термену всемирную славу, затмившую прочие его достижения – не менее примечательные. Естественно, в силу характера своей научной деятельности Термен оказался вовлечен в дискуссию о происхождении и природе ума (разгоревшуюся, заметим, отнюдь не вчера). В этой полемике Термен последовательно отстаивал гальтоновскую позицию, то есть идею врожденного и практически неизменного характера умственных способностей. Он полагал, что способности проявляются очень рано и могут быть вполне достоверно измерены. Более того, полученные таким образом данные позволяют надежно предсказать будущие жизненные успехи того или иного ребенка.
Для проверки этой гипотезы им было организовано масштабное лонгитюдное исследование, завершившееся лишь после его смерти. Дети, чья высокая одаренность была засвидетельствована тестами в школьном возрасте, изучались на предмет их последующих жизненных достижений. Помимо этого исследовательскую группу Термена интересовал и широкий круг вопросов, косвенно связанных с проявлениями одаренности. Например, удалось убедительно опровергнуть расхожий миф о школьных отличниках как о «ботаниках» не от мира сего, хилых, нелюдимых и беспомощных в практической жизни.
В целом гипотеза Термена в ходе многолетнего исследования нашла убедительное подтверждение. Сегодня этот факт принято замалчивать, акцентируя внимание на том, что «умники» далеко не всегда добиваются жизненного успеха и, напротив, люди с невысоким IQ порой достигают высот в бизнесе, политике, общественной жизни. Но разве это противоречит исходной гипотезе? Действительно, в ряде случаев одного интеллекта, измеряемого тестами IQ, оказывается для успеха недостаточно. А в иных сферах общественной жизни он даже противопоказан – среднестатистический обыватель «умников» недолюбливает. Но, к счастью, до окончательной дискредитации интеллекта дело не дошло. Ибо, как справедливо заметил академик Аганбегян, «светлую голову ничем заменить нельзя»!
Л.М. Термен умер 21 декабря 1956 г. в своем калифорнийском доме, через 14 лет после выхода на пенсию. И сегодня, в ХХI веке в научных работах, касающихся проблем интеллекта, на него постоянно ссылаются – правда, преимущественно критически. Нет бы поблагодарить за то, какой замечательный повод им дан для нескончаемой полемики!
Дж. Б. Уотсон (1878–1958)
Имя Джона Уотсона в нашей стране, как говорится, широко известно в узких кругах. Выдающийся ученый ХХ века, сыгравший исключительную роль в становлении наук о человеке, лаконично упоминается в нескольких историко-научных трудах, известных лишь немногим профессионалам-психологам. Его книги, переведенные на русский язык много лет назад, пылятся невостребованными на полках научных библиотек. Наверное, сегодня следует восполнить этот пробел в нашей эрудиции и подробно рассмотреть научную биографию этого ученого. Тем более, что это небезынтересно и в практическом плане.
Джон Бродес Уотсон родился 9 января 1878 г. в городке Гринвилл, штат Южная Каролина. Его мать была строгой и религиозной женщиной, отец – напротив, человеком несерьезным и неверующим. Старший Уотсон много пил и увлекался другими женщинами. Кончилось тем, что, когда Джону было 13 лет, отец покинул семью. Через много лет, когда Джон Уотсон стал человеком известным и состоятельным, отец объявился, чтобы напомнить о себе. Сын выставил его вон.
По слухам, которые не опровергал и сам Уотсон, он в детстве и ранней юности не отличался покладистым нравом и склонностью к наукам. В учебе он выполнял ровно столько, сколько требовалось для перехода в следующий класс. Педагоги характеризовали его как нерадивого ученика. Подростком он часто ввязывался в драки и даже заработал два привода в полицию.
Тем не менее в возрасте 16 лет он поступил в баптистский университет Фурмана в Гринвилле, намереваясь стать священником (!), как когда-то обещал матери. В 1900 г. он получил магистерскую степень. Но в том же году скончалась его мать, фактически освободив сына от давнего обета, которым он уже тяготился. Вместо Принстонской теологической семинарии, куда он ранее намеревался поступать, Уотсон отправился в Чикагский университет. В ту пору, по воспоминаниям современников, он был «крайне честолюбивым юношей, озабоченным своим социальным статусом, стремящимся оставить свой след в науке, но совершенно не имеющим понятия о выборе профессии и отчаянно страдавшим от неуверенности из-за недостатка средств и умения вести себя в обществе» (в Чикаго Уотсон появился, имея за душой 50 долларов, и в годы обучения брался ради заработка за любую работу, побывав и официантом, и уборщиком).
В Чикагском университете в ту пору сформировалась оригинальная научная школа во главе с Джоном Дьюи и Джеймсом Энджелом. Дьюи, крупнейший американский философ, более известен у нас как теоретик школьного дела, поскольку именно интерес к проблемам народного образования привел его в 20-е годы в Советскую Россию. (Позитивные отзывы о молодой советской педагогике не спасли, однако, американского гостя от последующей жесткой критики со стороны идеологически «подкованных» теоретиков советской школы). мало кому известно, что Дьюи являлся и крупным психологом; им, в частности, написан первый в США учебник психологии. Но не эта книга определила его роль в мировой психологической науке, а небольшая статья «Понятие о рефлекторном акте в психологии» (1896). До той поры главным исследовательским методов психологии являлась интроспекция – изощренное самонаблюдение немногочисленных экспертов, стремившихся выявить содержание состояний сознания. С чисто американским прагматизмом Дьюи призвал сменить цели и методы психологии: в центре внимания должно стоять не содержание, но акт, не состояние, но функция.
Ознакомившись с трудами Дьюи и Энджела, Уотсон увлекся психологией и занялся ее изучением. В 1903 г. он окончил университет, получив докторскую степень и став таким образом самым молодым доктором Чикагского университета. В том же году, чуть позже, он женился на своей студентке, девятнадцатилетней Мэри Икес. Однажды в качестве экзаменационной работы Мэри представила Уотсону длинное любовное послание в стихах. Неизвестно, какую оценку она получила на том экзамене, но своего она добилась. Правда, обаятельный преподаватель нравился не только ей, более того – многим молодым особам отвечал взаимностью, заводя бесчисленные интрижки. Терпения жены хватило на 16 лет.
Уотсон работал в Чикаго до 1908 г. в качестве преподавателя и ассистента Энджела. Здесь он опубликовал свой первый заметный научный труд, посвященный поведению белых крыс (дрессировкой крыс он увлекался еще в юности). «Я никогда не хотел проводить опыты на людях, – писал Уотсон. – Мне самому всегда претило быть подопытным. Мне никогда не нравились тупые, искусственные инструкции, которые даются испытуемым. В таких случаях я всегда ощущал неловкость и действовал неестественно. Зато работая с животными, я чувствовал себя в своей тарелке. Изучая животных, я стоял обеими ногами на земле. Постепенно у меня сформировалась мысль о том, что, наблюдая за поведением животных, я смогу выяснить все то, что другие ученые открывают, используя подопытных людей».
Воспитанный в недрах Чикагской школы, Уотсон крепко впитал недоверие к интроспективной психологии и, следуя идеям прагматизма, наметил свой собственный путь в науке, на котором возможно было бы преобразование психологии в достаточно точную и практически полезную отрасль знания.
В 1908–1920 гг. Уотсон возглавлял лабораторию, а затем – кафедру экспериментальной сравнительной психологии в университете Дж. Хопкинса в Балтиморе, где широкий размах приобрели исследования поведения животных. Кстати, именно тот факт, что феномены поведения животных послужили Уотсону основой общепсихологических обобщений, стал краеугольным камнем критики его идей в советской науке (как будто учение Павлова не выросло из собачьих рефлексов!).
В университете Джонса Хопкинса Уотсон пользовался огромной популярностью среди студентов. Они посвятили ему выпускной альбом и объявили самым красивым профессором, что несомненно является уникальным в истории психологии знаком отличия.
В 1913 г. появилась первая программная работа Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста», которая положила начало целому научному направлению, ставшему на многие годы доминирующим в психологии. В ней автор призвал отказаться от рассуждений о внутреннем мире человека. поскольку тот практически недоступен для наблюдения и изучения. Означало ли это конец психологии как науки о человеке? Вовсе нет. Если нельзя наблюдать «сознание», «переживание», и т. д., и т. п., то вполне возможно и необходимо наблюдать и изучать весь широчайший спектр человеческого поведения. Тем более, что именно поведение и представляет главный практический интерес во всех прикладных аспектах.
Так родился бихевиоризм – наука о поведении. Впоследствии его влияние распространилось на широкий круг наук о человеке – педагогику, социологию, антропологию и др., которые в англоязычной литературе с тех пор называют бихевиоральными (поведенческими) науками.
Центральным понятием новой психологии стало поведение. Которое понималось как совокупность реакций организма на стимулы среды. Согласно идее Уотсона, наблюдая определенную реакцию, мы можем судить о вызвавшем ее стимуле и наоборот, зная характер стимула, можем предвидеть последующую реакцию. А это открывает широкие возможности не только для объяснения человеческих поступков, но и для управления ими. Манипулируя так называемым подкреплением (поощряя желательные реакции и наказывая за нежелательные), можно направлять поведение человека в нужное русло.
Практическое значение идей Уотсона было оценено весьма высоко. В 1915 году он был избран президентом Американской Психологической Ассоциации. Интерес к его деятельности проявился и в России. В 1927 году статья о созданном им научном направлении для первого издания Большой Советской Энциклопедии была заказана лично ему – пример в практике БСЭ исключительный.
Совершенно очевидно, что важнейшим прикладным аспектом бихевиоризма явилась педагогическая практика. Педагогическому воздействию на формирующуюся личность Уотсон придавал исключительное значение. Он писал:
Дайте мне дюжину здоровых младенцев и, создав для них соответствующую воспитательную среду, я гарантирую, что любого из них выращу кем угодно, по выбору – врачом, адвокатом, художником, торговцем или, если угодно, вором или нищим, причем независимо от его способностей, склонностей, призвания или расовой принадлежности его предков.
Даже современникам такая декларация казалась сильным преувеличением. И сегодня, наверное, следует согласиться с такой оценкой. Хотя нельзя не признать, что на протяжении десятилетий отечественная педагогическая мысль исходила из подобной посылки. Долгие годы считалось, что из любого ребенка можно воспитать Спинозу. А если это в большинстве случаев не удается, виной тому – недостаток приложенных воспитателем усилий. Отдельные педагоги, считающие себя большими гуманистами, настаивают на этой точке зрения и поныне. При этом имя одного из главных теоретиков такого подхода, увы, не упоминается.
Что же касается пресловутой дюжины младенцев, то злые языки утверждали, что столько испытуемых Уотсон никогда не имел и все свои теоретические выводы строил на основе опытов над одним-единственным младенцем – внебрачным сыном своей аспирантки Розалии Рейнер. А самые злые языки поговаривали, что отцом этого универсального испытуемого и является сам профессор Уотсон. Так оно и оказалось! Пятнадцать любовных писем Уотсона к Рейнер были перехвачены его женой, более того – с ее согласия опубликованы в газете «Балтимор Сан». Забавно, что даже в этих страстных посланиях легко угадывается позиция бихевиориста. «Каждая клетка моего тела принадлежит тебе, индивидуально и в совокупности… – писал Уотсон. – Моя общая реакция на тебя только положительна. Соответственно положительна и реакция моего сердца».
Шумный бракоразводный процесс, который за этим последовал, скверно сказался на репутации Уотсона, и ему пришлось оставить научную и преподавательскую деятельность. (Сегодня в такое трудно поверить, однако давление общественной морали тех лет, действительно было настолько серьезным.) Несмотря на то, что Уотсон женился на Розалии Рейнер, он так никогда больше не смог получить академической должности – ни один университет не осмеливался пригласить его из-за его репутации.
Следующий шаг Уотсона легко поймет любой современный гуманитарий: вынужденный оставить науку, ученый занялся рекламным бизнесом. В 1921 г. он поступил в рекламное агентство Дж. Уолтера Томпсона на годовой оклад в 25 тысяч долларов, что вчетверо превышало его прежние академические заработки. Работая со свойственной ему энергией и одаренностью, он через три года стал вице-президентом фирмы. В 1936 г. он перешел в другое агентство, где и работал до ухода в отставку в 1945 г.
Приложенные к такой специфической сфере деятельности, как реклама, его идеи об управлении поведением оказались удивительно эффективны. Уотсон настаивал, что рекламные сообщения должны делать акцент не столько на содержании, сколько на форме и стиле, должны стремиться произвести впечатление средствами оригинальных образов. «Для того, чтобы управлять потребителем, необходимо лишь поставить перед ним эмоциональный стимул…» Согласитесь, ведь действует!
После 1920 г. контакты Уотсона с миром науки стали лишь косвенными. Он уделял много времени и сил популяризации своих идей, читал публичные лекции, выступал на радио, печатался в популярных журналах – таких, например, как «Космополитэн». Это, несомненно, способствовало расширению его известности, хотя в научном мире авторитета не прибавляло.
Единственным официальным контактом Уотсона с академической наукой явилась серия лекций, прочитанная им в нью-йоркской Новой школе социальных исследований. Эти лекции послужили основой его будущей книги «Бихевиоризм» (1930), в которой он изложил свою программу оздоровления общества.
В 1928 г. Уотсон совместно с Рейнер опубликовал книгу «Психологический уход за ребенком». Книга была с энтузиазмом воспринята родителями, жаждавшими научных рекомендаций по воспитанию. Хотя характер этих рекомендаций надо признать довольно спорным. В частности, по мнению Уотсона, родителям не следует демонстрировать детям своей привязанности и нежных чувств, дабы не сформировать у них болезненную зависимость. Надо сказать, что двое детей Уотсона от второго брака воспитывались именно по этой модели. Один из них впоследствии покончил с собой, другой долгие годы был пациентом психоаналитиков.
Жизнь Уотсона круто изменилась в 1935 году, когда умерла его жена. Будучи на 20 лет старше ее, он был психологически не готов к такому событию и оказался совершенно сломлен. Он изолировал себя от всяких общественных контактов, стал затворником, уединившись в деревянном фермерском домике, который напоминал ему дом его детства. Он продолжал писать, но уже ничего не публиковал. Содержание этих рукописей не известно никому: незадолго до своей смерти в 1958 году Уотсон сжег все свои записи.
К. Бюлер (1879–1963)
Карл Бюлер, работавший в Вене одновременно с Зигмундом Фрейдом, по признанию современников, пользовался в ту пору (20–30-е годы) гораздо большим общественным влиянием и признанием, чем основатель психоанализа. Ныне его имя известно лишь довольно узкому кругу специалистов – психологов и языковедов. Это, вероятно, объясняется рядом причин. Во-первых, прожив долгую жизнь, Бюлер на закате ее утратил влияние в научных кругах: основные его труды увидели свет до II мировой войны, а впоследствии ему так и не удалось занять положения, соответствующего его довоенному статусу. Во-вторых, будучи ярким и оригинальным мыслителем, он не создал собственной научной школы и сам ни к одной школе не принадлежал; нельзя сказать, чьим последователем он являлся, либо кто явился его последователем. Однако в истории науки он оставил заметный след, а многие его идеи определили облик психологии ХХ века.
Карл Бюлер родился 27 мая 1879 г. в городке Меккесхайм в Бадене, близ Гейдельберга. По окончании средней школы он решил посвятить себя медицине. Медицинское образование он получил в Фрейбургском университете, где в 1903 г. защитил диссертацию на тему «К учению о перенастройке органа зрения». Эта работа была посвящена экспериментальному развитию теории цветового зрения Г. Гельмгольца и явно выходила за рамки медицинской проблематики. В этом проявился интерес Бюлера к психологическим проблемам, определивший впоследствии его окончательный профессиональный выбор. Практика в качестве врача-офтальмолога длилась очень недолго. Уже в 1903 г. Бюлер поступил на философский факультет Страсбургского университета. Итогом его занятий явилась защищенная в 1904 г. докторская диссертация. Она была посвящена английскому мыслителю ХVIII в. Генри Хому, занимавшемуся проблемами психологии восприятия и переживания прекрасного.
Так в анализе различных подходов к психологическим проблемам сложились собственные психологические интересы Бюлера, которые и привели его в Вюрцбургский институт психологии. В 1906 г. Бюлер занял здесь должность ассистента. С этого времени началось его тесное сотрудничество с Освальдом Кюльпе – главой Вюрцбургской психологической школы. Под его руководством Бюлер вместе с рядом известных немецких психологов – Н. Ахом, О. Зельцем, К. Марбе и др. – занимался экспериментальным изучением мышления. Этому и посвящена его первая собственно психологическая работа «Факты и проблемы психологии мыслительных процессов», опубликованная в 1907 г. в виде серии статей. На этом этапе своей научной работы Бюлер солидаризировался с представлениями вюрцбуржцев и считал, что в структуре интеллекта можно выделить три категории элементов: образы, интеллектуальные чувства и собственно мысли, лишенные чувственно-образного характера. Именно такие мысли составляют главный предмет психологического исследования, которое осуществляется методом интроспекции – специально организованного самонаблюдения.
Не следует, однако, относить Бюлера к Вюрцбургской школе. Довольно скоро он отошел от ее теоретических представлений, а в своих более поздних работах даже назвал собственные изыскания вюрцбургского периода близорукими. Сотрудничество с Кюльпе тем не менее продолжалось: в 1909 г. Бюлер последовал за ним в Бонн, а в 1913 г. – в Мюнхен.
Начавшаяся мировая война ненадолго прервала научную карьеру Бюлера. Как специалист с медицинским образованием он был отправлен на западный фронт в качестве военного хирурга. Впрочем, и в научном плане эта работа оказалась не бесплодной. На фронте Бюлер приобрел опыт лечения мозговых ранений и собрал ценный материал о расстройствах речи, вызванных такого рода травмами.
В конце 1915 г. скоропостижно скончался Кюльпе, и Бюлер был отозван в Мюнхен, чтобы занять его место. С этого момента началась его самостоятельная исследовательская деятельность.
Это событие знаменовало и поворот в личной жизни Бюлера. В Мюнхене он познакомился со студенткой Шарлоттой Малаховски, которая намеревалась изучать психологию под руководством Кюльпе. Как приемник Кюльпе Бюлер принял на себя руководство новой студенткой. Их научному сотрудничеству сопутствовало быстрое развитие личных отношений. В апреле 1916 г. состоялась их свадьба. Так сложилась не только семья, но и плодотворный научный союз. В предисловии к одной из своих книг, которую Бюлер посвятил жене, он писал:
Посвящения могут иметь реальные и личные причины; редко обе причины находятся в таком совершенном равновесии, как в данном случае. Когда моя жена прочитает эти строчки, они будут единственными в книге из тех, которые могли бы оказаться для нее чем-то новым. Все остальное возникло в результате идейного взаимодействия.
В 1918 г. Бюлер был приглашен на должность профессора в Дрезденский технологический университет, а три года спустя – в Венский университет. На венский период приходится расцвет научной деятельности Бюлера. В Вене наиболее полно раскрылись черты его многогранной личности – блестящий талант экспериментатора, глубокий теоретический ум, незаурядные организаторские способности, педагогическое дарование.
Совместно с женой, выступившей в роли его ассистента, Бюлер основал в Вене психологическую лабораторию, которая позднее была преобразована в институт, известный как «школа Бюлера». Блестящие лекции Бюлера привлекали множество слушателей, институт обрел мировую известность. Впрочем, по свидетельству Х. Гетцер, сам Бюлер предпочитал уединение в своем кабинете и научные дискуссии в узком кругу.
После I мировой войны научные интересы Бюлера сместились в сторону генетической психологии. Результаты своих исследований он изложил в книге «Духовное развитие ребенка» (1918, рус. пер. – 1924), которую издал также в сокращенном варианте под названием «Очерк духовного развития ребенка» (1919, рус. пер. с предисловием Л.С. Выготского – 1930). В этой работе Бюлер выделил три психические структуры: инстинкт, дрессуру (научение) и интеллект, связывая возникновение последнего с появлением актов внезапного понимания. Однако концепция Бюлера столкнулась с известными трудностями при объяснении развития мышления у детей, поскольку она не выходила за рамки чистого описания интеллектуальных процессов и не показывала реальных путей их формирования. В этом аспекте идеи Бюлера подверглись критике со стороны Л.С. Выготского и Ж. Пиаже, выступавших также против его представления о развитии речи как интуитивном открытии ребенком общих принципов языка.
Одной из важнейших работ Бюлера явилась его книга «Кризис психологии» (1927). В ней он выдвинул идею о том, что кризисное состояние современной ему психологической науки может быть преодолено за счет синтеза различных подходов – интроспективной концепции сознания, бихевиористской теории поведения и учения о воплощении психики в продуктах культуры.
После прихода к власти фашистов расцвет Венской школы кончился. Для Бюлера это было огромной научной и личной трагедией, которой, возможно, удалось бы избежать, если бы в 1920 г. он не отверг приглашение занять профессорское кресло в одном из американских университетов. Но Бюлер не сумел предвидеть надвигавшихся катаклизмов. Такая, по выражению Шарлотты Бюлер, «политическая наивность» оказалась непоправимой ошибкой.
Вскоре после вступления немецких войск в Вену Бюлер оказался в гестапо. Правда, серьезных претензий к нему не было. К тому же помогло заступничество влиятельных друзей. Через несколько недель он был отпущен, но о возвращении к научной и педагогической деятельности не могло идти и речи. Теперь его путь лежал в США, но уже не в качестве званого эксперта, но беглеца.
Оказавшись в США в возрасте 60 лет, Бюлер, по словам жены, «уже не смог переориентироваться». Оторванный от привычной научной среды, слабо владея разговорным английским, он так и не сумел приспособиться к новым обстоятельствам и занять положение, соответствующее его прежнему статусу. Получив приглашение на должность профессора в католическом Форлхэм-Университете, он в последний момент столкнулся с неожиданным отказом, так как в Рим было кем-то сообщено, что католик Бюлер венчался в протестантской церкви и воспитывает своих детей в протестантских традициях. После этого он преподавал психологию в нескольких средних учебных завдеениях. В 1945 г. супруги Бюлер обосновались в Лос-Анжелесе. Здесь К.Бюлер некоторое время работал ассистентом профессора психиатрии в Медицинской школе Южнокалифорнийского университета, затем – в качестве практикующего психолога-консультанта. В последние годы жизни Карл Бюлер тяжело болел. Умер он 24 октября 1963 г.
Г.Г. Шпет (1879–1937)
В наши дни фигура Г.Г. Шпета привлекает все большее внимание в связи с возрождающимся интересом к истокам отечественной психологической науки. Неправедно казненный, Шпет вместе с сотнями тысяч других безвинных жертв был посмертно реабилитирован в середине 50-х, но в истории науки инерция умолчания длилась еще долго и нарушена лишь в последние годы. Сегодня переиздаются его труды, в его честь проводятся научные чтения и конференции, а психологи новых поколений, лишь недавно узнавшие о нем, посвящают ему историко-научные изыскания. Подлинный вклад Шпета в историю научной мысли, наверное, еще только предстоит по-настоящему оценить. Но уже сейчас не вызывает сомнения, что это был мыслитель мирового масштаба, и без упоминания о нем история отечественной психологии была бы катастрофически неполной.
Густав Густавович Шпет родился в Киеве 25 марта (7 апреля) 1879 г. В зрелые годы в графе «национальность», зачем-то обязательно присутствовавшей в любой советской анкете, писал: «русский». По большому счету это было правдой. Ученый с нерусским именем, он всю жизнь думал и писал по-русски и внес в русскую науку и культуру более весомый вклад, чем иные поборники лапотно-балалаечной самобытности. Разумеется, придирчивым националистам не составит труда докопаться, что Шпет не был русским по крови. Его мать, Марцелина Осиповна Шпет принадлежала к обедневшей шляхетской семье из Волыни. Отец – мадьярский офицер Кошиц – исчез из ее жизни еще до рождения сына, не пожелав жениться на полукрестьянской девушке. Из родных мест Марцелина Осиповна уехала в Киев, где родила и одна воспитывала сына, зарабатывая на жизнь стиркой и шитьем. Так что Шпет не кривил душой, когда в послереволюционных анкетах указывал на свое едва ли не пролетарское происхождение: «мать – швея»… Во многом благодаря ее самоотверженным стараниям Густав успешно окончил гимназию и в 1898 г. поступил в Киевский университет св. Владимира. Его студенчество растянулось на целых восемь лет. За это время он несколько раз исключался из университета и даже успел посидеть в тюрьме за участие в студенческих кружках и демонстрациях. Этим впоследствии можно было бы козырять, но Шпет этого избегал, считая себя скорее инакомыслящим, нежели революционером. Таких почти любая власть недолюбливает, но терпит. Только советская не потерпела.
В год поступления Шпета в университет там открылась Психологическая семинария Г.И. Челпанова, к работе которой он вскоре с энтузиазмом подключился. В те годы психология однозначно воспринималась как область философского знания, и занятия семинарии были по содержанию преимущественно философскими. Челпанова психология интересовала как «естественное» основание философии, как та сфера, где происходит образование понятий и которая в то же время допускает анализ этого процесса почти на грани естественных наук, только иными средствами. Атмосфера серьезных занятий серьезным делом в тесном, почти семейном кружке как нельзя лучше отвечала самому духу гуманитарных наук. Именно здесь Шпет в основном сформировался как философ. А вот к психологам, однако, никогда себя не причислял. Впрочем, к психологам в той или иной мере можно отнести любого философа (в свою очередь, психолог, пренебрегающий философией, рискует скатиться к ремесленничеству). Психологические воззрения Шпета неотделимы от его философских идей. Это отчасти делает их трудными для понимания, но не умаляет их значения собственно для психологической науки.
В 1906 г. Челпанов становится профессором Московского университета и товарищем председателя Московского психологического общества. На следующий год он приглашает в Москву Шпета. Совместно с Челпановым тот участвует в разработке проекта Психологического института (официальное открытие котороого состоялось в 1914 г.). Летом 1910 г. Шпет и Челпанов посетили ведущие психологические лаборатории немецких университетов (Штумпфа в Берлине, Кюльпе в Бонне, Марбе в Вюрцбурге) и ознакомились с их работой. Позднее, в 1920 г. Шпет и Челпанов предложили создать на историко-филологическом факультета Московского университета кабинет этнической и социальной психологии. В докладной записке от 1 февраля 1920 г. они выступили с обоснованием необходимости изучать психологические особенности народов России и разрабатывать этническую и социальную психологию, подробно изложили цели и задачи научной и учебной работы в этой области.
Г.Г. Шпет в своем кабинете
В Москве Шпет вел активную преподавательскую работу. Он сотрудничал в Народном университете А.С. Шанявского, где в его семинаре в течение нескольких лет систематически занимался Л.С. Выготский, во 2-м Московском университете, где у него – и у Выготского – учились будущие «выготчане» Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Р.Е. Левина, Н.Г. Морозова, Л.С. Славина. Помимо этого Шпет был вице-президентом Государственной академии художественных наук (ГАХН), активным участником Московского лингвистического кружка, директором основанного им Института научной философии (поглотившего на некоторое время Психологический институт, который в 1924 г. стал секцией Института научной философии), членом комитета по реформе высшей и средней школы, проректором основанной К.С. Станиславским Академии высшего актерского мастерства. Однако за столь впечатляющим послужным списком скрываются постоянные гонения, которые «философ-идеалист» постоянно испытывал в советские годы. Не вписавшийся в прокрустово ложе марксистского мировоззрения, он был в конце концов безжалостно раздавлен сталинской репрессивной машиной.
Шпет не проводил конкретных исследований по частным вопросам психологии. Его вклад в психологическую науку определяется разработкой методологических проблем, касающихся центральных вопросов психологии, прежде всего ее предмета, методов и основной проблемы – сознания. Исходным было положение о неотделимости психологии от философии. Шпет считал, что связь психологии с философией является органической, природной. Она – исторический факт: как и другие специальные науки, психология выделилась из «общего лона матери-философии». В результате можно сделать вывод будто психология должна «перерезать последние нити, связывающие ее как науку с философией». В отличие от этого широко распространенного убеждения (по Шпету, заблуждения) он называет
еще один путь в разработке психологии, который ведет не к отщеплению ее от философии, а, напротив, приводит к тому, что психология все прочнее спаивается и даже сплавливается с философией. Как бы мы ни понимали задачи рациональной метафизики и как бы ни казалась от нее отделенной современная абстрактная психология, психология с метафизикой останутся навсегда родными сестрами, поскольку метафизика, ставя себе целью познание реального, должна опираться на эмпирический материал, а психология, даже устанавливающая абстрактные отношения, должна извлекать их из конкретного реального…
Творчество Шпета пронизывают также острая критика натуралистической методологии в психологии, обоснование и защита культурно-исторического подхода при изучении сознания человека. В связи с этим большое место в его трудах занимают вопросы научного познания, критериев его научности в отличие от мифологических морализирующих рассуждений по поводу сознания и психики. От правильного решения этих вопросов зависит доверие к науке. Шпет стоял на позициях строгой логической природы знания. Не отрицая факта мистических переживаний, мистического опыта, находящегося как будто за пределами рациональной мысли, он отвергал невозможность их строгого объяснения и невыразимость в слове. Неопределенные описания и мифы вместо положительного уяснения явления он называл «ленивой восточной мудростью» и считал, что только разум, строгая логическая мысль способны анализировать факты. Любые фантастические построения, умаляющие значение строгого объяснения, не дают их понимания и лишь подрывают доверие к науке. Размышления Шпета по этому поводу настолько актуальны для современной психологии, что кажется, будто они родились в атмосфере острых дискуссий наших дней о путях развития психологии как науки и области практики.
Капитальный труд Шпета «Введение в этническую психологию» (1927) имеет значение не только для психологии. Многие важнейшие положения, намеченные им в предыдущих работах, получили здесь углубленную разработку. В критике и полемике с психологами (главным образом немецких школ, особенно с В.Вудтом) затрагивается масса принципиальных вопросов. Стоит перечислить хотя бы некоторые из них. Отстаивается положение о специфичности психологического («эмпирическая душевная жизнь человека представляет ни к чему не сводимое и ни с чем не сравнимое своеобразие»). Обсуждается проблема предмета психологии и ее отношения к другим наукам и философии («нужно отличать психологию от не-психологии»). Перечисляются предрассудки натуралистической психологии («будто человек состоит из души и тела», «будто образцом для всякой науки является математическое естествознание» и др.). Подчеркивается методологическая ценность объективного подхода («мы должны научиться заключать от объективного к соответствующему субъекту»). Указывается на ошибки психологизма (применительно к этнической психологии это психологическая интерпретация этнологических факторов – «считать культуру продуктом и результатом душевной деятельности»). Обсуждаются типы объяснения в психологии («откуда известно, что есть только два типа объяснения – генетическое и механического естествознания?»).
Поставленная Шпетом проблема изучения национального характера выступает в психологии через систему знаков и выражений, которые нуждаются в интерпретации, являясь таким образом путем объективного описания душевной жизни человека. Указание на связь психологии с науками о культуре, с историей («только в истории человек узнает самого себя») сохраняет свое значение и сегодня. Может быть, даже правильнее сказать, что именно в наше время их актуальность особенно очевидна. Размывание методологических оснований науки и критериев научности, ожесточенные дискуссии вокруг естественнонаучной парадигмы в психологии, проникновение в психологию под видом науки, под предлогом расширения сознания, эмоциональной поддержки и т. п. мифов и верований, науке абсолютно чуждых, и в связи с этим опасения серьезных психологов за самое имя психологии – таковы лишь некоторые особенности ситуации в нашей науке, которая на рубеже веков еще более сложна, чем в первой четверти века минувшего. Обращение к теоретическому наследию строгого методолога и мыслителя Г.Г. Шпета помогает понять направление развитие современной психологии и способствовать этому развитию. При этом характерно, что многие мысли Шпета повторяются сегодня многими от собственного лица, без ссылок на незаслуженно забытого автора. Может, в том и нет большой беды. Ведь эти мысли живы и по-прежнему актуальны. Недаром, наверное, В.П. Зинченко к своей книге, посвященной Шпету, выбрал эпиграф из Мандельштама:
И не одно сокровище, быть может, Минуя внуков, к правнукам уйдет. И снова скальд чужую песню сложит И как свою ее произнесет.М. Кляйн (1882–1960)
Мелани Кляйн оставила в истории психологии яркий и противоречивый след, в нашей стране явно недооцененный. Несколько ее работ, запоздало изданных на русском языке скромными тиражами, большого внимания не привлекли. И хотя в России, как и во многих других странах, существует общество, объединяющее ее последователей, большинство отечественных психологов на вопрос: «Кто такая Мелани Кляйн и чем она знаменита?» – сумеют ответить от силы парой общих фраз. Попробуем восполнить этот пробел, обратившись к истории жизни и творчества этой женщины, выступившей одним из пионеров детского психоанализа, создавшей собственную психотерапевтическую школу и снискавшей в мире не меньшую известность, чем ее именитая оппонентка Анна Фрейд.
Мелани Кляйн, урожденная Рейзес, родилась в Вене – городе, которому годы спустя предстояло стать и родиной психоанализа. Она появилась на свет 30 марта 1882 года, когда будущему основателю психоанализа уже было двадцать шесть. То есть Зигмунду Фрейду она годилась бы в дочери. Но подающая надежды дочь у того вскоре появилась своя, и Мелани впоследствии пришлось выдержать с нею нелегкое соперничество за приоритет в приложении терапевтических идей Фрейда к детскому возрасту.
Родной отец Мелани – Мориц Рейзес – был человеком незаурядным, ярким и независимым. Воспитанный в глубоко религиозной еврейской семье, он по настоянию родителей посвятил юные годы изучению Талмуда, однако постепенно разочаровался в ортодоксальном иудаизме и втайне от родных стал изучать медицину. В итоге, к огромному неудовольствию семьи, Мориц стал не раввином, а доктором (правда, больших успехов на этом поприще не достиг). Рано женившись, он уже в зрелые годы без памяти влюбился в юную Либюзу Дойч, которая была на 19 лет моложе его. Разведясь с первой женой, Мориц женился на своей новой избраннице, с которой и прожил до конца своих дней. В этом браке родилось четверо детей, из них Мелани была младшей. Немаловажно, что тремя детьми родители планировали ограничиться, и младшая дочь фактически появилась на свет нежеланной. В ту пору, правда, еще никому не приходило в голову психологически проанализировать эту ситуацию…
На склоне лет Мелани Кляйн вспоминала, что никогда не испытывала эмоциональной близости с отцом. Она появилась на свет, когда тому уже было за пятьдесят, и заботой о маленьком ребенке он явно тяготился. К тому же доктор Рейзес почти не скрывал предпочтения, которое отдавал старшей сестре Мелани – Сидони. Тем не менее девочка всегда испытывала большое уважение к его интеллекту и эрудиции – Мориц самостоятельно (!) изучил 10 (!!!) европейских языков и был настолько начитан, что ни один вопрос детей не оставлял без подробного ответа.
Гораздо больше душевной близости было у Мелани с матерью, перед которой она благоговела как перед человеком исключительно жизнелюбивым, энергичным и стойким. Неважно складывавшаяся медицинская карьера мужа заставила Либюзу открыть собственный маленький магазинчик, в котором она торговала экзотическими растениями и зверюшками, а когда на склоне лет Мориц впал в маразм, скромные доходы от этого бизнеса остались для семьи единственным источником средств к существованию.
Как видим, ситуация в семье Мелани сложилась во многом аналогичная той, которая прежде была и в родительской семье основателя психоанализа, – пожилой, не первый раз женатый отец-неудачник и молодая красавица-мать, самоотверженно отдающая себя служению многодетной семье. Вот только Эдипов треугольник, резко обозначившийся в семье Фрейда, никак не просматривается в семье Мелани. Впрочем, это не помешало ей впоследствии всецело принять фрейдовскую доктрину и даже упрекать дочь Фрейда Анну за недостаточное внимание к Эдиповым мотивам в конфликтах детской души.
В детские годы особо близкие отношения сложились у Мелани со старшей сестрой. Сидони с рождения была тяжело больна и не по-детски стоически отдавала себе отчет, что долго не проживет. Трогательно заботясь о младшей сестре, она стремилась передать ей всё то, чему успела сама научиться за свою короткую жизнь. Сидони умерла девяти лет от роду, и Мелани тяжело переживала эту утрату. Впрочем – не последнюю. Ее брат Эммануэль также скончался от тяжелой болезни. Возможно, под влиянием этих трагических событий девочка решила посвятить себя медицине (хотя пример отца не очень-то к тому воодушевлял). Тяжелые утраты детских лет вызвали у Мелани глубокую депрессию, которая, по мнению хорошо знавших ее людей, с годами закрепилась в ее мироощущении и характере. Вообще характером Мелани Кляйн всю жизнь отличалась резким и неуживчивым, что невольно сужало круг ее последователей, в котором оставались лишь самые преданные.
Обстоятельства личной жизни заставили Мелани отказаться от медицинской карьеры. В возрасте 19 лет она обручилась с молодым инженером Артуром Кляйном, чья работа требовала постоянных разъездов, а это исключало для молодой женщины возможность полноценного высшего образования. Два года, прошедшие до свадьбы, она изучала в Венском университете гуманитарные дисциплины, но замужество поставило крест на ее профессиональных планах – диплома Кляйн так и не получила. Прослушанные курсы давали ей право учительствовать в начальной школе, в силу чего в некоторых биографических источниках ей приписывается получение педагогического образования. В действительности же образование будущей звезды психоанализа исчерпывается гимназией и тем, что с большой натяжкой можно было бы назвать незаконченным высшим общего гуманитарного профиля. Впрочем в истории психоанализа этот случай – не исключительный. Та же Анна Фрейд в своем образовании выше педучилища не поднялась. Хотя ныне принято считать, что настоящая психоаналитическая подготовка обязательно требует предварительного получения высшего образования (предпочтительно медицинского), многие пионеры этого учения с завидной легкостью это условие игнорировали.
Семейную жизнь Кляйн назвать счастливой было бы сильным преувеличением. Вынужденная следовать за мужем в его длительных командировках в Словакию и Силезию, она тяжело переживала отрыв от родной Вены и скуку провинциальной жизни. К тому же Артур оказался далеко не идеальным семьянином и принялся изменять молодой жене уже в первый год супружества. Некоторое умиротворение в семью принесло рождение детей (всего их у Мелани родилось трое). Однако скверные особенности характера помешали ей стать хорошей матерью, нежности и взаимопонимания в отношениях с детьми у нее никогда не было. Об этом с горечью рассказывает ее дочь Мелитта, которая также впоследствии стала психоаналитиком, однако примкнула к лагерю противников Мелани Кляйн и фактически порвала с матерью на почве как личной неприязни, так и теоретических разногласий (трудно сказать, что тут было первично, но факт остается фактом – даже на похороны матери дочь не явилась). Более того, со слов Мелитты, ее брат, чью безвременную гибель в горах принято объяснять несчастным случаем, на самом деле покончил с собой, отчаявшись найти взаимопонимание с родной матерью. Как видим, блестящее мастерство анализа детских проблем не обязательно сочетается с житейской компетентностью, и примеров тому в мире психологии, увы, не перечесть.
Коренной перелом в жизни Мелани Кляйн произошел в1914–15 гг., когда семья поселилась в Будапеште. Именно здесь, а не в Вене, произошло ее знакомство с психоанализом. Случайно ей в руки попала книга Фрейда «Толкование сновидений», которая, надо признать, в ту пору еще не пользовалась большой популярностью – Кляйн стала одной из всего нескольких сотен читателей первого, с трудом продаваемого издания. Именно в психоанализе, подкупившем ее глубиной проникновения в суть человеческих проблем, Кляйн усмотрела возможность решения собственных психологических проблем, периодически обострявшихся в силу перипетий личной жизни. Практиковавший в ту пору в Будапеште Шандор Ференци выступил ее аналитиком, причем лечебный анализ ввиду явной заинтересованности пациентки плавно перерос в дидактический. Впоследствии Кляйн вспоминала, что хотя Ференци, безусловно, помог ей освоить основы аналитического мастерства, в целом его анализом она осталась не удовлетворена. Причина этого отчасти виделась ей в том, что Ференци стремился форсировать аналитический процесс, излишне акцентировал его директивность (за эту «новаторскую» манеру он, кстати, заслужил неодобрение самого Фрейда).
С одобрения Ференци Кляйн сама предприняла попытку анализа, воспользовавшись для этого самым доступным в ее положении «пациентом» – собственным сыном. С точки зрения здравого смысла и элементарной этики это может показаться немыслимым, и в наши дни даже сами психоаналитики считают недопустимым анализировать собственных близких родственников, особенно детей, однако в ту давнюю пору подобная практика была вполне обыденной – начиная с хрестоматийного случая Маленького Ганса, которого под покровительством Фрейда анализировал родной отец, и кончая анализом, который сам Фрейд провел над дочерью Анной. (В частности, подобная попытка в отношении собственной дочери была предпринята и Карлом Абрахамом, с которым Кляйн впоследствии профессионально сблизилась).
Результаты этой работы были представлены Кляйн в докладе «Развитие одного ребенка», с которым она в 1919 г. выступила перед Венгерским психоаналитическим обществом, что позволило ей стать его полноправным членом. (В работе общества Кляйн неформально участвовала и ранее – так, в 1917 г. на встрече Венгерского и Австрийского психоаналитических обществ она была представлена самому Фрейду.) В 1920 г. на конгрессе в Гааге Кляйн впервые встретилась с Карлом Абрахамом, который одобрительно отозвался о ее работе. В 1921 году, в возрасте 38 лет, Мелани Кляйн по приглашению Абрахама переехала в Берлин. Это приглашение совпало с отъездом ее мужа в очередную длительную командировку в Швецию. Не пожелав последовать за ним, Кляйн отдала предпочтение своим профессиональным интересам. Это расставание явилось следствием нараставшего отчуждения между супругами и стало прелюдией официального развода, последовавшего несколько лет спустя. На этом личная жизнь Мелани Кляйн фактически закончилась, отныне всю себя она посвятила работе. Увы, не такой уж редкий случай в этих кругах! Остается только недоумевать, отчего счастливый семьянин и хороший родитель среди психоаналитиков является скорее исключением, чем правилом. Почему-то чужие проблемы оказывается легче решать, чем собственные…
В Берлине она начала работать как психоаналитик не только с детьми, но и со взрослыми. Покровительство Абрахама немало способствало ее успехам. Карл Абрахам обладал особым положением внутри аналитического сообщества, поскольку он, наряду с К.Г. Юнгом (работавшим в Цюрихе), Ференци (в Будапеште) и Джонсом (в Лондоне) был одним из пионеров психоаналитического движения за пределами Вены. Его авторитету способствовала многолетняя репутация опытного клнициста, а также личная близость к Фрейду. В период общения с Кляйн Абрахам являлся президентом Международной психоаналитической ассоциации, и это обстоятельство не могло не сказаться на профессиональном продвижении его протеже.
Не будучи удовлетворенной результатами работы с Ференци, в 1924 году Кляйн уговорила Абрахама стать ее аналитиком. Этот анализ продлился 14 месяцев и был прерван из-за внезапной смерти Абрахама, которая стала для Кляйн двойной утратой. Дотоле опасливо помалкивавшие, берлинские коллеги после смерти влиятельного покровителя ополчились на Кляйн, причудливо смешивая конструктивную критику с личной неприязнью. В то же время она стала пользоваться всё большим признанием у английских коллег. В 1925 г. Кляйн встретила Эрнста Джонса на конференции в Зальцбурге, где она представляла свою первую работу по технике детского анализа. Под впечатлением этого доклада Джонс пригласил ее прочитать несколько лекций по детскому анализу в Англии, что она и сделала в 1925 году, прочитав шесть лекций, которые составили основу ее первой книги «Детский психоанализ». Три недели, во время которых она читала эти лекции, Мелани Кляйн называла самым счастливым временем своей жизни. В 1927 году она окончательно перебралась в Англию, став первым аналитиком с Континента среди членов Британского психоаналитического общества.
Свою работу сама Кляйн расценивала как развитие теории и метода З.Фрейда, постоянно подчеркивая свою верность его идеям. Так, она была одной из немногих психоаналитиков, кто без колебаний поддержал самую спорную доктрину Фрейда, касавшуюся инстинкта смерти. Более того, Кляйн якобы удалось усмотреть проявления данного инстинкта в самом раннем возрасте, что у ортодоксальных фрейдистов вызвало сильное недоумение. Еще одной ее спорной идеей явилось представление о возникновении Эдипова комплекса в более раннем возрасте, чем это предполагал сам Фрейд. В наблюдениях за детьми она зафиксировала появление тревоги и чувства вины в самых ранних отношениях ребенка с матерью и в его отношении к материнской груди. Фантазии этого периода (о которых, разумеется, можно только догадываться, ибо их манифестация в столь раннем возрасте крайне завуалирована – еще один уязвимый для критики пункт кляйнианского подхода!) приводят к развитию отклонений, типичных для шизофрении и маниакально-депрессивных психозов, до того момента считавшихся неподвластными психоанализу.
Работа с маленькими детьми не позволяла опереться на слово ни в диагностике, ни в терапии. Кляйн разработала особую технику детского анализа, основанную на интерпретации игры, а не слов; терапия при этом проводилась в классической манере. Кляйн была убеждена, что детская игра так же обусловлена скрытыми и бессознательными мотивами, как и поведение взрослых, поэтому она подлежит анализу, сравнимому по содержанию с психоанализом взрослых.
Кляйн считала, что источники неврозов относятся к первому году жизни, а не к первым нескольким годам, и заключаются в невозможности перехода через депрессивную позицию, а не в фиксации на различных стадиях периода детства. В результате депрессивная позиция играет в концепции Кляйн ту же роль, что и Эдипов комплекс в классической теории.
Особое значение Кляйн придавала переносу. Для нее формирование переноса на психоаналитических сеансах было технически намного более важным, чем реконструкция прошлого. При рассмотрении переноса решающую роль она отводила проекции и интроекции. В сравнении с классическим психоанализом это было заметной новацией.
В 20–30-е годы Британское психоаналитическое общество в значительной мере уже сформировало оригинальный и серьезно отличавшийся от классического подход к теории и практике психоанализа. Со временем это обстоятельство стало одной из наиболее важных причин возникновения враждебности и конфликтов между британскими и венскими психоаналитиками. Противостояние двух школ психоанализа максимально обострилось после переезда Кляйн в Лондон. В это время Кляйн начала активно внедрять игровую технику в практику детского анализа, став безусловным пионером этого направления. В 1927 г. Анна Фрейд опубликовала в Вене свое «Введение в технику детского психоанализа», в котором, в частности, критиковала терапевтические методы Кляйн, отрицала понятие инфантильного Супер-Эго, ставила под вопрос значение переноса и агрессивных фантазий в детском анализе. С критикой данной работы выступили Эрнест Джонс и ученица Кляйн Джоан Райвери. Это, в свою очередь, вызвало негативную реакцию 3. Фрейда, раздосадованного нападками на Анну. Фрейд не принимал концепции раннего Эдипова комплекса и с большой долей скептицизма воспринимал научную работу Райвери. Тем не менее со временем обе стороны стали ощущать острую потребность в конструктивном взаимодействии и обмене накопившимися результатами. Два психоаналитических сообщества приняли решение о начале процесса обмена опытом, который должен был сблизить обе школы и, в определенной мере, сгладить существовавшие противоречия в их подходах.
После Второй Мировой войны Кляйн в основном работала как обучающий аналитик и как супервизор, отказавшись от активной роли в жизни Британского психоаналитического общества. Всё больше внимания она уделяла теоретическим вопросам. В 1951 г. появилась ее работа «Зависть и благодарность», а в 1961 г., уже посмертно, – «Описание анализа ребенка». Даже на последнем году жизни Кляйн продолжала теоретические психоаналитические изыскания (работа о трилогии Эсхила «Орестея»). В 1960 г. после перенесенной операции Мелани Кляйн умерла от эмболии легочной артерии. В последующие десятилетия стараниями ее немногочисленных, но верных последователей ее идеи получили широкое распространение, и знакомство с ними, пускай даже критическое, входит обязательным элементом в подготовку психоаналитиков всего мира.
С. Бёрт (1883–1971)
Судьба сэра Сирила Бёрта и его трудов – одна из наиболее драматичных и интригующих страниц в истории мировой психологии. Выходец из низов, «дитя улицы», он сумел «сделать себя сам» – преуспел в академической и общественной карьере и даже был удостоен за заслуги перед обществом дворянского звания. Признанный научный авторитет, он способствовал утверждению в Англии своеобразной системы школьного образования, которая, однако, еще при его жизни дала трещину и подверглась реформированию. Автор многочисленных трудов, неоднократно переизданных, он и сегодня превозносим учениками и последователями, тогда как многие специалисты намеренно исключают его работы из библиографии своих книг и статей. Человек, после смерти удостоившийся патетических некрологов, а впоследствии – язвительной критики и даже подозрений в психической патологии. Таков Сирил Бёрт, один из наиболее крупных, или по крайней мере – наиболее знаменитых английских психологов.
Сирил Лодовик Бёрт родился 3 марта 1883 г. в городке Стратфорд-он-Эйвон, известном всему миру как родина Вильяма Шекспира. Отец Бёрта был врачом, но успеха в медицинской карьере не достиг, так что материальное положение семьи оставляло желать лучшего. Детство Бёрт провел в беднейшем районе Лондона, и его товарищами были «дети трущоб», зачастую имевшие противоправные наклонности и невысокий уровень умственного развития. Полностью сблизиться с ними Сирил не смог, поскольку явно отличался своим мироощущением и способностями. Впоследствии о его личности высказывались противоречивые суждения, но одна черта не вызывала сомнений ни у его друзей, ни у врагов – блестящая одаренность. Биограф Бёрта Лесли Хэрншоу считает ее наследственной (среди прямых предков Бёрта – Айзек Барроу, известный математик, учитель И. Ньютона). Бёрт легко и быстро овладел латинским и греческим языками, свободно говорил по-французски, по-немецки, по-итальянски, читал на многих других европейских языках (в том числе и на русском), отлично знал иврит. Вероятно, еще в детстве столкнувшись с тем, насколько яркая одаренность может противоречить скромным условиям среды, он свои научные изыскания посвятил проблеме умственных способностей, а также детской преступности, о которой знал не понаслышке.
Неблагоприятный опыт детского общения способствовал тому, что Бёрт – человек по натуре обаятельный и остроумный – остался замкнутым и нелюдимым. Склонный к одиночеству, он не допускал тесной близости даже с теми, кого считал друзьями. Впрочем, его постоянная отчужденность и сосредоточенность, вероятно, способствовали тому, что он был прекрасным наблюдателем. Его очень любили дети, и это помогало ему в практической работе психолога.
Ввиду ярких проявлений одаренности, Сирил был взят из обычной школы и отдан в закрытый пансион, где учились отпрыски из «высших классов». Эта среда, однако, оказалась для него столь же чуждой, и он болезненно из нее выделялся. Тому немало способствовали его физические недостатки. Бёрт с детства был слабого здоровья, близорук, страдал плоскостопием, был неловок в физических упражнениях; из-за слабости вестибулярного аппарата ему трудно было научиться танцам, езде на велосипеде; всю жизнь он страдал боязнью высоты. К тому же он отличался так называемой психосоматической лабильностью – на любую жизненную трудность реагировал усиленным сердцебиением, потливостью и другими вегетативными симптомами.
Однако жизненный путь Бёрта свидетельствует: слабость тела – еще не доказательство того, что человек слаб. Он сумел получить блестящее образование и добился значительных успехов на академическом поприще. Окончив в 1908 г. Оксфордский университет, он в течение 4 лет преподавал в Ливерпульском университете, а затем и в знаменитом Кембридже.
В центре научных интересов Бёрта – проблема индивидуально-психологических различий, которые он, подобно Ф. Гальтону, считал врожденными и поддающимися измерению. Как и Гальтон, Бёрт считал инструментом такого измерения психологические тесты, однако пользовался уже более совершенными методиками, созданными к тому времени. В начале ХХ века наибольшее распространение во всем мире получили тесты умственной одаренности, разработанные во Франции Альфредом Бине совместно с Теодором Симоном. В 1905 г. была опубликована первая редакция этого набора тестов. Затем последовали переводы на разные языки и адаптированные варианты. (В России адаптация тестов Бине-Симона была осуществлена А.М. Шуберт; наиболее известная модификация предпринята американцем Луисом Терменом в Стэнфордском университете, с тех пор так называемая шкала Стэнфорд-Бине – один из самых распространенных и признанных методов оценки интеллекта). Бёрт на основе тестов Бине-Симона разработал собственную шкалу тестов. Впрочем, многими специалистами она расценивается как одна в ряду многочисленных модификаций.
Обратившись к разработкам Бине, Бёрт воспользовался его инструментом, но не теоретическими представлениями. Сам Бине, рассуждая о природе умственных способностей, писал:
Некоторые современные философы находят моральное утешение в прискорбном факте, что интеллект индивида не может быть увеличен. Мы обязаны всячески противодействовать подобной пессимистической точке зрения… Мозг ребенка подобен полю, на котором опытный фермер посредством культивации может осуществить задуманные им изменения и в результате вместо бесплодной получить плодородную землю.
Бёрт исходил из принципиально иной точки зрения. По его мнению, умственные способности врождены и практически неизменны подобно цвету глаз и волос. Суждения Бёрта на сей счет весьма категоричны и не оставляют никаких сомнений в его позиции:
Совершенно очевидно, что в идеальном обществе нашей задачей будет выявить тот уровень умственных задатков, которым каждый конкретный ребенок наделен с рождения, затем предоставить ему соответствующий уровень образования и наконец обеспечить его профессиональной подготовкой к тому делу, для которого он создан.
Претворение в жизнь данного принципа Бёрт поставил своей целью и весьма преуспел в этом, находясь на посту члена Муниципального совета Лондона по отделу образования (1913–1932). На основе его рекомендаций была разработана и внедрена система школьного образования, предусматривавшая подразделение учащихся на потоки в соответствии с уровнем их умственных способностей. Последние определялись посредством тестирования. По результатам тестовой проверки, проводившейся в 11-летнем возрасте, дети распределялись на три группы. Признанные наиболее одаренными проходили обучение на более высоком уровне и получали доступ к высшему образованию; образовательные возможности остальных ограничивались.
Критика такой системы, начавшаяся с момента ее внедрения и достигшая апогея в 50-х гг., основывалась на том элементарном наблюдении, что подразделение учащихся по образовательным уровням практически соответствует классовому делению общества. Лучшее образование оказалось доступным детям из «лучших семей», тогда как дети рабочих в основной своей массе должны были повторить профессиональный путь собственных родителей.
Бёрта это соотношение не смущало. Им было проведено широкомасштабное тестовое обследование представителей различных слоев населения. В результате оказалось, что интеллект профессиональной элиты заметно превосходит интеллект рабочих, а среди последних неквалифицированные сильно уступают высококвалифицированным. Делался вывод, казалось бы, не противоречивший здравому смыслу: человек занимает в социальной и профессиональной иерархии то место, какого заслуживает по своим врожденным способностям. А о том, что способности врождены, то есть унаследованы, по мнению Бёрта, явно свидетельствует им же установленный факт: среди детей обследованных групп умственные способности распределяются примерно в том же соотношении, что и у их родителей.
На это, очевидно, можно возразить: если в человеке и заложены некоторые задатки, то они должны реализоваться под действием среды. Более благоприятная среда, которую предоставляют своим детям обеспеченные и преуспевающие семьи, в большей мере способствует развитию способностей.
Соотношение врожденного и приобретенного в интеллекте Бёрт вниманием не обошел. Причем он стремился решить этот вопрос строго научно, со всей возможной точностью. Надо отметить, что, получив классическое образование, Бёрт самостоятельно углубленно занимался математикой. По оценке Хэрншоу, его математические способности были выдающимися. (На протяжении многих лет Бёрт был редактором «Британского журнала статистической психологии»). Бёрт поставил перед собой задачу точно вычислить удельный вес врожденного и приобретенного факторов. Наилучшим способом для этого было исследование близнецовых пар, предложенное еще Гальтоном. Не вызывает сомнения, что монозиготные (однояйцевые) близнецы обладают абсолютно идентичной наследственностью. Правда, сходство показателей их умственного развития можно объяснить и тем, что воспитываются они в одних условиях, в одинаковой среде. Интерес представляют те пары, которые в силу каких-то жизненных обстоятельств разлучены и воспитываются в разной среде. Понятно, что такой феномен – сам по себе большая редкость. Однако, если и при данных условиях наблюдается значительное сходство в умственных способностях, можно предположить решающее влияние наследственности.
Бёрту удалось найти несколько таких пар и обследовать их. Полученные результаты подтвердили его гипотезу. На этом основании он пришел к выводу, что интеллект человека определяется наследственностью на 80 % и лишь на 20 % – условиями среды и воспитанием.
Им также была разработана концепция двухфакторной структуры интеллекта. Центральное место в этой структуре принадлежит некоторому «общему фактору», отражающему общую одаренность. По мнению Бёрта, тесты интеллекта в основном направлены именно на выявление этого фактора, вокруг которого группируются так называемые специальные факторы, отражающие некие конкретные способности. Строго говоря, данная идея принадлежала Чарлзу Спирмену, но и Бёрт внес свой вклад в ее развитие. Так, он сформулировал принцип дифференциации интеллекта с возрастом. Однако собственные заслуги Бёрт явно преувеличивал, настаивая, чтобы его признали пионером использования факторного анализа в психологии (его роль была весьма значительна, однако основоположником метода был все же не он, а Спирмен). С годами домогательства Бёрта становились все более настойчивыми, что впоследствии дало повод критикам заподозрить его в паранойе.
Действительно, начиная с 30-х годов, душевное равновесие Бёрта было нарушено. Неудача в семейной жизни явилась для него тяжелым ударом (как пишет Хэрншоу, «знаток человеческой натуры оказался несостоятельным в самом сокровенном из всех типов человеческих отношений»). Другим ударом была гибель его научного архива в годы войны; третьим – пошатнувшееся здоровье (болезнь Меньера). Бёрт неохотно ушел на пенсию и оставил пост редактора журнала. Постепенную утрату влияния в научном мире он пытался восполнить многочисленными публикациями, посвященными дополнительным подтверждениям его идей. Деньги и карьера всегда оставляли его равнодушным; его честолюбие лежало в плоскости интеллектуального превосходства. Сам Бёрт видел себя научным наследником Гальтона, стремился воплотить его мечту о создании психологии, основанной на твердом статистическом фундаменте и приложимой к повседневным человеческим проблемам.
Бёрт ревниво относился к своим научным соперникам и стремился утвердить свой приоритет. Ученик Бёрта Ганс Айзенк вспоминает о многочисленных трениях со своим руководителем, стремившимся притормозить его научный рост. (Несмотря на это, Айзенк сохранил глубокое уважение к Бёрту и выступил активнейшим пропагандистом его идей.)
Серьезным ударом для Бёрта был постепенный отказ от элитарной системы обучения, основанной на его рекомендациях.
После ухода на пенсию он подрабатывал рецензированием книг по психологии для разных издательств. Его рецензии отличались такой добросовестностью, обстоятельностью и глубиной, что издатели порой увеличивали гонорар сверх установленной суммы (сам Бёрт об этом никогда не просил).
Сирил Бёрт умер 10 октября 1971 г. В отзывах на его кончину прозвучали высокие оценки его вклада в английскую науку. Так, известный психолог Раймонд Кеттелл писал: «Общение с ним было для меня плодотворнее общения с любым другим современным психологом…»
Фигура Сирила Бёрта вскоре после его смерти вновь привлекла к себе пристальное внимание, имевшее на этот раз скандальный оттенок. Дело в том, что американский психолог Леон Кэмин – противник идеи Бёрта о наследовании интеллекта – решил проверить достоверность его научных выкладок. Оформив для этой цели в Принстонском университете специальную командировку, Кэмин отправился в Англию и углубился в изучение материалов экспериментальных исследований Бёрта. Результаты такого анализа позволили Кэмину сделать вывод, что труда «отца английской психологии обучения», мягко говоря, не отвечают требованиям научной корректности. Начиная с октября 1976 г. лондонская «Санди Таймс» напечатала серию разоблачительных материалов, свидетельствовавших о явных недочетах, искажениях и фальсификациях в работах Бёрта. Ранее большинство этих данных были опубликованы в США в виде отдельной книги Кэмина, вызвавшей в научной среде эффект разорвавшейся бомбы.
Кэмин приводит следующие данные. В 1943 г. вышла статья Бёрта «Способности и доход», в которой сообщалось об изучении 15 пар близнецов, воспитанных врозь. Аналогичные данные появились в статье 1955 г., но число обследованных пар увеличилось до 21. В 1966 г. Бёрт писал уже о 66 парах. В этой связи бросается в глаза, что несмотря на увеличение количества, корреляции, вычисленные Бёртом, совпадали до третьего десятичного знака, что с точки зрения математики невозможно, хотя в то время никто не обратил на это внимания. Вероятно, начиная с 1939 г. никаких новых данных у Бёрта не было, и все увеличение было фиктивным. Далее он стал публиковать статьи от имени мисс Хоурд и мисс Конуэй, которых на самом деле не существовало на свете. Когда другие психологи просили Бёрта (авторитет его был очень высок) прислать собранные им данные, он занимался тем, что подсчитывал, какие результаты должны соответствовать опубликованным корреляциям, и посылал эти фиктивные сведения. Как редактор авторитетного журнала он стал печатать свои статьи под вымышленными именами, дабы увеличить число своих научных сторонников. Эти вымышленные авторы позволяли Бёрту высказывать свое мнение, отвечая на свои же собственные замечания, подписанные чужими именами, но самое главное – это давало ему возможность создавать ложное впечатление, будто он продолжает активно работать в науке.
Сторонники Бёрта продолжают настаивать, что очевидные погрешности в его работах могут быть истолкованы вполне невинными и прозаическими причинами вроде невнимательности и забывчивости. Однако в научном мире сомнения в достоверности данных, полученных Бёртом, привели к тому, что ныне его труды практически не цитируются как не заслуживающие полного доверия. Стремясь любой ценой утвердить идею наследования интеллекта, Бёрт невольно достиг противоположного результата. Доверие к этой теории сильно упало, поскольку даже ее самый ревностный приверженец, как выяснилось, был не в силах ее аргументированно доказать.
П.П. Блонский (1884–1941)
Многими современными психологами фигура П.П. Блонского воспринимается как второстепенная на фоне его более именитых, часто цитируемых современников. Причина, вероятно, состоит в том, что Блонский не создал собственной научной школы, не оставил плеяды верных последователей, которые бы подняли на щит его имя и его идеи (как это произошло с иными известными психологами). Однако несправедливо было бы недооценивать вклад этого замечательного ученого в отечественную науку. В свое время он выступал одним из ее лидеров, и его работы по сей день представляют немалый интерес.
Павел Петрович Блонский родился 14(26) мая 1884 г. в Киеве, в семье мелкого чиновника. Хотя семья и не нуждалась, особого достатка в доме не было, и Блонский с ранних лет видел, как экономно тратят родители деньги, считая каждую копейку. Вспоминая впоследствии это время, он подчеркивал, что именно детский опыт привел к формированию одной странной черты: относясь равнодушно к деньгам и часто не зная, сколько рублей у него осталось, он всегда точно знал, сколько копеек у него в кармане, привыкнув считать именно копейки.
С раннего детства он полюбил книги, которые погружали его в другой мир, загадочный и манящий. Способности Блонского сделали его одним из лучших учеников второй киевской классической гимназии, несмотря на то, что он часто болел, особенно в младших классах. Интерес к учебе и желание получить более фундаментальные знания привели его в Киевский университет. В 1902 г. он поступил историко-филологический факультет университета, который закончил в 1907 г., получив золотую медаль за свое сочинение «Проблема реальности у Беркли».
Студенческие годы Блонского совпали с революционным подъемом и первой, буржуазно-демократической революцией в России. Подхваченный волной революционного подъема, молодой студент примкнул к партии социалистов-революционеров, в деятельности которой принимал активное участие в 1903–1907 гг., за что трижды подвергался аресту и тюремному заключению. Хотя в идеологии этой партии Блонский впоследствии разочаровался (или, по крайней мере, так утверждал), все же дух революционных исканий оказал существенное влияние на формирование его характера. Формально членом партии он состоял совсем недолго: вступив в партию эсеров в мае 1917 г., он уже в июне демонстративно покинул ее ряды.
К историко-философскому факультету Киевского университета была приписана кафедра философии и психологии, на которой начинал свою научную деятельность Блонский. Наибольшее влияние на него оказали лекции профессоров философии А.Н. Гилярова и Г.И. Челпанова. Под влиянием Гилярова он увлекся античной философией, особенно теорией Плотина, который стал его любимым мыслителем. Философские взгляды Плотина он избрал в качестве темы своей магистерской диссертации, видя в них основу всей современной идеалистической философии. После революции ученые степени были отменены, и диссертацию Блонский не защитил. Его книга «Философия Плотина» вышла в 1918 г. Крупнейший философ-неоплатоник А.Лосев писал, что эта работа открыла наравне с книгами отца П. Флоренского эпоху нового понимания платонизма. Плотина Блонский часто цитировал в своих лекциях вплоть до последних лет жизни.
Не меньшее значение в его судьбе сыграло и знакомство с Челпановым, работа под его руководством в психологическом семинаре. Именно Челпанов способствовал его переезду из Киева в Москву, где Блонский стал его аспирантом в Московском университете. Уже в зрелые годы Блонский писал о том, что, несмотря на то что он причинял своему учителю много хлопот и был «чем-то вроде блудного сына», тот не раз выручал его из самых затруднительных положений. За это доброе отношение и участие Блонский был ему навсегда благодарен, хотя впоследствии они окончательно разошлись, прежде всего по политическим мотивам. Блонский, настаивавший на том, что психология должна быть перестроена на основе марксизма, считал справедливым увольнение Челпанова из им же созданного Психологического института.
Первые годы жизни в Москве были для Блонского очень трудными, прежде всего в материальном отношении. Поэтому, наряду с работой над магистерской диссертацией и посещениями (довольно редкими и нерегулярными) заседаний Московского психологического общества, он начинает свою педагогическую деятельность. Переход от «чистой науки» к практической работе в качестве преподавателя был в достаточной степени вынужденным, но эта деятельность давала необходимые средства к существованию, причем ему приходилось преподавать не только психологию, но и педагогику. По рекомендациям знакомых он получает уроки в нескольких московских гимназиях и в Елизаветинском институте. Сдав в 1913 г. магистерские экзамены, он становится приват-доцентом Московского университета, в это же время начинает работу в Университете им. А.Л. Шанявского, в котором были открыты педагогические курсы.
Необходимость вести занятия по педагогике поставила перед Блонским задачу сформировать собственную программу курса. Так эта дисциплина была для него новой (курса педагогика он в Киевском университете не прослушал), то естественно, что в этот курс он включил элементы психологии и философии, стараясь преподать эти знания в доступной для учащихся форме. Лекции Блонского приобрели большую популярность, последовали новые приглашения как в гимназии, так и на летние учительские курсы. Эта работа свела Блонского с новыми людьми, земскими педагогами, бескорыстно преданными своему делу. Стремление помочь им в их нелегкой деятельности стимулировало поиск оригинальных педагогических идей, путей построения новой школы. Именно эти вопросы станут важнейшими для Блонского через несколько лет, в первые послереволюционные годы. Так постепенно из занятий, которые начинались только ради приработка, вырастал новый интерес, определивший всю дальнейшую деятельность ученого. Для построения новой школы, реорганизации учебных программ, разработки новых методов обучения детей необходимы были не только педагогические, но и психологические и философские знания, а сама эта работа рассматривалась Блонским как продолжение его прежней агитационной и просветительской работы, так как формирование новой школы, с его точки зрения, являлось основой развития нового общества.
В этот период (1912–1916) появляются и первые статьи Блонского в печати. Неудовлетворенность деятельностью Московского психологического общества и содержанием журнала «Вопросы философии и психологии», который он считал оторванным от действительности, схоластическим и ориентированным преимущественно на идеалистическую и религиозную философию и психологию, привела его к сотрудничеству как с педагогической, так и с публицистической прессой. Его статьи появляются в журналах «Вестник просвещения» и «Вестник воспитания», в других периодических изданиях, а работы «Задачи и методы народной школы», «К методике преподавания педагогики», «О национальном воспитании» сделали его имя известным и популярным в среде учительства. Блонского выбирают председателем московского педагогического кружка, приглашают с лекциями в Петербург.
Октябрьскую революцию Блонский принял сразу и безоговорочно, считая, что она открывает дорогу в новое, справедливое общество, которое даст всем равные возможности для проявления способностей и талантов, которые не могли реализоваться в прежней России. Надо отметить, что в среде интеллигенции, и в частности учительства, преобладали иные взгляды. Так, в конце 1917 г. большинство московских учителей объявили бойкот новой школе, считая, что революционные новации разрушают отечественную систему образования. Блонский страстно выступал за отказ от бойкота, что привело к разрыву с многими прежними знакомыми и коллегами. Он был вынужден выйти из Союза деятелей средней школы и редакции журнала «Новая школа». Тем не менее, вспоминая это время, Блонский писал: «Лишенный всех мест, без определенной перспективы заработка… я был полон энтузиазма и не сомневался в осуществлении новой школы». Эти ожидания оправдались: скоро появилась и новая работа, и новые знакомые, поддержавшие его в стремлении к реформе школы.
В 1922 г. Блонский был привлечен Н.К. Крупской к составлению учебных программ для школы. Совместная работа с Крупской в Научно-педагогической секции Государственного ученого совета (ГУСа) оказала на Блонского большое влияние, во многом определила эволюцию его взглядов в направлении марксизма.
В суровые годы гражданской войны Блонский активно работал, написал такие крупные работы, как «Трудовая школа» (1919), «Реформа науки» (1920), «Очерк научной психологии» (1921). С 1918 по 1930 г. из-под его пера вышло свыше ста работ. Среди них первые советские учебники для средней и высшей колы. Его статьи публиковались в США и Германии. По словам профессора Н.А. Рыбникова, «П.П. Блонский этого периода был наиболее читаемым автором, с которым по успеху едва ли может сравниться другой современный педагог».
В 1920 г. увидела свет книга «Реформа науки», оставшаяся ярким документом бурного периода развития отечественной философии и психологии». Вся эта работа проникнута духом тотального отрицания отживших направлений в науке, многочисленных «атавизмов мысли», им свойственных. С особой неприязнью Блонский пишет о философском идеализме, который, по его словам, является «сплошным атавизмом мысли» и оказывается «в решительном противоречии с обыкновенным здравым смыслом».
Отвергнув идеалистическую психологию, Блонский признал связанную с ней идеалистическую психологию «мифологической наукой» и призвал к ее коренной перестройке. На каких же основаниях собирался он реформировать современную ему психологию? Для того, чтобы понять суть его позиции, следует представить себе расстановку сил в психологии в первые послереволюционные годы. Прежде всего утратила свое господствующее положение философская умозрительная психология (Л.М. Лопатин, С.Л. Франк, Н.О. Лосский, Н.Н. Лапшин и др.). Ее место на правом фланге заняла эмпирическая психология (Г.И. Челпанов, А.П. Нечаев, Ю.Ю. Португалов и др.), которая усиленно сопротивлялась материалистическим тенденциям, используя более тонкие приемы борьбы, чем откровенная проповедь спиритуализма и мистики. Характерен переход Челпанова, который до революции своеобразно сочетал в себе черты психолога-метафизика и психолога-эмпирика, на позиции защиты эмпирической, и только эмпирической психологии. В то же время естественнонаучное направление (В.М. Бехтерев, В.А. Вагнер и др.) приступило к реализации программы построения психологической науки, которая сложилась внутри отдельных, связанных с ним научных школ. В этих условиях Блонский решительно переходит в лагерь естественнонаучной психологии и стремится реформировать психологическую науку на основе принципов объективизма, близкого концепции объективной психологии, позднее – психорефлексологии Бехтерева. В книге «Реформа науки» он провозглашает свое понимание предмета психологии. «Научная психология, – пишет Блонский, – есть наука о поведении человека, т. е. о движениях его как функциях некоторых переменных.»
Развивая идеи, высказанные в краткой форме в «Реформе науки», Блонский публикует в 1921 г. «Очерк научной психологии». В этом труде утверждаются принципы поведенческой, или объективной, психологии, ставшие ведущими для первого послереволюционного периода истории советской психологии. Многие положения, ставшие потом прочным достоянием советской психологии, получили путевку в жизнь именно в этой книге. Блонский подробно повествует о предмете научной психологии и ее методах, дает общую характеристику поведения живых существ и человека, останавливается на социально-экономических основах человеческого поведения, на формах инстинктивно-эмоционального и рассудочного поведения.
Еще в «Реформе науки» Блонский сформулировал важные тезисы: «Научная психология есть социальная психология» и «Человек есть homo technicus». Поведение человека, утверждал он, «не может быть иным, как социальным», и, «с генетической точки зрения сопоставляя деятельность человека с деятельностью других животных, мы можем характеризовать деятельность человека как деятельность такого животного, которое пользуется орудиями».
Советская психологическая наука в 20-е годы черпала в трудах Блонского идеи, связанные с внедрением материалистического подхода к психологическим явлениям, использованием объективных методов исследования, опорой на принципы генетического подхода к человеческому поведению, сближением психологии с жизнью и практическим переустройством общества.
Весьма перспективным представлялось Блонскому направление исследований, связанное с комплексным подходом к развитию, который был характерен для педологии. «Как к живому источнику», он обращается к педологии, став одни из ведущих ее теоретиков. (Педологический период его творчества, согласно автобиографии, приходится на 1924–1928 гг.).
В педологическом творчестве Блонского значительное место отводится характеристике детских возрастов. В 20-е годы возрастная периодизация связывалась им в основном с биологическими признаками (развитие зубов, эндокринных желез, состав крови и т. п.). Все разнообразные особенности поведения ребенка, образующие «возрастной симптомокомплекс», объяснялись им процессами увеличения количества материи (ростом массы организма). Стремясь таким способом вскрыть диалектику развития, Блонский скоро осознал, что это путь малопродуктивный. Впоследствии он заявлял, что «характеристика каждой возрастной стадии должна быть комплексной: не какой-нибудь один признак, а своеобразная связь признаков характеризует тот или иной признак». Блонскому импонировала свойственная педологии идея целостного изучения ребенка. Тем не менее и издержки широкомасштабной педологической практики были для него очевидны. Безуспешные попытки построить единые теоретические основания педологии (тем более, что большинство практикующих педологов в них, похоже, и не нуждались) привели его к разочарованию в этом научно-практическом направлении, причем задолго до того, как на него был наложен официальный запрет. Уже в 1928 г. начался отход Блонского от педологии. «занятия педологией, – писал он в это время, – все больше и больше убеждают меня в поверхностности обычных педологических исследований. Стремясь углубить их, я все больше углубляюсь в психологию».
Последний период научного творчества Блонского можно назвать собственно психологическим. В это время он пишет «Очерки детской сексуальности» – любопытную книгу, которая вся построена на диалоге с психоанализом. (Небезынтересно отметить, что в начале двадцатых Блонский выступил одним из сооснователей Русского психоаналитического общества, в работе которого в той или иной мере принимали участие многие видные психологи той поры – Выготский, Лурия и др.). Книги Блонского «Память и мышление», «Развитие мышления школьника» (обе, как и «Очерки детской сексуальности», вышли в 1935 г.) и примыкающие к ним стать представляют собой обширный и незавершенный цикл трудов, в которых, опираясь на теорию отражения, Блонский дает диалектический анализ процессов памяти, восприятия, мышления и воли в связи с конкретной деятельностью человека в условиях обучения. Он формулирует генетическую, или стадиальную, теорию памяти, рассматривая память в развитии, вскрывая ее связь с речью и мышлением. В противоположность сложившемуся в эмпирической психологии взгляду на существование четрых разорванных, не связанных между собой и неподвижных видов памяти (моторная, аффективная, образная и вербальная), Блонский видит в них четыре последовательных с точки зрения развития ступени, каждая из которых наряду с общими имеет и свои специфические законы. Он показывает, как память, поднимаясь в связи с развитием на более высокую ступень, приближается к мышлению. «Речь – та область, где память и мышление теснейшим образом соприкасаются настолько, что трудно подчас решить, что в речи принадлежит памяти, а что – мышлению: то и дело одно переходит в другое». Здесь, как и во многих других проблемах, его внимание привлекают взаимосвязи, взаимопереходы, превращения одних функций в другие, что вообще характерно для советской психологии того времени.
В последних произведениях Блонского память, мышление не выступают в качестве самодовлеющих функций. Их развитие он теснейшим образом связывал с общим развитием человека, с изменением человеком окружающей действителньости. Анализируя в книге «Развитие мышления школьника» формирование мышление в младшем школьном возрасте, он связывает этот процесс с играми ребенка, а в подростковом возрасте – с процессом учения. Блонский намеревался осуществить обширную программу исследовательских работ по изучению комплекса психических процессов – восприятия, памяти, мышления, речи, воли и чувств – в их единстве и развитии. Труды Блонского последних лет навсегда вошли в фонд работ, заложивших основы современной научной психологии.
Однако, несмотря на огромное уважение и популярность, которыми Блонский пользовался среди студентов и коллег, он не создал собственной научной школы, способной развить его идеи. Не последнюю роль в этом сыграли его личные качества. Он вел очень замкнутый образ жизни, поддерживая с сотрудниками и аспирантами сугубо деловые отношения. В последние годы жизни из-за тяжелой болезни он нечасто появлялся на своем рабочем месте в Институте психологии. Сотрудники и аспиранты регулярно приходили к нему домой, в маленькую двухкомнатную квартирку. Он обсуждал с ними результаты их исследований, внимательно вникая в их работу, направляя и организуя их научную деятельность. Однако это были беседы один на один, и сотрудники плохо знали, чем занимаются другие, так как непосредственных контактов у них почти не было. Тем более никогда не происходило общих обсуждений проделанной работы, возникающих затруднений или открытий. Сотрудники Блонского фактически никогда и не собирались вместе, не только у него дома, но и в лаборатории, которую он возглавлял. При таком отсутствии живого общения, совместной творческой деятельности не формировалась и школа, которая продолжила бы дело учителя.
Умер П.П. Блонский в феврале 1941 г., оставив после себя значительные, хотя и порой уязвимые для критики труды по различным проблемам психологии. Многие его идеи с позиций сегодняшнего дня хочется оспорить. Впрочем, и это – серьезный вклад в развитие науки, стимулирующий творческую мысль новых поколений психологов.
О. Ранк (1884–1939)
Психоанализ в массовом сознании, да и в представлении многих психологов-профессионалов ассоциируется в первую очередь с фигурой его основоположника Зигмунда Фрейда. В самом деле, влияние его идей на современное человекознание невозможно переоценить. Имена его последователей известны не столь широко – в первую очередь по той причине, что «верные гусары» (именно такого «звания» удостоился, например, Эрнст Джонс) не осмеливались существенно обогащать классическое учение, благоговея перед авторитетом отца-основателя. Реформаторы-отступники вроде Адлера и Юнга сумели своими революционными новациями не только навлечь гнев патриарха, но и снискать немалую известность. Но есть в истории психоанализа (да и психологии в целом) фигура, сумевшая занять промежуточное положение в этой черно-белой палитре. Один из первых последователей Фрейда Отто Ранк глубоко проникся психоаналитическими идеями, много лет демонстрировал приверженность фрейдистскому учению, благодаря чему заслужил особое расположение мэтра и выдвинулся в первые ряды деятелей психоаналитического движения. В то же время, будучи человеком исключительно ярко и творчески мыслящим, Ранк не уступил соблазну значительно расширить и модифицировать традиционные постулаты. Это не лучшим образом сказалось на его личных отношениях с Фрейдом, но, с другой стороны, позволяет и сегодня говорить о нем как о чрезвычайно интересном ученом, предвосхитившим многие тенденции психологической мысли двадцатого века и, наверное, двадцать первого.
Отто Ранк, впечатлительный, ранимый, обуреваемый душевными терзаниями венский юноша оказался для психоанализа настоящей находкой. С юных лет он изнемогал от телесной и душевной боли – его мучил хронический ревматизм, но еще страшнее было неизбывное ощущение заброшенности и одиночества. Его мать, женщина холодная и высокомерная, по отношению к сыну держалась отчужденно, отца-алкоголика он открыто презирал и с детских лет с ним даже не разговаривал. Неудивительно, что мотивы переосмысленного Фрейдом мифа об Эдипе затронули его душу, хотя всецело примерить новый, фрейдистский миф на собственную личную историю Ранку не удавалось. Возможно, из-за этого он впоследствии и предложил ему оригинальную альтернативу, не менее интересную не только в качестве мифа, но и научной концепции.
Со страниц дневника, который Ранк вел в юности, проступает глубокая депрессия, владевшая им в те годы. «Я рос, предоставленный себе, без друзей… И теперь я не чувствую расположения ни к кому. Не хочу, чтобы меня похоронили, пусть сожгут. А вместо памятника мне бы хотелось кусок грубого неотесанного камня… Я постоянно нахожусь в состоянии полудремы, а реальность, в которой мне приходится жить, причиняет лишь страдания… Сегодня у купил оружие, чтобы покончить с собой. А потом меня обуяли жажда жизни и огромный протест против смерти». Ранк пытался бороться с безысходностью и пустотой, развивая свой творческий потенциал. В нем горело желание оставить после себя что-то ценное, полезное для потомков. Эти темы – удручающее одиночество, творческий порыв, неисполнимое стремление к бессмертию – явно или неявно просматриваются во всех его изысканиях, особенно поздних, когда влияние на него фрейдистских идей значительно ослабло.
Фрейд познакомился с Ранком в 1906 году, когда тот, будучи студентом технической школы, зарабатывал на жизнь в автомагазине (заведении по тем временам экзотическом и немноголюдном). Творческие искания молодого Ранка получили воплощение в трактате «Художник», в котором в оригинальном ракурсе были представлены идеи Фрейда, еще мало кем признанные. Фрейд познакомился с этим юношеским сочинением, и оно произвело на него столь сильное впечатление, что он предложил Ранку вступить в Общество психологических сред, преобразованное впоследствии в Венское психоаналитическое общество, и с той поры оказывал ему всяческую поддержку, в том числе и материальную. Фрейд предположил, что этот не только тонко чувствующий, но и широко эрудированный молодой человек сможет впоследствии распространить идеи психоанализа на сферу культуры. И не ошибся. Впрочем, всех последствий «обращения» Ранка не мог предвидеть даже проницательный аналитик Фрейд.
Трактат «Художник» был опубликован в 1907 г. и стал первым в серии трудов, интерпретирующих с психоаналитических позиций мифологические и литературные сюжеты (Ранк подробно анализировал воплощение темы инцеста, аномального рождения героев, истории о Лоэнгрине и о Дон Жуане, тему двойников).
Почти два десятилетия всё расширявшееся психоаналитическое сообщество неизменно восхищалось работами Ранка, его пониманием искусства, литературы и мифов, толкованием их с точки зрения психоанализа. Кроме того, коллеги ценили широко раскрывшиеся административные способности Ранка. Поначалу выступавший личным секретарем Фрейда, он вскоре занял пост секретаря Венского психоаналитического общества, а в 1912 г. совместно с Гансом Саксом выступил основателем журнала Imago, ставшего рупором психоаналитического движения. В соавторстве с Саксом Ранк написал также вполне ортодоксальный труд «Значение психоанализа в науках о духе», заслуживший позитивную оценку Фрейда. Книга увидела свет в 1913 г. и в том же году (!) вышла в Петербурге в переводе на русский язык. В 1919 г. Ранк возглавил Венский институт психоанализа (на посту директора он оставался до 1924 г.), а также выступил инициатором создания издательства, специализирующегося на выпуске психоаналитических трудов.
Исключительность положения Ранка состояла в том, что на фоне столь бурной административной и творческой активности он долгие годы никак не проявлял себя в сфере психоаналитической терапии и лишь в 1920 г. начал практиковать как аналитик. Столкновение с реальными жизненными коллизиями пациентов заставило его по-новому оценить усвоенные постулаты. В 1924 г. в соавторстве с Шандором Ференци он опубликовал книгу «Развитие психоанализа», в которой была высказана еретическая идея о необходимости сокращения сроков анализа. Хотя авторы и клялись в верности фрейдистскому учению, их новации фактически размывали его основы. Ранк и Ференци прозрачно намекали, что в ортодоксальном учении роль раннего детского опыта в невротизации личности сильно преувеличена. По их мнению, поиск источников патологии и средств ее устранения еще далеко не закончен.
Фрейд, всегда относившийся к «малышу Ранку» покровительственно, впервые выразил открытое недовольство его новациями. Свои отцовские чувства (изъявления которых, по воспоминаниям родных детей Фрейда, им самим всегда недоставало) он проецировал на младших коллег. Первым таким «приемным сыном» выступил Юнг, и разрыв с ним в 1914 г. Фрейд переживал очень болезненно. После этого Ранк фактически занял место «наследного принца», но вот и он начал давать поводы для подозрений в отступничестве. Не этим ли травматическим опытом навеяна социологическая концепция Фрейда, в основе которой лежит идея отцеубийства, которое совершают неблагодарные сыновья, покусившиеся на престол патриарха?
Разрыв и в самом деле произошел. Хотя он и не носил такого скандального характера, как в случаях с Адлером и Юнгом, но был столь же принципиальным по сути. Поводом для расхождения послужила самая известная работа Ранка – «Травма рождения» – вышедшая в 1924 г. Сам Ранк считал, что его работа является конструктивным развитием психоаналитической теории. Но на самом деле попытка дополнить теорию психической травматизации обернулась ее радикальным пересмотром. По версии Фрейда, человек приходит в мир абсолютно асоциальным существом, которым движут лишь природные инстинкты. Социализация человека состоит в болезненных столкновениях с общественными нормами, чуждыми его природе. «Шрамы» от этих столкновений саднят всю жизнь, и целью психоанализа как раз и выступает смягчение этих безотчетных страданий. Развивая эту идею, Ранк заявил, что самым сильным травматическим переживанием в веренице жизненных испытаний является отрыв от организма матери и погружение в неблагоприятную внешнюю среду. Согласно теории Ранка, именно травма рождения (а не, скажем, Эдипов комплекс) определяет последующие негативные стороны нашей психической жизни. Человек вечно бессознательно стремится туда, откуда был вытолкнут, – в благодатное материнское лоно. Но возврата нет, и это порождает всевозможные невротические расстройства.
Несомненно, рациональное зерно в этой теории есть. В самом деле, можно сказать, что до определенного момента внутриутробного развития плод пребывает в условиях полного блаженства. Температурный режим его существования стабильный и удобный: окружающая его среда той же температуры, что и его тело. Плавая в околоплодной жидкости, он обеспечивается кислородом за счет единой с матерью системы кровообращения. Правда, поначалу ничем не стесненный, он со временем начинает испытывать стеснение: организм растет, а окружающая среда – нет. Наступает момент, когда приходится покинуть удобное лоно. Это и есть критический этап развития, чреватый необходимостью перехода к новому состоянию.
Что же происходит в момент появления ребенка на свет? Отрываясь от организма матери, он теряет с ним природную связь и попадает в условия, резко отличающиеся от тех, в которых он существовал прежде. В известном смысле, эти условия – менее благоприятные, и погружение в них болезненно. Не привыкший к ощущению своего веса, ребенок из жидкой среды попадает в воздушное пространство, и сила тяготения наваливается на него громоздким грузом. На органы чувств, ранее получавшие лишь приглушенные стимулы, обрушиваются потоки звуков, света, прикосновений. Температура окружающей среды мгновенно снижается. А кислород вместе с кровью матери больше не поступает, приходится самому делать первые обжигающие глотки.
Вот как образно живописует эту перемену наш соотечественник, психолог Е.В. Субботский: «Вы говорите, ада не существует? Но он есть, и не там, не за порогом жизни, а в ее начале. Что если нас нагими поместить в холодильник вниз головой, заполнить пространство едким дымом, а затем ослепить прожекторами под громовые раскаты взрывов?»
А ведь нечто подобное испытывает новорожденный. Так происходит его первое столкновение с действительностью. И это болезненное столкновение. Значит, по крайней мере в чем-то Ранк прав. Хотя значение пресловутой «травмы рождения», он, похоже, преувеличил. Тем не менее его теория по сей день имеет явных и неявных сторонников. Так, французский акушер Фредерик Лабуайе, посвятил целую книгу описанию процедуры родов, которая минимально травмирует входящего в мир ребенка. Лабуайе рекомендует отсекать пуповину не сразу, а по прошествии 4–5 минут, чтобы дыхание нормализовалось постепенно. Он советует принимать роды в полумраке, соблюдая при этом тишину и еще целый ряд условий, снижающих описанный шок.
Надо, правда, признать, что рекомендации Лабуайе для подавляющего большинства родителей носят отвлеченный характер. Ибо современная техника приема родов даже в самых высококлассных медицинских учреждениях основывается совсем на иных правилах. Так что дети, которым еще предстоит родиться, появятся на свет так же, как и многие поколения их предков. Что, впрочем, едва ли очень плохо. Все мы родились на свет «по старинке», но немало среди нас людей уравновешенных, благополучных, счастливых, несмотря на пресловутую травму рождения. Поэтому, наверное, не надо преувеличивать негативное влияние первичного шока и сваливать на него всю вину за последующие недостатки воспитания.
Автор спорной теории, которого психоаналитики за вольнодумство изгнали из своего круга, перебрался в Париж, а затем в Нью-Йорк, где продолжал практиковать. Своей задачей он считал создание психоаналитического подхода к решению человеческих проблем без той «философии отчаяния», которая, как он чувствовал, была свойственна фрейдовскому анализу. В понимании Ранка, психотерапия – это аналитический метод, который наибольшее значение должен придавать сознательной воле и творческому импульсу как средствам. способным вернуть пациенту активность и уверенность в себе, разбудить творческие силы для решения поставленных в процессе психотерапии задач. Таким образом, Ранк фактически предвосхитил тенденции, которые спустя много лет стали заметны в психоанализе и составили основу такого влиятельного направления, как гуманистическая психология. Внимательный читатель также не может не заметить явной переклички теории травмы рождения и безумно модных в последние десятилетия фантазий Станислава Грофа о перинатальных матрицах.
Поздние работы Ранка – «Искусство и художник», «Миф о рождении героя», а также посмертно опубликованная книга «За пределами психологии» – далеко выходят за рамки психотерапевтической проблематики и охватывают широкий круг философско-мировоззренческих тем. В этих работах в свете психологических воззрений Ранка рассматриваются история человечества, разнообразные проблемы общественной жизни, источники творческого потенциала как художника, так и обыкновенного человека. В последние годы некоторые его труды, ранее на русском языке не публиковавшиеся, стали доступны и российскому читателю. Увы, они практически затерялись на фоне ажиотажной популярности Фрейда. А жаль, ибо фантазиями Ранк грешит не больше отца-основателя, а здравых идей у него если и поменьше, но тоже немало.
Г. Роршах (1884–1922)
Обложку изданного недавно в Лондоне психологического словаря украшает иллюстрация, вызывающая недоумение у непосвященных, – чернильная клякса причудливой формы. Зачем она здесь? Ведь справочник посвящен серьезной науке, а не причудам поп-арта!
Тем же, кто хоть немного знаком с психологией, даже не нужно ничего объяснять. Знаменитая клякса – одна из таблиц всемирно известного теста Роршаха – многими, в самом деле, воспринимается как символ психологического исследования. В наши дни этот тест – наиболее широко используемый в мире (только в США заархивировано несколько миллионов обработанных протоколов). Имя его создателя упоминается в психологических работах почти так же часто, как имена Фрейда или Юнга. Но вот о человеке, носившем это имя, даже профессиональные психологи знают очень немного. Жил давным-давно, вроде бы – в Швейцарии. Создал тест. Тем и знаменит.
На самом деле Герман Роршах – одна из самых ярких и примечательных фигур мировой психологии и между прочим… без пяти минут наш соотечественник! Он прожил недолгую жизнь, написал всего одну книгу. Но какую жизнь и какую книгу!
Герман Роршах родился в Цюрихе 8 ноября 1884 г. Его отец, Ульрих Роршах, был живописцем, и от него Герман унаследовал незаурядные художественные способности. По мнению знавших его людей, он очень неплохо рисовал и в юности даже намеревался сделать это своей профессией по примеру отца. Как бы невероятно это ни звучало, в школьные годы он даже получил прозвище Клякса. Возможно, в нем однокашники обыгрывали профессию его отца (в те годы большой популярностью пользовался роман Вильгельма Буша «Художник Клякса»), а может быть, оно отразило его увлечение кляксографией – излюбленной детской забавой той поры, ныне забытой. Так или иначе, интерес Германа к причудливым сочетаниям цветов и необычным формам, его яркое образное мышление, характерное для художественных натур, впоследствии получили неожиданное воплощение в его научных изысканиях.
В 1886 г. семья перебралась в Шаффхаузен, где Ульрих Роршах получил место учителя рисования. В этом живописном городке на Рейне прошли детские и юношеские годы Германа, здесь он в 1904 г. окончил кантональную школу.
Многосторонне одаренный юноша долго затруднялся в выборе будущей профессии. За советом он обратился к Эрнсту Геккелю, который в силу своих естественнонаучных предпочтений посоветовал ему оставить рисование своим хобби и посвятить себя наукам. После некоторых колебаний девятнадцатилетний Герман выбрал медицину. Высшее образование он получил, учась попеременно в нескольких университетах (обычная практика для традиционного германского стиля образования) – в Невшателе, Цюрихе, Берлине и Берне. В феврале 1909 г. Роршах успешно сдает государственные экзамены, а в ноябре 1912 г. защищает диссертацию «О рефлекторных галлюцинациях и родственных им явлениях» и получает степень доктора медицины.
В те годы в Западной Европе жило немало русских. Это были студенты, соблазнившиеся престижем европейских университетов, эмигранты-социалисты, дискутировавшие в кофейнях планы будущих мятежей, и просто обеспеченные обыватели, тяготевшие к европейскому образу жизни. В студенческие годы во время каникулярных путешествий Роршах познакомился во Франции с одним пожилым русским, который, будучи горячим поклонником Толстого, пробудил у юноши интерес к русской культуре. Движимый этим интересом, в Цюрихе Роршах сошелся со многими россиянами, завел обширные знакомства, принялся изучать русский язык. Среди его новых знакомых были такие примечательные фигуры, как Константин фон Монаков, основатель Цюрихского института изучения мозга (энциклопедии называют его швейцарским невропатологом, обычно забывая упомянуть о его русском происхождении), и Евгений Минковский, ставший впоследствии знаменитым парижским психиатром. В 1906 г. по приглашению своих друзей Роршах побывал на каникулах в России.
По словам биографа Роршаха, Генри Элленбергера, он был таким большим поклонником России, каких редко можно было встретить в Западной Европе. Русским языком он овладел в совершенстве, читал в подлиннике Пушкина, Толстого и с особым внимание – Достоевского, к творчеству которого относился с большим интересом и о котором незадолго до смерти намеревался написать специальную работу. Характерно, что Достоевский пользовался особым вниманием и З.Фрейда, чьи идеи оказали на Роршаха большое влияние. Интерес к психоанализу привел Роршаха в швейцарское психоаналитическое общество (в 1919 г. он был избран его вице-президентом). Плодом этого интереса стал ряд примечательных публикаций, ныне совсем затерявшихся на фоне главной книги Роршаха, – его статей в «Вестнике психоанализа»: «Рефлекторные галлюцинации и символика» (1912), «Пример неудавшейся сублимации и случай забывания фамилии» (1912), «Часы и время в жизни невротиков» (1912), «О выборе друга у невротика» (1913), «Психоанализ рисунка у шизофреника» (1914) и др. Несомненное влияние на круг интересов Роршаха оказали такие пионеры швейцарского психоанализа, как Эуген Блейлер и К.Г. Юнг, под чьим руководством он еще в студенческие годы изучал психиатрию в Цюрихской университетской клинике Бурхгёльцли. Тесные контакты он поддерживал Оскаром Пфистером, Людвигом Бинсвангером и многими другими видными деятелями психоаналитического движения.
Давний интерес к России еще более усилился у Роршаха после того, как он познакомился с Ольгой Штемпелин, также изчавшей медицину в Цюрихе (весной 1910 г. они обвенчались). В 1909 г. с целью знакомства с родителями невесты Роршах предпринял второе путешествие в Россию, несколько месяцев прожил в Казани, посетил Челябинск, Самару, Курган, Уфу. Он вел психиатрические приемы как в частном порядке, так и в государственных учреждениях. У него сформировались тесные контакты с российскими коллегами, впоследствии им на немецком языке опубликовано 29 рецензий на работы русских психиатров.
В 1913 г. Роршах в третий раз приехал в Россию, намереваясь здесь постоянно поселиться. Один из пионеров российского психоанализа Н.А. Вырубов, возглавлявший подмосковный пансионат Крюково, предложил ему должность психотерапевта, в которой Роршах проработал с декабря 1913 г. по июль 1914 г. Жалование его было небольшим, но все же вполне приличным, и, вероятно, не материальные соображения в итоге побудили Роршаха оставить работу в России и навсегда вернуться в Швейцарию. Сам он мотивировал этот шаг тем, что находил весьма ограниченными возможности для своей научно-исследовательской деятельности в России.
Исследовательские интересы Роршаха простирались в разных сферах – от неврологических изысканий под руководством фон Монакова до аналитических этюдов в юнгианском духе. Прославившие его опыты по истолкованию форм впервые были проведены в 1911 г. С помощью своего давнего школьного товарища Конрада Геринга, в то время работавшего учителем, Роршах обследовал школьников города Тургау с помощью чернильных пятен причудливой формы. Этот материал не был оригинален, в ту пору его в разных целях использовали многие – например, А.Бине, который, однако, считал кляксы лишь хорошим стимулом для творческого воображения и соответственно строил свои эксперименты. Роршах пошел гораздо дальше, однако не сразу. После нескольких опытов в Тургау он забросил кляксы, чтобы вернуться к ним много позже. Его неожиданно заинтересовали совсем другие проблемы.
В психиатрической клинике Роршах столкнулся с необычным пациентом, неким Бингелли, который, как выяснилось, проходил принудительное лечение по приговору суда. Бингелли был основателем религиозной секты, и ему в вину вменялось исполнение ритуальных церемоний, включавших развратные действия, в частности – инцест. Роршах чрезвычайно заинтересовался проблемой сектантства в его связи с сексуальными перверсиями. Он провел тщательное изыскание в области истории швейцарских сект, проследив ее с ХII века. На эту тему он задумал написать обширное исследование, но не закончил его. В печати появились лишь три статьи на эту тему, которые только после его смерти с дополнениями из его черновых записей увидели свет в виде отдельной книги. О ее существовании не догадываются даже многие знатоки теста Роршаха, хотя в наши дни проблема извращенного сознания сектантов кажется даже более актуальной, чем столетие назад.
В 1917 г. Роршах вернулся к своим исследованиям восприятия причудливых пятен. Результаты многочисленных опытов были им обобщены в ныне всемирно известной книге «Психодиагностика» (кстати, сам этот термин ввел в обиход именно Роршах). Опубликовать книгу оказалось делом нелегким – с 1919 по 1921 г. рукопись была отвергнута несколькими издательствами. Обивая пороги издателей, Роршах продолжал дорабатывать свой тест, критически пересматривал многие свои идеи и к тому времени, когда книга все-таки увидела свет в издательстве «Ханс Хубер» с огорчением отмечал, что многое в ней следовало бы сказать иначе. Парадоксально, но 80 лет спустя тест Роршаха используется в практически неизменном виде, не претерпев сколько-нибудь значительных модификаций с момента публикации в 1921 г., и считается едва ли не безупречным психологическим инструментом. Остается только догадываться, до какого совершенства довел бы его создатель, проживи он чуть дольше.
Роршаху не была суждена прижизненная слава. Тираж в 1200 экземпляров «Психодиагностики» почти полностью пылился невостребованным на складе издательства, когда в апреле 1922 года Герман Роршах скоропостижно скончался от перитонита. Вместе с ним, по словам Блейлера, умерла надежда целого поколения швейцарских психиатров. Зато остался великолепный инструмент, по сей день символизирующий суть психологической науки – стремление проникнуть в неизведанные глубины душевного мира.
К.Л. Халл (1884–1952)
Кларк Халл – один из крупнейших деятелей психологической науки ХХ столетия. В 1936 г. как наиболее достойный представитель научного сообщества он был избран президентом Американской Психологической Ассоциации. А в середине века именно Халл был самым цитируемым в мире американским психологом. Самые значительные его работы увидели свет в 30–50-е годы. Увы, советская психология в ту пору принуждена была обособиться в своей «самодостаточности», поток переводов иссяк. Так что отечественные психологи старшего поколения знают про Халла понаслышке – его наряду с прочими «буржуазными» учеными принято было поругивать по принципу «Не читал, но осуждаю». Крупнейший исследователь и теоретик, создатель гипотетико-дедуктивной концепции поведения, Халл понимал психологию как науку, а в силу этого и новым поколением отечественных психологов оказался проигнорирован. Однако тем, кому в психологии интересна не только ее затейливо-прикладная сторона, будет небезынтересно познакомиться с этим ярким ученым и его идеями.
Кларк Леонард Халл родился 24 мая 1884 г. Местом его рождения справочные источники называют городок Экрон в штате Нью-Йорк. Эти данные не совсем точны. Экрон – ближайшая географическая точка к месту его рождения. На свет будущий психолог появился в бревенчатой хижине бедного фермера, в нескольких милях от захолустного провинциального городка. Впоследствии этот путь мальчику приходилось ежедневно проделывать, чтобы попасть в школу. Однако полноценного школьного образования ему получить не удалось. Он был очень слаб здоровьем, часто болел и постоянно из-за этого пропускал занятия. Но способности и трудолюбие позволили ему освоить школьную программу настолько, что в возрасте 17 лет ему самому было предложено попробовать себя в роли учителя. Мало оплачиваемая учительская должность в провинциальной школе часто оказывалась вакантной, и одаренный сельский паренек охотно воспользовался представившейся возможностью заработать лишний доллар.
Но его амбиции простирались гораздо дальше. Юный Халл мечтал сделать карьеру и выбиться из нищеты. Профессия горного инженера открывала для этого неплохую перспективу. Именно на инженера он поступил учиться в Мичиганский университет и успешно освоил эту профессию. Судьба, однако, распорядилась иначе.
В возрасте 24 лет Халл тяжело заболел полиомиелитом, который превратил его в инвалида. Всю последующую жизнь он сильно хромал и вынужден был постоянно носить металлический корсет (который, кстати, сам для себя сконструировал). Вкупе с врожденной близорукостью, которая неуклонно прогрессировала, это заставило забыть о профессии, требовавшей хорошей физической формы. Но Халл не сдался. В вопросе переквалификации он определился без колебаний.
Еще в юношеские годы он познакомился «Основами психологии» У.Джемса и проникся глубоким интересом этой области знания. Образование он продолжил в том же Мичиганском университете, переключившись на психологию. Университет он закончил лишь в 1913 г., получив степень бакалавра. А доктором стал только в возрасте 34 лет, защитив в Висконсинском университете работу, посвященную формированию понятий.
Ранние исследования Халла отличались весьма разнообразной проблематикой. Первым его проектом было исследование влияния курения на эффективность умственной и двигательной деятельности. Если бы эта работа осуществлялась в наши дни, по крайней мере некоторые результаты наверняка появились бы в новостях Интернета под заголовком «О пользе перекуров». Гипотеза о безусловном вреде курения, ныне считающаяся доказанной, в те дни еще дожидалась своего часа, и курильщики предавались своей привычке с удовольствием. Последнее, по мнению некоторых современных психологов (вероятно, курящих), значительно снижало наносимый табаком вред – по крайней мере, человек, курящий с осознанием причиняемого себе вреда и терзающийся от этого безотчетным чувством вины, тем самым вред только усугубляет. Интересно, что сказал бы на это Халл, доживи он до наших дней? Но в его научной биографии это исследование осталось лишь эпизодом.
Одним из предметов его научного интереса стал стремительно входивший в моду психоанализ. Нет, деловитый и рассудительный Халл, тяготевший к естественнонаучному мышлению, не пленился фрейдистскими мифами. Однако и механистическую схему поведения, характерную для раннего бихевиоризма, он находил ограниченной и впоследствии предпочел ее «оживить», введя заимствованные из психоанализа понятия тревоги, влечения (драйва) и соответственно редукции влечения. Еще одним результатом интереса к глубинной психологии стало увлечение Халла гипнозом. К этому явлению он как психолог подошел с неожиданной стороны – с количественными мерками. Строгость и точность рассуждения были его непреложными принципами. «Психолог должен не просто хорошо разбираться в математике, он должен мыслить математически», – считал Халл. Подход не бесспорный, но в данном случае он оказался продуктивным. По крайней мере, он вылился в 32 научных статьи, которые были опубликованы Халлом на протяжении 10 лет и потом суммированы в его книге «Гипноз и внушаемость» (1933).
По мнению одного из его биографов А. Стилла, Халл представлял собой тип энергичного и многостороннего экспериментатора, который, казалось, был способен взяться за любую проблему и сделать из нее книгу. Так, не обошел он вниманием и чрезвычайно популярную проблему измерения способностей. Его математический склад ума, в частности, выразился в изобретении им прибора для подсчета корреляций, необходимого при конструировании тестов. А что было делать – эра информационных технологий еще не наступила, приходилось разрабатывать технологии самому! Результаты изысканий Халла в этой области были обобщены в его книге «Тестирование способностей» (1928).
Вообще Халл был удивительно восприимчив к веяниям времени, внимательно следил за достижениями мировой научной мысли. Так, именно по его приглашению Америку посетил Курт Коффка, который познакомил американских психологов с основами гештальтпсихологии. Однако сам Халл этому влиянию не поддался. Гораздо большее впечатление произвели на него работы И.П. Павлова, с которыми он немедленно ознакомился после их перевода на английский. «Условные рефлексы» Халл называл великой книгой и сам вознамерился двинуться в указанном Павловым направлении. Неожиданная проблема возникла лишь в связи с тем, что опыты над животными вызывали у Халла брезгливость. Он не выносил запаха, исходившего из вивария, где помещались подопытные крысы – универсальные «испытуемые» бихевиористов. Однако в Йельском университете, куда он был приглашен на должность профессора, оказалась исключительно опрятная лаборатория, созданная Э. Хилгардом. Придирчиво принюхавшись, Халл согласился, что и с крысами, пожалуй, можно работать.
В 30-е годы Халл написал ряд статей, посвященных условным рефлексам, в которых он отстаивал мнение, что любые формы поведения, включая самые сложные, могут быть описаны в рефлекторных терминах. При этом, в отличие от ранних бихевиористов, он не отвергал с негодованием само понятие сознания, напротив – допускал его использование в определенных случаях. Ему, как и многим здравомыслящим исследователям, составившим когорту необихевиоризма, было очевидно, что поведение невозможно исчерпывающе описать лишь с использованием понятия стимула и реакции, поскольку между ними существуют некие опосредующие моменты. Последние Халл предпочитал называть независимыми переменными, не вдаваясь в их подробное описание. Это, в частности, и послужило одним из оснований последующей критики бихевиоризма, который фактически уподобил психику «черному ящику».
В 1940 г. Халл в соавторстве с пятью коллегами выпустил книгу «Математико-дедуктивная теория механического научения: исследования в области научной методологии». Ее содержание было под стать названию – громоздкое и трудное для восприятия. Методология, как известно, вообще крепкий орешек! В силу этого книга, высоко оцененная экспертами, широкого признания не получила.
Халл описал четыре метода, которые он считал полезными для науки. Три из них уже были в употреблении: простое наблюдение, систематически контролируемое наблюдение и экспериментальная проверка гипотез. Халл предложил четвертый метод – гипотетико-дедуктивный, который использует дедукцию на основании набора постулатов, определяемых a priori. Дедуктивно выводимое заключение должно подвергаться экспериментальной проверке. Если же оно не подтверждается результатами экспериментов, оно должно быть пересмотрено; если же подтверждается, то может быть включено в систему научных понятий.
Халл полагал, что если психология когда-либо станет объективной наукой, подобно прочим естественным наукам – что и являлось основной частью программы бихевиоризма, – то ее единственным адекватным методом станет именно гипотетико-дедуктивный.
Следующей его крупной работой стала книга «Принципы поведения» (1943), обобщившая результаты многих экспериментальных исследований. Впоследствии Халл не раз пересматривал свои взгляды с учетом новых исследований, которые подвергали опытной проверке ранние версии его теории. Окончательная версия его системы представлена в книге «Система поведения» (1952). Точнее эту версию следовало бы назвать не окончательной, а последней – Кларк Халл умер 10 мая 1952 г., не завершив многие из своих начинаний. Годы спустя историк науки Р. Лоури так оценил его достижения: «В любой области науки весьма редки явления истинного теоретического гения; и среди тех, кому психология может выразить свою признательность, Кларк Халл по праву должен занимать одно из первых мест».
К. Хорни (1885–1952)
Карен Хорни родилась 16 декабря 1885 г. в деревушке Бланкенезе близ Гамбурга. Ее отец Берндт Даниэльсен – норвежец, принявший немецкое гражданство, – служил капитаном на трансокеанском лайнере, который курсировал между Гамбургом и Северной Америкой. От предыдущего брака он имел четверых детей. Мать – Клотильда Ван Розелен, по происхождению голландка, была на 18 лет моложе своего мужа. Родители Карен были разительно непохожи друг на друга. Коренные различия в характерах и мировоззрении привели впоследствии к распаду семьи и серьезно сказались на становлении личности дочери. Берндт Даниэльсен был человеком простым, грубоватым и глубоко религиозным. Его идеалом была патриархальная семья, в которой женщине отводилась роль покорной и безропотной хозяйки. Карен всегда испытывала к отцу противоречивые чувства: она восхищалась им, но и побаивалась, порой просто ненавидела его, но тем не менее остро нуждалась в его эмоциональной поддержке.
Клотильда Даниэльсен в вопросах религии отличалась свободомыслием. Она была более образованным и культурным человеком, чем ее муж, и неохотно мирилась с приниженным положением в семье. Вообще, она была сторонницей большей независимости женщин. Когда Карен вознамерилась поступить в колледж и получить медицинское образование, отец выступил категорически против, и лишь настойчивость матери помогла сломить его сопротивление.
Среднее образование Карен получила в частной приходской школе, куда была отдана по настоянию отца. Царившие там порядки привели, однако, к совершенно неожиданному педагогическому результату. Строгое религиозное воспитание не нашло отклика в душе девушки, и уже к 17 годам Карен склонилась к атеизму и скептицизму.
Карен Даниэльсен обладала ярким умом, тягой к знаниям и сильным стремлением к самоутверждению. По ее мнению, симпатии родителей всегда принадлежали ее старшему брату Берндту; себя же она чувствовала нежеланным и нелюбимым ребенком. Эти переживания породили также ощущение собственного физического несовершенства, что абсолютно не соответствовало действительности: Карен была весьма привлекательна. Для себя она решила: если не получается быть красивой, надо быть умной и решительной. Желание заниматься медициной появилось у нее еще в двенадцатилетнем возрасте. И Карен сохранила это устремление, тогда как тяга к педагогике и театру осталась преходящей. Окончив Гамбургскую женскую реальную гимназию, она посвятила себя медицине, получив высшее медицинское образование в университетах Фрейбурга, Геттингена и Берлина. В 1909 г., еще будучи студенткой, она вышла замуж за Оскара Хорни, изучавшего в ту пору политические и экономические науки. У них родились три дочери – Бригитта (р. 1911), Марианна (р. 1913) и Рената (р. 1915). К своим материнским обязанностям Карен относилась, мягко говоря, без энтузиазма, что впоследствии дало повод дочерям обвинить ее в бесчувственности. Поглощенная своей работой, она полностью доверила их воспитание гувернанткам.
Получив в 1911 г. степень доктора медицины, Хорни стала работать в различных медицинских учреждениях Берлина, в частности – в психиатрической клинике Карла Бонхофера. Ее докторская диссертация называлась «Посттравматические психозы» и была посвящена вопросу о том, какую роль органические и психологические факторы играют в возникновении болезненных психических симптомов. Именно этот вопрос был по сути центральным в развернувшейся в те годы дискуссии о клиническом применении психоанализа.
Впервые Хорни обратилась к психоанализу в качестве пациентки в связи с обострением в 1911 г. депрессии и тревожности. Эти симптомы возникли как следствие глубоких переживаний, вызванных смертью матери. Свою роль сыграли и двойственное отношение к отцу, и внутреннее противоречие между карьерой и домом, и накапливавшиеся проблемы в супружеских отношениях. Аналитиком Хорни выступил Карл Абрахам, один из ближайших сотрудников З. Фрейда. Курс, однако, не был завершен и прервался менее чем через год. В своем дневнике Хорни записала, что разочарована результатами лечения. Это тем не менее не повлияло на возникновение у нее искреннего и глубокого интереса к психоанализу. (В 1921 г. она предприняла еще одну попытку; аналитиком выступил Ганс Сакс; курс продлился 6 месяцев). Освоив психоаналитический метод, Хорни с 1919 г. вела собственную практику и активно сотрудничала в Берлинском психоаналитическом институте, сначала – как лектор (преимущественно по теме женской психологии), затем – как клинический аналитик, позднее – как аналитик-куратор.
В начале 20-х гг. и ранее неблагополучные отношения с мужем еще более обострились. Оскар Хорни, весьма преуспевший в коммерции в годы I мировой войны и первые послевоенные годы, в результате инфляции в 1923 г. потерпел финансовый крах и был объявлен банкротом. Вызванные этим тяжелые переживания и последовавшее вскоре неврологическое заболевание грубо исказили его характер. Супруги Хорни фактически разошлись в 1926 г.; в 1937 г. был юридически оформлен развод.
Ранние научные публикации Хорни были посвящены психологии женщин и женской сексуальности, причем уже в статьях 20-х гг. звучат мотивы критической переоценки теории Фрейда. Хорни отвергала «фаллоцентрическую» ориентацию психоанализа, настаивала на необходимости учета своеобразия женской психики в противовес ее выведению из мужской. Собственный опыт неблагополучных семейных отношений также нашел косвенное отражение в публикациях этого периода.
В 1932 г. Хорни приняла приглашение своего бывшего берлинского коллеги Франца Александера и переехала в США. Она поступила на работу во вновь созданный Чикагский институт психоанализа, директором которого был Александер. Неудовлетворенность догматичной атмосферой Берлинского института породила у нее стремление к большей самостоятельности и свободе выражения, которые она рассчитывала обрести в Америке. К тому же поднимавший голову нацизм клеймил психоанализ как вредную еврейскую псевдонауку. Хорни не была еврейкой и не занималась политикой, но складывавшаяся атмосфера не могла не стимулировать ее отъезд.
В Чикаго Хорни провела всего два года. Порядки, заведенные Александером в институте, пришлись ей не по душе. С директором у Хорни не сложились нормальные отношения, не говоря уже о сугубо научных разногласиях. Оказавшись в Америке в новой для себя социальной атмосфере, Хорни все более настойчиво подчеркивала влияние социальных факторов на психологию женщин. Ее рассуждения все далее отходили от постулатов классического фрейдизма, что встретило крайнее неодобрение Александера.
В 1937 г. вышла ее первая книга – «Невротическая личность нашего времени», посвященная анализу роли социальных факторов в возникновении неврозов. В своей второй книге – «Пути психоанализа» – Хорни фактически провозгласила собственный подход к душевной жизни человека, связанный с критической переоценкой постулатов фрейдизма. На этой почве ею совместно с Э. Фроммом, Г. Салливеном и др. в 1941 г. была основана новая Ассоциация Развития Психоанализа. При Ассоциации был создан Американский институт психоанализа, Хорни стала его деканом. Ею также был основан печатный орган Ассоциации – «Американский журнал психоанализа», главным редактором которого она была до конца жизни.
Отдавая дань благодарности З. Фрейду как своему учителю и признавая его ценный вклад в науку, Хорни стремилась устранить сомнительные и практически необоснованные, по ее мнению, положения психоанализа. Это стремление имело своим источником неудовлетворенность терапевтическими результатами психоанализа. Из собственной практики Хорни вынесла убеждение в том, что психическую деятельность человека невозможно адекватно объяснить его биологической природой. Она выступила за социологическую ориентацию психоанализа, считая, что внутриличностные конфликты порождаются главным образом социальными факторами. Рассмотрение невротических реакций человека Хорни соотнесла с раскрытием духовных ценностей западной цивилизации, характеризующихся проявлением индивидуализма и соперничества. Причины возникновения внутриличностных конфликтов, а также основу всей мотивационной сферы она усматривала в так называемом «основном беспокойстве» («коренной тревоге»), порожденным ощущением беспомощности человека перед лицом враждебного мира. Анализируя природу человека, Хорни обращала особое внимание на противоречие между потребностями индивида и возможностями их удовлетворения. «Основное беспокойство» порождает стремление к безопасности, вступающее в противоречие со стремлением к удовлетворению желаний. Эти проблемы она рассматривала с точки зрения раскрытия отношений между людьми, в зависимости от которых она различала потребности, направленные к людям, против людей и от людей. Каждое из этих отношений характеризуется усилением одного из элементов «основного беспокойства», где доминирующую роль в первом случае играет беспомощность, во втором – враждебность, в третьем – изоляция. Соответственно выделяются три типа невротической личности – устойчивый, агрессивный, устраненный. Психическое заболевание, таким образом, представляет лишь обострение противоречий между конфликтующими тенденциями, свойственными здоровому человеку. Возможность устранения внутриличностных конфликтов Хорни усматривала в высвобождении и культивировании внутренне присущих человеку сил, ведущих к самореализации.
Для обоснования последнего положения Хорни обратилась к изучению религии. В последние годы своей жизни она испытала сильное влияние своего друга религиозного философа Пауля Тиллиха, а также буддиста Дайзецу Судзуки, у которого она гостила в Японии в 1951 г., посвятив целый месяц углубленному изучению теории Дзен.
До самой смерти Карен Хорни демонстрировала исключительную активность как практикующий психотерапевт, преподаватель, лектор, автор множества публикаций. В ноябре 1952 г. произошло обострение поздно диагностированного ракового заболевания. 4 декабря 1952 г. Карен Хорни умерла.
Люди, общавшиеся с ней, вспоминают не только о ее неотразимом обаянии, но и о бросавшейся в глаза противоречивости ее натуры. Хорни легко заводила друзей, но столь же легко и ссорилась с ними. Мало кто мог похвастаться долгими доверительными отношениями с нею. Как профессионал она обладала исключительной способностью вживаться в чувства других людей, однако в личном общении отличалась отчужденностью, даже холодностью. Она никогда не стремилась к вершинам карьеры и вообще к лидерству, дорожа, однако, влиянием, оказываемым на своих коллег, которым добровольно уступала формальные преимущества.
После смерти Хорни ее последователи распространили ее теорию на более широкий спектр психологических проблем, не ограничивающийся трактовкой неврозов. Ее идеи о необходимости реализации человеком своего внутреннего потенциала получили дальнейшее развитие во многих психологических концепциях.
С.Н. Шпильрейн (1885–1942)
Сабину Шпильрейн можно без преувеличения назвать одной из самых ярких фигур в мировой психологии ХХ столетия. Тесно общаясь с самыми выдающимися умами своей эпохи, она не только испытала их влияние, но и сама оказала значительное влияние на становление их идей. Однако ее имя, звучавшее на всю Европу в начале века, быстро забылось и до недавнего времени почти не упоминалось. В центре внимания историков психологии ее имя вновь оказалось после публикации тома переписки З.Фрейда и К.Г. Юнга. Эта переписка была опубликована с большим опозданием, в 1974 году (наследники долго противились публикации, опасаясь огласки некоторых весьма приватных деталей). Имя Шпильрейн и ее работы упоминаются в 40 письмах из этого собрания, причем ее заметная роль в истории отношений Фрейда и Юнга выступает в этой публикации довольно отчетливо.
В 1977 году итальянскому аналитику-юнгианцу Альдо Коротенуто передали найденную в подвале здания в Женеве, где когда-то размещался Институт психологии, объемистую пачку бумаг, оставленных там Сабиной Шпильрейн. Среди них было 46 писем Юнга, адресованных Шпильрейн, и 12 ее писем Юнгу; 12 писем ей от Фрейда и 2 письма ему, а также ее личный дневник 1909–1912 годов. На основе этой находки была написана книга «Тайная симметрия. Сабина Шпильрейн меж Фрейдом и Юнгом», которая сразу стала бестселлером, неоднократно переиздавалась и была переведена на многие языки (за исключением русского).
Живейший интерес широкой общественности к этой книге во многом привлекли пикантные детали личных отношений, ставшие впоследствии поводом для многих спекуляций. Так, в нашей стране большим успехом пользовалась книжка Дж. Платаниа «Юнг для начинающих», где Сабина Шпильрейн весьма бесцеремонно представлена как русская (!) красавица, чуть не соблазнившая Юнга. Нам, конечно, не привыкать к тому, что на Западе русскими огульно величают всех выходцев из России независимо от их национальности (так, в разных источниках можно встретить упоминания о «русских» женах Адлера и Роршаха – Раисе Эпштейн и Ольге Штемпелин). Огорчает другое – попытка представить историю отношений научных светил как эпизод мыльной оперы.
Но существует и иная крайность. Известный специалист по истории психоанализа Александр Эткинд в своих книгах «Эрос невозможного» и «Содом и Психея» уделяет фигуре Шпильрейн пристальное внимание (в обеих книгах ей посвящены специальные главы). В целом, науковедческую тактику Эткинда отличает склонность к чересчур смелым гипотезам. И в данном случае из его изысканий можно заключить, что фигура Шпильрейн – вообще чуть ли не центральная в психологии начала века: Фрейд и Юнг, Выготский и Пиаже, возможно, и не стали бы теми, кем они сегодня нам известны, если б не черпали вдохновение в общении с мудрой Сабиной.
Так кем же на самом деле была эта женщина, канувшая в забвение, восставшая из него и заслужившая самые противоречивые оценки?
Сабина Шпильрейн родилась в 1885 году в Ростове-на-Дону. Ее отец, состоятельный коммерсант Нафтул Шпильрейн по принятой у российских евреев традиции предпочитал «в миру» именоваться Николаем Аркадьевичем. (Впрочем, это не только российская традиция. Ведь и Фрейд при рождении был наречен Соломоном (Шломо), а имя Сигизмунд, преобразовавшееся впоследствии в Зигмунд, получил в целях адаптации к австро-венгерскому социуму.) Соответственно, в документах советской поры С.Шпильрейн фигурирует как Сабина Николаевна. Под этим отчеством известны и трое ее братьев, также ставшие крупными учеными, – Ян (инженер), Эмиль (биолог) и Исаак (психолог). Мать Сабины – Ева Марковна – имела специальность стоматолога, однако занималась главным образом семьей.
В собственном трехэтажном доме семьи Шпильрейн царили строгие порядки, установленные отцом. Нафтул Шпильрейн, собственными руками сколотивший состояние, стремился дать детям хорошее образование, которое послужило бы основой их благополучия. Сам он свободно владел несколькими языками и того же требовал от детей: по составленному им расписанию в каждый день недели все разговоры в доме велись на том или ином европейском языке. Нарушение этого предписания влекло за собой наказание, порой весьма строгое. Прав или нет был отец в своем педагогическом рвении, но цели своей он добился. К моменту окончания гимназии все дети свободно владели иностранными языками, все пошли в науку и преуспели в ней (Ян окончил Сорбонну и университет в Карлсруэ, стал членом-корреспондентом АН СССР; Исаак окончил Гейдельбергский университет, учился в Лейпциге у В.Вундта; Эмиль окончил университет в Ростове-на-Дону и стал там доцентом).
Сабина окончить гимназию не сумела. После окончания восьми классов у нее обнаружилось нервное расстройство, по-видимому, отчасти спровоцированное смертью ее младшей сестры Эмилии. И тогда отец принял решение, кардинально повлиявшее на всю ее судьбу. В 1904 году он отправил Сабину на лечение в Швейцарию. Так она оказалась в цюрихской клинике Бургхёльци, которой руководил профессор Э. Блейлер. Лечащим врачом Сабины стал увлекавшийся психоанализом молодой доктор Карл Густав Юнг, впервые опробовавший на пациентке некоторые идеи и приемы психоаналитической терапии. Результат оказался неожиданным – юная пациентка влюбилась в женатого врача. Надо сказать, что Юнг – потомок протестантских священников – никогда не отличался приверженностью пуританской морали своих предков. Он ответил Сабине взаимностью. Многие подробности их бурного романа, наверное, утрачены навсегда, но и получившие огласку детали свидетельствуют о поистине шекспировском накале страстей.
Что же касается нервного расстройства, которым страдала Сабина, то тут Юнг как врач оказался на высоте. (А может быть, просто-напросто любовь обладает исцеляющей силой и врачует душевные недуги.) Так или иначе, после десятимесячного курса интенсивной терапии (…) Сабина в 1905 году поступила на медицинский факультет Цюрихского университета, где стала специализироваться по психотерапии и педологии. Юнг, однако продолжал лечение (вплоть до 1909 года) и с 1906 года обсуждал случай Шпильрейн в переписке с Фрейдом. (В дальнейшем она непосредственно вмешалась в их непростые отношения и отнюдь не улучшила их.)
Учась в университете, Сабина всё больше увлекалась психоаналитическими идеями и с удовольствием работала над темами, предложенными Блейлером и Юнгом. А в 1909 году сама вступила в переписку с Фрейдом.
По окончании университета она активно работала над диссертацией «О психологическом содержании одного случая шизофрении» (как известно, сам термин «шизофрения» был предложен Блейлером) и в 1911 году успешно защитила эту работу. В этом же году новоявленный доктор медицины Сабина Шпильрейн завершила интересную работу «Разрушение как причина становления» (опубликована в 1912 году), в которой предвосхитила принципиально важную идею Фрейда, обозначив садистский компонент сексуального влечения как «деструктивное» влечение. В этом же году, посетив Вену, Сабина Шпильрейн лично познакомилась с Фрейдом. 25 ноября 1911 года на заседании Венского психоаналитического общества она сделала доклад по данной работе. Центральная ее идея, впоследствии развитая Фрейдом в его поздних теоретических построениях, была сформулирована следующим образом.
Чтобы создать нечто, надо разрушить то, что ему предшествовало. Поэтому во всяком акте созидания содержится процесс разрушения. Инстинкт самовоспроизведения содержит в себе два равных компонента – инстинкт жизни и инстинкт смерти. Для любви и творчества влечение к смерти и разрушению не является чем-то внешним, что загрязняет их и от чего они могут быть очищены. Напротив, влечение к смерти является неотторжимой сущностью влечения к жизни и к ее продолжению в другом человеке. Через разнообразные биологические примеры Шпильрейн приходит к мифологическому и литературному материалу. Подтверждением являются все те случаи, когда любовь выступает порождением ненависти, рождается из смерти или причиняет смерть – мазохисты и садисты; любовники-самоубийцы, например Ромео и Джульетта; вещий Олег, нашедший смерть в черепе любимой лошади, которая воплощала в себе его сексуальность, идентичную со смертью. Любовь имеет другой своей стороной желание уничтожения своего объекта, всякое рождение есть смерть, и всякая смерть – это рождение.
Теоретический вывод таков: «Инстинкт сохранения вида требует для своего осуществления разрушение старого в такой же степени, как создание нового, и… по своему существу амбивалентен… Инстинкт самосохранения защищает человека, двойственный инстинкт продолжения рода меняет его и возрождает в новом качестве».
Доклад Шпильрейн вызвал бурное обсуждение. Фрейд отозвался о ней и ее идее так: «Она очень талантлива; во всем, что она говорит, есть смысл; ее деструктивное влечение мне не очень нравится, потому что мне кажется, что оно личностно обусловлено. Она выглядит ненормально амбивалентной».
Восемнадцать лет спустя Фрейд скажет: «Я помню мое собственное защитное отношение к идее инстинкта разрушения, когда она впервые появилась в психоаналитической литературе, и то, какое долгое время понадобилось мне, прежде чем я смог ее принять». Время прошло, и Фрейд в своей знаменитой работе «По ту сторону принципа удовольствия», написанной им, как часто считают, под влиянием опыта мировой войны и ряда личных потерь, повторил основные выводы Шпильрейн. Он отдал ей должное в характерной для него манере: «В одной богатой содержанием и мыслями работе, к сожалению, не совсем понятной для меня, Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений». Юнг считал, однако, что такой ссылки недостаточно: идея инстинкта смерти, писал он, принадлежит его ученице, а Фрейд попросту ее присвоил. Ссылка, тем не менее, существует и является едва ли не единственным памятником, поставленным Сабине Шпильрейн.
11 декабря 1911 года Сабина Шпильрейн была принята в члены Венского психоаналитического общества. Это произошло на том же заседании, на котором Фрейд исключил из Общества А.Адлера и пятерых его сторонников. В истории психоаналитического движения начиналась полоса расколов и мучительной борьбы. Одновременно это период, когда «старый мастер», как называл себя Фрейд, изгоняющий из своего мира то одного, то другого «сына» и наследника, становится всё более зависимым от череды «приемных дочерей». П.Розен насчитывает около десятка таких женщин-психоаналитиков, которые по очереди занимали место рядом с Фрейдом – от Евгении Сокольницкой, которая, несмотря на пройденный психоанализ у Фрейда, покончила с собой в 1934 году, до княгини Мари Бонапарт и нескольких подруг Анны Фрейд. Сабина Шпильрейн должна бы по праву занять первое или одно из первых мест в этом списке. То, что писал ей Фрейд, упоминая о скандальной ссоре с Адлером и его сторонниками, раскрывает значение для него этого женского общества и тогда, и много позже: «Как женщина, Вы имеете прерогативу более точно видеть вещи и более достоверно оценивать эмоции, чем мужчина. Тем более приятно, что Вы стали нежной рукой разглаживать наши морщины. Действительно, я часто страдаю от своей неспособности поддерживать среди членов нашего Общества достойный уровень личного поведения и взаимного уважения. Наш последний вечер, конечно, не был восхитителен. Но я далеко не всегда столь же лишен чувства юмора, как могло показаться Вам в этом случае. Во всем остальном я полностью одобряю ваше отношение и с доверием смотрю в будущее». Юнгу он сообщил о принятии «внезапно появившейся фрейлейн Шпильрейн» и не без гордости написал ему, что «она сказала, что я не выглядел таким злым, каким по ее представлениям, я должен был выглядеть».
В это время отношения Сабины с Юнгом стали осложняться. В полном соответствии с ее теоретическими представлениями, эти отношения, как нередко бывает в случае бурной страсти, переросли в свою диалектическую противоположность – любовь-ненависть. Юнг уже откровенно тяготился этой связью, да и Сабина была изрядно утомлена всеми перипетиями их романа. Этот Гордиев узел в итоге был разрублен по-житейски банально. В 1912 году Сабина Шпильрейн вышла замуж за российского врача П.Н. Шефтеля. Было совершенно очевидно, что в основе этого брака лежала отнюдь не любовь, что подтвердилось всей последующей историей семейной жизни.
В 1913 году у Сабины Шпильрейн-Шефтель родилась дочь Рената. Семейная жизнь требовала много времени и сил, а мысли Сабины неотступно вращались вокруг интересной и любимой работы. Профессиональные интересы занимали ее почти целиком.
В течение последующих лет Сабина Шпильрейн работала в различных немецких, швейцарских и австрийских центрах: психиатрической клинике Блейлера (Цюрих), психоневрологической клинике Бохофера (Берлин), занималась психоанализом у Юнга (Цюрих) и Фрейда (Вена), работала врачом-педологом в лаборатории Клапареда (Женева). В эти годы она осуществила психоаналитическое исследование «Песни о Нибелунгах» и ряда народных сказок, опубликовала несколько статей в различных европейских журналах. Она участвовала в работе съездов, конференций и конгрессов по педагогике, психологии, психиатрии и психоанализу.
Деятельное участие Шпильрейн в развитии и пропаганде психоанализа принесло ей не только удовлетворение, но и признание. Время ученичества давно прошло. И она сама обучала психоанализу других. Пожалуй, наиболее известным из ее учеников стал швейцарский психолог Жан Пиаже, чьим психоаналитиком она была в Женеве в 1921 году.
1921 год оказался переломным в жизни двадцатипятилетнего Жана Пиаже. Его познавательная энергия, до того метавшаяся от систематики моллюсков до философской эпистемологии, теперь, наконец, нашла точку приложения. Именно в 1921 году Пиаже публикует первую свою статью, посвященную развитию речи и мышления у ребенка, и совершает свое открытие эгоцентрической речи. Небезынтересно, что в том же году он проходил курс психоанализа у Сабины Шпильрейн. Анализ длился восемь месяцев, ежедневно по утрам. По словам Пиаже, проведенный Шпильрейн психоанализ не был ни терапевтическим, ни учебным, а имел «пропагандистский» характер. Пиаже вспоминал, что Шпильрейн была направлена в Женеву Международной психоаналитической ассоциацией с целью пропаганды там анализа, и он с удовольствием, как он говорил много лет спустя, «играл роль морской свинки». Пиаже был сильно заинтересован, но испытывал сомнения по поводу теоретических вопросов. В конце концов Шпильрейн прервала анализ по собственной инициативе, не желая, по словам Пиаже, «тратить по часу в день с человеком, который отказывается проглотить теорию». К тому же он не собирался становиться психоаналитиком, хотя и участвовал в Берлинском конгрессе 1922 года, на котором была и Шпильрейн; тогда же имя Пиаже появляется в списках Швейцарской психоаналитической ассоциации. (В психоаналитическом движении эта ситуации впоследствии стала весьма банальной. Так, если внимательно изучить списки членов всевозможных современных российских обществ и ассоциаций, то в них можно обнаружить множество фигур, весьма далеких от психоанализа. Например, если верить журналу «Архетип», то даже автор этих строк состоит членом Московского психоаналитического общества.) В своей «Автобиографии» Пиаже не упоминает о пройденном им анализе. Но в интервью Джеймсу Райсу в 1976 году Пиаже, подтвердив, что аналитиком была именно Шпильрейн, описывал ее как очень умного человека со множеством оригинальных идей. Он рассказывал Райсу, что пытался установить с ней контакт после ее возвращения в Россию, но ему это не удалось.
По версии уже упоминавшегося Александра Эткинда, именно влияние Шпильрейн помогло Пиаже осознать реальный круг своих профессиональных интересов. Сразу же он начинает серию опытов, которые открывают эпоху в экспериментальных исследованиях психологии развития. В 1923 году выходит его знаменитая книга «Речь и мышление ребенка». В этой работе эгоцентрическая речь противопоставляется социализированной речи, которая постепенно вытесняет первую.
За год до своей встречи с Пиаже, в 1920 г., Сабина Шпильрейн делала доклад на VI Международном психоаналитическом конгрессе в Гааге. Доклад в сокращенном виде был опубликован в официальном органе Международной ассоциации. Он называется «К вопросу о происхождении и развитии речи». Шпильрейн рассказывала коллегам, что есть два вида речи – аутистическая речь, не предназначенная для коммуникации, и социальная речь. Аутистическая речь первична, социальная речь развивается на ее основе. В статье 1923 года «Некоторые аналогии между мышлением ребенка, афазическим и бессознательным мышлением» Шпильрейн продолжает свои рассуждения, выстраивая ту систему аналогий (аутистическая речь ребенка – мышление при афазии – фрейдовское бессознательное), которая будет иметь ключевое значение для последующей психологии столетия. Свои идеи Шпильрейн подкрепляет наблюдениями и маленькими экспериментами над своей дочерью Ренатой. В другой работе, доложенной на Берлинском психоаналитическом конгрессе 1922 года и современной самым первым экспериментам Пиаже, Шпильрейн рассуждает о генезисе понятий пространства, времени и причинности у ребенка, то есть фактически очерчивает проблематику будущих исследований Женевской школы генетической психологии Жана Пиаже.
Ставя одни и те же проблемы, Шпильрейн и ее швейцарский пациент шли из общей точки в разных направлениях: логика формальных операций мышления станет открытием Пиаже, Шпильрейн же углубилась в собственно психологический анализ взаимосвязи речи, мышления и эмоционально насыщенных отношений ребенка с родителями. Подход Шпильрейн – психоаналитический, придающий главное значение содержанию взаимодействий ребенка с родителями; Пиаже постепенно отказывался от него, формируя свой собственный, структурный подход.
В своих трудах Пиаже лишь пару раз упоминает соответствующие статьи Шпильрейн, и эти упоминания фактически теряются в череде аналогичных ссылок. При недавнем переиздании его книги «Речь и мышление ребенка» в издательстве «Педагогика-Пресс» братьями Луковыми была предпринята попытка составить максимально подробные комментарии. В соответствующем комментарии Шпильрейн была названа немецким психологом, изучавшим особенности детской речи (вероятно на том основании, что ее статьи публиковались на немецком языке). По сей день в нашей стране имя знаменитой соотечественницы оставалось неизвестно даже специалистам! После внесенного мною уточнения комментаторы исправили ошибку, но не избежали новой: впервые услышав незнакомое имя, не запомнили его, и в результате в данной книге Сабина названа Сибиллой.
В начале 20-х годов братья Сабины, Ян и Исаак, получившие образование в Европе, уже трудились в Москве. В Ростове-на-Дону завершал учебу в университете младший брат Эмиль, а отец активно работал по ликвидации неграмотности. Сабина считала, что и она должна принять участие в создании новой России.
В 1923 году с благословения Фрейда, проявлявшего большую заинтересованность в распространении психоанализа в России, Сабина Шпильрейн-Шефтель вместе с семьей вернулась на родину. Семейная жизнь, однако, дала глубокую трещину. Муж уехал в Ростов-на-Дону, где занялся врачебной практикой и вступил в гражданский брак с другой женщиной, а Сабина попыталась начать новую жизнь в Москве.
После пережитых и переживаемых Россией потрясений рассчитывать на материальное благополучие не приходилось. Семья потеряла практически всё, что имела. И Шпильрейн, с полным на то основанием, отвечая на вопрос о ее имущественном положении писала коротко, ясно и зло: «Ни у кого ничего нет!»
В атмосфере убогого коммунального быта и всеобщей неразберихи она все же умудрилась с головой уйти в работу. С сентября 1923 года она работала врачом-педологом в городке имени 3-го Интернационала, заведовала секцией детской психологии в Первом московском государственном университете и состояла научным сотрудником Государственного психоаналитического института и детского дома-лаборатории «Международная солидарность». В этом институте вела амбулаторный прием, консультировала, читала спецкурс «Психоанализ подсознательного мышления», вела «семинарий по детскому психоанализу».
Согласно официальному сообщению Международной психоаналитической ассоциации, доктор Сабина Шпильрейн, бывший член Швейцарского психоаналитического общества, была принята в члены только что организованного Русского общества осенью 1923 г., одновременно с А.Р. Лурией и двумя другими казанскими аналитиками. Ее авторитет и научные связи сразу же были признаны. В том же 1923 году она вошла в комитет из пяти членов, сформированный для верховного руководства Государственным психоаналитическим институтом и Русским психоаналитическим обществом.
В списке штатных и сверхштатных сотрудников Государственного психоаналитического института, возглавлявшегося профессором И.Д. Ермковым, в первой половине 1924 года значился только один штатный научный сотрудник – Сабина Николаевна Шпильрейн-Шефтель. Один-единственный, но зато какой сотрудник! В собственноручно заполненном анкетном листке доктор медицины и автор около 30 научных работ С.Шпильрейн писала: «Работаю с наслаждением, считая себя рожденной и «призванной» как бы для моей деятельности, без которой не вижу в жизни никакого смысла».
Она примерялась к большой и перспективной работе. Но жизнь распорядилась по-своему. По независящим от нее серьезным семейным обстоятельствам в 1924 году С.Шпильрейн была вынуждена оставить Москву и переехать в Ростов-на-Дону. Там она снова воссоединилась с мужем. Вскоре у них родилась вторая дочь – Ева.
Во второй половине 1925 года власти ликвидировали Государственный психоаналитический институт и постепенно усиливали идеологический нажим на психоаналитиков и педологов. Мрачные перспективы вырисовывались уже вполне определенно, но Сабина Шпильрейн продолжала работу и писала статьи по психоанализу вплоть до начала 30-х годов. В 1931 году один из ведущих психоаналитических журналов – «Имаго» – опубликовал о статью о детских рисунках, выполненных с открытыми и закрытыми глазами. Это была последняя публикация российских психоаналитиков, за которой последовал полувековой период вынужденного молчания.
Ее жизнь и работа в Ростове-на-Дону (1924–1942) – наименее известный период жизни, сведения о котором основываются лишь на нескольких установленных фактах и немногих (не всегда достоверных) свидетельствах очевидцев.
Она много работала и лишь изредка позволяла себе кратковременные поездки в Москву. По мере развития событий в стране ее деятельность как психоаналитика и педолога (к тому же бывавшего за границей) все более отчетливо приобретала жизнеопасные черты. Занятия такого рода уже фактически приравнивались к государственным преступлениям со всеми вытекающими последствиями. В стране раскручивался маховик репрессий. Один за другим были арестованы и убиты трое ее братьев. Остается только недоумевать, отчего у палачей из НКВД не дошли руки до полного искоренения рода Шпильрейн. Завершить эту кровавую эпопею они предоставили своим коллегам из гитлеровских зондеркоманд.
Началась война. Фронт стремительно приближался к городу, и ростовчане в ужасе пытались бежать от нацистских зверств. По злой иронии судьбы Сабина Шпильрейн, автор теории человеческой деструктивности, меньше других верила в бесчинства гитлеровцев, считая их пропагандистским мифом. Она отказывалась верить, что столь культурный народ, как немцы, способен на иррациональные злодеяния. В этой свой наивности она была солидарна с Фрейдом, который тоже не верил, что народ, давший миру Гете, способен на геноцид. Как известно, престарелого и больного патриарха психоанализа его последователям пришлось выкупать у нацистских палачей. А те уже растапливали печи, в которых предстояло сгореть многим родственникам Фрейда.
Выкупать Сабину Шпильрейн было некому. Последний раз ее видели в июле 1942 года в колонне евреев, предназначенных к ликвидации, которую «борцы за чистоту высшей расы» гнали в направлении Змеевской балки – огромных оврагов на окраине города. Там Сабина Шпильрейн и двое ее дочерей встретили свою ужасную смерть.
Посмертная судьба ее была столь же странной и несчастной, как и жизнь. Ее известность за рубежом по преимуществу скандальна, а в России даже иные доктора психологических наук никогда не слышали ее имени. А кто знает, какой была бы ныне психологии, если бы в кругу ее светил не вращалась эта удивительная женщина…
Ф. Бартлетт (1886–1969)
Расцвет научного творчества английского психолога Фредерика Бартлетта пришелся на те годы, когда наша страна замкнулась в самоизоляции и зарубежную науку игнорировала – «У советских собственная гордость – на буржуев смотрим свысока». Когда же в перестроечные годы принялись восполнять образовавшиеся пробелы, про корифея мировой психологии просто забыли – слишком уж не терпелось снять сливки с гештальт-терапии, трансактного анализа и прочих увлекательных конструкций с хорошим рыночным потенциалом. К настоящему времени из обширного научного наследия Бартлетта на русский язык переведена лишь одна его небольшая (144 с.) книга «Психика человека в труде и игре» (М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959), давно ставшая библиографической редкостью. (Забавная деталь – самим автором эта работа была задумана как научно-популярная, адресованная юношеской аудитории.) В нашей стране этот психолог никогда не был не то что моден, но даже мало-мальски известен. Когда современный российский психолог, скажем, в биографическом очерке об А.Н. Леонтьеве читает: «В круг его друзей входили Ж.Пиаже, Дж. Брунер, Ф. Бартлетт – словом, цвет мировой психологии», – то лишь пожмет плечами: «Пиаже знаю, про Брунера слышал, а Бартлетт – кто такой?» Во избежание таких вопросов в дальнейшем познакомимся с этой крупной и весьма интересной фигурой мировой психологии ХХ века.
Фредерик Чарлз Бартлетт родился 20 октября 1886 г. в небольшом провинциальном городке Стоу-он-те-Уолд в английском графстве Глостершир. Он был вторым сыном в небогатой, но вполне обеспеченной семье, которую в наши дни отнесли бы к среднему классу. Однако вопреки своему достаточно респектабельному происхождению полноценного формального образования он получить не сумел. Грамматической школы, окончание которой позволило бы в дальнейшем поступить в солидный университет, в родном городке не было, а отпустить подростка в другой город родители не решились – мальчик страдал тяжелым плевритом и нуждался в особом уходе. (Детские недуги не помешали, однако, Бартлетту вырасти вполне здоровым человеком и даже увлечься спортом – в зрелые годы всем формам досуга он предпочитал теннис, крикет и гольф). По окончании начальной школы в среднюю он просто не пошел, и дальнейшее образование фактически вылилось для него в самообразование, благо родители этому всячески способствовали, а богатая домашняя библиотека с лихвой утоляла его широкие интересы. Но для поступления в Оксфорд или Кембридж уровень его подготовки формально считался недостаточным. Высшее образование ему пришлось получать заочно, что в ту давнюю пору было еще менее престижно, чем нынче. Заочный университетский колледж, согласившийся принять самоучку, формально принадлежал Лондонскому университету, но реально базировался в Кембридже (который, как немногим известно, является столицей крупного графства и много чем знаменит, помимо своего университета). Здесь Бартлетт обосновался и прожил всю дальнейшую жизнь, став профессором древнего университета, которому в свое время не подошел в студенты. Вдохновляющий пример для современных «заочников»!
Его знакомство с психологией произошло в процессе самообразования. На рубеже веков соответствующих источников было не так уж много. Первым стала для Бартлетта статья Джеймса Уарда «Психология» в энциклопедии «Британика». Заинтересовавшись этим предметом, он обратился к «Руководству по экспериментальной психологии», написанному одним из немногих английских психологов той поры Чарлзом Майерсом. Этот предмет так увлек молодого человека, что все описанные в руководстве опыты он самостоятельно воспроизвел дома на самодельном оборудовании.
Правда, намерение заняться именно психологией оформилось у Бартлетта не сразу. Первые его публикации были посвящены вопросам логики, а наибольший интерес вызывала у него так называемая моральная философия, тесно связанная с антропологическими изысканиями – исследованиями морали и нравов «примитивных» народов. Признанным специалистом по всем этим вопросам был в те годы в Британии Уильям Риверс, преподававший в Кембридже. К нему Бартлетт и поступил в аспирантуру, намереваясь впоследствии заняться антропологическими исследованиями. Риверс, однако, предложил ему сначала как следует освоить психологию – иначе, по его мнению, любые антропологические наблюдения рискуют остаться поверхностными. Бартлетту довелось прослушать последний курс лекций, который прочел в Кембридже его кумир почтенный профессор Уард перед своей отставкой. Другим его учителем стал автор первой прочитанной им книги по психологии профессор Майерс, возглавлявший в ту пору психологическую лабораторию Кембриджского университета. Всем слушателям его курса надлежало 4 часа в неделю уделять практическому экспериментированию в лаборатории. Бартлетт, ранее поднаторевший в домашних опытах, тут оказался на высоте И когда освободилась должность ассистента в лаборатории (ранее ее занимал еще один впоследствии знаменитый британский психолог Сирил Бёрт), это место было предложено Бартлетту. С этого момента его научная карьера целиком оказалась посвящена психологии. (Хотя и интерес к антропологии тоже не прошел даром – экспериментальным материалом для своих знаменитых опытов ученый избрал образцы устного и художественного творчества североамериканских индейцев и южноафриканских племен).
В Кембридже Бартлетт познакомился с молодой коллегой Эмили Мэри Смит, во многом разделявшей его научные интересы. В 1920 г. они поженились и прожили вместе, как это еще было принято в ту пору, всю оставшуюся жизнь. Одной из своих книг Бартлетт с благодарностью предпослал посвящение любимой жене.
В 1922 г. после отставки Майерса Бартлетт возглавил лабораторию, которой руководил последующие 30 лет до своего ухода на пенсию в 1952 г. (Приняв под свое руководство маленькое исследовательское подразделение, он оставил его крупным, всемирно известным научным центром с 70 сотрудниками.) В эти годы им были выполнены обширные исследования в области экспериментальной психологии памяти, восприятия, мышления, обучения, а также социальной, инженерной и военной психологии. При всей широте научных интересов некоторых областей он намеренно сторонился. Например, насчет личностных опросников однажды скептически заметил: «Возможно, что-то в этом и есть, но боюсь, их авторы переоценивают способность человека к самоотчету и недооценивают его чувство юмора».
За годы научной работы им были написаны сотни статей и несколько книг, пользовавшихся большой популярностью. В книге «Психология и примитивные культуры» (1923) он, вопреки царившим в ту пору общественным настроениям, подчеркивал гораздо большее психологическое сходство, нежели различие представителей разных культур. В 1927 г. вышла его «Психология солдата», в который была предпринята одна из первых попыток анализа проблемы военных неврозов, а также профессионального отбора в военной сфере. Эти разработки, а также более частная работа «Психология шума» (1934) выдвинули его в годы Второй мировой войны в ряды ведущих экспертов по приложению психологического знания к оборонным нуждам.
Наибольшую известность принесла Бартлетту его доныне цитируемая книга «Воспоминание» (1932). С нею в оригинале ознакомились и некоторые советские ученые, и, по некоторым оценкам, идеи Бартлетта оказали влияние на разработку ряда обще-психологических положений культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Огромный успех книги послужил основанием для избрание ученого в Королевское Общество (британскую академию наук). Вопреки царившим дотоле представлениям, уходящим корнями в исследования Г. Эббингауза, Бартлетту удалось экспериментально доказать, что процесс запоминания является не репродуктивным, а конструктивным, и он основан на создании внутреннего образа (схемы) окружающей среды. Он показывал испытуемому необычный рисунок и просил по памяти воспроизвести его. Потом предлагал повторить то же самое (уже без картинки) спустя несколько дней, потом – еще через неделю, и так несколько раз. Затем выкладывал все полученные картинки в ряд, и было видно, что каждое следующее изображение несколько отличается от предыдущего, а последнее совершенно не похоже на оригинал. Но испытуемые были уверены, что это именно то, что им показали! В своей книге Бартлетт писал, что воспоминание – это не повторное воспроизведение (или прохождение нервного импульса по тем же местам, связям, как считали и продолжают считать многие нейробиологи), а творческая реконструкция, попытка заново пережить то, что когда-то было ощущением. В его экспериментах показано, что запоминание никогда не бывает буквальным, что стратегии запоминания обусловлены стремлением облегчить припоминание, что при запоминании на определенных моментах, которые признаются наиболее важными, делаются акценты. Функции и структуру памяти Бартлетт рассматривал в контексте культуры.
Наиболее важное сделанное Бартлеттом открытие заключалось в том, что информация, формируемая воспоминаниями, во многом отличается от исходно сообщаемой информации. Как показали его данные, «точность воспроизведения, в буквальном смысле, является редким исключением и не составляет правила». Бартлетт утверждает, что в основе всякого воспроизведения и вспоминания лежит аффективная установка и прошлое реконструируется с таким расчетом, чтобы оправдать эту установку.
Выводы, сделанные на основании своих открытий, ученый впоследствии попытался распространить и на процессы мышления, однако, по общему признанию, это удалось ему менее убедительно.
Как это нередко бывает, широкое признание пришло к ученому не сразу. В 1948 г. он был удостоен дворянского звания за заслуги перед отечеством, и с той поры в англоязычной литературе именуется не иначе как сэр. Большинства своих регалий Бартлетт удостоился уже после выхода на пенсию. Он был избран иностранным членом Американской АН, Американского философского общества, почетным членом национальных психологических обществ Швеции (1952), Испании (1955), Швейцарии (1956), Турции (1957) и Италии (1963), почетным доктором многих крупнейших университетов мира.
30 сентября 1969 г. Фредерик Бартлетт скончался в своем доме в Кембридже после непродолжительной болезни в возрасте 82 лет. Науке осталось его обширное творческое наследие и крупная школа – большинство именитых английских психологов ХХ века были его учениками и сотрудниками. Идеи Бартлетта были ассимилированы зарождавшейся когнитивной психологией – самым влиятельным направлением современной психологической науки, в становление которой немалый вклад внесли его последователи.
Э.Г. Боринг (1886–1968)
Эдвин Гарригс Боринг родился 23 октября 1886 г. в Филадельфии в семье небогатого аптекаря. Он был у своих родителей четвертым ребенком и единственным мальчиком. Вообще женщины – начиная от незамужней двоюродной прапрабабушки и кончая старшими сестрами Эдвина – не только преобладали в семье, но и, отличаясь волевой и энергичной натурой, задавали тон всей семейной жизни. Если к тому же учесть, что в семье царила строгая религиозная атмосфера, то, пожалуй, любой психоаналитик должен был бы заключить, что единственное, кем может вырасти младший Боринг, так это человеком закомплексованным, безынициативным и конформным. Впрочем, для критиков психоанализа пример всей жизни Боринга явился бы тогда блестящим аргументом: весь его жизненный стиль ни в малой мере не соответствовал этому унылому прогнозу. Конечно, влияние семьи не могло не сказаться. Но, может быть, именно своим родителям и прародителям – ревностным протестантам квакерского толка – Боринг был обязан своими основными жизненными убеждениями. Моральные ценности семьи не допускали никакого лукавства, лицемерия и двусмысленности в словах и делах, и требовали от человека простых, ясных и честных ответов на любой поставленный перед ним вопрос. Не в этом ли коренится свойственное Борингу стремление к ясности и объективности, пронизывающее все его исследования, а также блестящий стиль изложения, не позволяющий читателям его трудов усомниться в объективности автора?
Дабы предохранить неокрепшую детскую душу от риска дурного влияния, старшие строжайше запрещали Эдвину играть со сверстниками, так что игры он себе вынужден был придумывать сам, отдавая предпочтение конструированию. В школу его отдали только тогда, когда ему исполнилось 9 лет (то есть в первый класс он пришел, будучи на 3 года старше своих одноклассников). Такая педагогическая самодеятельность сегодня вызвала бы только осуждение, да и сам Боринг впоследствии вспоминал, что строгость старших доставила ему немало огорчений. Однако это не помешало ему успешно учиться в квакерской школе и закончить ее одним из первых учеников. Правда, он так и не преуспел в подвижных играх и физических упражнениях, в которых его сверстники практиковались с юных лет. Много лет спустя друзья и коллеги отмечали импульсивность и нескоординированность его движений, а также скверный почерк.
По окончании школы Эдвину было ясно, что его интересы лежат в сфере инженерных наук. Впоследствии он, правда, признавал, что скорей предпочел бы занятия физикой, если б в ту пору видел существенное различие в этих областях. Закончив в 1908 г. инженерный факультет Корнельского университета, Боринг устроился на работу в сталелитейную компанию «Бетлехем Стил». В то время его заработная плата составляла 18 центов в час, то есть около 40 долларов в месяц. Довольно скоро он, однако, осознал, что сделал неправильный выбор: работа инженера его не вдохновляла. Боринг решил попробовать свои силы в качестве преподавателя физики. Люди, сталкивавшиеся с ним в зрелые годы, вспоминали о нем как о крупном, даже грузном мужчине. Но в молодости Боринг не отличался мощным телосложением, а многим своим ученикам просто уступал в этом смысле и авторитетом поэтому не пользовался. Кончилось тем, что однажды великовозрастный балбес облил его стул клеем, и молодой учитель долго не мог подняться со своего места. Эта история переполнила чашу терпения Боринга, и с учительской карьерой он распростился почти столь же быстро, как и с инженерной.
Решив продолжить свое образование, Боринг вернулся в Корнельский университет, однако обратил свои взоры не к инженерным наукам, а к психологии, так как находился под сильным впечатлением от прослушанных лекций Э.Б. Титченера. Боринг боготворил Титченера и считал его едва ли не гением (хотя впоследствии среди выдающихся людей науки, сыгравших решающую роль в развитии научного знания, – а к ним он относил Дарвина, Гельмгольца, Джемса и Фрейда, – он своего учителя не назвал). Симпатия эта была взаимной: Титченер вскоре назвал Боринга своим лучшим учеником (это была, по сути, блестящая рекомендация, которая открывала широкие перспективы для научной карьеры). Еще в годы обучения Боринг опубликовал 5 научных работ, посвященных своим экспериментальным исследованиям. Сферой его интересов явилась область ощущения и восприятия, а опыты он ставил в том числе и на себе. Так, он перерезал себе один из кистевых нервов на правой руке и в течение 4 лет наблюдал за восстановлением чувствительности. Докторская диссертация (успешно защищенная в 1914 г.) была посвящена исследованию висцеральной чувствительности (эксперименты Боринг также ставил на себе, бессчетное количество раз заглатывая гибкую трубку для раздражения пищевода).
Защита диссертации принесла Борингу возможность серьезной научной работы в университете и материальную обеспеченность (10000 долларов – весьма значительное годовое жалование по меркам 1914 г.), что позволило ему – отныне самостоятельному человеку – жениться. 18 июня 1914 г. он обвенчался с Люси Дэй, защитившей докторскую диссертацию по психологии двумя годами раньше его.
Началась I мировая война. Эдвин Боринг изъявил добровольное желание служить в армии. Наиболее целесообразным его было признано использовать в качестве капитана медицинской службы. Сферой же его деятельности явилась психодиагностика. Тысячи новобранцев были обследованы с помощью интеллектуальных тестов. (Именно тогда общественность содрогнулась, узнав от психологов, что «умственный возраст» среднего призывника составляет 13 лет.) В 1918 г. Эдвин Боринг был приглашен Р. Йерксом в Вашингтон, чтобы суммировать и проанализировать огромный материал, полученный в результате широкомасштабной программы тестирования. Психологическая атмосфера, сложившаяся в кругу его коллег, была самой благоприятной, и отношение к нему было очень доброжелательным и уважительным. Последнее было вызвано в немалой степени его объективностью и непредвзятостью, а также неожиданной для коллег способностью не замыкаться в традициях школы Титченера. Естественно, что анализ результатов тестирования не мог не привести к дискуссиям о природе интеллекта. В них-то и родилось ставшее впоследствии крылатым ироничное определение Боринга: «Интеллект это то, что измеряется тестами интеллекта». Это определение вполне отражало современный Борингу уровень развития психодиагностики; к сожалению, около сотни более развернутых дефиниций, появившихся с тех пор, не очень приблизили ученых к пониманию природы интеллекта.
По завершении отчета Боринг получил несколько заманчивых предложений, но принял не самое материально выгодное. Исходило оно от Г.С. Холла, бывшего в ту пору президентом университета Кларка в Массачусетсе. Правда, работа в этом университете продолжалась недолго. Последовавшая вскоре отставка Холла привела к резкому перепрофилированию научных исследований в университете Кларка. И Боринг предпочел новую должность, предложенную ему в Гарвардском университете.
До прихода Боринга психологическое отделение Гарвардского университета формально являлось частью философского отделения (самостоятельный статус был им получен лишь в 1934 г.). Научная активность была слабой, ежегодно на отделении присуждалось лишь 2–3 степени доктора философии. С появлением Боринга работа оживилась. Имея за плечами опыт исследований в Корнельском университете и университете Кларка (к тому времени ему принадлежало уже 29 публикаций, преимущественно экспериментального характера), Боринг привнес свежий взгляд на психологию, свободный от философствования и умозрительных спекуляций. Его блестящие лекции, поражавшие слушателей широтой его эрудиции, привлекли множество студентов. (Ученики вспоминают, что Боринга, всегда корректного в своих ссылках, можно было застать в аудитории задолго до начала лекции: чтобы выписать на доске все источники цитирования, ему требовалось не менее получаса.) Экспериментальные исследования Боринг всячески поощрял. Его ученик Гарри Хелсон указывает, что когда он представил к защите теоретическую диссертацию по гештальтпсихологии, Боринг выразил сильное сомнение, допустимо ли присуждение докторской степени по психологии за работу, не носящую экспериментального характера.
Однако во второй половине 20-х гг. Боринг отходит от экспериментальной работы и посвящает себя исследованиям в области истории психологии. Такой поворот событий может иметь разные объяснения. Во-первых, возглавив лабораторию, Боринг получил возможность переложить непосредственную экспериментальную работу на своих учеников и ассистентов, осуществляя лишь общее руководство. Во-вторых, что более важно, Боринг всегда считал необходимым в своей работе учитывать и осмысливать опыт других исследователей. Им был накоплен огромный фактический материал, который в систематизированном виде представлял собой самостоятельную научную ценность. В 1924 г. Боринг изложил этот материал в курсе, прочитанном им в Беркли в Калифорнийском университете. После этого он взял отпуск на целый семестр и сел за написание книги, где весь материал должен был быть систематически изложен. Среди прочего им были отмечены многие работы исследователей прежних лет, которые, не будь они встроены в систему изложения Боринга, могли бы затеряться во множестве малозаметных публикаций. (Немаловажно и то, что книга, носящая характер глубокого аналитического обзора, была весьма желанной на рынке научной литературы. Осознав коммерческий успех такого издания, книгоиздатели впоследствии активно поощряли Боринга к написанию подобных трудов.) Правда, уже упоминавшийся Гарри Хелсон считает, что обращение его учителя к истории науки вызвано более серьезными и глубокими причинами. По его мнению, Боринг не мог не чувствовать, что перерастает рамки титченеровской традиции. Но в то же время он не находил в себе сил присоединиться к новым течениям научной мысли, подстегиваемым бурным развитием бихевиоризма, гештальтпсихологии и психоанализа. (К послденему Боринг питал неподдельный интерес и в сотрудничестве с психиатром М. Прэнсом пытался интерпретировать его в терминах общей психологии.)
Так или иначе, в 1929 г. увидело свет первое издание «Истории экспериментальной психологии». Книга имела огромный успех. В частности, благодаря тому, что в ней сухие факты из истории науки были изложены живым и доступным языком (без ущерба для содержания). Ее автор по сей день считается непревзойденным стилистом в своем жанре. Он считал: «Писать следует не для себя, а для читателя. Это основное правило хорошего стиля, все остальные правила – производные». Ему же принадлежат слова: «Молодым ученым следовало бы платить за право публикации из своего кармана, долларов по 8 за страницу. Тогда б они научились ценить слово». Многим авторам пошло бы на пользу и такое его высказывание: «Не следует говорить от первого лица, по крайней мере первые десять лет после получения докторской степени. При написании научного труда добиться этого нелегко, но возможно. Надо только ценить сами идеи, а не то, что они пришли именно в вашу голову».
Сам Боринг чрезвычайно плодотворно работал как автор разнообразных книг по психологии. Помимо экспериментальных работ по проблемам восприятия ему принадлежат блестящие учебники по психологии; в годы II мировой войны им опубликована популярная книга «Психология для бойца». Но наибольшую известность принесли ему труды по истории науки и в частности по истории психологии («Ощущение и восприятие в истории экспериментальной психологии», 1942; «Великие люди и научный прогресс», 1950; «Психологические факторы в научном прогрессе», 1954). В них он стремился обосновать гипотезу, согласно которой каждый новый этап развития психологического знания не только подготовлен предыдущим, но и обусловлен определенным числом характерных для своего времени направляющих идей, что в частности проявляется в синхронных открытиях.
В течение 30 лет Боринг являлся членом редколлегии одного из ведущих психологических журналов – «Американского журнала психологии». В 1955 им основан журнал рецензий и библиографии «Современная психология». С 1932 г. – член Национальной Академии Наук США.
В конце 40-х гг. здоровье Боринга ухудшилось и в 1949 г. он ушел в отставку, оставив психологическую лабораторию Гарвардского университета, которую возглавлял с 1924 г. В 1951 г. он переехал в свою усадьбу в Харборсайд (штат Мэн), где ранее проводил лишь летний отпуск.
Эдвин Боринг умер 1 июля 1968 г.
Его фундаментальный труд «История экспериментальной психологии» выдержал три издания и по сей день является бестселлером серди книг этой тематики.
Ф. Гудинаф (1886–1959)
Каких только ни бывает на свете фамилий! Фамилия известного психотерапевта Джанет Рейнуотер (Rainwater) переводится как Дождевая вода; крупнейший специалист по невербалике носит фамилию Бердуистл (Birdwhistle) – Птичий свист. Гудинаф (Goodenough) – тоже «говорящая» фамилия. Достаточно вспомнить, что это слово встречается в названии известной книги Бруно Беттельтхейма Goodenough Parents — «Вполне хорошие (приемлемые, сносные) родители». То есть Гудинаф буквально означает «Неплохая». Однако носительница этой фамилии сыграла в психологии роль, заслуживающую более высокой оценки. Одна из крупнейших специалистов в области детской психологии и психодиагностики, создатель оригинального теста интеллекта, который вот уже свыше 70 лет в почти неизменном виде широко используется во всем мире, она, на удивление, почти не известна в нашей стране. По сей день даже весьма авторитетные и сведущие российские авторы безжалостно перевирают ее фамилию и даже берутся ее склонять (что с подобными женскими фамилиями, как известно, не делается), так что редкие упоминания о ней в отечественной литературе – это как правило ссылки на «тест Гудинафа». Это, впрочем, не удивительно – ни одна ее работа на русский язык не переведена, отечественные справочники и словари о ней умалчивают. Лишь в середине 90-х по настоянию автора этих строк в «Российскую педагогическую энциклопедию» (за неимением психологической) была включена небольшая статья об этом психологе. Пожалуй, настало время подробнее рассказать об этой замечательной женщине и ее трудах.
Флоренс Лаура Гудинаф родилась 6 августа 1886 года в городке Хонсдейл, штат Пенсильвания. Она была младшей из девяти (!) детей в небогатой фермерской семье. По мнению некоторых психоаналитиков, такое семейное положение чревато серьезными проблемами – взросление в многодетной семье нередко приводит к психологической «контузии», осложняющей собственную личную жизнь (о чем, кстати, нелишне задуматься проповедникам повышения рождаемости любой ценой). Гипотеза эта спорная, однако Флоренс Гудинаф ее невольно подтвердила – ее собственная личная жизнь не сложилась, замуж она впоследствии не вышла, своих детей не имела. Что, впрочем, не помешало ей стать авторитетным экспертом по детскому развитию. Как, кстати, и незамужней и бездетной Анне Фрейд – пионеру детского психоанализа. Наверное, воспитывать детей и изучать их – далеко не одно и то же, и специалист в одном не обязательно блестяще проявит себя в другом. По крайней мере опыт Джона Уотсона и Бенджамина Спока, оказавшихся никудышными воспитателями собственных сыновей, это лишний раз подтверждает.
Выбор профессиональной карьеры для фермерской дочки был невелик, и учительская стезя представлялась наиболее перспективной. Гудинаф получила среднее педагогическое образование и в 1908 г. была удостоена степени бакалавра педагогики. Последующие 11 лет она преподавала в сельских школах штата Пенсильвания, набираясь опыта. Высшее образование она получила в Колумбийском университете, где ее научным руководителем выступила Лета Холлингворт – одна из первых в США женщин-психологов, сумевшей ценой невероятного упорства и самоотверженности утвердить место «слабого» пола в психологической науке. Можно сказать, что Гудинаф пошла по ее стопам, что было, конечно, уже несколько легче, но все равно непросто – в психологическом сообществе женщины продолжали составлять ничтожное меньшинство. Зато отнюдь не «слабое»! Наш соотечественник М.Е. Литвак в своей книге «Профессия – психолог» называет «первой великой женщиной в психологии» Карен Хорни. Справедливости ради стоило бы отметить, что великой Хорни можно назвать, начиная с 1937 г., когда увидела свет ее первая книга – «Невротическая личность нашего времени». А ведь новаторская книга Гудинаф, перевернувшая представления об интеллектуальном тестировании, появилась на 11 лет раньше!
В 1919–1921 гг. Гудинаф вела преподавательскую и исследовательскую работу в школе для умственно отсталых детей в г. Вайнленд, штат Нью-Джерси (по оценке одного из ее биографов Адриана Вейсса, там она выступала в статусе, который сегодня был бы определен как должность школьного психолога). Эти занятия положили начало ее научным исследованиям умственного развития и аномального детства. По окончании университета (1921) Гудинаф поступила на работу в Стэнфордский университет, где под руководством Льюиса Термена занялась адаптацией шкалы Бине-Симона, существующей и поныне в виде модифицированной шкалы Стэнфорд-Бине. Эта работа навела Гудинаф на многие размышления, касающиеся возможностей и ограничений тестов интеллекта. Уязвимость вербальных тестов для критики уже в ту пору была достаточно очевидна, а существовавшие варианты невербальных тестов не отличались высокой валидностью и к тому же были весьма громоздки. О влиянии культурных факторов на результаты тестирования уже активно поговаривали, идея создания тестов, «свободных от влияния культуры», или «культурно-независимых» (culture-free), витала в воздухе. Гудинаф был предпринят один первых эффективных практических шагов в этом направлении.
В годы работы под руководством Термена она также приняла активное участие в возглавлявшемся им лонгитюдном исследовании одаренности. Термен предпринял попытку проследить жизненные достижения большой выборки высокоодаренных детей, пытаясь найти доказательства того, что диагностированный в детстве высокий интеллект является залогом последующих успехов. Естественно, к этой масштабной работе были привлечены многие сотрудники и аспиранты Термена. Их имена нам по большей части неизвестны. Ведь и прежде и теперь результаты кропотливой черновой работы подчиненных как правило засчитываются в актив руководителя. Гудинаф удалось стать редким исключением – судя по всему, она выступала одним из ключевых участников проекта. По крайней мере, в книге Термена «Генетическое исследование одаренности» (1925) ее участие отмечено с признательностью.
Защитив под руководством Термена диссертацию и получив докторскую степень (1924), Гудинаф возглавила Консультативную детскую клинику в Миннеаполисе. В 1925 г. она поступила на работу в организованный при Миннесотском университете Институт здоровья ребенка, где и проработала в должности профессора до своей вынужденной отставки в 1947 г.
В работе «Измерение интеллекта с помощью рисунка» (1926) Гудинаф впервые в истории психодиагностики практически обосновала гипотезу о том, что выполненный ребенком рисунок знакомого объекта отражает степень овладения им ключевыми понятиями и таким образом свидетельствует об уровне развития интеллекта. Созданный ею тест «Нарисуй человека» (Draw A Man Test) отличался от существовавших ранее тестов интеллекта. Он позволял довольно точно оценить уровень умственного развития, причем в достаточной степени независимо от уровня усвоенных знаний и умений, в том числе и навыков рисования.
Широкомасштабные исследования с помощью метода тестов привели Гудинаф к переоценке основополагающего в американской тестологии принципа неизменности коэффициента интеллекта (IQ). Гудинаф наглядно продемонстрировала, что ряд социальных факторов (например, благоприятные условия дошкольного воспитания) может значительно повысить этот показатель, то есть умственная одаренность не является врожденным и стабильным свойством. Не ограничиваясь анализом тестов, Гудинаф в работе «Экспериментальное исследование ребенка» (1931) подвергла всестороннему рассмотрению различные исследовательские методики детской психологии, продемонстрировала их сильные и слабые стороны.
Специальное исследование Гудинаф было посвящено проблеме аффективного поведения. На основе наблюдений за проявлениями гнева и раздражения у детей ею были разработаны рекомендации по формированию навыков игровой деятельности, общения, лидерства.
В книге «Исключительные дети» (1956) обобщила опыт изучения детей, страдающих дефектами развития. Руководство «Психология развития» (1934) явилось одним из первых фундаментальных трудов в этой области, заложивших основы изучения жизненного пути человека на его основных этапах.
Наибольшую известность Гудинаф принес именно тест «Нарисуй человека». Первоначальная стандартизация этой методики была осуществлена в 1926 г. С тех пор вплоть до 1963 г. тест использовался без существенных изменений и приобрел за это время широкую популярность. (По данным А. Анастази, в настоящее время в мировой психодиагностической практике тест «Нарисуй человека» по частоте использования является вторым после знаменитого метода чернильных пятен Г. Роршаха.) С целью обновления тестовых норм ученик Гудинаф Дэйл Харрис провел новую стандартизацию метода, результаты которой опубликовал в 1963 г. С этого времени тест «Нарисуй человека» известен как тест Гудинаф-Харриса. По сравнению с первоначальным вариантом он практически расширен вдвое – пришлось учитывать феминистскую критику. Дело в том, что английский язык не очень-то политкорректен – слово man в нем означает и человек, и мужчина, то есть как бы неявно подразумевается, что человек – это в первую очередь мужчина. И как же быть бедной девочке, когда ей задается инструкция Draw a Man – Нарисуй… мужчину! Пришлось ко всеобщему удовольствию дополнить тест заданием «Нарисуй женщину». Ревнители политкорректности, правда, не унялись по сей день. Дело в том, что чернокожие дети в подавляющем своем большинстве на просьбу нарисовать человека изображают… белого человека! Среди политкорректных параноиков нашлись такие, кто упрекает в создавшемся положении давно почившую Флоренс Гудинаф. Обвинения, конечно, вздорные, однако сама проблема, если рассмотреть ее непредвзято, могла бы стать темой интересного исследования. Но в современной Америке, чтобы решиться на такое исследование, нужна немалая смелость. Пока никто смелости не набрался!
Как и в первоначальном тесте Гудинаф, так и в обновленном варианте основное внимание уделяется точности и детальности рисунка, а не художественным изобразительным средствам. Именно детальность изображения выступает основным показателем уровня умственного развития ребенка. В основе такого подхода лежит гипотеза о том, что в рисунке знакомого предмета обнаруживаются те его отличительные, существенные черты, которые ребенок выделил в нем как в представителе существующего класса предметов. Рисунок рассматривается как выраженное в графической форме понятие (представление) ребенка о предмете. Наблюдаемое по мере взросления ребенка усложнение выполняемых им изображений расценивается в качестве показателя развития понятийного мышления. В связи с этим понятно, что такого рода тест интеллекта имеет и определенные возрастные ограничения. Если ребенок не обучается рисованию специально, то продукты его изобразительной деятельности и в 15, и в 17, и в 20 лет (как, впрочем, и в 30, и в 40) не будут принципиально отличаться от рисунков младшего подростка. В силу этого верхний возрастной предел использования теста определен Гудинаф в 13–14 лет. (Тут стоит отметить, что это критерий почти 80-летней давности. По наблюдению автора этих строк, посвятившего использованию данного теста специальную работу, в современных условиях использование рисунка для диагностики интеллекта утрачивает надежность после 12-летнего возраста.)
Следует также отметить, что гипотеза Гудинаф, которая легла в основу ее теста, не опирается на какие-либо строгие теоретические построения. Она лишь отражает эмпирически наблюдаемую зависимость между особенностями детского рисунка и общим умственным развитием ребенка.
В результате многочисленных исследований было установлено, что для детей дошкольного и младшего школьного возраста данные теста Гудинаф-Харриса высоко коррелируют с данными арифметических тестов, а также с некоторыми заданиями, выявляющими уровень развития операционального интеллекта.
На протяжении многих лет данная методика широко используется в качестве компонента комплексного обследования ребенка. Важно подчеркнуть, что несмотря на неоднократно подтвержденную высокую надежность теста, большинство специалистов считают, что самостоятельной диагностической ценности тест почти не имеет. Ограничиваться одним данным тестом при обследовании ребенка недопустимо; тест может выступать лишь как часть обследования, предпочтительно – начальная часть. Рисуночным тестом пользуются для того, чтобы получить первое представление об уровне развития ребенка.
К тому же необходимо признать, что Гудинаф, весьма преуспевшая в выявлении слабостей разнообразных тестовых методик, создала тест отнюдь не свободный от слабостей. По крайней мере, некоторые ее притязания оказались не реализованными – в первую очередь претензия теста на независимость от усвоенных знаний и навыков, как и от влияния культуры вообще.
Для апробации теста в качестве «свободного от влияния культуры» было предпринято широкомасштабное исследование, которое включало тестирование детей разных народов, принадлежавших к разным культурам. В качестве важного критерия различения культур (а для рисуночного теста это имеет особенно большое значение) был принят уровень развития и распространенности художественного творчества. Факт достаточно очевидный: разные народы являются носителями разнообразных традиций изобразительной деятельности, в частности, изображения человеческой фигуры. Например, известно, что в изобразительном творчестве народов, традиционно исповедующих ислам, преобладают орнаменты, тогда как фигуры людей почти отсутствуют. Это связано со сложившейся религиозной традицией, согласно которой создание человеческих черт – прерогатива Всевышнего, и любая попытка копирования божественного творения греховна. Неудивительно, что для ребенка, воспитывающегося по традиционным исламским канонам, нарисовать человека – дело не только непривычное, но и связанное с серьезным моральным противоречием.
Межкультурные исследования с помощью рисуночного теста продемонстрировали, что выполнение этого теста в большей степени зависит от культурных условий, чем это предполагалось. Средние групповые показатели оказались весьма связанными со степенью представленности изобразительного искусства в каждой из культур. Для культур с неразвитым искусством была высказана гипотеза, что выполнение теста в значительной мере отражает степень приобщения такой культуры к западной цивилизации. В обзоре этих исследований Гудинаф вынуждена была признать, что «поиск теста, свободного от влияния культуры, независимо от того, измеряет ли он интеллект, художественные способности, социально-личностные характеристики или любые другие черты, является иллюзорным».
Возникает и другой вопрос: действительно ли навыки рисования (которые могут быть усвоены в разной степени разными детьми независимо от их интеллекта) не оказывают влияния на тестовый результат. Гудинаф полагала, что это именно так. Это мнение, однако, также представляется спорным.
В.С. Мухина в своей известной книге «Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта» (1981) ссылается на интересный материал, полученный еще в 1971 г. сотрудниками лаборатории психофизиологии детей дошкольного возраста НИИ дошкольного воспитания АПН. В массовое обследование уровня умственного развития детей 6 лет был включен тест Гудинаф. Обследованием было охвачено свыше 1500 детей, как посещавших, так и не посещавших детский сад. (Надо отметить, что по критерию посещения дошкольного учреждения дети в данном случае не подразделялись.) Подавляющее большинство полученных рисунков оказались соответствующими высшей категории. Был сделан вывод: «В процессе систематического обучения рисованию, осуществляемого в советских детских садах и семьях, дети усваивают предлагаемые им графические образцы и широко их используют. Тесты Ф.Гудинаф в этом случае уже не работают».
Безусловно, такие выводы были в известной степени окрашены идеологической установкой на дискредитацию зарубежного психодиагностического опыта. Сегодня кажется некоторым преувеличением провозглашение преимуществ воспитанников советских детских садов над их американскими сверстниками. Не говоря уже о том, что едва ли имеет место систематическое обучение рисованию в семьях. Тем не менее, определенная тенденция в этом исследовании оказалась вскрыта (а впоследствии и подтверждена автором этих строк в уже упоминавшейся работе): целенаправленное формирование изобразительных навыков приводит к повышению результатов рисуночного теста, что не может быть расценено как показатель развития интеллекта – по крайней мере, если судить по данным других тестов.
В наши дни тест «Нарисуй человека» очень популярен, однако это совсем не тот тест, что был разработан Гудинаф. Опыт практического использования теста Гудинаф поставил психологов перед необходимостью интерпретации одного интересного факта. Выяснилось, что сходные или даже одинаковые показатели уровня интеллектуального развития, высчитываемые по предложенной ею шкале, возникают в результате анализа рисунков, разительно отличающихся друг от друга. При наличии общих закономерностей в становлении детского рисунка, каждый рисунок отличается специфическими, сугубо индивидуальными особенностями. Возникла гипотеза, что эти особенности являются отражением индивидуально-психологических свойств ребенка, его мироощущения, характера, самооценки и др.
Американским психологом Карен Маховер (нелишне заметить, что и эта женская фамилия не склоняется!) была проделана огромная работа по анализу детских рисунков в сопоставлении с клиническими данными. Ею был выделен ряд признаков интерпретации человеческой фигуры, касавшихся не уровня интеллектуального развития, а личностных особенностей. Результаты этой работы были обобщены в книге «Проекция личности в рисунке человеческой фигуры» (1949, в рус. пер. – «Проективный рисунок человека», 1996), где тест предстал уже в виде проективной методики. Большинству наших психологов-практиков именно в этой форме он и знаком. А ведь и первоисточник не следовало бы оставлять без внимания – хотя бы из соображений практической целесообразности. Ведь один и тот же рисунок может быть интерпретирован двояко – и как тест интеллекта, и как проективный тест. (При этом, правда, необходимо помнить, что тест Гудинаф, в отличие от модификации Маховер, имеет возрастные ограничения.)
За годы своей научной деятельности Флоренс Гудинаф выполнила свыше 20 обширных исследований, опубликовала множество статей и несколько учебников (не считая названных монографий). В 1946–47 гг. она была президентом Общества исследований детского развития, а в 1947–49 гг. президентом 7-го отделения Американской Психологической Ассоциации (отделение психологии развития). Вынужденная вследствие резкого ухудшения здоровья уйти на пенсию в 1947 г., она сохранила звание почетного профессора и продолжала активно писать, причем несмотря на прогрессировавшее ослабление зрения, закончившееся полной слепотой. 4 апреля 1959 г. она умерла от сердечного приступа в доме своей сестры в штате Флорида.
Среди ее учеников, помимо упомянутого верного последователя Харриса, следует назвать Рут Ховард – первую чернокожую американку, получившую докторскую степень по психологии. Вообще, в плане политкорректности Гудинаф занимала исключительную позицию – и по тем временам, и пожалуй по нынешним тоже. Она была чужда предубеждений и предрассудков, готова была объективно ценить человека за его достоинства, невзирая на его пол, расу и т. п. Причем именно невзирая, а не выпячивая эти признаки как особые достоинства. Когда в 1942 г. ей было предложено занять пост президента Совета женщин-психологов, Гудинаф приняла это предложение с неохотой, своей должностью тяготилась и в конце концов подала в отставку, мотивировав свой шаг бесхитростно и просто: «Я – не женщина-психолог, я – психолог!»
Слова, достойные быть высеченными золотом на мраморе!
Э. Толмен (1886–1959)
О выдающихся бихевиористах – Торндайке и Уотсоне, Скиннере и Бандуре – написано много, и ныне их имена известны любому студенту-психологу. Эдварду Толмену, который занимает в этом пантеоне не менее достойное место, в нашей стране «повезло» меньше – из всех его работ на русский язык переведены лишь две небольшие статьи, причем перевод был выполнен специально для хрестоматии по истории психологии и широкого внимания не привлек. И это кажется особенно несправедливым на фоне широкого признания его вклада в мировую науку. Еще в 1952 г. в очередном томе «Истории психологии в автобиографиях» был опубликован его научный «автопортрет», а такой чести удостаивались лишь самые заслуженные; в американском био-библиографическом справочнике «Психология», недавно переведенном и у нас, Толмен фигурирует среди 500 крупнейших фигур мировой психологической науки. Сегодня и мы попробуем восполнить образовавшийся пробел и отдать дань одному из крупнейших знатоков поведения.
Эдвард Чейс Толмен родился 14 апреля 1886 г. в городке Уэст-Ньютон, штат Массачусетс, в семье преуспевающего промышленника. Его отец, президент крупной компании, к своему делу относился очень увлеченно и мог часами с неиссякаемым энтузиазмом рассказывать о нем детям… наводя на них смертельную скуку. Ни Эдвард, ни его старший брат не питали склонности к бизнесу и в итоге отказались пойти по стопам отца, предпочтя науку (брат Эдварда стал известным химиком-теоретиком). Такое решение, хотя и не отвечало родительским ожиданиям, не вызвало в семье конфликта – напротив, братьям на протяжении их учебы оказывалась щедрая финансовая поддержка. Одно это ярко свидетельствует о той либеральной атмосфере, которая царила в семье.
Однако научные предпочтения Толмена определились не сразу. Окончив среднюю школу в родном городе, он поступил в Массачусетский технологический институт. Такой выбор был продиктован не какими-то особыми склонностями к инженерной карьере, а главным образом – пожеланиями родителей. Сказалось и то, что в школе Толмену хорошо давались математика и естественные науки. Семейные связи и собственные немалые способности могли обеспечить ему достойное место в кругу капитанов американской индустрии. Но он предпочел другой путь.
На последнем курсе института Толмен прочитал несколько произведений У.Джемса и под их влиянием принял решение посвятить себя философии и психологии. По окончании института в 1911 г. он отправился в Гарвард и в течение летнего триместра вольнослушателем посещал курс философии, который читал ученик Джемса Р.Перри, а также курс психологии Р.Йеркса. Этот опыт привел его к выводу: хотя философские проблемы ему чрезвычайно интересны, по своему складу ума философом ему не стать, а вот психология в наибольшей мере отвечает его интересам, тем более, что она, как ему казалось, представляет собой связующее звено между философской мыслью и естественнонаучным знанием.
Осенью Толмен поступил в аспирантуру в Гарварде по специальности «философия и психология». Годы его учения пришлись на ту пору, которая характеризовалась «революционной ситуацией» в психологической науке. В воздухе витали идеи бихевиоризма. Но и позиции структурализма оставались достаточно сильны. Вводный курс общей психологии Толмен изучал по учебнику Э.Титченера, который, как он отмечал в своей автобиографии, «на время почти убедил меня в структуралистском интроспекционизме». Этих же позиций придерживался Г.Мюнстерберг, выступавший самой влиятельной фигурой в Гарварде. Эксперименты, проводившиеся в его лаборатории, включая диссертационное исследование Толмена, посвященное влиянию запахов на запоминание бессмысленных слогов, осуществлялись с использованием метода интроспекции. Однако уже в 1913 г. появился программный манифест Дж. Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста», заставивший многих американских психологов критически пересмотреть подход к предмету и методам своей науки. На последнем курсе аспирантуры Толмен под руководством Йеркса уже изучал психологию по книге Уотсона «Поведение. Введение в сравнительную психологию» (1914).
Несомненное влияние на Толмена оказали и работы европейских психологов. После первого года аспирантуры в Гарварде он отправился на лето в Германию с целью совершенствоваться в немецком языке для сдачи экзамена на степень доктора философии (завидная обстоятельность, особенно в сравнении с нашим «кандидатским минимумом», который реально не гарантирует даже понимание товарных этикеток). В Гессене он познакомился с Куртом Коффкой, видным представителем зарождавшейся гештальтпсихологии, и даже принял участие в его экспериментах в качестве испытуемого. Позднее, в 1923 г. Толмен еще раз приехал в Гессен, дабы углубить свои познания в заинтересовавшем его предмете. Не прошло даром и серьезное изучение немецкого языка, что также, по мнению самого Толмена, оказало влияние на его научное мировоззрение. Английский язык, по его словам, был словно приспособлен для атомизма, рассмотрения явлений в их отдельности. Конструкции немецкого языка подтолкнули Толмена к иному подходу, который он назвал «молярным» – в противовес «молекулярному» подходу Уотсона. Толмену мы, в частности, обязаны и тем, что понятие гештальта, заимствованное им у Коффки и использованное в собственной поведенческой концепции, не было искажено неадекватным переводом на английский, а транслировалось напрямую из немецкого.
В 1915 г. Толмен защитил докторскую диссертацию и приступил к преподавательской работе в Северо-Западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс. Этот этап его карьеры трудно назвать удачным. На первых порах молодой преподаватель затруднялся выразить свои мысли, вел себя застенчиво и попросту боялся своих студентов. К тому же полученное в семье воспитание в духе либерализма и пацифизма оказалось неадекватно общественным настроениям в годы мировой войны. Подпись Толмена под антивоенной петицией была расценена университетской администрацией как непатриотичный жест, поэтому не приходится удивляться, что при сокращении штатов в 1918 г. не слишком успешный и не вполне лояльный преподаватель был уволен.
К счастью, Толмену быстро удалось подыскать новое место работы. Таковым оказался Калифорнийский университет в Беркли. Здесь ученый проработал много лет, пока в 1954 г. не вышел в отставку в звании почетного профессора. За эти годы он удостоился многих регалий – стал почетным доктором Йельского университета и Университета Макгилл, а в 1937 г. занял пост президента Американской Психологической Ассоциации. Об этих годах Толмен впоследствии писал: «Переезд в Калифорнию символизировал мое окончательное освобождение от оков консервативного мировоззрения. «Вольный дух Запада» сразу же пленил меня, и я с той поры остался ему верен – хотя по прошествии лет, конечно, начал осознавать: не все золото, что блестит, даже в Калифорнии… Мою психологическую зрелость – а я, кажется, кое-чего в психологии достиг, – я в основном считаю заслугой благоприятной атмосферы Беркли, а также моего необыкновенно счастливого брака».
1920-е годы оказались наиболее продуктивными в научной деятельности Толмена. В духе утверждавшейся бихевиористской методологии он проводил многочисленные опыты на крысах с целью раскрыть основные механизмы научения. Именно благодаря Толмену крысы, которых он считал наиболее подходящими для экспериментирования, воцарились в поведенческих лабораториях, потеснив прочее зверье. Сам ученый поначалу относился к своим «испытуемым» без энтузиазма. «Не люблю их, – говорил он своему другу. – У меня от них мурашки по коже…» Но годы пристальных наблюдений за поведением хвостатых испытуемых заставили ученого изменить свое мнение. В 1945 г. он написал: «В отличие от людей, крысы не напиваются в стельку накануне эксперимента. Они не истребляют друг друга в войнах; они не изобретают машин для разрушения, а если бы даже они это сделали, то уж, конечно, не оказались бы столь беспомощны в управлении этими машинами; они не ввязываются в расовые или классовые конфликты; они избегают политики, не читают и не пишут статей по психологии. Одним словом, они восхитительные, чистые и приятные существа». Однажды со свойственной ему иронией в академическом собрании, где демонстрировался документальный фильм о его опытах, Толмен рискнул вмонтировать в пленку 30-секундный сюжет из мультфильма о Микки Маусе, чем немало позабавил почтенную аудиторию.
Результаты опытов Толмена, изложенные в его основной работе «Целенаправленное поведение у животных и человека» (1932), заставили критически переосмыслить краеугольную схему бихевиоризма S – R («стимул – реакция»). Сама по себе идея целенаправленного поведения противоречила программным установкам основателя бихевиоризма Уотсона. Для бихевиористов классического толка целенаправленность поведения подразумевает допущение о наличии сознания. На это Толмен заявлял, что для него не имеет значения, обладает организм сознанием или нет. Как и подобает бихевиористу, он сосредоточил внимание на внешних, наблюдаемых реакциях. Он предположил, что причины поведения включают пять основных независимых переменных: стимулы окружающей среды, психологические побуждения, наследственность, предшествующее обучение и возраст. Поведение является функцией всех этих переменных, что может быть выражено математическим уравнением.
Между наблюдаемыми независимыми переменными и результирующим поведением Толмен ввел набор ненаблюдаемых факторов, которые назвал промежуточными переменными. Эти промежуточные переменные фактически являются детерминантами поведения. Они представляют собой те внутренние процессы. Которые связывают стимулирующую ситуацию с наблюдаемой реакцией. Таким образом, формула S – R должна читаться как S – O – R; промежуточными переменными является все, что связано с О, то есть с организмом, и формирует данную поведенческую реакцию на данное раздражение.
Однако, оставаясь на позициях бихевиоризма, Толмен отдавал себе отчет: поскольку промежуточные переменные не подлежат объективному наблюдению, то они не представляют никакой практической пользы для психологии, если только их не удается увязать с экспериментальными (независимыми) и поведенческими (зависимыми) переменными.
Классическим примером промежуточной переменной является голод, который невозможно увидеть у подопытного существа (будь то животное или человек). И тем не менее голод можно вполне объективно и точно увязать с экспериментальными переменными – например с длительностью того отрезка времени, на протяжении которого организм не получал пищу. Кроме того его можно увязать с объективной реакцией или с переменной поведения – например, с количеством съеденной пищи или со скоростью ее поглощения. Таким образом данный фактор становится доступным для количественного измерения и экспериментальных манипуляций. В теории промежуточные переменные оказались весьма полезной конструкцией. Однако практическое воплощение такого подхода потребовало такой громадной работы, что Толмен в конце концов оставил всякую надежду «составить полное описание хотя бы одной промежуточной переменной».
Полученные в опытах результаты заставили Толмена отказаться и от принципиального для всей поведенческой доктрины закона эффекта, открытого Торндайком. По его мнению, подкрепление оказывает на научение довольно слабый эффект. Толмен предложил собственную когнитивную теорию научения, полагая, что повторяющееся выполнение одного и того же задания усиливает возникающие связи между факторами окружающей среды и ожиданиями организма. Таким путем организм познает окружающий его мир. Такие создаваемые научением связи Толмен назвал гештальт-знаками.
Историки науки высказывают смелое предположение, что отец бихевиоризма Джон Уотсон страдал специфическим расстройством – ан-идеизмом, то есть был начисто лишен воображения, что заставляло его все наблюдаемые феномены трактовать сугубо буквально. Толмену в творческом воображении не откажешь, однако и он свои теоретические рассуждения строил на объективно наблюдаемых феноменах. Что же такого он увидел в своих экспериментах, что заставило его выйти за рамки представлений Уотсона?
Вот крыса бегает по лабиринту, беспорядочно пробуя то удачные (можно двигаться дальше), то неудачные (тупик) ходы. Наконец она находит еду. При последующих прохождениях лабиринта поиск пищи придает поведению крысы целенаправленность. С каждым разветвлением ходов связываются некоторые ожидания. Крыса приходит к «пониманию» того, что определенные признаки, ассоциирующиеся с развилкой, наводят или не наводят на то место, где находится вожделенная пища.
Если ожидания крысы оправдываются и она действительно находит пищу, то гештальт-знак (то есть признак, ассоциирующийся с некоторой точкой выбора) получает подкрепление. Таким образом животное вырабатывает целую сеть гештальт-знаков по всем точкам выбора в лабиринте. Толмен назвал это когнитивной картой. Эта схема представляет собой то, что выучило животное, а не просто набор некоторых моторных навыков. В известном смысле, крыса приобретает всеобъемлющее знание своего лабиринта, в иных условиях – иной окружающей ее среды. В ее мозге вырабатывается нечто вроде полевой карты, позволяющей перемещаться в нужном направлении, не ограничиваясь фиксированным набором заученных телодвижений.
В классическом эксперименте, описанном во многих учебниках, представления Толмена нашли наглядное и убедительное подтверждение. Лабиринт, использованный в этом опыте, был крестообразной формы. Крысы одной группы всегда находили пищу в одном и том же месте, даже если для того, чтобы до нее добраться, им при разных точках входа в лабиринт приходилось иногда поворачивать не направо, а налево. Моторные реакции при этом, понятно, отличались, но когнитивная карта оставалась прежней. Крысы второй группы были поставлена в такие условия, что их каждый раз нужно было повторять одни и те же движения, но пища при этом всякий раз находилась на новом месте. Например, начиная путь с одного конца лабиринта, крыса находила пищу, только повернув на определенной развилке направо; если же крысу запускали с противоположной стороны, то для того, чтобы добраться до пищи, ей все равно нужно было повернуть направо.
Эксперимент показал, что крысы первой группы – те, кто «изучали» и «усваивали» общую схему ситуации, ориентировались гораздо лучше, чем крысы второй группы, которые воспроизводили заученные реакции. Толмен предположил, что у человека имеет место нечто похожее. Человек, которому удалось хорошо сориентироваться в какой-то местности, легко может пройти из одной точки в другую разными маршрутами, в том числе и незнакомыми.
Другой эксперимент исследовал латентное научение, то есть такое, которое невозможно наблюдать в то время, когда оно фактически происходит. Голодную крысу помещали в лабиринт и давали ей возможность свободно бродить по нему. Некоторое время никакой пищи крыса не получала, то есть подкрепления не происходило. Толмена интересовало, имеет ли место какое-либо научение в такой неподкрепляемой ситуации. Наконец, после нескольких неподкрепленных проб крысе давали возможность найти пищу. После этого скорость прохождения лабиринта резко возрастала, что показало наличие некоторого научения в период отсутствия подкрепления. Показатели этой крысы очень быстро достигали того же уровня, что и у крыс, получавших подкрепление при каждой попытке.
Было бы неправильно воспринимать Толмена как «крысиного наставника», далекого от человеческих проблем. Его статья с показательным названием «Когнитивные карты у крыс и у человека» (доступная и в переводе на русский язык) стала не только собранием доказательств против схемы S – R, но и страстным призывом уменьшить уровень царящих в обществе фрустрации, ненависти и нетерпимости, порожденных узкими когнитивными картами. Ввиду того, что этот классический текст рискует так и остаться за пределами круга интересов наших психологов, позволим себе обширную и, кажется, очень важную цитату. Отметив, какой деструктивный характер зачастую носит человеческое поведение, Толмен заканчивает свою статью такими словами:
«Что мы можем сделать с этим? Мой ответ состоит в том, чтобы проповедовать силы разума, то есть широкие когнитивные карты. Учителя могут сделать детей разумными (то есть образовать у них широкие карты), если они позаботятся о том, чтобы ни один ребенок не был избыточно мотивирован или слишком раздражен. Тогда дети смогут научиться смотреть вокруг, научатся видеть, что часто существуют обходные и более осторожные пути к нашим целям, научатся понимать, что все люди взаимно связаны друг с другом.
Давайте постараемся не становиться сверхэмоциональными, не быть избыточно мотивированными в такой степени, чтобы у нас могли сложиться только узкие карты. Каждый из нас должен ставить себя в достаточно комфортные условия, чтобы быть в состоянии развивать широкие карты, быть способным научиться жить в соответствии с принципом реальности, а не в соответствии со слишком узким и непосредственным принципом удовольствия.
Мы должны подвергать себя и своих детей (подобно тому как это делает экспериментатор со своими крысами) влиянию оптимальных условий при умеренной мотивации, оберегать от фрустрации, когда «бросаем» их и самих себя в тот огромный лабиринт, который есть наш человеческий мир. Я не могу предсказать, будем ли мы способны сделать это или будет ли нам представлена возможность делать именно так; но я могу сказать, что лишь в той мере, в какой мы справимся с этими требованиями к организации жизни людей, мы научим их адекватно ориентироваться в ситуациях жизненных задач».
Неудивительно, что именно ученый, исповедовавший такие взгляды, выступил одним из основателей Общества психологических исследований социальных проблем. В годы II мировой войны он опубликовал книгу «Стремление к войне», которая, однако, не прибавила ему авторитета, так как была откровенно пронизана свойственными ученому, но мало популярными в нашем жестоком обществе пацифистскими настроениями. В послевоенные годы, в эпоху разгула маккартизма, Толмен снова рискнул противопоставить себя истеблишменту. Ура-патриоты, призывавшие к искоренению всяческого либерализма и инакомыслия, требовали введения в университетах в качестве обязательного ритуала клятвы верности штату. Толмен увидел в этом псевдопатриотическом начинании опасный симптом тоталитаризма и возглавил кампанию протеста. При этом он, однако, предостерегал молодых коллег от слишком вызывающих жестов и советовал предоставить активную роль в кампании тем преподавателям, у которых было более стабильное положение для ее ведения. Эта самоотверженная позиция снискала Толмену одобрение многих прогрессивно мыслящих коллег.
Эдвард Чейс Толмен умер в своем доме в Беркли 19 ноября 1959 года. К тому времени уже увидели свет несколько книг, которые авторы – ученики Толмена – начинали посвящением своему учителю. Однако вести речь о созданной им научной школе было бы преувеличением. В отличие от прочих мэтров бихевиоризма, Толмен, похоже, не очень заботился о насаждении собственных идей. По мнению одного из его учеников Дональда Кэмпбелла, Толмену не удалось сыграть в науке исключительной роли, поскольку он пренебрег ролью вождя. С этой оценкой деликатно солидаризируются и другие ученики Толмена. Надо однако уточнить, что при этом они признают, что теория Толмена оказалась гораздо более верной, чем теории его былых соперников; они также подтверждают, что Толмена очень любили все: и его студенты, и его коллеги, и его друзья и, коли на то пошло, даже большинство его профессиональных оппонентов.
Разъяснить сложившуюся ситуацию лучше всего словами одного из его учеников:
«Он хотел, чтобы мы стояли на своих ногах и были самостоятельными личностями, а не его собственностью. Любое проявление рабской приверженности его взглядам вызывало у него отвращение. Поэтому те, кому посчастливилось учиться у него, сами пробивали себе дорогу в жизни, и я надеюсь, что мы выиграли как психологи, а еще более надеюсь, что мы выиграли как личности от общения с таким человеком, как Толмен».
Л. Холлингворт (1886–1939)
22 июня 1920 г. увидела свет книга американского психолога Летты Холлингворт Psychology of Subnormal Children. Название книги нелегко перевести на русский, так как слово «субнормальный» в нашем языке не прижилось. Дети, о которых пишет Холлингворт, не являются ненормальными в привычном смысле этого слова. Речь в книге идет о детях, которые несколько «не дотягивают» до среднестатистической нормы интеллектуального и эмоционального развития. Идеи, высказанные в книге, сегодня считаются настолько общепризнанными и даже тривиальными, что в современных работах они упоминаются как аксиомы, без ссылок на Летту Холлингворт, хотя именно ей принадлежит приоритет в их утверждении. Про книгу и ее автора сегодня вспоминают нечасто. Вероятно, потому, что тут отсутствует предмет для полемики (тогда когда иные более чем спорные работы некоторых психологов активно дискутируются десятилетиями). Может быть, именно такой вклад в психологию и следовало бы признать по-настоящему ценным, по сравнению с волюнтаристскими гипотезами и голословными декларациями, которыми, увы, изобилует наша наука.
В наши дни имя Холлингворт все чаще вспоминают в связи с развернувшейся в последние годы на Западе феминистской истерией. Судя по всему, наши женщины, по сравнению со своими западными подругами, отличаются большей житейской мудростью и здравомыслием, и несмотря на потуги отдельных экстремисток, эта вздорная кампания никогда не примет у нас масштаба национального бедствия. Да и сами доморощенные эмансипе имя Холлингворт предпочитают не вспоминать, хотя в эрудиции иным из них не откажешь. А все дело в том, что эта замечательная женщина, действительно немало сделавшая для достижения равноправия полов, утверждала свои принципы не столько манифестами, сколько реальными делами, наглядно демонстрировавшими не просто право, но и способность женщины-ученого встать вровень с коллегами-мужчинами.
Летта Стеттер Холлингворт родилась в 1886 г. в американской глубинке, на Среднем Западе. В возрасте 16 лет она поступила в Университет штата Небраска. В ту пору перспективы карьеры для молодых женщин ограничивались педагогической сферой. На этом поприще она и начала свою профессиональную деятельность – преподавала сначала в средней школе в Небраске, а затем в колледже Барнарда в Нью-Йорке, куда она переехала вслед за своим женихом, Гарри Холингвортом, который писал докторскую диссертацию по психологии при Колумбийском университете под руководством Джеймса Кеттела. Небезынтересно, что в истории науки мистер Холлингворт никакого заметного следа не оставил, и если когда и упоминается о нем, то лишь как о муже Летты. Молодые люди поженились в 1908 г. Летта намеревалась продолжить преподавание, однако, к ее большому огорчению, ей это не было позволено. По бытовавшему в то время убеждению, если замужняя женщина будет заниматься чем-либо вне дома, муж и дети неизбежно от этого пострадают.
Летта Холлингворт решила попробовать свои силы в литературе. Обладала ли она литературным даром, сегодня судить невозможно, так как свои рассказы ей опубликовать не удалось. Молодая семья жила в весьма стесненных материальных условиях, и Гарри был вынужден взяться за дополнительную консультационную работу, чтобы дать жене возможность пройти курс последипломной подготовки. В 1916 г. Летта под руководством Э.Торндайка защитила в Колумбийском университете докторскую диссертацию по психологии. А уже пять лет спустя ее имя появилось в справочнике «Ученые Америки». Так был отмечен ее вклад в исследование женской психологии. Немаловажно заметить, что ни одна из ее работ никогда не была подкреплена материальными субсидиями: саму идею спонсировать «женское баловство» любой попечительский совет отвергал без обсуждений.
Летта Холингворт проводила широкомасштабные эмпирические исследования по проверке гипотезы большей вариабельности мужчин. Именно на этой гипотезе Ч.Дарвина основывались все утверждения о неспособности женщин к образованию и профессиональной карьере. Раз женщины по своим психологическим характеристикам более тяготеют к некоторому среднему уровню, то, следовательно, они менее способны к творческой интеллектуальной деятельности. А потому и нет необходимости готовить их к какой-либо иной деятельности, нежели ведение домашнего хозяйства.
В период с 1913 по 1916 г. Холлингворт провела серию исследований, направленных на выяснение уровня физических, сенсомоторных и интеллектуальных способностей у различных групп испытуемых, среди которых были младенцы и подростки обоего пола, студенты и студентки колледжей, женщины во время менструального периода (в ту пору считалось, что в ходе этих естественных процессов женщина неизбежно деградирует умственно и эмоционально). Полученные ею результаты поставили под сомнение гипотезу вариабельности и прочие представления о женской неполноценности. Так, согласно ее данным, психологические изменения в ходе менструального цикла никак не связаны с уровнем когнитивных способностей. В дальнейшем она подвергла исследованию понятие врожденного материнского инстинкта, поставив задачу выяснить, действительно ли деторождение является основным способом самореализации женщины. По ее мнению, такое представление сформировано комплексом социальных и культурных условий, а вовсе не соответствует женской природе. Холлингворт предостерегала специалистов по профориентации против того, чтобы они рекомендовали женщинам умерять свои профессиональные притязания и готовиться преимущественно к роли домохозяйки, в которой в принципе невозможно совершить что-то выдающееся. «Кто знает, кто в Америке лучшая домохозяйка, – писала Холлингворт. – Выдающихся домохозяек вообще не бывает». Впрочем, и публичному аспекту этой проблемы она отдала дань: участвовала в митингах и парадах суфражисток, требовавших равных избирательных прав (в полном объеме уравнение демократических прав полов произошло в США лишь в 1920 г.).
Однако наиболее значительный вклад Холлингворт внесла в разработку проблем детской психологии, в частности – 45 из 75 ее работ посвящены одаренным детям. Результаты ее исследований, проводившихся в 1914–1920 гг., представлены в уже упомянутой книге о «субнормальных» детях, а также в не менее известной ее работе «Особые таланты и дефекты» (1926). В ходе своих исследований она обнаружила, что низкая социальная адаптация проистекает не только из недостатков интеллекта – решающими, по ее мнению, оказываются факторы эмоционального отношения к реальности. Ею был отмечен факт, ранее упускавшийся исследователями из вида: дети с высоким уровнем интеллектуального развития могут страдать серьезными эмоциональными расстройствами, причем эти факторы могут быть взаимосвязаны, поскольку исключительное положение одаренных детей в среде сверстников провоцирует эмоциональные нарушения. Эти исследования способствовали повышению интереса к проблеме детской одаренности, преодолению одностороннего подхода к одаренным детям.
В 1917 г. Летта Холлингворт, участвовавшая в ежегодной конференции Американской Психологической Ассоциации, выступила с предложением создать новую независимую профессиональную организацию – Американскую ассоциацию детской психологии. Претворение в жизнь этой идеи затрагивало интересы многих функционеров АПА. Поэтому предложение вызвало серьезные споры, и решение было отложено на год. Организационное оформление этого предложения произошло значительно позже и совершенно иначе, нежели это виделось Летте Холлингворт.
К началу двадцатых она уже имела определенное влияние в официальных кругах Нью-Йорка, которое сумела использовать для создания экспериментальной школы. Эта школа стала полигоном для разработки ее концепции детской одаренности. Специально отобранных одаренных детей обучали и исследовали на протяжении их развития до двадцатилетнего возраста. Это было одним из первых лонгитюдных исследований в данной области, которое в частности продемонстрировало: интеллектуальное превосходство еще не является гарантией высоких социальных достижений на протяжении жизни. К сожалению, Летта Холлингворт не дожила до завершения этого научного проекта. В 1939 г. она скончалась в возрасте 53 лет.
В. Кёлер (1887–1967)
Две наиболее известных работы, посвященные Вольфгангу Кёлеру[7] – немецкому психологу, сумевшему также побывать ни много – ни мало президентом Американской Психологической Ассоциации, – почти не касаются, как это ни странно, его психологических идей. Книга, написанная Дональдом Леем и вышедшая в 1990 г., называется «Шпионская история» и повествует о разведовательной деятельности Кёлера в годы I мировой войны. А публицистическая статья, появившаяся в 1978 г. в журнале «Американский психолог», называется «В одиночку против нацистов» и повествует о самоотверженном противостоянии ученого фашистскому мракобесию. Причем если второй сюжет бесспорно достоверен, то первый вызывает много сомнений – тем более, что сам ученый всегда уклонялся от его обсуждения. Кёлер вообще чурался публичности, избегал самопрезентаций и интервью. Лишь незадолго до своей смерти, в 1967 году, он согласился дать пространное интервью, дабы прояснить некоторые вопросы гештальт-теории, научной общественностью, по его мнению, недопонятые. (Небезынтересно, что интервьюер, явившийся в гости к Кёлеру в его дом в Нью-Гемпшире, застал 80-летнего ученого колющим дрова для камина.) На материале этого интервью (разумеется, с привлечением и некоторых иных источников) и написан этот очерк об одной из крупнейших фигур мировой психологии ХХ века.
Вольфганг Кёлер родился 21 января 1887 г. в Ревеле (ныне – Таллин). Его отец был учителем в частной школе, которую содержала местная немецкая община. В семье царил культ образованности. Старший брат Вольфганга, Вильгельм, с которым его связывала тесная дружба, посвятил себя науке. Четверо их сестер также получили неплохое образование – медицинское и педагогическое.
Когда Вольфгангу исполнилось пять лет, семья перебралась в Фатерлянд. Образование он получил в университетах Тюбингена, Бонна и Берлина. В те годы немецкая система высшего образования выступала эталоном для всего мира. Студенческие вольности в ней сочетались с высочайшим уровнем преподавания и строгими экзаменационными требованиями. О немецких студентах той поры рассказывают: треть из них не выдерживала напряженной учебы и кончала нервным расстройством, другая треть бежала от академических строгостей в бесконечные пивные пирушки и кончала алкоголизмом, зато еще одна треть получала-таки блестящее образование и в итоге творила судьбы Европы. Кёлер явно принадлежал к последней трети, хотя никогда особо не стремился принадлежать к творцам истории. Его привлекала наука.
В университетах Кёлер получил фундаментальную подготовку в области физики, химии, биологии. Глубокое впечатление на него произвел один из профессоров физики Берлинского университета – великий Макс Планк. Из его лекций будущий психолог узнал о принципе энтропии и динамической саморегуляции физических систем – таких, как электролитические среды. Под влиянием Планка Кёлер пришел к убеждению, что физическими закономерностями в принципе объяснимы и биологические явления, понимание которых, в свою очередь, способствует и решению психологических проблем. Даже по прошествии многих лет коллеги отмечали, что манера мыслить, присущая Кёлеру, характерна скорее для физика, чем для психолога. В ранних научных исследованиях Кёлера причудливо переплелись его интересы к физике (конкретно – к акустике), психологии, а также давнее увлечение музыкой – его первые опыты были посвящены изучению слухового восприятия. За эти исследования он и получил докторскую степень по психологии (1909).
Научная карьера Кёлера началась во Франкфурте, где он намеревался продолжить свои исследования слухового восприятия и действительно опубликовал несколько статей на эту тему, ныне совершенно затерявшихся на фоне его последующих работ (ссылки на них в отечественной литературе можно найти лишь в классическом труде А.Н. Леонтьева «Проблемы развития психики»). Во Франкфурте Кёлер познакомился с Куртом Коффкой, а чуть позже – с Максом Вертгеймером, намеревавшимся экспериментально проверить некоторые свои идеи, касавшиеся зрительного восприятия. Кёлер и Коффка выступили испытуемыми в экспериментальном исследовании Вертгеймера по восприятию движения и затем участвовали в объяснении результатов экспериментов. Принципы, положенные в основу этого объяснения, дали начало новому научному направлению – гештальтпсихологии, а Вертгеймер, Кёлер и Коффка объективно выступили его основателями.
В 1913 г. Кёлер получил приглашение от Прусской академии наук возглавить экспериментальную станцию по изучению антропоидов на острове Тенерифе. Он поселился с семьей на этом острове Канарского архипелага, ныне так полюбившегося новорусским туристам. Здесь он в течение нескольких лет проводил исследование поведения шимпанзе, ставшее классическим и описанное ныне во всех учебниках психологии (его самый талантливый подопечный – шимпанзе Султан – в истории науки знаменит не менее Анны О. или Маленького Ганса).
Начавшаяся вскоре мировая война задержала Кёлера на Канарах на целых семь лет. Однако этот неоднозначный эпизод его биографии дал повод заподозрить ученого в наличии у него интересов, мягко скажем, далеких от науки. Впоследствии Кёлер утверждал, что война помешала ему вернуться на родину. Но почему-то она помешала лишь ему одному – все остальные немцы, ранее проживавшие на Тенерифе, благополучно вернулись домой. С самого начала вызывала сомнения и сама идея организации экспериментальной станции именно на Канарах – вблизи стратегических морских путей. Как известно, человекообразные обезьяны на Канарах не водятся. Гораздо более логично было бы организовать исследование в Камеруне, бывшем тогда немецкой колонией, либо выписать обезьян в какой-либо крупный немецкий зоопарк. Зато в качестве прикрытия агентурной деятельности научная станция выступала очень неплохо.
В пользу этой версии свидетельствует и тот достоверно установленный факт, что на чердаке своего дома, куда был категорически запрещен доступ кому бы то ни было, Кёлер хранил мощный радиопередатчик, который всякий раз тщательно прятал, стоило ему заподозрить вероятность обыска. В немецких и британских архивах сохранились доподлинные свидетельства того, что в годы войны германское командование регулярно получало с Тенерифе радиограммы о передвижениях союзнических судов. В целях конспирации имя агента в документах не упомянуто. Однако кандидатура для подозрений была фактически единственной…
Сам Кёлер впоследствии никогда не распространялся на эту тему, а в своем последнем интервью на прямой вопрос дал безупречно дипломатичный ответ: «Я могу сказать только одно – я был верным сыном своей родины, Германии, до тех пор, пока условия жизни в моей стране не стали непереносимыми; и я в равной степени хранил верность свой второй, приемной родине – Соединенным Штатам Америки – с 1935 года и до конца жизни».
Для истории науки не так уж важно, в какой роли выступал Кёлер на Тенерифе – секретного агента или застигнутого войной ученого. Сколь бы ни были ценны его разведданные (если таковые им действительно поставлялись), они не помогли Германии выиграть войну. А вот его опыты над шимпанзе, вне сомнения, обогатили психологическую науку.
Результатом работы этого периода явилось вышедшее в 1917 г. (в разгар войны!) «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян» (именно под таким названием книга увидела свет в 1930 г. в переводе на русский язык – кстати, с предисловием Л.С. Выготского), в котором с позиций гештальтпсихологии Кёлер интерпретировал процесс решения обезьянами ряда экспериментальных задач как разумное (интеллектуальное) поведение. Несмотря на то, что задачи были разнообразными, все они были построены таким образом, что возможность случайного решения путем «слепых проб и ошибок» исключалось: животное могло достичь желаемой цели, только если схватывало объективные отношения между элементами ситуации, существенными для успешного решения.
При проведении экспериментов использовались простейшие приспособления: клетки с редкими прутьями, препятствовавшими свободному выходу животных наружу, палки, с помощью которых можно было достать удаленные бананы, ящики, на которые могли забираться обзьяны.
В одном из опытов за пределами клетки помещался банан, к которому была привязана веревка, протянутая к животному. В этих условиях обезьяна без колебаний тянула за веревку и доставала банан. Кёлер сделал вывод, что для шимпанзе решение такой проблемы в целом оказалось несложным. Однако, когда в направлении банана протягивалось несколько веревок, обзьяна не знала, за которую надо потянуть в первую очередь, чтобы получить желанное лакомство. Это указывало на то, что решение данной проблемы не могло быть ясно осознанным с самого начала.
В другом опыте банан помещался вне клетки на недоступном для обезьяны расстоянии. Если при этом палка находилась неподалеку от прутьев клетки прямо напротив банана, то оба предмета воспринимались как элементы одной ситуации, и шимпанзе с помощью палки легко доставали лакомство. Но если палка помещалась в дальнем конце клетки, то тогда оба предмета (банан и палка) с меньшей легкостью рассматривались как принадлежащие одной ситуации. В этом случае для решения проблемы требовалось реструктурирование перцептивного поля.
Еще в одном эксперименте банан также помещался за пределами клетки, а обезьяне давали две полые бамбуковые палки, каждая из которых по отдельности была слишком коротка, чтобы дотянуться до лакомства. Чтобы добыть банан, требовалось насадить одну палку на другую. При этом для достижения цели животное должно было усмотреть новый вид взаимосвязи двух коротких палок.
Решение задачи объективно свидетельствовало о разумном поведении и принималось за его критерий. Вся операция, производимая животными, описывалась как имеющая характер целостного действия, подчиняющегося структуре поля задачи, в котором отдельное действие не есть ответ на изолированный стимул, но приобретает смысл только в соединении с другими – как часть целостной операции. Само восприятие отношений происходит, по Кёлеру, внезапно, путем «инсайта».
В 1924 г. вышло второе издание книги, которое было переведено, помимо русского, на английский и французский языки, что немало способствовало распространению в мировой психологии идей гештальтистов.
В 1920 г. Кёлер возвратился на родину и вступил в должность профессора в Геттингенском университете. В том же году вышла его книга «Физические гештальты в покое и стационарном состоянии», в которой он выступил с принципом психофизического изоморфизма. Считается, что именно это исследование повлияло на последовавшее в 1922 г. приглашение из Берлинского университета на должность профессора кафедры философии и психологии и заведующего психологической лабораторией. На этом посту Кёлер формально оставался до 1935 г. (хотя реально уехал из Германии еще в 1933-м). В Берлине он выступил одним из основных представителей берлинской школы гештальтпсихологии и одним из редакторов журнала Psychologische Forschung – печатного органа гештальтистов. Выпущенная им в 1929 г. книга «Гештальтпсихология» (второе издание вышло в Америке в 1947 г.) считается наиболее полным и основательным изложением позиций этой школы.
Международному признанию позиций гештальтпсихологии способствовали не только переводы работ Кёлера, но и его выступления перед разнообразными аудиториями за рубежом. В 1925/26 учебном году он читал лекции в Гарвардском университете и университете Кларка (забавно, что здесь он не ограничивался аудиторным общением со студентами, но и в неформальной обстановке учил их танцевать танго). Он также выступил одним из основных докладчиков на IX Международном психологическом конгрессе, который проходил в Йельском университете в 1929 г. (на том же конгрессе одним из докладчиков выступал И.П. Павлов).
В середине двадцатых у Кёлера возникли серьезные проблемы в личной жизни. Он развелся с женой и женился на студентке из Швеции (кстати, нередкий в истории науки случай, когда «кризис середины жизни» толкает женатого профессора в объятия молоденькой почитательницы). По решению суда Кёлер был лишен контактов со своими четырьмя (!) детьми от первого брака. В результате переживаний у него возник сильный тремор рук, что становилось особенно заметно в минуты волнения. Чтобы оценить настроение шефа, сотрудники лаборатории каждое утро внимательно следили за подрагиванием его пальцев.
28 апреля 1933 г. в газете Deutsche Allgemeine Zeitung появилась острая статья Кёлера. На сей раз он выступил по вопросам, очень далеким от академической науки. К тому времени в Германии при активной поддержке обывательских масс, а точнее – в результате их прямого демократического волеизъявления, была установлена фашистская диктатура. Пора благодушных иллюзий, во все времена свойственных интеллигенции любого народа, в Германии закончилась. Воинствующий шовинизм и национальная нетерпимость расцвели пышным цветом. По немецким университетам прокатилась волна национальных чисток (или, как сказали бы сегодня, зачисток). Профессора неарийского происхождения были отправлены в отставку. О следующем этапе национальной политики Великого Рейха – лагерях уничтожения – пока можно было только догадываться, но уже сам факт национальных чисток не мог не настораживать. Этот вопрос и затронул Кёлер в своей статье. Отмечая тот значительный вклад, который внесли в германскую науку и культуру деятели неарийского происхождения, он указывал, что политика национальной селекции не только бесчеловечна, но и недальновидна. Время подтвердило его правоту. По крайней мере, что касается психологов, Германия сама себе нанесла чудовищный урон, от которого фактически не оправилась по сей день. Родина научной психологии на протяжении какой-то пары лет утратила свой приоритет, вытеснив в эмиграцию ведущих ученых, среди которых оказался и сам Кёлер.
Его статья уже не могла предотвратить надвигавшийся кошмар. Но сам факт ее публикации был знаменателен. Это было последнее легальное антинацистское выступление в немецкой печати, и психологи вправе гордиться, что его автором был их коллега.
Кёлер отдавал себе отчет в возможных последствиях своего шага и сознательно готовился к аресту. Зная, что гестаповцы любят являться к своим жертвам среди ночи, он после публикации всю ночь не ложился спать и музицировал вместе с верными друзьями. Ареста, однако, не последовало. (Еще один повод для подозрений – не прежние ли заслуги секретного агента сыграли тут свою роль?). Но нелояльного профессора взяли на заметку. Возле аудиторий, где он вел занятия, замелькали фигуры штурмовиков, то и дело провоцировавших сотрудников Кёлера на стычки. Трижды дело доходило до массовых потасовок.
Легко понять, с каким воодушевлением ученый воспринял приглашение прочесть курс лекций в Соединенных Штатах. Он не оставлял надежды, что за время его отсутствия ситуация в стране нормализуется, и он сможет спокойно вернуться к академическим занятиям. Этим надеждам не суждено было сбыться. С родины приходили известия о том, что все его сотрудники изгнаны из университета и его собственное место занято более лояльным профессором. В то же время нацисты не упускали из поля зрения опального ученого – находясь в Америке, он получил из Германии официальное предложение подписать клятву личной верности Гитлеру. Кёлер понял, что возвращаться ему некуда. Скрепя сердце он «выбрал свободу».
На родину он так и не вернулся, хотя в 60-е годы был провозглашен почетным жителем Берлина и избран почетным президентом Немецкого психологического общества. Впрочем, ему не приходилось жаловаться на недостаток признания своих заслуг во всем мире. В разные годы он был удостоен звания почетного доктора в Пенсильванском, Чикагском, Фрейбургском, Мюнстерском, Тюбингенском, Упсальском университетах. В Америке он стал членом Американской академии наук и искусств, Американского философского общества, Национальной академии наук. Американские психологи в знак признания его заслуг в 1957 г. от имени Американской Психологической Ассоциации вручили ему премию «За выдающийся вклад в науку», а в следующем году избрали его президентом ассоциации.
Однако американский период деятельности Кёлера по справедливости следует признать менее продуктивным, чем европейский. Гештальтпсихология хотя и вызывала определенный интерес в Новом Свете, но фактически там не прижилась. Выход в 1945 г. книги Вертгеймера «Продуктивное мышление» стал «прощальным залпом» этой научной школы. Иммигранты-гештальтпсихологи были приняты доброжелательно, но на фоне господствовавшего в Америке бихевиоризма их голос звучал очень слабо. Полемики с бихевиористами вновьприбывшие не выдерживали хотя бы в силу огромного численного преимущества хозяев (хотя полемика порой бывала довольно острой – рассказывают, что однажды дискуссия Кёлера с Кларком Халлом едва не закончилась рукопашной). Единственный, кому удалось подняться в Америке, – Курт Левин, которого нередко относят к гештальтистам. Кёлер, однако, такой оценки не разделял и подчеркивал, что теория поля, предложенная Левином, – это самостоятельное научное направление, лишь отчасти опирающееся на идеи гештальт-теории. А использование понятия гештальта успешно прижившимся в Америке психоаналитиком Фрицем Перлзом Кёлер и вовсе считал профанацией идей гештальтпсихологии и о самом создателе гештальт-терапии в своем последнем интервью отозвался крайне уничижительно. Парадоксально, но именно благодаря Перлзу понятие гештальта по сей день широко используется в психологии, тогда как про Кёлера помнят немногие. В самом деле, «горячий стул», «собака снизу» и «собака сверху» пробуждают у впечатлительных натур больше интереса, чем «прегнантные формы». Однако ж, будем хотя бы помнить о том, что не Перлз теорию гештальта придумал.
В Америке Кёлер долгие годы проработал в Суотморском колледже, пока в 1958 г. в преклонном возрасте не вышел в отставку. Он умер 6 ноября 1967 г. в своем доме в Нью-Гемпшире. В последние десятилетия его работы не переиздавались и лишь иногда фрагментарно публикуются в хрестоматиях по истории психологии. Однако ни один серьезный учебник по психологии не обходится без упоминания его имени и его идей.
А.Б. Залкинд (1888–1936)
На заре нового тысячелетия, в 2001 году, издательство «Аграф», специализирующееся на выпуске интеллектуальной литературы, выпустило в серии «Символы времени» книгу Арона Залкинда «Педология: утопия и реальность». Сам Залкинд книги под таким названием никогда не писал – как и любой утопист, он вряд ли признался бы в утопичности своих идей. Новая книга представляет собой сборник, словно намеренно составленный из наиболее одиозных работ Залкинда, в наши дни воспринимающихся почти карикатурно. Да и нечастые упоминания о Залкинде в печати сводятся в основном к цитированию самых эпатажных его сентенций на забаву публике. Современные психологи до обидного мало знают об этом интересном человеке, который по праву может быть назван одной из ключевых фигур в становлении отечественной психологии в первой трети ХХ века. Его личная и научная судьба глубоко противоречива и драматична, а по-своему и поучительна. Страстный революционер и новатор, Залкинд чутко улавливал веяния времени, но в их практическом воплощении явно «перегнул палку», оставив потомкам не столько наследие, сколько предостережение.
Биография Арона Борисовича Залкинда нам известна лишь в ее основных вехах, которые даже не всегда удается достоверно датировать. Безуспешными оказались и поиски хоть какого-нибудь его портрета – похоже, ни одного и не сохранилось. Так, в собственноручно заполненным Залкиндом личном листке, хранящемся в архиве МПГУ им. Ленина (в этом вузе, именовавшимся в ту пору 2-м МГУ, он несколько лет работал), фотография отсутствует. Зато точно указана дата рождения – 5 июня 1889 года. Ту же дату находим и в первом издании Большой Советской Энциклопедии, где Залкинду посвящена персональная статья. Впоследствии почему-то приводилась другая дата – 1888 год. (В недавно изданном справочнике «Российские психоаналитики» указан 1886 год). Уточнить ее сегодня уже не представляется возможным. А день его смерти и вовсе не известен. Умер он в июле 1936 года от обширного инфаркта – по одной из романтических версий, прямо на улице, возвращаясь с партсобрания, на котором было оглашено постановление «О педологических извращениях…» В какой день это произошло и вообще так ли это было на самом деле – мы вряд когда-нибудь узнаем.
Не сохранилось никаких свидетельств и воспоминаний о личности этого человека. Можно лишь вообразить амбиции еврейского мальчика из Харькова, задумавшего в начале ХХ века сделать медицинскую карьеру. Амбиция по тем временам почти утопическая, но в исключительных случаях осуществимая. Залкинду удалось поступить на медицинский факультет Московского университета, по окончании которого в 1911 году он начал собственную практику, специализируясь в психоневрологии. Еще в студенческие годы заинтересовавшись психоанализом – учением в ту пору новаторским и экзотическим – Залкинд принял участие в работе «Малых пятниц» – семинара под руководством В.П. Сербского, где активно обсуждались в том числе и практические аспекты фрейдовского подхода к неврозам. Начавшейся в 1910-е годы череде расколов в стане западных психоаналитиков российские энтузиасты, похоже, серьезного значения не придавали, продолжая почитать «раскольников» наряду с Фрейдом. Так, Залкинд в своих взглядах склонялся скорее к адлерианству и пытался с этих позиций рассматривать не совсем обычные для психоаналитика проблемы – например, сомнамбулизм. Этому посвящены его статьи, опубликованные накануне I мировой войны в центральном органе русских психоаналитиков «Психотерапия». Статьи печатались в весьма почетном окружении, в них чувствовался почерк увлеченного и преуспевающего психотерапевта.
О взглядах и, вероятно, намерениях Залкинда можно составить представление по данному им тогда определению творчества: «Какой бы области оно ни касалось – это процесс максимального, наивыгоднейшего использования душевных сил для достижения крупнейших, в пределах данного положения, целей». Вряд ли автор тогда предвидел, в какое положение поставит его жизнь и какого рода творчества она потребует для достижения наикрупнейших, в этих пределах, целей.
Сполна хлебнув военных тягот – Залкинд три года провел в действующей армии на фронтах I мировой войны, – он с восторгом принял революцию и самозабвенно отдался служению ей. Ныне при упоминании о фрейдо-марксизме его основоположником называют австрийского психоаналитика-коммуниста Вильгельма Райха. С не меньшим основанием таковым можно было бы назвать и Залкинда – фрейдиста с дореволюционным стажем и большевика с 1921 года. Подобно Райху (кстати, получившему известность в Москве лишь в 1929 г. во время его краткосрочного визита), Залкинд полагал, что совмещение революционных подходов Маркса и Фрейда к человеку и обществу способно породить по-настоящему нового человека и новое общество. Действительность, однако, вносила коррективы в эти суждения.
Консультируя партийцев («Список медицинских врачей» 1925 года квалифицирует его специальность как «психопатологию»), Залкинд убеждается в неэффективности аналитического подхода к этому контингенту. Очень быстро он вырабатывает новый, до абсурда идеологизированный взгляд на проблемы душевного здоровья и болезни. «Великая французская революция как массовая лечебная мера [преимущественно хирургическая?.. – С.С.] была полезнее для здоровья человечества, чем миллионы бань, водопроводов и тысячи новых химических средств», – заявляет он теперь.
Впрочем, в опубликованных в середине 20-х гг. статьях и книге «Очерки культуры революционного времени» Залкинд описывает интересную и, кажется, никем более не зафиксированную ситуацию. Партактив, на котором лежит нагрузка революционного строительства, быстро и резко изнашивается. 30-летний человек носит в себе болезни 45-летнего; 40-летний – почти старик. Причины Залкинд видит в постоянном нервном возбуждении, перегрузке, в нарушении гигиенических норм, а также – тогда на это еще допускались деликатные намеки – в культурной отсталости и даже профессиональном несоответствии многих работников. По данным Залкинда, до 90 % пациентов-большевиков страдают неврологическими симптомами, почти у всех гипертония и вялый обмен веществ. Этот симптомокомплекс Залкинд назвал «парттриадой». В статье «О язвах РКП» (даже если бы не инфаркт, Залкинд вряд ли прожил бы дольше – за одно такое название расстрельная статья была гарантирована) он сопровождает клиническую картину умелым социально-политическим анализом, демонстрирующим понимание внутрипартийной ситуации. Оппозиция уличается Залкиндом в особой распространенности психоневрозов. Ее деятели страдают избыточной эмоциональностью, а именно в этом, как утверждал Залкинд еще в пору увлечения Адлером, и состоит сущность невроза. Лечение в таких случаях он рекомендует одно – «усиление партийного перевоспитания».
Среди коммунистического студенчества (в большинстве своем, кстати, поддерживавшего троцкистскую оппозицию) душевно нездоровых людей Залкинд находил не менее половины. Вот некоторые из рассматриваемых им случаев. Депрессия у 22-летнего студента, бывшего комиссара полка на гражданской войне, которому при НЭПе «жить противно». Истерический сомнамбулизм у бывшего красного командира, которого тоже лишили покоя нэпманы, «торжествующие, жирные и нарядные»; Залкинд трактует его галлюциноз как «переход в другой мир, где и осуществляются его вожделения… он снова в боях, командует, служит революции по-своему». (Интересно, как бы прокомментировал пионер российского фрейдизма тотальную невротизацию наших дней?)
Большое значение в гигиене партработы Залкинд придавал половому вопросу – психоаналитические установки не могли не сказаться. По его мнению, современный человек страдает половым фетишизмом, и поставить секс на должное место – ответственная задача новой науки. «Необходимо, чтобы коллектив больше тянул к себе, чем любовный партнер». Для этого Залкинд разрабатывает детальную систему – двенадцать заповедей полового поведения революционного пролетариата. Их общий смысл в том, что энергия пролетариата не должна отвлекаться на бесполезные для его исторической миссии половые связи. «Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая». Поэтому до брака, а именно до 20–25 лет, необходимо половое воздержание; половой акт не должен повторяться слишком часто; поменьше полового разнообразия; половой подбор должен строиться по линии классовой, революционно-пролетарской целесообразности; не должно быть ревности. Последняя, 12-я и самая главная, заповедь гласила: класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешиваться в половую жизнь своих членов.
С позиций сегодняшнего дня заповеди Залкинда звучат почти анекдотично. Однако надо признать, что при всех последовавших изгибах официальной идеологии ее основная тенденция в решении полового вопроса была предвосхищена (или смоделирована?) Залкиндом с удивительной прозорливостью. Всем памятно, как 15 лет назад участница советско-американского телемоста патетически заявила на потеху миллионам телезрителей: «У нас секса нет!» Что она при этом имела в виду, легко понять, перечитав заповеди, которым, прочно забыв про их автора, советское общество неуклонно следовало более полувека. Да и вся теория и практика полового воспитания в семье и школе была построена на этих заповедях, точнее – на идее сублимированного либидо. Это, конечно, крайность, и ее негативные аспекты очевидны. Вот только намного ли лучше другая крайность, в которую современное общество впало по принципу «от противного»? Ведь раскрепощенная сексуальность чревата не меньшими проблемами, чем ущемленная! Примеров не перечесть.
На 2-м Психоневрологическом съезде, состоявшемся в Ленинграде в начале 1924 г., доклады Залкинда привлекли всеобщее внимание. Из 906 делегатов съезда лишь 429 были специалистами-психоневрологами; множество присутствовавших считали себя педагогами-марксистами. Наблюдатель констатировал, что среди педагогов «сдвиг в сторону революционной идеологии совершается гораздо более ускоренным темпом, чем среди прочих слоев интеллигенции, представители которой замкнуты в узком кругу изолированной практики». К этой аудитории, которая вскоре и составила костяк педологических кадров страны, Залкинд обратился с эклектичной программой, которая была с воодушевлением принята. Обозреватель «Красной нови» воспринимал программу Залкинда так: «Социогенетическая биология в соединении с учением о рефлексах, при осторожном использовании ценнейшего ряда фрейдистских понятий и отдельных его экспериментальных методов сильно обогатят био-марксистскую теорию и практику». Специальной резолюцией съезд приветствовал доклады Залкинда как «последовательный социологический анализ ряда неврологических, психопатологических и педологических проблем в свете революционной общественности».
Именно педологии, новой науке о ребенке, и предстояло, по замыслу революционных энтузиастов, в кратчайшие сроки решить насущные задачи, стоявшие перед обществом. К науке вообще тогда относились как к могучей магической силе – подобно тому, как пещерный человек относился к колдовству, гарантирующему радикальные перемены к лучшему по мановению волшебной палочки. (Предрассудок, признаемся, довольно живучий!) А чтобы построить новое общество в стране, 70 % населения которой не умело ни читать, ни писать, ни даже понимать того, что говорилось с трибун, надо было воспитать новое поколение культурных людей взамен выбитого. Или хотя бы не мешать тем тысячам молодых энтузиастов, которые желали немедленно внести свой вклад в строительство утопии. Количество педвузов в стране только за 1919/1920 учебный год возросло в полтора раза; все равно они были переполнены: в 1921 г. в них училось в шесть раз больше студентов, чем в 1914-м. Нарком просвещения А.В. Луначарский провозглашал: «Наша школьная сеть может приблизиться к действительно нормальной школьной сети, когда она будет насквозь проникнута сетью достаточно научно подготовленных педологов… Надо еще, чтобы в каждом учителе, в мозгу каждого учителя жил, может быть, маленький, но достаточно крепкий педолог». Вам это ничего не напоминает?..
«Старым» наукам предстояло исчезнуть, ужаться под натиском новых наук или в лучшем случае перейти на их территорию. Нормальная наука (по терминологии Томаса Куна) говорит о том, каковы явления или люди сами по себе, а власти нужно описание того, какими они могут стать благодаря ее вмешательству. На 1-м Педологическом съезде, состоявшемся в конце 1927 г., Луначарский в своем докладе недвусмысленно заявил: «Педология, изучив, что такое ребенок, по каким законам он развивается, тем самым осветит перед нами самый важный процесс производства нового человека параллельно с производством нового оборудования, которое идет по хозяйственной линии».
На том же съезде Залкинд в своей речи попытался представить платформу, на которой могли бы консолидироваться две с половиной тысячи участников съезда, представлявшие несколько разных научных областей и несчитанное количество теоретических ориентаций. Желаемое было выдано за действительное – съезд одобрил «объединенную платформу» советских педологов. Этим курсом отныне предстояло вести корабль советской педологии. Воодушевленный Залкинд встал у руля.
В апреле 1928 г. начала работать Комиссия по планированию исследовательской работы по педологии в РСФСР при Главнауке Наркомпроса; ее председателем был назначен Залкинд. Постановлением Совнаркома от 17 августа 1928 г. ее уровень был повышен до Межведомственной плановой педологической комиссии. В этом же году начинает выходить журнал «Педология» под его редакцией. В 1930 г. по инициативе Залкинда созывается Съезд по изучению поведения человека. Тем самым главный педолог страны заявляет претензию на роль идеолога всей совокупности наук о человеке. Его доклад на этом съезде под названием «Психоневрологические науки и социалистическое строительство» заслуживает особого внимания.
За 12 лет Советской власти, констатирует Залкинд, в стране вырос новый массовый человек. Революционная эпоха создала его в кустарном порядке, но побеждает он изумительно. Плохо, однако, что психоневрологические науки не оказывают никакого содействия новым массам. Необходимо создать массовую психоневрологическую литературу, массовую консультацию, массовый инструктаж. Всего этого нет, а со стороны авгуров человековедения слышны лишь зловещие предостережения: до массовой работы наша наука еще не доросла. Руководящие органы партии ведут кадровую и воспитательную работу, а наука положительных указаний в этой области не дает. Наоборот, мы слышим даже отрицательные указания, угрозы в адрес массового нового человека. Совершенно очевидно, заключает Залкинд, что основная часть всей психоневрологии не делает того, что необходимо революции.
Нельзя не признать, что веяния времени снова были уловлены Залкиндом удивительно чутко. Его доклад по своей агрессивности, пожалуй, даже опередил свое время.
В конце 1930 г. Психологический институт в Москве был преобразован в Институт психологии, педологии и психотехники. На посту его директора Залкинд сменил Н.К. Корнилова.
Но в отличие от «нового массового человека», у Залкинда было прошлое, на глазах становившееся неблаговидным, и от него нужно было отречься. В нескольких недавних работах фрейдистского толка отречение Залкинда от психоанализа объясняется как вынужденный шаг, продиктованный начавшимися гонениями. Справедливости ради такую оценку надо признать преувеличенной – о гонениях речь еще не шла, однако психоанализ стремительно выходил из моды. В начале тридцатых российские психоаналитики продолжали собираться в узком кругу для обсуждения своих грез, но это было отнюдь не диссидентское подполье, а скорее экзотический кружок по интересам. Публикации стали редки. Официальное поощрение сошло на нет, но еще не сменилось обструкцией. Параллельно – или в связи с этим? – остывал и энтузиазм недавних подвижников (он вообще легко возбуждается при поддержке свыше и улетучивается при ее утрате). По искренности тона самокритики Залкинда хорошо чувствуется – когда меняется ветер, флюгер чувствует это первым.
«Я, – писал Залкинд, – объективно способствовал популяризации фрейдизма в СССР в 1923–25 годах, а по инерции и позже. Но я вкладывал во фрейдизм свое особенное понимание, которое на самом деле было полным извращением фрейдизма. Однако я продолжал называть свои взгляды фрейдизмом, и это соблазняло «малых сих».
Я всегда, вспоминал Залкинд, пытался обосновать «чрезвычайную социогенную обусловленность, пластичность человека и человеческого поведения», отстаивать понимание личности как «активного, боевого, творческого начала». Но в старой, «реакционной» психологии Залкинд этого не находил. «Наткнувшись в 1910–1911 годах на Фрейда, я, казалось мне, отыскал наконец клад. В самом деле, фрейдовская личность горит, борется, динамична, отбирает, проводит упорную стратегию, переключает свои устремления, свои энергетические запасы и т. д. Одним словом, опустошенное, дряблое «я» старой психоневрологии Фрейдом наконец выбрасывается вон из науки (так казалось мне тогда». В этом Залкинду легко поверить: именно так воспринимала Фрейда романтически настроенная молодежь в годы его наибольшей популярности в России. Однако, как известно, романтизм с годами сменяется здравомыслием.
Если вдуматься в суждения Залкинда, становится ясно, что на деле он был от фрейдизма весьма далек – и прежде, и теперь. Достаточно вспомнить его 12 заповедей, над которыми Фрейд, узнай он о них, в лучшем случае посмеялся бы. Так что в известном смысле Залкинд в своем покаянии субъективно честен. Но его экстремистский пафос неискореним. «Укрепление диктатуры пролетариата вбивает – и навсегда – осиновый кол в могилу советского фрейдизма».
Наверное, и с этой вампирской метафорой Залкинд поторопился. Даже Н.К. Крупская неожиданно встала на сторону фрейдизма: не стоит, мол, перегибать в другую сторону – бессознательное играет свою роль в жизни и в поведении. Но слово – не воробей, а осиновый кол – это, действительно, навсегда. Залкинд уже не может остановиться. Его новая методология гласит: «Мы становимся из рабов научных приемов их хозяевами… Основную (если не всю) массу научных исследований сегодняшнего дня должны составлять исследования краткосрочные, быстро дающие определенные выводы для ближайшего отрезка времени».
Однако история учит: постоянные колебания расшатывают флюгер, и его-то и сносит в первую очередь новым порывом ветра, который сильнее прежних.
В 1932 году Залкинд перестает быть директором Института психологии, педологии и психотехники (в буклете, недавно выпущенном к юбилею института, в портретной галерее его директоров отсутствует не только портрет Залкинда, что вполне понятно, но и вообще какое-либо упоминание о нем, словно и не было такого). Снимают его и с поста главного редактора журнала «Педология». Самому журналу оставалось жить совсем недолго. Дни педологии были сочтены.
Лидер советской педологии пережил ее на несколько дней. Вместо скорбно-патетических некрологов ему вослед прозвучала ангажированная статья с критикой его личных «педологических извращений». То ли по недосмотру, то ли по злой иронии именно она и вошла в нынешний томик его работ в качестве послесловия. Еще один осиновый кол в некрополе отечественной психологии.
За окном – ветер. Переменный…
Д. Карнеги (1888–1955)
«Если вы хотите быть жизнерадостным, ведите себя так, словно вам уже есть чему радоваться». Эту формулу вывел американский психолог Уильям Джемс, безумно популярный сто лет назад, а ныне прочно забытый всеми, кроме дюжины знатоков истории психологии. Но учение Джемса – «всесильное, потому что верное» – поныне «живет и побеждает» благодаря его верному последователю Дейлу Карнеги. Во всем мире Карнеги – едва ли не самый известный психолог. И это при том, что профессиональным психологом он никогда не был. Правильнее сказать, что Карнеги был блестящим житейским психологом. Его книги совсем непохожи на научные труды. Они написаны так, словно автор в чисто американской манере постоянно подразумевает: «Ребята! Я – не какой-нибудь дипломированный умник, а такой же парень, как вы. Просто я тут пораскинул мозгами и вывел несколько хороших рецептов правильного поведения. И вы много выиграете, если последуете моим советам».
В нашей стране книги Карнеги стали первой ласточкой мировой психологической мысли. Выпущенные на заре перестройки еще по-советски гигантскими тиражами, они нашли миллионы восторженных читателей и почитателей. Для многих психология началась с Карнеги (а часто им и закончилась) – при том, повторим, что к психологической науке он имеет весьма отдаленное отношение, хотя того же Джемса цитирует постоянно. Нашим читателям невдомек, что на Западе его незамысловатое учение давно вышло из моды под напором уничтожающей критики (в Америке, например, не менее популярна книга Э.Шострома под вызывающим названием «Антикарнеги»). Правда, восторженный ажиотаж потихоньку спадает и у нас (недавно и Шострома перевели). Тут самое время трезво разобраться, кто такой этот необычный человек, как он сумел завоевать такую популярность, чем подкупают его идеи, а в чем они и в самом деле уязвимы.
Имя Карнеги у нас настолько популярно, что многие даже убеждены, будто всемирно известный фонд Карнеги им и основан, а знаменитый Карнеги-холл назван в его честь. На самом деле в этих названиях фигурирует фамилия совсем другого человека – сталелитейного магната Эндрю Карнеги. В начале ХХ века он был одним из богатейших людей Америки и в буквальном смысле воплощал собой «американскую мечту». Это был «человек, сделавший себя сам», сколотивший огромное состояние ценой исключительной предприимчивости. Он мог позволить себе жертвовать огромные суммы на благотворительность, а сам до конца своих дней одевался в недорогих магазинах готового платья (его самый дорогой костюм стоил 30 долларов). Дейл Карнеги не имеет никакого отношения к великому Эндрю, он не был ни его родственником, ни даже однофамильцем – фамилия, которую Дейл унаследовал от родителей, звучала и писалась чуточку иначе. Из соображений мистических, а может – сугубо прагматических, Дейл уже в зрелом возрасте подогнал свою фамилию под блестящий эталон, словно стремясь, чтобы магия великого имени распространилась и на него. И надо признать – он своего добился. Сын бедного фермера стал-таки миллионером и едва ли не затмил своей славой известного «однофамильца».
Дейл Карнеги родился 24 ноября 1888 г. на ферме Маривилль в штате Миссури. Это было самое что ни на есть американское захолустье – от ближайшего железнодорожного полустанка ферму отделяло 8 миль. Достаточно сказать, что Дейл впервые увидел трамвай, когда ему было 19 лет. На ферме в обязанности Карнеги-младшего входил уход за поросятами, он доил коров, колол дрова, подрабатывал у соседей (за прополку огорода ему платили 5 центов в час). Но как бы семья ни выбивалась из сил, им с трудом удавалось сводить концы с концами. Так что по окончании школы рассчитывать на получение престижного образования фермерскому сыну не приходилось, пришлось ограничиться местным учительским колледжем, по-нашему – педучилищем. Да и там не было никакой возможности выбиться в первые ученики – занятия приходилось совмещать с работой по хозяйству. Колледж находился в шести милях от фермы. Пешком этот путь занимал бы полдня, а даже плохонький велосипед был семье не по карману. Можно было, конечно, за доллар в сутки снять комнату в городке, близ колледжа. Из шести сотен студентов лишь шестеро не могли себе этого позволить, в их числе – Дейл Карнеги. Да и от работы по хозяйству его никто не освобождал. На занятия юноша ездил верхом, причем, понятно, не на ковбойском скакуне, а на тощей рабочей кляче. Сам он к тому же был тщедушен, некрасив, в разговоре нередко запинался от неуверенности. Неказистый, бедно одетый всадник служил посмешищем для всего училища (где они теперь, эти насмешники, кто помнит их имена?). Однако юноша стоически сносил обиды, более того – старался обратить их в невинную шутку и не портить отношения с товарищами. Рассказывают, что уже в юные годы он отличался большой доброжелательностью, открытостью в общении.
Дейлу, правда, не удавалось участвовать во многих мероприятиях, проводившихся в колледже, – для этого у него не было ни времени, ни соответствующей одежды (единственный пиджак давно стал ему тесноват, а брюки, в которых он еще ходил в школу, были до неприличия коротки). Он попытался попасть в футбольную команду, но тренер не принял его, сославшись на его малый вес. Иной бы в такой ситуации озлобился или впал в уныние. Дейл нашел выход.
Его мать, которая судя по всему была женщиной по-житейски мудрой, хорошо понимала проблемы сына. Она посоветовала ему принять участие в дискуссионном кружке, считая, что опыт публичных выступлений придаст ему уверенности в себе и поможет заслужить признание окружающих, в котором он так нуждался.
Юноша последовал совету матери и после нескольких попыток (поначалу его отказывались принимать всерьез), был наконец принят в дискуссионный клуб. Это событие оказалось поворотным пунктом в его жизни. Выступления действительно помогли ему обрести веру в свои силы. К тому же Дейл, похоже, был прирожденным оратором или, по крайней мере, интуитивно открыл несколько выигрышных приемов публичного выступления, которые помогли ему завоевать доверие публики. В ораторском искусстве он практиковался сидя в седле, галопируя в колледж и обратно, разучивал свои речи во время доения коров, а потом, взобравшись на вершину кипы сена в амбаре, с величайшим жаром обрушивал на перепуганных голубей потоки гневных тирад о необходимости запретить иммиграцию японцев в США. Не прошло и года, как он стал побеждать на конкурсах по ораторскому искусству в колледже. (Биографы Карнеги всячески обыгрывают этот факт, хотя, справедливости ради, необходимо отдавать себе отчет в скромных масштабах этих конкурсов.)
В результате усилий, направленных на преодоление чувства собственной неполноценности, молодой человек пришел к пониманию того, что умение преподнести себя аудитории и донести до нее свою мысль укрепляет самооценку человека и его уверенность в себе. Причем ему было очевидно, что, обладая такой уверенностью, можно добиться очень многого, практически всего. С этой установкой он и отправился в большую жизнь.
Колледж, правда, несмотря на все свои успехи, так и не закончил, вопреки информации, содержащейся во многих биографических справках, – завалил латынь. Так что будущий кумир миллионов, признаваемый многими выдающимся психологом, не только не получил психологического образования, а вообще какого бы то ни было законченного образования. (Впоследствии он недолго проучился в Нью-Йоркской Академии театрального искусства, но не закончил и ее.)
Сведения о его последующей профессиональной деятельности значительно расходятся в разных источниках. Кое-где он предстает удачливым коммерсантом, блестящим литератором и успешным актером. Действительно, на всех этих поприщах Карнеги попробовал себя, но славословия его успехам надо признать сильным преувеличением. Недолго помыкавшись в бесперспективной должности рассыльного в Небраске, он попробовал торговать всякой всячиной – от свиного сала до сборников полезных советов (чужих, разумеется, – свои он еще не сформулировал), – но вынужден был признать, что торговец он никудышный. Хотя ему и удалось ценой огромных усилий вывести свой район сбыта на первое место в штате, предложенное ему повышение было слишком скромной перспективой и не сулило ни скорой славы, ни большого богатства. Впереди были те же путешествия в товарных вагонах, дешевые ночлежки, препирательства с задолжавшими лавочниками. Молодой Карнеги не так представлял себе успех.
Перебравшись в Нью-Йорк, он попробовал себя на сцене заштатного театрика, но после пары лет существования нищим актером забросил это дело и занялся писательским трудом. Увы, издателей его юношеские опусы не воодушевили, да наверное и в самом деле не стоили доброго слова (даже потом, находясь в зените славы, Карнеги так и не решился их опубликовать).
И Карнеги вернулся к тому, с чего начал и что единственное у него пока хорошо получалось. Поскольку еще в колледже он успешно наставлял всех желающих по части ораторского искусства, Карнеги именно это и решил сделать своим ремеслом – открыть ораторские курсы. Руководство Американской Ассоциации молодых христиан, под крышей которой он намеревался осуществить свое начинание, поначалу встретило его скептически. Карнеги было заявлено, что никто не станет платить ему преподавательское жалование – 2 доллара в час – за чтение лекций по никому не известному и не понятному курсу. Карнеги хватило красноречия переубедить администрацию – соответствующие платные курсы были открыты, хотя вознаграждение ему было назначено в виде комиссионных от сборов.
Впрочем, Карнеги не прогадал. Уже через несколько месяцев его курсы прибрели такую популярность, что его комиссионные составили целых 30 долларов в час – столько набиралось заинтересованных слушателей.
Прослышав о таких успехах, директора Ассоциации в соседних городах захотели включить курс Карнеги в свои программы обучения. Вслед за тем и другие профессиональные сообщества обратились к нему с той же просьбой. Спрос на Карнеги рос день ото дня, и о хроническом безденежье можно было забыть. (Хотя многие охотно согласятся, что суетливая беготня по лекциям, позволяющая неплохо сводить концы с концами, – это еще не синоним жизненного успеха.)
Постоянно совершенствуя и обогащая содержание своих лекций, Карнеги постепенно начал вводить в свой курс некоторые соображения о взаимоотношениях между людьми. Ему удалось лично проинтервьюировать множество преуспевающих людей, в числе которых были изобретатель Маркони, Франклин Делано Рузвельт, Кларк Гейбл и Мери Пикфорд. В ходе бесед Карнеги стремился уяснить применяемую ими технику человеческих отношений. Он упорно занимался изысканиями в этой области, прочел много психологических трудов, а свои находки и выводы излагал в брошюрах, которые с жадностью читались его поклонниками, применявшими полученные знания на практике. Содержание этих брошюр было обобщено в его первых книгах, увидевших свет в 1926 г., – «Умение говорить: практический курс для деловых людей» и «Ораторское искусство и оказание влияния на деловых партнеров». В своей работе Карнеги активно сотрудничал с Лоуэллом Томасом, результатом чего в 1934 г. стал их совместный труд «Малоизвестные факты из жизни известных людей». Не так давно на гребне популярности Карнеги эта книга была издана и у нас, хотя, конечно, вряд ли она может сравниться по поучительности с иными его «учебниками жизни». А в 30-е годы она пользовалась в Америке популярностью, так же как и цикл радиопередач, которые Карнеги вел на эту тему.
Но главный успех пришел к Карнеги в полном соответствии с американской формулой «неустанный труд, личный энтузиазм + счастливое стечение обстоятельств». В 1933 г. главный управляющий крупного издательства «Саймон энд Шустер» Леон Шимкин прослушал его авторский курс в Ларчмонте, штат Нью-Йорк. На него произвели впечатление не столько аспекты курса, связанные с ораторским мастерством, сколько содержавшиеся в нем принципы взаимоотношений между людьми. Полагая, что книга на эту тему будет пользоваться большим спросом, Шимкин предложил Карнеги систематизировать все преподносимые им своим слушателям материалы и оформить их в виде книги.
12 ноября 1936 г. вышла самая знаменитая книга Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» – оптимистическое собрание практических советов и жизненных историй под общим девизом «Верь, что ты добьешься успеха – и ты его добьешься» (По сути дела, десятки современных психотерапевтических концепций – лишь конкретизация этого тезиса.) Как и предыдущие издания, эта книга не содержала каких-то особых откровений, однако в чисто американской манере предлагала краткие и в то же время емкие советы насчет того, как лучше себя вести, чтобы завоевать интерес и симпатию окружающих. Менее чем за год было распродано более миллиона экземпляров книги (еще при жизни автора только в США было продано более 5 миллионов экземпляров). С тех пор она издана на многих языках мира. На протяжении 10 лет книга числилась в списках бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс», что до сих пор является абсолютным рекордом.
Еще более укрепила успех Карнеги его следующая книга – «Как перестать беспокоиться и начать жить», которая целиком посвящена описанию способов борьбы со стрессами, а также тому, как активизировать в себе здравый смысл.
Главный рецепт душевного равновесия по Карнеги на самом деле открыт задолго до него и многократно повторен на все лады мыслителями прошлых веков. Беда в том, что до томика Сенеки или Монтеня не у каждого дойдут руки, да и вперемешку с приключениями Бешеного или Слепого читаются они туговато. В доходчивом изложении Карнеги, подкрепленном живыми примерами, все становится на свои места. Оказывается, главная беда человека – в неумении жить сегодняшним днем. Слишком много душевных сил уходит у нас на воспоминания о прошлом, которое безвозвратно минуло, и на мысли о будущем, которое еще не наступило. Давние обиды и огорчения расстраивают нас и сегодня, хотя оснований на то давно нет. Да и приятные воспоминания пусты и бесплодны, ибо вращаются вокруг ушедшего. А уж мечты о будущем и вовсе бесполезны, они только распаляют воображение, но не насыщают. Опасения грядущих невзгод портят нам кровь еще до наступления неприятностей (как мудро заметил Марк Твен, «в жизни я пережил много бед – некоторые из них случились на самом деле»). Вывод прост: надо отбросить все эти ненужные переживания и радоваться тому, что есть сейчас. Даже если радоваться особо нечему (см. выше), надо вести себя так, будто все прекрасно. Еще Джемс на сей счет говорил: «Нам не всегда по силам изменить жизненную ситуацию, но всегда в нашей власти изменить свое отношение к ней». Так что и тут Карнеги оригинальностью не блещет, хотя эта формула запомнилась миру именно в его трактовке.
Рецепты эффективного общения по Карнеги столь же незамысловаты. По его мнению (с которым трудно не согласиться), мы все слишком эгоцентричны, сосредоточены на своих интересах и нуждах, а это отталкивает других людей. Если нам что-то от человека нужно, мы добиваемся этого слишком прямолинейно, и он в свою очередь начинает обороняться, охраняя свои интересы. Значит, вести себя нужно совсем иначе. Всем своим видом надо продемонстрировать искреннее расположение к партнеру, интерес к его персоне. Следует позаботиться, чтобы у него создалось впечатление: общаясь с вами или даже оказывая вам какую-то услугу, он в первую очередь удовлетворяет свои собственные интересы. (Мысль, кстати, тоже совсем не новая – Ларошфуко и Лабрюйер писали об этом, когда на свете не было не только Дейла Карнеги, но еще и его прадедушки). Короче, иди навстречу людям (или хотя бы делай вид, этого достаточно) – и люди к тебе потянутся.
Что же не устроило в этих сентенциях придирчивых критиков? Идеологи гуманистической психологии объявили Карнеги беззастенчивым манипулятором, который учит лицемерию и бездушию. Для манипулятора другие люди являются инструментами, средствами утоления его потребностей. И все манипулятивные приемы – это лишь корыстные ухватки, с помощью которых ловкач заставляет других плясать под свою дудку.
Если придерживаться гуманистической позиции, то идти людям навстречу бескорыстно, в самом деле помогать им удовлетворять их потребности. Ну, и чувства, разумеется, надо выражать искренне. О том, как при этом соблюсти свои интересы, гуманисты скромно умалчивают. Да и по поводу душевного равновесия они фактически солидарны с Карнеги – принцип жизни «здесь и теперь» – один из краеугольных камней гуманистической психологии.
Парадокс этой ситуации в том, что все рецепты Карнеги безупречно действуют на практике. Однако ими в само деле легко злоупотребить. Если человек обладает задатками манипулятора и настроен использовать других людей как вещи, советы Карнеги ему в этом неплохо помогут. Если же он настроен относиться к людям «по-человечески», то ему эти советы не очень-то и нужны. Вернее, он и так будет им следовать, даже о них не зная, причем совершенно искренне и бескорыстно. Так что ругать Карнеги – все равно что ругать огонь, которым можно и обжечься, и согреться. А вовсе отказаться от огня – значит обречь себя на стужу и сырую пищу.
Истина посткарнегианской эпохи состоит, наверное, в том, чтобы не доводить до крайности ни его идеологию, ни доводы его критиков. А ведь по сей день свои рекомендации по совершенствованию нашего внутреннего мира и налаживанию отношений предлагают как последователи Карнеги, так и его противники. Довольно успешно (хотя и в более скромных масштабах, чем прежде) функционирует основанный Карнеги и носящий его имя Институт эффективного ораторского искусства и человеческих отношений с филиалами во многих странах.
Дейл Карнеги жил по принципу, что нет плохих людей (и чем это гуманисты еще недовольны?..), а есть неприятные обстоятельства, с которыми можно бороться, но совсем не стоит из-за них портить жизнь и настроение окружающим. 1 ноября 1955 г. этот человек, оптимист по жизни, умер в Нью-Йорке, совсем недолго успев побыть миллионером и насладиться собственным успехом. После его смерти Институт возглавила его жена Дороти, автор собственной небезынтересной книжки о том, как мудрая женщина может способствовать успехам начинаний своего мужа. Книга написана, похоже, с большим знанием дела. Да и сама фамилия автора нынче дорого стоит…
Рассказывают (достоверность этих слухов сегодня проверить непросто), что четверть века назад сборник работ Карнеги в переводе на русский язык был издан спецтиражом в полторы сотни пронумерованных экземпляров для внутреннего пользования в кругу советской партийной элиты. Остается только недоумевать, чем так испугали наших тогдашних вождей идеи практичного американца, что они побоялись их обнародовать. По прошествии лет ясно одно: сами они так ничему у него не научились.
Впрочем, и сегодня, слушая иного оратора, понимаешь, что Карнеги он не читал. А глядя на хмурые лица соотечественников, так и хочется спросить: «Не пора ли перестать беспокоиться и начать жить?» Перечитать, что ли, Карнеги?
Н.Н. Ладыгина-Котс (1889–1963)
Надежда Николаевна Ладыгина-Котс – одна из немногих отечественных психологов, получивших мировую известность и признание. За рубежом редкая крупная монография по вопросам детской и сравнительной психологии обходится без ссылок на ее исследования, а некоторые содержат иллюстрации, заимствованные из ее трудов. Однако многим современным отечественным психологам ее имя даже не знакомо. Иной практик, столкнувшись с упоминанием ее работ – «Приспособительные моторные навыки макака в условиях эксперимента» (1926), «Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян» (1959) и др., – недоуменно пожмет плечами: «Какое отношение все это имеет к моим профессиональным интересам, да и вообще к психологии?» Но в том-то все и дело, что труды Ладыгиной-Котс к психологии в ее исконном понимании имеют непосредственное отношение, и уж наверняка – гораздо большее, чем многие опыты консультативно-терапевтической самодеятельности. Ее работы приближают нас к пониманию подлинной природы человеческого поведения, а средством для этого служит сопоставление с механизмами поведения братьев наших меньших. Не будем также забывать, что, например, Нобелевский лауреат Конрад Лоренц, чей авторитет признан большинством психологов, пришел к своим научным выводам исключительно в результате опытов над животными. Эксперименты над животными послужили основой целого направления психологической науки – бихевиоризма, большинство представителей которого отдали дань этим изысканиям – от одного из пионеров психологии Э.Л. Торндайка до Б.Ф. Скиннера, которого его соотечественники почитают крупнейшим психологом столетия. Изучение поведения приматов составило важную страницу в научной биографии крупнейшего исследователя мышления, гештальтпсихолога В.Кёлера, а также Р.Йеркса, избранного в свое время президентом Американской Психологической Ассоциации. Хотим мы того или нет, но психология – это не только «эмпатия», «трансакция» и «раппорт», но и «инстинкт», «рефлекс», «инсайт»… И мы никогда не поймем до конца человека, если не будем рассматривать его как звено в цепи живых организмов. Тут для научного анализа наиболее важны не столько поведенческие параллели, сколько сугубо человеческая специфика, которую легче всего познать в сравнении. Исследованиям в этой области и посвятила свою научную работу Н.Н. Ладыгина-Котс.
Надежда Николаевна родилась 19 мая 1889 г. в Пензе в семье бывшего крепостного крестьянина, позднее известного учителя музыки и пения Пензенского реального училища. Среднее образование она получила в Пензенской гимназии. В 1908 г. Надежда Николаевна поступила на Московские высшие женские курсы. Здесь она познакомилась с молодым преподавателем А.Ф. Котсом и вскоре вышла за него замуж. Помимо естественных супружеских чувств, с мужем ее объединяли и общие интересы. А.Ф. Котс, вскоре ставший директором Московского зоопарка, был большим знатоком и любителем животных. И в этой области, так же, впрочем, как и в любви к искусству, их интересы на всю жизнь переплелись. Как символ этого увлечения центральное место на стене в ее кабинете на долгие годы заняли две старинные литографии: Диана с животными, любовно заглядывающими в ее лицо, и ангел, скорбящий над телами погибших птиц.
Супружеская чета Котсов
В этот счастливый период своей жизни Надежда Николаевна много путешествовала с мужем по Европе, посещая знаменитые музеи. Впоследствии, в советскую эпоху, она ни разу не выезжала за рубеж, несмотря на то, что ей как признанному специалисту присылали персональные приглашения организаторы многих международных симпозиумов и конгрессов.
В 1913 г. Н.Н. Ладыгина-Котс основала Лабораторию сравнительной психологии в Музее эволюционной истории. Здесь она проводила эксперименты с макаком-резусом, собаками, попугаями и шимпанзе Иони. При изучении познавательных возможностей Иони она применила изобретенный ею метод выбора на образец. Впоследствии этот метод получил широчайшее распространение, в том числе и в исследованиях интеллекта взрослых людей и детей, хотя сегодня мало кто помнит имя автора этого метода. С его помощью Ладыгина-Котс в экспериментах, проводившихся с 1913 по 1916 г., установила, что шимпанзе обладают способностью к отождествлению различных признаков предмета и к элементарной абстракции.
Н.Н. Ладыгина-Котс с шимпанзе
Ее первая книга, написанная по итогам этой работы, – «Исследование познавательных способностей шимпанзе» (1923) – привлекла внимание крупнейших ученых Европы и Америки. Э.Клапаред в «Архивах психологии» (1924, т. ХIХ) писал: «Этот роскошный том, украшенный прекрасными фотографиями [вспомним – выпущенный в 1923 году! – С.С.], излагает терпеливые эксперименты, выполненные в Зоопсихологической лаборатории Дарвиновского музея в Москве г-жой Н.Котс над шимпанзе. Мы искренне надеемся, что г-жа Котс может скоро опубликовать продолжение своих исследований, которые представляются образцом терпения, осторожности и вдумчивости в истолковании фактов».
Дальнейший углубленный анализ поведения шимпанзе дал материалы для будущего сравнения с аналогичными, но сугубо человеческими проявлениями психической жизни ребенка. Тут необходимо некоторое уточнение. Многие психологи, наслышанные об этом исследовании Ладыгиной-Котс, убеждены, что она одновременно «воспитывала» и наблюдала шимпанзе и своего родного сына, чуть ли не кормила их за одним столом. Как ни эффектно выглядит этот образ, он, однако, относится к области научных мифов. Эксперименты с шимпанзе были закончены по причине его смерти еще в 1915 г., а сын Ладыгиной-Котс Рудольф родился десять лет спустя, в 1925 г.
Детальное сравнение особенностей свободного поведения шимпанзе и ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет было выполнено на основе многолетнего анализа дневниковых записей, документированных сотнями фотографических серий, которые мастерски выполнил А.Ф. Котс. Написанная по этим материалам монография «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях» увидела свет в 1935 г., была переведена на многие языки и принесла Н.Н. Ладыгиной-Котс мировую славу. Р.Йеркс в своем отзыве на эту книгу писал: «Г-жа Котс – талантливейший наблюдатель, чуткий и хорошо эрудированный, с преданностью и исключительной вдумчивостью описывающий в этом тщательном труде различные выражения и психологические черты у шимпанзе и человека. Этот том есть прежде всего иллюстрированный и описательный очерк эмоциональных выражений у шимпанзе и человеческого дитяти, и, хотя иллюстрации прежних томов г-жи Котс были великолепны по качеству и высокой научной ценности, настоящая серия иллюстраций превосходит прежние во всех отношениях. Они являются богатейшим источником поучения, очаровывающим внимание тех, кто занимается проблемами психобиологии». Во французской энциклопедии тех лет, данные, полученные Ладыгиной-Котс, приводились вслед за изложением исследования Ч.Дарвина «О выражении эмоций у животных и человека».
Наряду с тем, что Ладыгиной-Котс удалось показать некоторое сходство между психикой обезьяны и человека, определяемое единством развития жизни в процессе эволюции организмов, она тем не менее убедительно продемонстрировала принципиальное отличие конкретно-чувственного предметного мышления шимпанзе, основывающегося на использовании пространственно-временных связей, от абстрактного обобщенного мышления человека, вскрывающего причинно-следственные отношения. Было отмечено раннее проявление способности к абстрагированию у 2–3-летнего ребенка, связанное с развитием речи. Постоянно повторяемый вывод таков: основные психические процессы человека и приматов качественно различны; эти различия определяются существованием человека в социуме, т. е. качественно своеобразная психическая жизнь человека социальна по своему происхождению и по своей сущности.
Внимание Ладыгиной-Котс привлекали не только приматы. Она наблюдала за поведением животных разнообразных видов в Московском зоопарке. Однажды за этим занятием ее застал прогуливавшийся там В.В. Маяковский, в ту пору уже признанный поэт. Он был потрясен ее красотой и серьезностью. Где-то среди его строк есть упоминание о красавице, которая, пристально наблюдая за зверьками, не обращает внимания на поэта. Как бы там ни было, поэт и ученая дама обменялись письмами.
Наблюдения в зоопарке были вызваны интересом исследовательницы к проблеме инстинкта. Начиная с 1920 г. ею было проведено 30 000 опытов по этой проблеме. Их результаты Ладыгина-Котс обобщила в монографии «Инстинкт», которая, однако, так и не была напечатана.
Важнейшие результаты исследований, показавших, с одной стороны, значительность инстинктивной базы поведения приматов, а с другой – огромные резервы развития и появления совершенно новых, складывающихся в ходе индивидуального опыта форм реализации инстинктивного поведения, были представлены в книге «Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян». История издания этого фундаментального труда характерна для того периода, когда научная литература подвергалась шаблонизации в ходе формального, идеологизированного редактирования. От момента завершения книги автором до ее выхода в свет прошло почти 10 лет. Это объясняется тем, что после «павловской» сессии двух академий в область психологии стала агрессивно вторгаться физиология высшей нервной деятельности. Многие ее представители усмотрели свою общественную миссию в «материализации» психологии. Остро встал вопрос о самом существовании психологии как науки. В острейших дискуссиях с физиологами психологи вынуждены были идти на существенные уступки, ибо понимали, что общественная ситуация складывается не в из пользу. Однако постепенно дискуссии стали приобретать более академический характер, начал угасать «разоблачительный» пафос критики психологии и психологов.
Именно в этой атмосфере борения умов шла подготовка к изданию книги. Первую половину редакционного десятилетия рецензенты из числа представителей физиологии ВНД работали с Ладыгиной-Котс как с человеком якобы научно отсталым, которому просто необходимо почитать труды Павлова и ученых его школы, чтобы правильно (т. е. с позиции теории условных рефлексов) проанализировать и оценить полученные данные.
Ладыгина-Котс высоко ценила И.П. Павлова и его научный вклад, она не раз ссылалась на его работы, в частности – на данные, полученные им и его сотрудниками в экспериментах в обезьянами, но в собственной работе она оставалась прежде всего психологом. Именно с этой позиции она старалась преодолеть острую дискуссионность периода подготовки рукописи к изданию. Рецензенты с кругозором начинающего аспиранта наставляли ученого с мировым именем. Поучительные беседы длились по несколько часов кряду при всегда неизменной доброжелательности и любезности Ладыгиной-Котс. Судя по всему, эти беседы были действительно поучительны: рецензенты получали много полезного для своего научного и человеческого развития, и представление о том, что перед ними «упрямый монстр из мрачного допавловского прошлого», сменилось искренним уважением.
Книга готовилась и вышла в свет в период работы Ладыгиной-Котс в секторе психологии Института философии АН СССР, куда она была приглашена в 1945 г. С.Л. Рубинштейном на должность старшего научного сотрудника. Именно С.Л. Рубинштейн и сотрудники возглавляемого им сектора, преодолевая зачастую немалые трудности, помогли издать три последние книги Ладыгиной-Котс – «Развитие психики в процессе эволюции организмов» (1958), «Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян» (1959), «Предпосылки человеческого мышления (подражательное конструирование обезьяной и детьми)» (1965). Для Ладыгиной-Котс работа в Институте философии значила очень многое. Здесь получили поддержку ее научные убеждения. Здесь в 1953 г. ей был вручен орден Ленина, она была удостоена звания заслуженного деятеля науки РСФСР.
Особой стороной бытия Ладыгиной-Котс было общение с людьми близкого ей круга, в который входили многие выдающиеся ученые, художники, писатели, режиссеры кино и театра.
Обширная переписка и личное общение с зарубежными учеными составляют также замечательные страницы жизни Н.Н. Ладыгиной-Котс и ее мужа А.Ф. Котса. Научное общение этой замечательной четы с зарубежными учеными было в первую очередь связано с основным предметом их забот – созданием и обогащением уникальных коллекций Дарвиновского музея в Москве.
Под руководством Ладыгиной-Котс вокруг Дарвиновского музея складывалась московская школа натуралистов-естествоиспытателей. Эта школа была необыкновенно жизнеспособна, несмотря на все трудности, которые в разные годы выпадали на долю музея. Главные из этих трудностей – постоянный поиск средств на пополнение коллекций, ведение экспериментальной работы и борьба за новое, просторное здание музея.
Семейство Котсов жило в помещении непосредственно при музее. Это жилище имело весьма романтический вид. Музейные экспонаты соседствовали в жилых комнатах с огромным количеством книг, рукописей, картин, скульптур, которые отчасти принадлежали музею, отчасти семейству Котсов. Трудно было отличить музейную работу от повседневного, сведенного к минимуму быта этих высокоинтеллигентных людей.
Нельзя не отметить также живой интерес Ладыгиной-Котс к возможностям дрессировки животных. Всегда неравнодушная к театру, она с особым вниманием относилась к Театру зверей В.Л. Дурова, а впоследствии к Уголку Дурова, возглавлявшемуся его дочерью, А.В. Дуровой.
В свое время Ладыгина-Котс вместе с Бехтеревым принимала живейшее участие в обсуждении зоопсихологических исследований В.Л. Дурова – не только блистательного дрессировщика, но и ученого. Она всегда поддерживала идею основания при Уголке Дурова зоопсихологической лаборатории, которая там фактически долгие годы и существовала. Именно в Уголке Дурова при Анне Владимировне Дуровой – талантливой актрисе-дрессировщице и ученом, участнице секции зоопсихологии Всесоюзного общества психологов (этой секцией руководила Ладыгина-Котс) – получили возможность вести свои исследования ученики Ладыгиной-Котс – К.Э. Фабри и М.А. Герд. Первый известен как автор уникального учебника по зоопсихологии, известного всем получившим фунаментальное психологическое образование. Последняя получила известность как ученый, подготовивший к космическим полетам собак Белку и Стрелку, а также как автор множества работ по теории и практике дрессировки.
Научные изыскания Н.Н. Ладыгиной-Котс внесли значительный вклад в теорию общей, сравнительной и возрастной психологии. И сегодня для многих как девиз звучит ее фраза, написанная ею в связи с посвящением Р.Йерксу своей первой книги еще в 1923 году: «Этим посвящением я хотела бы лишний раз напомнить, что лозунг интернационализма всего легче и прежде всего оправдывается в науке, в которой принципы свободы – в искании истины, равенства – в путях и формах ее выявления, братства – в единении ученых, – были и есть ее исконными принципами, отступление от которых ведет к деградации ее значения, к ее замиранию и гибели».
С.Л. Рубинштейн (1889–1960)
В историю науки Сергей Леонидович Рубинштейн вошел как выдающийся психолог-теоретик. В его творческой биографии выпукло отпечатался непростой и противоречивый путь становления отечественной психологической науки ХХ века. В свою очередь, этот путь во многом и был проложен благодаря его научно-теоретическим исканиям. Как писал в 1969 г. Б.Г. Ананьев: «Биография ученого приобретает тем большее значение, чем полнее воплощает в себе биографию науки, ее прогрессивное движение на путях познания и активного участия в общественном развитии. К таким биографиям, несомненно, относится жизненный путь выдающегося советского ученого – Сергея Леонидовича Рубинштейна. Его жизненный путь настолько тесно переплелся с развитием советской психологической науки, что только в связи с этим развитием и следует рассматривать его жизнь и деятельность».
Сергей Леонидович Рубинштейн родился 6 (18) июня 1889 г. в Одессе, в семье интеллигентной и высококультурной, не чуждой свободомыслия. В семье было трое сыновей – Сергей, Николай и Григорий, и каждый из них, получив блестящее образование, стал видным специалистом в избранной отрасли. Рубинштейн-старший был известным адвокатом. В широкий круг его знакомств входил, в частности, первый русский марксист Г.В. Плеханов, с которым он не раз подолгу общался в Швейцарии в ходе своих частых поездок за границу. В годы учебы в гимназии не избежал увлечения марксизмом и Сергей Рубинштейн, некоторое время даже посещавший сходки подпольного марксистского кружка. Впрочем, выходец из вполне благополучной и обеспеченной семьи, Рубинштейн не страдал бредом экспроприации экспроприаторов – марксизм его интересовал как одна из многих философских систем, а отнюдь не как инструкция по осуществлению государственных переворотов.
В доме Рубинштейнов постоянно собирались видные представители одесской интеллигенции – преимущественно юристы и врачи. Принято считать, что такого рода интеллектуальная атмосфера очень благоприятна для личностного роста, особенно в годы юношеских исканий. Однако в набросках автобиографии (так и не получившей законченного воплощения) сам Рубинштейн признает, что собиравшиеся в доме интеллигенты производили на него скорее негативное впечатление своими упадническими настроениями и бесплодным философствованием. Его собственный интерес к философии сложился в результате противоречивых влияний – с одной стороны, вследствие постоянно поднимавшихся в его кругу мировоззренческих вопросов, с другой – в противовес праздному умствованию интеллигентов предреволюционной поры.
Окончив в 1909 г. с золотой медалью элитную Ришельевскую гимназию, Рубинштейн намеревался продолжить образование, но категорический отверг идею поступления в Новороссийский (Одесский) университет, который считал «кулачьим». Сегодня трудно судить, насколько справедливой была эта оценка, однако нежелание интеллигентного юноши вращаться в кругах разбогатевших выскочек и охотнорядцев вполне понятно (причем в наши дни – особенно понятно). Неплохое материальное положение семьи позволило ему отправиться на учебу за границу, в Германию, где традиции философского образования были самыми давними и прочными. Высшее образование Рубинштейн получил в университетах Фрайбурга, Берлина и Марбурга. В докторской диссертации, защищенной накануне Первой мировой войны в Марбурге и опубликованной на немецком языке в 1914 г., был заложен основной принцип его дальнейших научных изысканий – использование философских методов в конкретных общественных науках, в том числе психолого-педагогических.
Вернувшись на родину, в Одессу, Рубинштейн занял пост заведующего кафедрой психологии Новороссийского университета. Однако местная профессура встретила новоиспеченного марбургского доктора философии настолько ревниво и недоброжелательно, что свой пост он почти сразу оставил и предпочел преподавать философию, психологию и логику гимназистам. Лишь после революции, в 1919 г. он возвратился в университет в должности доцента, а в 1921 г. был избран профессором кафедры психологии, сменив на этом посту скончавшегося перед тем одного из крупнейших дореволюционных психологов России – Н.Н. Ланге.
20-е годы – малоизвестный период в научном творчестве Рубинштейна, поскольку в ту пору он практически не имел возможности публиковать свои труды. Исключение составляет лишь работа «Принцип творческой самодеятельности», опубликованная в «Ученых записках высшей школы г. Одессы» в 1922 г., В этой новаторской статье были изложены исходные основы того общеметодологического подхода, который теперь называется деятельностным, или субъектно-деятельностным. (Нелишне отметить, что термин «деятельностный подход» в трудах самого Рубинштейна, в том числе и более поздних, не встречается.) Сущность этого подхода была выражена так: «…Субъект в своих деяниях, в актах творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них создается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определить то, что он есть; направлением его деятельности можно определять и формирование его самого. На этом только зиждется возможность педагогики…»
Исходные для общей системы философско-психологических воззрений положения Рубинштейна получили свое развитие в последующие периоды его творчества, с особой же глубиной – в московский период.
Но в Москве Рубинштейн оказался не сразу. В 1930 г. он перебрался из Одессы в Ленинград, где возглавил кафедру психологии ЛГПИ им. Герцена. Назначение состоялось благодаря поддержке авторитетного в то время крупного ленинградского психолога М.Я. Басова, который (по некоторым суждениям, в том числе и под влиянием статьи Рубинштейна «Принцип творческой самодеятельности») с середины 20-х гг. также начал разрабатывать проблему деятельности. Другими психологами эта проблема в то время не рассматривалась. Тогдашний директор Московского института психологии К.Н. Корнилов – создатель реактологии (учения о реакциях, а не о действиях и поступках) – не пожелал сотрудничать с Рубинштейном и отказался принять его в свой институт.
Крупным событием в разработке методологических основ психологической науки в нашей стране стала публикация программной статьи Рубинштейна «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса» (1934). В ней, отвергнув попытки соединить субъективную психологию сознания с трактовкой поведения как совокупности реакций, он выдвинул в качестве приоритетной категории действующего субъекта как конкретной сознательной личности. Именно на этой основе утвердился принцип единства сознания и деятельности, ставший ведущим для нового периода в развитии отечественной психологии.
Согласно этому принципу, человек и его психика (в частности, сознание) формируются, развиваются и проявляются изначально в практической деятельности. А потому и изучаются они прежде всего через проявление в деятельности (игровой, учебной, трудовой и др.). Так Рубинштейн конкретизировал идущую еще от Гете общую идею: вначале было дело (а не ветхозаветное слово).
Обосновав принцип единства сознания и деятельности, Рубинштейн фактически положил конец малопродуктивным дискуссиям о соотношении сознания и поведения, которые в течение многих лет велись в психологическом сообществе. На этом основании он провел методологический анализ кризиса в мировой психологии. При этом им была вскрыта уязвимость проекта преодоления кризисной ситуации, который был предложен австрийским психологом Карлом Бюлером, считавшим, что необходимо соединить в некое целое разнонаправленные ветви психологической мысли – интроспекционизм, бихевиоризм и культурно-историческую психологию. Следует отметить в связи с этим важнейшую личностную характеристику творчества Рубинштейна – способность охватить всю панораму мировой психологической науки, как в ее деталях, так и в общих тенденциях развития. Это позволяло ему избегать провинциализма, которым иной раз грешат отечественные психологи по сей день. Отечественная и западная психология выступали перед его умственным взором не как антагонисты, а как различные направления мировой психологической мысли.
В дальнейшем такой подход ему дорого обошелся. В эпоху пресловутой борьбы против космополитизма он подвергся жесткой и совершенно необоснованной критике и административным преследованиям.
Понимая необходимость подготовки молодого поколения психологов, Рубинштейн в 1935 г. опубликовал психологический труд, обобщивший состояние мировой и отечественной психологической науки на рубеже 20–30-х гг. Первый в то время общий курс психологии был составлен им не в виде академической монографии, а как учебное пособие («Основы психологии»). Этот новаторский учебник оказал существенное влияние на характер изучения малопопулярной в те годы дисциплины. Именно Рубинштейну принадлежит инициатива преподавания ее не только в педагогических учебных заведениях, но и в университетах. С введением ученых степеней Рубинштейн первым в стране получил степень доктора педагогических наук (по психологии). В 1940 г. в Учпедгизе вышел его фундаментальный труд «Основы общей психологии», который до сего дня переиздается и продолжает выступать ценным источником научного знания для новых и новых поколений психологов.
Работая в Ленинграде, Рубинштейн поддерживал тесные творческие контакты с рядом московских психологов. По свидетельству М.Г. Ярошевского, «к Рубинштейну в его двухкомнатную квартиру на Садовой приходили делиться своими замыслами Выготский и Леонтьев, Ананьев и Рогинский. Приезжали на его кафедру Лурия, Занков, Кравков и другие». Выготского и Леонтьева он приглашал из Москвы для чтения лекций. Не разделяя многих идей Выготского, он подробно обсуждал их во время их встреч.
В свою очередь, приезжая в Москву, Рубинштейн активно общался с коллегами, которые также разрабатывали психологическую категорию деятельности, – Тепловым, Леонтьевым и др. Обычно эти встречи происходили не в Институте психологии, а в ЦПКИО им. Горького, поскольку руководство института к идеям «деятельностников» относилось, мягко говоря, прохладно. По этой причине Теплову и Леонтьеву было бы трудно или даже невозможно защитить свои докторские диссертации в Москве. Рубинштейн пригласил их защищаться в Ленинград, к себе на кафедру, выступил одним из официальных оппонентов.
Когда началась война, Рубинштейну, как и другим крупным ученым, предложили эвакуироваться, но он решил остаться в осажденном Ленинграде, считая своим гражданским долгом в качестве проректора (в отсутствие ректора) организовать работу коллектива института в суровых условиях блокады.
Сохранилось множество свидетельств мужества Рубинштейна в этих нечеловеческих условиях. Его аспирант Г.Лосев умирал в одном из госпиталей, расположенном далеко от центра города. Преодолевая физическую слабость, Рубинштейн шел пешком через весь город, чтобы отдать Лосеву часть своего скудного пайка. Начальник дружины по охране института А.Л. Чаплина рассказывала, как этот сугубо гражданский человек, никогда в жизни не державший в руках оружия, попросил ее проводить его в тир, где бы он мог научиться, несмотря на сильнейшую близорукость, стрелять из пистолета, чтобы, если фашисты ворвутся в город (бои шли в пригородах), принять непосредственное участие в обороне.
В марте 1942 г. институт удалось эвакуировать на юг страны. А в апреле первое издание «Основ общей психологии» было удостоено высшей в то время – Сталинской – премии. Книга была представлена на награждение рядом психологов, а также выдающимися учеными В.И. Вернадским и А.А. Ухтомским, давно и глубоко интересовавшимися проблемами психологии. В 40-х гг. присуждение премий в большинстве случаев объективно выражало общественное признание научных достижений. Сталинские лауреаты обладали тогда большим авторитетом и могли в известной степени влиять на ход событий в сфере своей профессиональной деятельности. Вот почему 1 октября 1942 г. беспартийный Рубинштейн был назначен директором Московского института психологии – головного научного учреждения страны в данной отрасли. Одновременно он возглавил кафедру психологии в МГУ и пригласил на работу в университет многих известных московских психологов (Леонтьева, Лурию, Теплова и др.), своих ленинградских учеников (Красильщикову, Ярошевского и др.), а также представителей Харьковской школы (Гальперина, Запорожца и др.) Первый в МГУ выпуск дипломированных психологов состоялся в 1948 г. В 1943 г. Рубинштейн был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, чего дотоле ни один психолог не удостаивался.
Рубинштейн поддерживал творческие контакты с известными историками Е.А. Косминским и Е.В. Тарле, с лингвистом академиком В.В. Виноградовым, физиологами академиками Л.А. Орбели и И.С. Бериташвили, кинорежиссером С.М. Эйзенштейном, физиком А.З. Петровым, искусствоведами Б.Р. Виппером, В.М. Жирмунским и другими видными деятелями науки и культуры. При их содействии в Академии наук был организован Сектор психологии (в Институте философии), ставший первым академическим центром психологических исследований. Хотя сектор был частью института, призванного разрабатывать проблемы философии, Рубинштейн, снова в который раз проявивший талант научного лидера, способного объединить исследования различных направлений, построил программу работы сектора таким образом, чтобы она охватывала широкий круг тем, в том числе и сугубо психологических. Психофизиологическая проблематика в секторе разрабатывалась такими крупными учеными, как С.В. Кравков и Н.А. Гарбузов, а зоопсихологическая – всемирно известной исследовательницей Н.Н. Ладыгиной-Котс. Здесь проводились заседания с участием ведущих психологов столицы, представлявших различные научно-исследовательские учреждения, в том числе и Московский психологический институт, ряд сотрудников которого (Теплов, Шемякин) работали также и в секторе. На базе этого сектора Рубинштейн надеялся организовать Институт психологии АН СССР. Его надежда осуществилась лишь после его смерти стараниями его последователей.
Неожиданно (или, напротив, для той поры закономерно) в ход научных дел вмещались дела идеологические. Одним из военных «трофеев» оказался пещерный антисемитизм, который советское руководство не побрезговало позаимствовать у поверженных фашистов. В 1947 г., когда в издательстве АН СССР уже была сверстана новая книга Рубинштейна «Философские корни психологии» (само название которой выражало стремление автора осмыслить связь психологии с философией и разработать методологические принципы применения философских положений в психологии) началась кампания по борьбе с космополитизмом. Ее главной (хотя далеко не единственной) жертвой в психологии и стал Рубинштейн. Набор книги был рассыпан на том вздорном основании, что число цитируемых зарубежных авторов превышало число советских. Ведущий отечественный психолог был снят со всех постов, а публикация его трудов была запрещена. (Яркое представление об атмосфере той поры можно получить, ознакомившись, например, со статьей П.И. Плотникова «Очистить советскую психологию от безродного космополитизма» в четвертом номере «Советской педагогики» за 1949 год.)
К счастью, более крутых мер не последовало, а после смерти Сталина началось постепенное восстановление в правах бывших «космополитов». Во второй половине 50-х Рубинштейн вместе с другими лидеарми советской психологии (Тепловым, Леонтьевым, Лурией, Смирновым и др.) активно и плодотворно участвовал в укреплении и развитии нашей науки Совместными усилиями широко развернулись теоретические, экспериментальные и прикладные исследования, был создан журнал «Вопросы психологии», основано Общество психологов СССР, начали восстанавливаться творческие контакты с зарубежными коллегами. Столь значительная совместная деятельность во имя общих интересов науки осуществлялась ведущими учеными, несмотря на существенные теоретические разногласия между ними по целому ряду проблем.
Словно стремясь наверстать упущенное время, Рубинштейн за три года опубликовал одну за другой три монографии: «Бытие и сознание» (1957), «О мышлении и путях его исследования» (1958), «Принципы и пути развития психологии» (1959). Одновременно он начал работать над последней в своей жизни книгой – «Человек и мир», получив наконец возможность изложить свою философско-психологическую концепцию, сложившуюся еще в 20-е годы и затем разрабатывавшуюся им на протяжении всей жизни. Этот труд вошел в издание «Проблемы общей психологии» (1973), вышедшее уже посмертно. Сергей Леонидович Рубинштейн скончался 11 января 1960 г.
После его кончины Сектор психологии в Институте философии возглавила Е.В. Шорохова. В 1971 г. открылся Институт психологии АН СССР, куда был переведен и Сектор психологии. И совсем не случайно, что поныне программной проблемой для коллектива академического института, у истоков которого стоял коллектив рубинштейновской лаборатории, стала проблема субъекта. В наше непростое время – время внутреннего самоопределения каждого человека как субъекта ответственности за принятые решения как никогда оказались необходимы идеи глубокого мыслителя С.Л. Рубинштейна.
К. Левин (1890–1947)
Эрнест Резерфорд высокомерно заметил: «Науки делятся на две группы – на физику и филателию». Как ни обиден для психологов этот упрек, многие из них, если не большинство, его вполне заслуживают. Коллекционирование ярких картинок (в лучшем случае тематическое) давно превратилось в психологии в повальное увлечение, подменив собой попытки теоретического осмысления объективной реальности Одним из немногих исключений на этом фоне (подлинной фигурой, как сказали бы иные его коллеги) выступает Курт Левин, крупнейший в истории психологии экспериментатор и теоретик. Отчасти, возможно, потому, что свойственные психологии «филателистические» изыскания он успешно пытался подкрепить строгой физической логикой.
Левин родился 2 сентября 1890 г. в городке Могильно прусской провинции Позен (ныне – территория Польши). Население городка в ту пору составляло около 5 тысяч человек. Преимущественно это были немцы, среди которых крошечной общиной затерялись 35 еврейских семей. В одной из них и родился Левин. По традиции он при рождении был наречен еврейским именем Цадек, а Куртом назван для общения в недружелюбном к евреям социуме (эта подробность известна немногим, как, например, и подлинное имя Фрейда – Соломон). Уже в зрелые годы в одном из писем В.Кёлеру Левин описывал прусские нравы того времени как «стопроцентный антисемитизм наигрубейшего сорта». В детстве он испытал крайнее противоречие между добрыми отношениями в семье и соседской общине и неприязнью со стороны прочего мира. Это противоречие сопутствовало ему почти всю жизнь и, похоже, наложило особый отпечаток на его теорию жизненного пространства. Неудивительно также, что в 1945 г. он охотно принял предложение возглавить Комиссию по общественным отношениям Американского еврейского конгресса.
Курт был вторым ребенком из четверых детей в семье. Если верить одной модной современной теории, сам этот факт должен был определить его новаторский, революционный подход к решению научных и жизненных проблем (первенцы обычно консервативны, хотя пример того же Фрейда этому категорически противоречит). Считается, правда, что положение среднего ребенка затрудняет личностное самоопределение. Первый тезис Левин оправдал всецело. Второй – полностью опроверг.
Другая модная теория гласит, что взаимоотношения родителей формируют для каждого бессознательный сценарий собственной супружеской роли. Вряд ли эта теория применима к Левину. Его родители нежно любили друг друга и детей, атмосфера в семье была теплой и дружеской (не потому ли карьера психоаналитика его не прельстила?). А у самого Левина первый брак был омрачен затяжными конфликтами и распался (пожалуй, единственный его позитивный итог – глубоко прочувствованная статья «Предпосылки супружеских конфликтов»). В 1929 г. Левин женился вторично, на сей раз более удачно. Мириам Левин, его дочери от второго брака, принадлежат трогательные, но и по-научному глубокие воспоминания об отце.
В 1905 г., когда Курту исполнилось пятнадцать, семья, продав в Могильно собственный продовольственный магазинчик, перебралась в Берлин, чтобы дать детям возможность поступить в гимназию и получить классическое образование. Оно включало в себя такие предметы, как начала философии, математика, история, естественные науки, а также латинский, греческий и французский языки. В гимназии Курт учился, мягко говоря, неровно. Классической философией он сильно заинтересовался и сохранил этот интерес на всю жизнь. Впоследствии им была написана замечательная работа, в которой сопоставлялись стили научного мышления Аристотеля и Галилея (не каждому психологу такое придет в голову – хотя бы вследствие недостатка философской эрудиции). Высшие оценки он получал по физике и математике, а также по рисованию и черчению. Невольно напрашивается параллель между его гимназическими успехами по этим предметам и склонностью уже в зрелом возрасте, в статусе ученого, изображать теоретические положения в графической форме, а также использовать физико-математическую терминологию для описания и объяснения психологических явлений. Что же касается языков, то в этой области Курт не блистал, его оценки редко были выше удовлетворительных. Вероятно правы те, кто считает – математические и лингвистические способности редко уживаются в одной голове. Позднее, в Америке Левин столкнулся с серьезными трудностями в языковой адаптации. Это не раз приводило к курьезам недопонимания – порой забавным, порой огорчительным.
Высшее образование он получил в университетах Фрейбурга, Мюнхена и Берлина (для Германии это традиционная практика – проводить по несколько семестров в разных вузах). Первоначально он поступил на медицинский факультет, однако занятий в анатомическом театре не перенес и перевелся на философский, где в том числе углубленно преподавалась психология. Только у профессора Карла Штумпфа Левин прослушал 14 разных курсов по психологической тематике. Позднее, в 1914 г., Левин защитил под его руководством докторскую диссертацию по психологии. Впрочем, формула «под руководством» является сильным преувеличением. Личная встреча с научным руководителем состоялась один единственный раз – на защите диссертации! Даже план будущей работы (которая была посвящена исследованию взаимосвязи между ассоциациями, волей и намерением) соискатель Левин передал профессору через секретаря и ожидал в приемной, когда ему сообщат решение. Впрочем, в Германии начала века такие отношения являлись нормой. Левин эту суровую традицию не поддержал. Со своими аспирантами он общался на дружеской ноге, частенько приглашал их к себе домой, где скромность товарищеского застолья с лихвой восполнялась оживленными дискуссиями на самые разные темы – как научные, так и житейские. Обаяние, эрудиция и демократичный стиль руководства привлекали к Левину множество учеников и последователей. Для них он регулярно организовывал встречи в форме дискуссий в «Шведском кафе» напротив Берлинского института психологии. Именно там непроизвольно рождались идеи многих экспериментов, которые прославили и учителя, и учеников. По воспоминаниям Б.В. Зейгарник, работавшей под руководством Левина в 20-х гг., его отличала удивительная способность переводить житейские наблюдения в подлинно научные психологические исследования. Кстати, и знаменитый феномен Зейгарник – явление лучшего запоминания незавершенных действий по сравнению с завершенными – был сначала «подсмотрен» в кафе, а затем с достоверностью выявлен в лабораторном эксперименте.
Впрочем, отношения с младшими коллегами никогда не были либерально-попустительскими, скорее – демократичными. Товарищеская открытость сочеталась у Левина с высокой требовательностью. Он любил повторять: «Наука не терпит лени, недобросовестности и глупости» (!!!)
Защита докторской диссертации совпала с началом I мировой войны. Левин, как и его младшие братья, был сразу же призван в армию. Один из братьев, Фриц, погиб в первом же бою. Курт в ходе боевых действий (доктор психологии начал службу рядовым в пехотном строю) был ранен – настолько тяжело, что провел в госпитале 8 месяцев. Во время отпуска, в феврале 1918 г., он женился на своей бывшей однокурснице Марии Ландсберг, также докторе наук. Вместе они прожили 9 лет. После развода Мария с двумя детьми эмигрировала в Израиль.
Даже в суровые военные годы, на передовой, ученый не оставлял размышлений на психологические темы. В 1917 г., во время короткого отпуска, он опубликовал статью «Ландшафт войны», в которой проанализировал мироощущение солдата. Уже в этой ранней работе им использовались понятия «жизненное пространство», «граница», «направление», «зона», вошедшие впоследствии в терминологический аппарат его теории поля. Статья была посвящена сравнительному анализу жизненных пространств мирного обывателя и воюющего солдата. Например, тенистая тропинка, огибающая живописный утес, наводит обывателя на приятные мысли о прогулке или пикнике, а солдата страшит как опасное место, которое, возможно, использовано противником для засады.
За воинскую доблесть Левин был удостоен нескольких наград, среди которых была и наивысшая – «Железный крест». Демобилизован он был в звании лейтенанта – случай исключительный, ибо для евреев офицерское звание было недоступно. Вспоминать военные годы, Левин, однако, не любил. Что ни говори, а война была Германией проиграна. Впрочем, никакого особого унижения или озлобленности против победителей он не испытывал. Среди его аспирантов было несколько выходцев из России, и отношения они поддерживали самые добрые.
Сразу после демобилизации Левин вернулся на работу в Берлинский университет, сначала – в скромной должности ассистента, с 1922 г. – приват-доцентом (лектор этого звания получал жалование в зависимости от количества студентов, посещавших его курс). Профессорский пост он занял только в 1926 г.
В это время он публикует две статьи, посвященные организационному поведению. В первой рассматривалась проблема удовлетворенности сельского жителя своей жизнью, вторая была посвящена критике системы Тейлора. Левин искренне полагал, что в будущем каждый человек сможет получать удовлетворение от своей работы, и задача психологов ему в этом помочь. Изучение жизненного пространства заводских рабочих убедило Левина в необходимости учитывать при организации труда психологическое поле каждого человека. Вполне в сократовском духе он писал: «Мы живем не для того, чтобы производить, а производим для того, чтобы жить».
В 1922 г. увидела свет значительная для его последующей работы публикация «Понятие причинности в физике, биологии и науках о поведении». Именно эта статья считается первой вехой в создании психологической теории поля. Современные исследователи усматривают в ней некоторые аналогии с идеями Эйнштейна, который, кстати, также жил тогда в Берлине и читал лекции в Берлинском университете. Более того, известно, что многие коллеги Левина поддерживали с Эйнштейном дружеские отношения. Однако никаких свидетельств общения Левина и Эйнштейна в тот период не сохранилось. Известно лишь, что они несколько раз встречались много лет спустя, уже в Америке.
Левина отличала широкая эрудиция в самых разных областях науки и культуры – биологии, физике, математике, искусстве и литературе. Но на первом месте всегда была психология. Он был влюблен в эту науку и мог рассуждать о ней в любых условиях. Часто озарения заставали его в самых неожиданных местах. Бывало, ученый застывал посреди тротуара, чтобы торопливо записать в блокнот пришедшую мысль. (Забавно, что когда Эйнштейна спросили, не имеет ли и он такой привычки, тот иронично ответил: «Ценные мысли посещают меня так редко, что не составляет труда их запомнить».) Много времени он уделял работе со своими учениками, среди которых были выходцы из разных стран. Эксперименты, проведенные ими под руководством Левина и получившие впоследствии всемирную известность, были всего лишь практическими разделами их дипломных работ! Эти работы стали теперь хрестоматийными – «О забывании завершенных и незавершенных действий» Б.В. Зейгарник; «О забывании намерений» Г.В. Биренбаум; «О фрустрации» Т.Дембо; «О психическом пресыщении» А.Карстен; «Об уровне притязаний» Ф.Хоппе. Ставшие классическими методики исследования самооценки и уровня притязаний – плоды этого продуктивного периода научной деятельности Левина и его школы. В результате обобщения этих экспериментов и появилась концепция «топологической психологии».
Разумеется, возникла она не на пустом месте. Концепция поля приобретала все больший вес в физике. В ходе физических исследований выяснилось, что электромагнитные явления невозможно объяснить на основе атомистического подхода, сформулированного Ньютоном. Наука все в меньшей степени стала использовать принципы атомистики, предпочитая им новую концепцию, основанную на идее существования силового поля.
Эта идея была воспринята и в психологии сторонниками нового направления, получившего название гештальт-психологии. Один из его основателей, Вольфганг Кёлер, полагал, что «гештальт-психология стала своего рода приложением физики поля к некоторым важным разделам психологии». Поскольку аналогичных представлений придерживался и Левин, в ряде источников и его причисляют к гештальтистам. Однако, более справедлива, была бы, пожалуй, советская формулировка «и примкнувший к ним…» Потому что чистым гештальтистом Левин не был. Основное внимание гештальт-психологии было приковано к познавательным процессам, его же более интересовали личностные феномены. В известном смысле можно сказать, что гештальт-психологи (Вертгеймер, Кёлер, Коффка) сосредоточились на ощущении, Левин – на мирооощущении. В то же время, основные положения гештальт-психологии нашли отражение в его теории. А именно следующие.
1. Образ мира, явления (иными словами – гештальт) создается не путем синтеза отдельных элементов, отдельных ощущений. Он возникает сразу как целостный феномен. То есть гештальт не является простой суммой частей, а представляет собой целостную структуру. Разумеется, в структуре можно выделить и исследовать отдельные части, но нельзя сказать, что целое определяется особенностями частей, напротив – каждая часть зависит от целого, от своей в него включенности.
2. Образ создается в «данный момент» (ad hoc) посредством инсайта (усмотрения), прошлый опыт в его создании существенной роли не играет. Этот тезис явился основным объектом критики гештальт-психологии в целом и теории Левина в частности. На это Левин возражал, что образы прошлого, конечно же, могут актуализироваться «в данный момент» и повлиять на поведение человека, но это совсем не такое влияние, которое акцентируют сторонники психоанализа и бихевиоризма.
3. Принцип изоморфизма, утверждающий тождество закономерностей в разных науках (например, психологические закономерности тождественны физическим). Следуя именно этому принципу, Левин использовал систему описания психических явлений, принятую в физике, химии, математике.
Согласно Левину, жизненное пространство каждого человека включает все влияния, воздействующие на организм в данный момент. Эти влияния, которые Левин называл психологическими фактами, включают в себя внутренние «события», такие как голод или усталость, и внешние события, например социальную ситуацию, а также, что впрочем менее важно, воспоминания о прошлом опыте. Для того чтобы объяснить свое понимание жизненного пространства, Левин использовал понятия топологии – отрасли математики, изучающей пространственное соотношение объектов. Графически личное жизненное пространство он представлял в виде эллипса. Сам же человек может быть представлен в форме кружка, расположенного внутри эллипса. (Эти изображения ироничные ученики Левина называли яйцами.) Каждый психологический факт выступает частью эллипса. Каждой части может быть придана валентность соответственно тому, благоприятно ли это воздействие (+) или неблагоприятно (—). Анализ сочетания всех валентностей и составляет анализ побуждения и действия. (Разумеется, данная трактовка является предельно упрощенной. Концепция поля на самом деле достаточно сложна.)
В 20-х годах в Европе, особенно в немецкоязычных странах, популярность Левина была весьма высока. Для англоязычных стран знакомство с экспериментами его школы началось с публикации Дж. Ф.Брауна, одного из его первых американских учеников. Статья называлась «Методы Курта Левина в психологии действий и аффектов» и увидела свет в 1929 г. В том же году Левин выступил на IХ Международном психологическом конгрессе, проходившем в стенах Йельского университета. Несмотря на то, что Левин, который был не силен в английском, говорил по-немецки, да еще и использовал термины, заимствованные из других наук, его доклад «Эффекты влияния среды» был воспринят с большим интересом – «яйца» подкупали своей образностью и доходчивостью. Вскоре после этого Левин был приглашен в Стэнфордский университет. После 6 месяцев преподавательской деятельности он возвратился в Германию, но избрал для этого необычный путь. Он пересек Тихий океан, воспользовавшись приглашениями своих японских и российских учеников. С родины до него доходили чудовищные слухи о бесчинствах нацистов. И Левин всерьез задумался об эмиграции.
В Японии его выступления произвели сильное впечатление на научную общественность, и ему даже было предложено возглавить кафедру производственных отношений в Токийском университете. Но, вероятно, империя самураев и камикадзе виделась ему неважной альтернативой рейху, и от соблазнительного предложения Левин отказался. А высказанные им на лекциях идеи об участии подчиненных в принятии производственных решений в США стали внедряться лет сорок спустя, но уже как секреты японского менеджмента.
Остановился он и в Москве. А.Р. Лурия, ранее познакомившийся с ним в Германии, уговаривал Левина остаться в СССР. Но и это предложение Левина не соблазнило. Левин возвратился в Германию, торопливо уладил свои дела, и в августе 1933 г. вместе с семьей и двумя учениками, Тамарой Дембо и Джеромом Франком, отправился в США. Надо признать, это был весьма прозорливый и своевременный шаг. Не успевших эмигрировать евреев ждала страшная судьба. В годы нацистского правления в концентрационных лагерях погибли мать и сестра Левина, а также несколько его учеников.
Несмотря на некоторую известность в психологических кругах Соединенных Штатов, начинать карьеру на новой родине Левину пришлось практически с нуля. Однако он в итоге оказался едва ли не единственным психологом-эмигрантом, для которого американский период научного творчества оказался не менее, а даже более продуктивным, чем европейский.
Первым исследованием Левина в США стало изучение пищевых пристрастий детей, и проводилось оно, разумеется, в рамках теории поля. Первыми публикациями в Америке стали «Динамическая теория личности» и «Принципы топологической психологии». В то время они были приняты американской психологической общественностью более чем прохладно. Сказывалась трудность восприятия физических терминов в психологическом контексте, а также, как отмечают многие, не очень гладкий стиль изложения (американцы особенно ценят доступность и доходчивость!). Что ни говори, Левин сумел блеснуть многими способностями, но не лингвистическими (что было ясно еще в школьные годы).
Некоторое время Левин проработал в Корнельском университете, но его контракт по завершении продлен не был и перспективы дальнейшей работы оказались весьма расплывчаты. По примеру первой жены Левин всерьез подумывал об эмиграции в Иерусалим. Но, к счастью для американской психологии, освободилось место в Центре исследований детского здоровья при университете штата Айова. Поскольку финансирование в этом центре было непостоянным, Левину пришлось обратиться за помощью в фонд Рокфеллера, где он и получил грант для своих исследований.
Вместе с учениками Левин организовал дискуссионный клуб, участники которого собирались по вторникам. Так же, как в свое время в берлинском «Шведском кафе», здесь в процессе непринужденной беседы обсуждались психологические явления, планировались эксперименты. Некоторые феномены отмечались прямо во время дискуссии. Например, Левин заметил, что чем сложнее была тема, тем с большей охотой группа принималась за ее решение. Правда, для этого необходимо, чтобы группа была достаточно сплоченной. Отсюда был сделан вывод: «Чем труднее цель, тем выше показатель ее валентности для человека».
Таким образом, роль Левина как стимулятора, вдохновителя новых исследований сохранилась за ним и на американской земле. В Америке, как и в Европе, он привлек множество талантливых студентов, которые впоследствии стали известными психологами и прославили имя учителя блестящими работами.
В 1939 г. Левин на некоторое время вернулся к своим ранним исследованиям поведения людей в ситуации производства. Его ученик, а впоследствии биограф, Альберт Марроу пригласил учителя в свою фирму провести исследования с целью определения наилучшей стратегии внедрения технологических инноваций в производстве.
В 1940 г. Левин получил американское гражданство. К тому времени он уже провел ряд исследований и опубликовал несколько работ. В период II мировой войны ученый работал в Центре стратегических исследований (преобразованном последствии в ЦРУ), где занимался проблемами пропаганды, военной морали, лидерства в воинских подразделениях, а также вопросами психологической реабилитации раненых солдат. Совместно с известным антропологом Маргарет Мид он исследовал актуальную для военного времени проблему замещения в пищевом рационе мяса другими продуктами. В эти же годы он организовал Общество психологического исследования социальных проблем. Публикации этого общества, к которым проявлял интерес сам президент США, были посвящены психологическим аспектам войны и мира, бедности и предрассудков, а также проблемам семьи.
По окончании войны Левина пригласили в Массачусетский технологический институт с предложением основать и возглавить исследовательский Центр групповой динамики. На сей раз он уже не входил в чью-то структуру, а получил возможность создать свою. Разработанная им программа исследований реализовывалась по четырем основным направлениям: 1) изучение способов увеличения групповой продуктивности и способов профилактики отвлечения группы от намеченных целей; 2) исследования коммуникаций и распространения слухов; 3) исследования социального восприятия и межличностных отношений в группе; 4) разработка программы тренинга лидерства. Работы, выполненные в русле этих направлений, позволили многим последователям Левина назвать его основоположником американской социальной психологии. Иные, однако, считают такую оценку преувеличением. Но если это и преувеличение, то небольшое.
Курт Левин скончался скоропостижно, от сердечного приступа. Это произошло в Ньютонвилле, штат Массачусетс, 12 февраля 1947 г.
В воспоминаниях об отце Мириам Левин позднее напишет: «Его целью было примирить гуманистические понятия личности, у которой есть цели, мотивы, чувство самости, которая создана для общественного мира и которая осуществляет выбор, со строгой философией науки…» Вряд ли эта цель достижима в полной мере. Но в стремлении к ней Курт Левин продвинулся дальше многих.
И.Н. Шпильрейн (1891–1937)
Судьба семьи Шпильрейн – одна из наиболее драматичных и в то же время показательных страниц в истории российской психологии ХХ века. Сабина Шпильрейн, входящая в круг крупнейших деятелей психоаналитического движения, пережила на родине упадок научного направления, в которое она внесла весомый вклад, а впоследствии погибла от рук немецких палачей. Не менее яркой фигурой в психологии был и ее брат Исаак Шпильрейн – основоположник отечественной психотехники. Ему также пришлось пережить ликвидацию научной отрасли, разработке которой он посвятил самый продуктивный этап своего творчества. И его жизнь оборвалась в застенке.
Исаак Нафтульевич Шпильрейн родился 27 мая 1891 года в Ростове-на-Дону. Его родители были высокообразованными людьми, отец в послевоенные годы активно работал в обществе «Долой неграмотность». Атмосфера в доме была насыщена литературой и музыкой. По заведенному распорядку в определенные дни недели в доме говорили на каком-нибудь иностранном языке. В итоге Исаак в совершенстве овладел 11 языками, легко воспринимал и усваивал новые.
Исаак, помимо Сабины, имел еще одну сестру – Эмилию, которая умерла в детстве, и двух братьев – Яна и Эмиля, которые, как и он, стали крупными учеными и так же разделили его трагическую судьбу – погибли в ГУЛАГе.
Еще в гимназические годы Исаак Шпильрейн включился в революционную деятельность. В 1906–1909 годах он состоял в партии эсеров. В 1907 году в родительском доме был учинен обыск. Вероятно, прокламации, распространением которых активно занимался Исаак, в тот раз найдены не были. Тем не менее он был исключен из гимназии. С большим трудом отцу удалось отправить его для продолжения образования в Париж. Вернувшись в Россию в 1909 году, Исаак успешно сдал экзамены на аттестат зрелости.
Дальнейшее его обучение проходило в одном из старейших университетов Германии – в Гейдельберге. Философским наставником его был Г. Коген (примерно в те же годы у Когена учился другой будущий крупный отечественный психолог С.Л. Рубинштейн, а также Б.Л. Пастернак). Проучившись один семестр на философском факультете, Шпильрейн перешел на психологическое отделение, сделав окончательный выбор будущей профессии.
Психологическое образование он продолжил в Лейпциге под руководством В.Вундта. Будучи студентом Лейпцигского университета, он провел первое самостоятельное психологическое исследование, выявляющее зависимость физического развития ребенка от условий его воспитания. Результаты этого исследования легли в основу диссертации, успешно защищенной И.Шпильрейном в 1914 году.
Начавшаяся мировая война застала И.Шпильрейна в Германии. Как российский подданный он был интернирован. Это положение, однако, не сильно его стесняло. Он продолжал исследования, а результаты одной из работ «О трудных числах и вычислительных задачах» были опубликованы в немецком журнале.
Это была статья, посвященная запоминанию чисел. Автору удалось выявить чувственную окрашенность некоторых чисел, которая выступает одним из условий их узнавания и запоминания. Было обнаружено, что при выполнении счетных операций наибольшие затруднения возникают с цифрами 3, 7 и 9. Шпильрейн отмечал, что это связано со специфическим чувственным тоном, который возникает при восприятии конкретных цифр и реагировании на них.
Интерес к математическим способностям человека и формированию счетных операций сохранился у него на протяжении всей жизни и проявился в оригинальных замыслах, которые, однако, автор не успел завершить.
В 1919 году, отвергнув заманчивое предложение возглавить кафедру философии и психологии в Австралии, Шпильрейн с женой и дочерью решил вернуться на родину. Ехать пришлось кружным путем. Проезжая через Австрию, он имел встречу с З.Фрейдом, которая, однако, не оказала существенного влияния на его научное мировоззрение.
Проехав Италию и Турцию, семья наконец попала в Тифлис. В ту пору в независимой Грузии интересы РСФСР представляло Постоянное представительство, которое возглавлял С.М. Киров. Шпильрейн был зачислен в штат представительства переводчиком. Здесь, в Тифлисе, он в 1920 году вступил в РКП(б).
В 1921 году он был переведен в Москву, где получил должность ответственного корреспондента, а затем исполняющего обязанности заведующего информационным подотделом Наркомата иностранных дел. В круг его обязанностей входила оперативная (как правило, в течение ночи) подготовка обзора иностранных газет для наркома Г.В. Чичерина. Интересно, что Шпильрейна, обладавшего исключительными лингвистическими способностями, часто приглашали в качестве эксперта для установления национальности и места жительства отдельных лиц по особенностям их диалекта.
В 1922 году Шпильрейн смог вернуться к работе по специальности. Он возглавил психотехническую лабораторию Центрального института труда (ЦИТа). Директор института А.К. Гастев был приверженцем крайне левых взглядов, представление о которых может дать следующий случай. На просьбу Шпильрейна дать отгул для похорон матери Гастев ответил: «Это буржуазные предрассудки. Зачем вам отгул? Ведь она уже умерла…» Принципы «машинизации», внедрявшиеся Гастевым в психологию труда, укоренились и в институте.
Впрочем, личными разногласиями противоречия Шпильрейна и Гастева не исчерпывались. Разных мнений они придерживались и по таким принципиальным вопросам, как методы производственного обучения и задачи научной организации труда. Осенью 1922 года Шпильрейн покинул ЦИТ.
В 1923 году он организовал психотехническую лабораторию при Наркомате труда, вошедшую в 1925 году в состав Московского государственного института охраны труда. В это же время он создал секцию психотехники в Институте психологии. В институте охраны труда, обладавшем хорошей финансовой базой и возможностью приобретать необходимую аппаратуру, велись практически направленные научные исследования. Секция психотехники в Институте психологии имела целью проведение экспериментальных и теоретических исследований.
В качестве основных направлений психотехнической работы Шпильрейн выделял изучение профессий, профотбор и профконсультацию, рационализацию условий труда, повышение эффективности пропагандистской деятельности. Фактически психотехника охватывала широчайшую сферу прикладных психологических проблем. Конкретные исследования Шпильрейна были посвящены решению насущных практических вопросов. Он разрабатывал профессиограммы, консультировал предприятия по переводу на новые режимы работы, в частности, на семичасовой рабочий день, создавал методики отбора для Красной Армии.
Круг его интересов выходил за пределы той широкой сферы, которую охватывала психотехника. Его книга «Язык красноармейца» (1928) содержит интересное социолингвистическое исследование, фиксирующее особенности языка военных той поры.
В книге, в частности, приведены опросники, применявшиеся при изучении пассивного словаря красноармейцев. Каждый вопрос сопровождался рядом фиксированных ответов, из которых только один правильный. В опросник включены фамилии руководителей партии: И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, Г.Е. Зиновьева, Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева и др. Вот как звучал, например, вопрос о Сталине: «Кто такой Сталин? – Анархист, коммунист, меньшевик, эсер». За подобную вольность в обращении с исследовательским материалом, вполне допустимую в середине двадцатых, впоследствии пришлось дорого заплатить.
Небезынтересным представляется также социально-психологический этюд «О переменах имен и фамилий» (1929). В нем Шпильрейн анализировал случаи немотивированной перемены фамилии. В результате его подсчетов оказалось, что перемена фамилии с русской на еврейскую в 20-х годах была более частым явлением, чем перемена фамилии с еврейской на русскую. К сожалению, проанализировать побудительные механизмы такого выбора не представлялось возможным. Однако он однозначно свидетельствовал: об антисемитизме в Советской России той поры и речи не было.
Но основные интересы ученого лежали в области психотехники. На Первой всесоюзной конференции по психофизиологии труда и профотбору (Москва, 1927), организатором которой выступил Шпильрейн, было принято решение о создании Всероссийского общества психотехники и прикладной психофизиологии, ставшего позже всесоюзным. К 1934 году оно насчитывало в соих рядах свыше 900 членов. Шпильрейну как председателю общества удалось наладить выпуск журнала «Советская психотехника». Он стал его главным редактором.
Именно через психотехнику советская психология вышла в ту пору на международный уровень. Шпильрейн был членом президиума международного психотехнического общества вместе В.Штерном и А.Пьероном. Кстати, в теоретическом плане он считал себя последователем Штерна, о чем открыто заявил в 1930 году на съезде по изучению поведения человека. Впрочем, он был советским ученым и не раз выступал против «ошибочных установок психотехников капиталистических стран». Отмечал он и «особенности советской психотехники в реконструктивный период». Но это оказалось недостаточной страховкой в условиях развернувшихся гонений на психотехнику.
Дело было в том, что проблема индивидуально-психологических различий, со всей очевидностью обозначившаяся в психотехнических исследованиях, была мало совместима с официальными идеологическими установками. В октябре 1934 года вся разветвленная система психотехнических учреждений была разгромлена. Приказом Совнаркома были ликвидированы 29 научно-исследовательских институтов, закрыт журнал.
25 января 1935 года И.Н. Шпильрейн был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Первоначально он был приговорен к пяти годам заключения. Поводом послужила уже упоминавшаяся брошюра «Язык красноармейца», материалы которой были расценены как идеологическая диверсия. Шпильрейн, находясь в заключении, активно добивался пересмотра своего дела. И оно было пересмотрено.
В 1956 году его дочери была выдана справка о том, что И.Н. Шпильрейн умер в заключении 3 июля 1941 года. Опираясь на эту дату, многие источники так и исчисляют годы жизни И.Н. Шпильрейна. Лишь в недавнее время в архивах КГБ была найдена информация о том, что И.Н. Шпильрейн по обвинению в антисоветской деятельности был приговорен к расстрелу 26 декабря 1937 года. Приговор был приведен в исполнение в тот же день.
Дж. Морено (1892(?)–1974)
Сегодня, когда социометрия как метод диагностики внутригрупповых отношений широко применяется в разнообразных сферах человеческой деятельности, а психодрама как оригинальный метод лечения невротических расстройств практикуется психотерапевтами всех континентов, имя создателя этих методик упоминается в большинстве справочных источников по гуманитарным наукам. Открыв любой из них, мы узнаем, что американский психолог и социолог Джекоб Морено родился 20 мая 1892 года в Бухаресте. Как ни странно, почти каждое слово в этой строчке может быть оспорено.
Сомнению не подлежит только дата – 20 мая. По крайней мере, именно в этот день Морено отмечал свой день рождения. По поводу года возникают разногласия, которые не сумела разрешить даже ученица и последовательница Морено Грете Лейтц, посвятившая его методу интересную книгу («Психодрама», пер. с нем., М., 1994). Действительно, принято считать, что Морено родился в 1892 г. Однако в архивных документах бюро прописки г. Веслау значится 1890 год. Установить подлинную дату сегодня уже не представляется возможным.
Относительно того, что Морено – американский ученый, тоже возможны разногласия. Гражданство США он получил в 1935 г., а до той поры уже успел заложить основы своих новаторских методов, снискавших ему мировую известность. Кстати, переезд в Америку и обусловил произношение его имени на американский лад – Джекоб. При рождении сына Ниссим и Паулина Морено нарекли его Якоб Леви.
Родители Морено были румынскими подданными и проживали в Бухаресте. Известно, однако, что Якоб Леви родился вдали от дома – во время путешествия его родителей по Черному морю. Вот и получилось, что с самого рождения колоритная фигура отца социометрии не укладывалась в рамки строгих энциклопедических формулировок.
В 1897 г. семья перебралась из Бухареста в Вену, где Морено и прожил до 1925 г. После окончания гимназии он поступил на философское отделение Венского университета, с которого в 1912 г. перешел на медицинский факультет. 5 февраля 1917 г. он получил ученую степень доктора общей медицины. (Полвека спустя в Венском университете состоялось чествование Морено по случаю присуждения ему звания Золотого доктората.)
Еще в студенческие годы Морено испытал заметное влияние З. Фрейда. Можно сказать, что интерес к побудительным мотивам человеческого поведения возник у него под влиянием психоанализа. Впоследствии его теорию даже расценивали как неофрейдистскую. Хотя очевидно, что создатель социометрии и психодрамы, вдохновленный идеями Фрейда, далеко отошел от краеугольных построений классического фрейдизма. Психоанализ сосредоточил внимание на индивидуальной психике, практически оставляя в стороне сферу межличностных отношений. А именно взаимоотношения людей привлекали пристальное внимание Морено.
Якоб Морено был натурой разносторонней, творчески одаренной. Еще в студенческие годы он много времени проводил в венских парках, организуя импровизационные игры с детьми. Этот опыт нашел отражение в брошюрах, изданных очень малым тиражом, – «Homo Juvenis» (1908), «Царство ребенка» (1908) и др. С группой друзей (среди которых, кстати, был и Альфред Адлер) он издавал литературно-философские ежегодники «Совесть» (1918), «Новая совесть» (1919), «Спутники» (1920). В начале 20-х Морено анонимно опубликовал сборник своих стихотворений «Завещание отца» и ряд произведений в прозе, в частности «Речи», «Театр импровизации» и «Королевский роман», в которых нашли отражение основополагающие идеи его творчества. К их практическому осуществлению Морено приступил в двух областях: в работе с маргинальными социальными группами и в основанном им театре импровизации. Первые попытки групповой социальной и терапевтической работы были предприняты им в 1913 г. с проститутками Шпиттельберга.
В годы I мировой войны Морено некоторое время работал врачом в лагере для беженцев в местечке Миттерндорф близ Вены. «В бурях и натиске первой мировой войны, – писал он, – мне пришла в голову идея социометрии как единственного пути к новому порядку в обществе».
В лагере для беженцев находились тирольские крестьяне, спасшиеся бегством от наступавшей итальянской армии. «Я пережил в этом лагере, – рассказывает Морено, – возникновение новой общности и перед лицом развивавшихся там социальных потребностей понял бессмысленность огромной мировой войны и угрожавших социальных революций». В этих конкретных ситуациях первой мировой войны Морено вдруг стало ясно, что нельзя надеяться на человечность великих идей и «политических фикций». И он попытался сделать что-то непосредственно для самих людей, для отношений между ними, найти «меру» действительных человеческих связей и отношений. Так было положено начало социометрии.
В 1916 г. Морено получил от министерства внутренних дел Австро-Венгерской империи предложение ввести «новый социометрический порядок» в маленьком лагере для беженцев, однако он не нашел там признания. Позднее он рпобует свою идею в иной среде – среди поэтов и ученых, но они встретили его с недоверием и насмешками. Тогда-то в надежде найти почву для реализации своих идей он и начал искать «путь к свободе», который в итоге привел его в Америку.
Поводом к эмиграции в США в 1925 г. послужило изобретение им «радиофильма» – своеобразного предшественника магнитофонной записи. Об изобретении Морено в августе 1915 г. была даже опубликована заметка в «Нью-Йорк Таймс». Патент на столь оригинальное изобретение обеспечивал его автору определенную материальную независимость и возможность активно продолжать научные исследования. Детальную разработку своих методов он осуществил уже в США. В Европе же в ту пору его идеи широкого признания не нашли. Одним из немногих исключений явился «терапевтический театр», основанный в Берлине русскими профессорами Б. Зеньковским и В. Ильиным, которые в 1928 г. перевели книгу Морено «Театр импровизации» на русский язык.
Начало работы Морено в США почти совпало с наступлением экономической депрессии. Тысячи мелких фермерских хозяйств были разорены, множество людей снялось с насиженных мест в поисках заработка. Разработанные министерством внутренних дел и министерством сельского хозяйства «планы переселения» предоставили Морено новые возможности для экспериментов в «открытых общностях». Правительство проявило живой интерес к использованию психологических методов для подбора подходящих переселенцев в определенные области. Это создавало возможность осуществления, помимо сельскохозяйственного и экономического планирования, также и «социометрического». Так в США социометрические исследования распространились на большое число общностей.
Принципы социометри предполагают: во-первых, выявление внутренних влечений (притяжений и отталкиваний) между людьми, взаимных или односторонних симпатий, антипатий или безразличных отношений и, во-вторых, на основе этих данных подбор в общность наиболее подходящих индивидов, имея в виду достижение максимального сотрудничества, уменьшение конфликтов и психического напряжения. Эти принципы Морено соблюдает и позднее в его интенсивных социометрических исследованиях (например, в пансионе для девочек в Гудзоне), результаты которых он обстоятельно проанализировал и обобщил в своих основных сочинениях по социометрии.
Процедура социометрического обследования довольно проста. Членам группы предъявляется опросник, направленный на выявление их личностных предпочтений и антипатий. Ответить требуется на несложные вопросы типа: «Кого (из членов группы) ты желал бы пригласить на свой день рождения?», «С кем бы ты хотел выполнять совместную работу?» и т. п. Полученные результаты подвергаются обработке и могут быть представлены в виде так называемой социограммы – графической схемы межличностных «притяжений» и «отталкиваний». Социограмма рельефно высвечивает структуру внутригрупповых отношений, выявляет положение (социометрический статус) личности в группе.
Слабым местом в броне современного общества является «его невежество в отношении его собственной социальной структуры, особенно тех небольших структур, внутри которых люди фактически проводят свою жизнь». И Морено посвящает себя работе именно с такими малыми структурами – и на протяжении двадцати пяти лет исследует коллективы в различных человеческих общностях (больницах, школах, тюрьмах и т. д.).
Известный немецкий социолог Л. фон Визе в предисловии к книге Морено «Основы социометрии» характеризует автора как «необыкновенного человека» с удивительными организаторскими способностями, большого оптимиста: психиатр, медик, естествоиспытатель, и в то же время «человек искусства, поэт и даже артист». По мнению Л. фон Визе, социометрическое учение и практика Морено есть нечто действительно оригинальное; социометрия вполне может рассматриваться как «самостоятельная наука наряду с социологией».
Морено исходил из необходимости создания «сквозной науки», которая охватила бы все уровни социальной жизни людей и включала бы не только изучение социальных проблем, но и их разрешение. В понимании Морено, «социономия» (наука об основных социальных законах) должна реализовывать себя в «социодинамике» (науке более низкого уровня о процессах, происходящих прежде всего в малых группах), «социометрии» (системе выявления и количественного измерения межличностных взаимоотношений людей в малых группах) и «социатрии» (системе методов излечения людей, чьи проблемы и трудности связаны с недостаточностью навыков поведения в малых группах).
По мнению Морено, психическое здоровье, адеквтаность поведения человека зависят от его положения во внутренней неформальной структуре отношений в малой группе. Недостаток симпатий порождает жизненные трудности. Коррекция душевного состояния происходит посредством психодрамы: пациент получает облегчение благодаря проигрыванию определенных психических состояний и социальных реалий на сцене, обучается необходимым навыкам действия в условиях каждого данного «момента» и «спонтанного творчества».
Если в характеристике Морено что-либо заслуживает слова «необыкновенное», то это прежде всего его исключительная работоспособность и творческая активность. Он опубликовал десятки книг. Наиболее важные его сочинения следующие: «Театр импровизации» (1923), «Применение группового метода при классификации» (1932), «Психологическая организация групп в общности» (1933), «Кто выживет?» (1934), «План перегруппировки общностей» (1936), «Социометрическая статистика социальных конфигураций» (1937), «Слова отца» (1941), «Социометрия в действии» (1942), «Социометрия и кульутрный порядок» (1943), «Социодрама, метод анализа социального конфликта» (1944), «Психодрама» (т.1 – 1946, т.2 – 1956), «Вклад социометрии в методы исследования» (1947), «Социометрия в отношении к другим социальным наукам» (1947), «Социометрия человеческих субкультур» (1948), «Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе» (1951), «Социометрия и науки о человеке» (1956), «Групповая психотерапия и психодрама» (1958), «Социометрический сборник» (1960), «Основы социометрии. Пути к новому строю общества» (1967). В 1937 г. Морено основывает журнал «Социометрия», в котором печатаются статьи психологов, социологов, антропологов, психиатров и педагогов и который с 1956 г. становится официальным органом Американского социологического общества.
Главное произведение Морено, в котором впервые систематически изложена концепция социометрии, – книга «Кто выживет». После этой публикации в результате своей деятельности как автора и издателя (ему принадлежало собственное издательство «Бикон Хаус») Морено приобрел большое влияние в научном мире. Распространению социометрии благоприятствовала и его гуманистическая позиция по вопросам войны и мира, контроля над вооружением, использования атомной энергии в мирных целях, мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами. Ввиду его прогрессивных взглядов, Морено явился одним из немногих западных гуманитариев, удостоившихся приглашения в СССР в 1958 г.; тогда же в переводе на русский язык вышла его книга «Социометрия». Впрочем, советские критики Морено усмотрели в его теории «удручающее» отсутствие классового подхода к решению социальных проблем.
Не последнюю роль в распространении социометрии сыграли привлекательные черты личности Морено и особенно его исключительная активность, инициативность, организаторские способности и личный оптимизм. В многочисленных докладах, демонстрационных показах и лекциях Морено знакомил со своими методами широкую аудиторию в Америке и Европе.
Основанный Морено институт социологии и социомтерии (ныне носящий его имя) стал точкой притяжения для многих неординарно мыслящих исследователей. Особая атмосфера института вдохновила таких крупных психологов, как Фриц Перлз, основатель гештальттерапии, Эрик Берн, создатель трансактного анализа, Георг Бах, изобретатель марафонских психотерапевтических групп.
В 1958 г. был основан Международный центр групповой психотерапии, социометрии и психодрамы в Биконе (шт. Нью-Йорк); Морено стал его президентом. С той поры центр осуществляет координацию все шире разворачивающегося международного социометрического движения.
За свою долгу жизнь (умер он 14 мая 1974 г.) Морено был удостоен многих регалий. Но самым дорогим знаком отличия считал мемориальную доску, установленную на доме, в котором он жил в Австрии в городке Бад-Веслау (Морено несколько лет проработал там общинным врачом, а также фабричным врачом на местной камвольной фабрике). Надпись на доске гласит:
Доктор Якоб Л. Морено
Общинный врач г. Веслау
В 1918–1925 гг.
разработал здесь
СОЦИОМЕТРИЮ
ГРУППОВУЮ ПСИХОТЕРАПИЮ
ПСИХОДРАМУ
Г. С. Салливан (1892–1949)
Из того, что нам известно об этом ученом, абсолютно достоверная информация ограничивается послужным списком и укладывается в несколько скупых строк. (За свою не такую уж долгую жизнь Салливан успел поработать во многих медицинских и учебных учреждениях по всей Америке.) Остальное – хитросплетение фактов и вымысла, догадок и слухов, намеков и мнений. В разных источниках можно прочесть, что Салливан, крупнейший специалист по шизофрении, сам страдал этой болезнью, по крайней мере в юности пережил ее тяжелое обострение. Основанием для такого суждения, вероятно, послужил его замкнутый, даже аутичный характер. Что же касается клинических фактов, то достоверность их спорна. Есть основания заподозрить Салливана в нетрадиционной сексуальной ориентации. Тут доподлинно известно лишь то, что в его личной жизни никогда не присутствовала ни одна женщина, и всю его семью составлял приемный сын Джеймс Инско (что нисколько не проясняет пикантную ситуацию, но еще больше ее запутывает). В свое время много говорилось о житейской непрактичности Салливана, о его неумении обращаться с деньгами. Это суждение, пожалуй, наиболее справедливо – известно, что он постоянно занимал деньги у коллег, но не всегда отдавал, а в 30-е годы, чтобы избежать расплаты с долгами, даже дважды официально объявлял себя банкротом. Так или иначе, следует иметь в виду: не все, написанное о нем, заслуживает доверия – в разных источниках в зависимости от отношения автора к Салливану и его идеям акцентируются те или иные стороны его личности без достаточных на то оснований. Мы же ограничимся тем, что действительно важно и более или менее достоверно.
Гарри Стак Салливан родился в городке Норвич (штат Нью-Йорк) 21 февраля 1892 года в небогатой фермерской семье. Его родители были потомками ирландских иммигрантов, и их приверженность религии предков – католицизму – заставляла их держаться особняком среди соседей-протестантов, испытывавших типичное для того времени предубеждение янки против ирландцев. Из-за этого и Гарри с малолетства был лишен общества сверстников. Единственным его товарищем был еще один местный изгой – мальчик по имени Кларенс, заслуживший всеобщее отвержение из-за своих явных гомосексуальных наклонностей (эра политкорректности еще не наступила). Значительная разница в возрасте (Кларенс был на 5 лет старше) не помешала их сближению. Впоследствии это дало повод для подозрений в адрес самого Салливана, хотя никто не возьмется с уверенностью утверждать, носила ли мальчишеская дружба порочный характер. Впоследствии Кларенс также посвятил себя психологии, но имени себе не создал.
В двойном имени Салливана Стак является частью фамилии. Такова была девичья фамилия его матери, которую она продолжала с гордостью носить и после замужества. Элла Стак была на несколько лет старше своего мужа, Тимоти Салливана, и гордилась тем, что среди ее предков были люди довольно культурные и образованные – врачи, юристы, священники и учителя. Семейная ферма также была ее собственностью, перешедшей к ней по наследству, и отец Гарри, прижившийся «в зятьях», явно не был жене ровней, что сильно тяготило обоих. Семейная напряженность сказывалась и на мальчике. Он был единственным выжившим ребенком в семье, однако близостью с родителями никогда похвастаться не мог. Отец скрывал свою неудовлетворенность за маской нелюдимости, постоянно был погружен в дела, и по признанию самого Гарри, ему лишь в зрелом возрасте, после смерти матери удалось найти с ним общий язык. Внимание матери к сыну также было весьма своеобразным. О ней Салливан написал: «Я избежал многих зол, связанных с положением единственного ребенка в семье, исключительно благодаря тому, что моя мать никогда не брала на себя труда замечать истинные черты ребенка, которому она дала жизнь. А воображаемый ею сын так отличался от меня настоящего, что я чувствовал, что моя мать совершенно бесполезна для меня и не способна дать мне ничего, кроме причудливых иллюзий».
По мнению одного из биографов Салливана, А.Г. Чэпмена, мать «перекладывала на плечи сына свой бессильный гнев, беспомощное любование былой известностью своей семьи и бесплодные мечтания о лучшем будущем». Убежденная в своем превосходстве на худородным мужем, Элла рассказывала сыну легенды о славном прошлом своей фамилии. Особенно зачаровала юного Гарри материнская сказка об одном славном предке по прозванию Западный Ветер, который, преодолевая всяческие препятствия, мчался на коне на восход солнца, чтобы встретить там свое блестящее будущее. Образ отважного всадника навсегда запечатлелся в душе мальчика. Став профессиональным доктором, он заказал себе личную печать, на которой были изображены две лошадиные головы, заключенные в круг. Но, хотя Гарри занимали рассказы матери, он, казалось, чувствовал, что она никогда не любила его по-настоящему. Неудовлетворенность матери своей долей передалась и ребенку. Не в этой ли убийственной оценке содержится ключ ко многим его последующим душевным страданиям: «Она была совершенно бесполезна для меня»?..
В возрасте 16 лет Салливан окончил среднюю школу, своими блестящими оценками заслужив стипендию штата для продолжения образования. Однако дальнейшее образование отчего-то не заладилось – год проучившись в Корнельском университете, он был в июне 1909 года оттуда отчислен, поскольку в весеннюю сессию ухитрился провалиться по всем предметам.
Последующие два года являют собой белое пятно в его биографии, оставляющее широкое поле для домыслов. По некоторым данным, в ту пору он пережил тяжелый личностный кризис, который в некоторых источниках безапелляционно назван приступом шизофрении, из-за чего вынужден был подвергнуться психиатрическому лечению. Называется даже конкретная клиника, в которой он якобы лечился. Однако архивы этой клиники оказались уничтожены пожаром, так что никаких документальных свидетельств болезни Салливана не сохранилось.
В 1911 г. Салливан объявился в Чикаго, где поступил в местный медицинский колледж – одно из самых авторитетных медицинских учебных заведений той поры, которое, однако, закрылось в тот же год, когда Салливан его закончил – 1917. Получив степень доктора медицины, Салливан занялся частной практикой в области психиатрии, сосредоточившись на самом, пожалуй, сложном контингенте – шизофрениках. Рано возникший у него интерес к психоанализу мало способствовал успехам его практики. Ведь по мнению психоаналитиков, шизофрения представляет собой крайне тяжелую и практически неизлечимую болезнь. К этому можно добавить: неизлечимую методом психоанализа. Вероятно, это и побудило Салливана, надолго сохранившего приверженность психоанализу, пересмотреть впоследствии многие фрейдистские постулаты и сформулировать собственную концепцию социализации, душевного здоровья и болезни. На этом основании его традиционно причисляют к неофрейдистам, хотя сам он всячески открещивался от этого ярлыка.
Как и Фрейд, Салливан понимал взрослую личность как арену, на которой разыгрываются неразрешенные конфликты детской жизни, и идея о призраках прошлого, преследующих человека в его настоящем, составила психоаналитический фундамент его теории, роднящий ее с фрейдизмом. Однако Фрейд настаивал на первостепенной значимости Эдипова комплекса, энергии либидо и на идее о том, что личность человека в основном формируется уже к трем годам. Что касается Салливана, то он рассматривал жизнь не как воспроизведение Эдипова конфликта, а как процесс постоянного развития с рождения человека и до самой его смерти. В своей долговременной реконструкции психоанализа Салливан продемонстрировал, что личность является не только продуктом действия внутренних сил, но и результатом отражения представления о нас окружающих.
Салливан был одним из первых, кто ввел в научный обиход понятие тревожности. Анализируя жизнь человека или, что для него почти равнозначно, систему межличностных отношений, он исходил из энергетической концепции, вводя два, по его словам, «абсолюта, или идеальных конструкта» – абсолютную эйфорию, крайним выражением чего является глубокий сон младенца, и абсолютное напряжение, его предельная форма – скоротечный ужас. Уровень эйфории и уровень напряжения находятся в реципрокных отношениях. Напряжения могут быть вызваны неудовлетворением потребностей, которое приводит к нарушению биологического равновесия, а также утрату межличностной надежности, которая, по мнению Салливана, и порождает тревожность.
Понятие тревожности Салливан считал фундаментальным для своей теории. Описывая возникновение тревожности и сравнивая этот процесс с появлением чувства нежности, он отмечал, что напряжение младенца, вызыванное неудовлетворением его потребностей, индуцируется матери и переживается ею как нежность. Напротив, переживание межличностной ненадежности связано с тем, что имеющееся у младенца напряжение тревоги индуцирует тревогу матери. Последнее положение Салливан обозначает как «теорему тревоги номер 1», а сам процесс передачи напряжения – как «эмпатию». Лишь редукция обоих типов напряжения – как идущего от биологических потребностей, так и связанного с потребностью в межличностной безопасности – может привести к определенному уровню эйфории. Проводя различия между тревожностью и страхом, Салливан отмечал, что хотя при достаточной силе того и другого они переживаются одинаково, но в жизни человека это альтернативные процессы: «Тревожность возникает от эмпатической связи со значимым, более старшим человеком, а страх обнаруживается тогда, когда удовлетворение общих потребностей откладывается до тех пор, пока они приобретают исключительную силу». Иными словами, единственный источник тревожности – значимый человек, в то время как страх связан с возможностью депривации общих потребностей.
Таким образом, согласно Салливану, во-первых, тревожность порождается межличностными отношениями; во-вторых, потребность в избегании или устранении тревожности по сути равна потребности в межличностной надежности и безопасности. Это приводит его к заключению, что тревожность сопутствует человеку везде, где он вступает в контакт с другими людьми, а поскольку человек живет среди других людей, то тревожность сопровождает его повсюду и постоянно. Она является основным источником психической энергии, на ней во многом основывается личностная динамика.
При этом Салливан отмечал, что если у ребенка с самого начала будет создано чувство межличностной надежности, то оно не даст развиться тревожности, и что дети существенно отличаются друг от друга по уровню тревожности. Однако, по его мнению, тревожность может возникнуть и позже у некоторых людей при условиях, которые он образно называет «шизофреническими расстройствами жизни». Таковы, по его мнению, условия жизни в подростковый период. Не личный ли опыт определил это суждение?
Личность, по Салливану, – это «относительно устойчивый паттерн повторяющихся межличностных ситуаций, которые характеризуют жизнь человека» Но поскольку в основе мотивации межличностных отношений, с его точки зрения, лежит такой мотив, как стремление заслужить одобрение значимого человека и боязнь его неодобрения, то личность – адаптационное образование, которое во многом базируется на переживании тревожности.
Идейно связанной с научными интересами Салливана была общественная сфера его деятельности. Он писал на такие разнообразные темы, как проблемы чернокожей молодежи на юге Соединенных Штатов, антисемитизм в нацистской Германии и международная напряженность. Салливан полагал, что психологам надлежит сыграть важную роль в решении этих проблем, поскольку в основе поведения изолированных и запутавшихся людей, будь то шизофреники, обитатели гетто или представители народов, вовлеченных в военные конфликты, лежат тревога и страх. В сотрудничестве с канадским психиатром Б. Чизхольмом, ставшим впоследствии директором Всемирной Организации Здравоохранения, он старался воплотить эти свои идеи в практику. Эти усилия привели к созданию Международной Федерации психического здоровья.
Салливан скоропостижно скончался от сердечного приступа 14 января 1949 года в Париже, куда он прибыл на заседание совета Международной Федерации психического здоровья. Как человек, известный своими заслугами перед Вооруженными Силами США (он служил в годы I мировой войны и впоследствии принимал участие во многих военных проектах, дослужился до майора) Салливан был похоронен на Арлингтонском воинском кладбище. Судя по всему, в последние годы жизни он все более склонялся к католической религии, унаследованной им от ирландских предков. Словно предвидя скорую кончину, он заранее отдал подробные распоряжения о собственных похоронах с полным соблюдением католического обряда. Обескураженные этим жестом, большинство коллег погребальную церемонию проигнорировали. Зато в наши дни он удостоился персонального биографического очерка на сайте христианских психологов в Интернете, хотя помимо католического погребения ничем свою религиозность не проявил ни в теории, ни на практике. С таким же основанием можно было бы разместить на том же сайте очерк жизни и творчества материалиста Павлова, завещавшего похоронить себя по православному обряду.
Помимо нескольких статей, имевших в научных кругах широкий резонанс, Салливан при жизни опубликовал всего одну книгу – «Концепции современной психиатрии» (1947). В нашей стране в 1999 г. была издана другая его книга (на родине подготовленная к выходу его последователями) – «Интерперсональная теория в психиатрии». Большого интереса она не вызвала, затерявшись в потоке околопсихологической макулатуры. Вероятно, коммерческий провал этого издания удерживает наших издателей от выпуска других книг Салливана, в свое время вышедших на его родине посмертно. А они, объединенные в собрание сочинений, составляют два увесистых тома. Так что для наших психологов возможности знакомства с идеями Салливана весьма ограничены – не в пример, скажем, тем же Роджерсу или Эриксону. А ведь если разобраться, многие идеи этих ученых, ставших у нас культовыми фигурами, почерпнуты в рассуждениях Салливана. Так, Роджерс строил свою теорию личности на идее Салливана о том, что Я-концепция является продуктом социума. А стадии развития, выделенные Салливанам, фактически предвосхитили возрастную периодизацию Эриксона. Любой шаг вперед легче сделать с опорой на достижения предшественников. Так не будем же забывать, что предшественников было много, и Гарри Стак Салливан – один из них.
Ш. Бюлер (1893–1974)
Имя Шарлотты Бюлер сегодня упоминается в научной литературе нечасто. Иногда на ее исследования, посвященные психическому развитию в детском возрасте, лаконично ссылаются специалисты по детской психологии. В связи с возросшим интересом к проблемам гуманистической психологии ее иногда упоминают в одном ряду с именами признанных авторитетов этого направления Карла Роджерса и Абрахама Маслоу, как правило отдавая послденим явное предпочтение, хотя созданную ими совместно Ассоциацию гуманистической психологии возглавила именно Ш. Бюлер. В истории психологии эта женщина оставила яркий след, пройдя путь от любительского экспериментирования с незамысловатыми диагностическими методиками до глубоких философских обобщений о жизненном пути человека. Ее разносторонние научные интересы, объединенные общей гуманистической тенденцией исследования, воплотились в замечательные труды, ставшие в психологии классическими.
Шарлотта Берта Бюлер родилась 20 декабря 1893 г. в Берлине. Она была старшим ребенком и единственной дочерью Розы и Германа Малаховски. Ее отец был талантливым архитектором; им, в частности, было спроектировано здание первого в Германии универмага. Выходец из небогатой еврейской семьи, он своим трудом добился преуспеяния. Мать Шарлотты, красивая и одаренная женщина, была натурой противоречивой. Она не могла не испытывать удовлетворения от принадлежности к респектабельным слоям общества, однако тяжело переживала. Что общественное положение делало для нее недопустимой желанную карьеру певицы. Душевной близости с родителями Шарлотта никогда не испытывала. Гораздо ближе ей был младший брат, с которым она в детстве проводила долгие часы в совместных играх и музицировании.
От родителей она переняла глубокий интерес к проблемам культуры; впоследствии, уже будучи профессиональным психологов, она опубликовала несколько работ по литературе и эстетике. В психологическом плане влияние родителей выразилось в крайней противоречивости ее натуры: любовь к человечеству могла сочетаться у нее с высокомерием по отношению к отдельному человеку; в общении она могла поразить и удивительной душевной теплотой, и отталкивающей холодностью.
В возрасте 17 лет у Шарлотты Малаховски возник интерес к психологии, во многом порожденный неудовлетворенными религиозными исканиями. Она была крещена в протестантской вере, что было весьма распространено среди обеспеченных немецких евреев, пытавшихся таким образом защититься от антисемитизма. Не находя в религиозных догматах ответов на волновавшие ее вопросы, она обратилась к трудам по метафизике и религиозной философии. В конце концов наибольший интерес вызвали у нее вопросы душевной жизни. После прочтения работ Г. Эббингауза, полагавшего, что мыслительные процессы подчиняются законам ассоциации, Шарлотта не склонна была согласиться с этим мнением и начала проводить собственные эксперименты.
Окончив частную школу, Шарлотта в 1913 г. поступила в Фрейбургский университет, где изучала медицину, философию и психологию. Следующей весной она переехала в Киль и стала учиться в местном университете. Здесь она влюбилась в студента-географа, с которым ей, однако, не суждено было соединиться: ее избранник ушел на войну и погиб. Высшее образование она завершила в Берлинском университете (1914–1915) под руководством одного из пионеров экспериментальной психологии Карла Штумпфа. Со свойственной ей независимостью Шарлотта отвергла предложение Штумпфа о поступлении в аспирантуру, которое в те времена было необычайной честью для женщины. Штумпф отдавал предпочтение исследованию эмоциональных процессов, Шарлотту более интересовали проблемы мышления. По рекомендации Штумпфа она поступила в одну из известнейших в Европе психологических лабораторий, работавшую в Мюнхенском университете. Возглавлял лабораторию ведущий специалист по психологии мышления Освальд Кюльпе.
В декабре 1915 г., через несколько месяцев после того, как Шарлотта переехала в Мюнхен, О. Кюльпе умер, и его место занял его ближайший помощник Карл Бюлер, возвратившийся с войны. Еще не будучи знакома с ним, Шарлотта узнала, что он проводил экспериментальные исследования мыслительных процессов, аналогичные тем, которые она ранее пыталась осуществить сама. Между коллегами возникло взаимное влечение, и в апреле 1916 г. они поженились. В 1917 г. у них родилась дочь Ингеборг, в 1919 г. – сын Рольф (их воспитанием занимались в основном гувернантки).
В 1918 г. Шарлотта Бюлер защитила диссертацию по психологии мышления и получила степень доктора философии. В том же году ею было опубликовано оригинальное исследование, посвященное детским фантазиям и сказкам.
В последующие годы Карл и Шарлотта Бюлер работали рука об руку, в частности – в Дрезденском технологическом институте, где Шарлотта стала первой женщиной, получившей звание приват-доцента. В 1923 г. она получила Рокфеллеровскую стипендию и отправилась на стажировку в США. Там она работала в Колумбийском университете под руководством Э. Торндайка. Освоение бихевиористских методов исследования еще более укрепило ее склонность к прямому наблюдению феноменов поведения. По возвращении из Америки она присоединилась к своему мужу, возглавившему к тому времени психологический факультет Венского университета. Совместно ими был основан психологический институт. В котором Шарлотта Бюлер возглавила отделение детской психологии.
Исследования, осуществленные ею в венский период ее научной деятельности, отличались яркой оригинальностью и глубиной. В истории науки принято говорить о созданной ею Венской школе возрастной психологии, объединившей многих исследователей (Х. Гетцер, К. Рейнингер, Б. Тудер-Гарт, Э. Келер и др.). Шарлотта Бюлер разрабатывала проблемы возрастной периодизации и развития детей в различные периоды, становления социального поведения и др. Ей принадлежит первая попытка создать периодизацию переходного возраста, причем она исходила из созревания половой функции как основного процесса, в свете которого следует рассматривать все остальные стороны развития. Согласно ее теории, половая функция представлена в сознании как «потребность в дополнении»; пробуждение этой потребности приходится именно на пубертатный период.
Широкую известность Венской школе принесли диагностические исследования уровня психического развития ребенка. Ш. Бюлер совместно с Х. Гетцер разработаны оригинальные тесты для дошкольников, по сей день используемые в психодиагностической практике. Показателем уровня развития являлся «коэффициент развития» введенный ею вместо широко известного «коэффициента интеллекта». Он определялся как отношение «возраста развития», устанавливаемого по результатам тестирования, к паспортному возрасту ребенка. По результатам тестирования составляется и «профиль развития», который показывает, как развиваются различные стороны поведения.
Важнейшим результатом исследований этого периода, проведенных в том числе и биографическим методом, является периодизация жизненного пути личности. Материалом исследования явились, в частности, юношеские дневники, которые Ш. Бюлер на основании личного опыта считала весьма ценным и информативным источником. Индивидуальное психическое развитие она рассматривала в свете итогов жизни, с точки зрения реализации внутренней сущности человека. Человеческая жизнь представляется как процесс становления целевых структур личности. Интенциональное ядро личности – «самость». Это духовное образование, данное изначально и в основном неизменное, меняется лишь форма его проявления. Главной движущей силой развития Ш. Бюлер считала потребность личности в самоосуществлении. Понятие самоосуществления близко по смыслу к самоактуализации, однако Ш. Бюлер их различает. Самоосуществление понимается ею как итог жизненного пути, когда «ценности и цели, к которым стремился человек, осознанно или неосознанно, получили адекватную реализацию». Но вместе с тем можно рассматривать самоосуществление и как процесс, который в разные возрастные фазы может выступать то как хорошее самочувствие (в возрасте до полутора лет), то как переживание завершения детства (12–18 лет), то как самореализация (в зрелости), то как исполненность (в старости).
Ш. Бюлер указывала, что полнота самоосуществления зависит от способности личности ставить такие цели, которые наиболее адекватны ее внутренней сути. Эта способность названа ею самоопределением. Самоопределение связано с интеллектуальным уровнем личности, так как от интеллекта зависит глубина понимания человеком собственного потенциала.
Годы, проведенные в Вене, были научно продуктивными и во всех отношениях благополучными. Каждый день начинался с работы за письменным столом; публикации выходили регулярно. Шарлотту и Карла окружали преданные ученики и коллеги.
В 1938 г., находясь за границей, Шарлотта Бюлер узнала, что к ее мужу у захвативших Австрию нацистов возникли серьезные претензии в связи с ее еврейским происхождением. Оба они были уволены с занимаемых должностей, а их имущество конфисковано. Семья Бюлер разделила судьбу множества изгнанников, преследуемых угрозой геноцида.
После кратковременного пребывания в Осло (Шарлотта Бюлер в 1938–1940 гг. была профессором местного университета) семья Бюлер переехала в США. Последующие пять лет их существования отличала нестабильность, неустроенность, частые переезды в поисках достойной работы. Ш. Бюлер некоторое время преподавала в университете Кларка в Вустере, работала клиническим психологом в Миннеаполисе (там ее деятельность фактически сводилась в проведению тестирования).
В 1945 г. Ш. Бюлер получила американское гражданство. С этого времени она работала в Лос-Анжелесе, не достигнув однако того формального статуса, который она имела в прежние времена. Не удовлетворяясь таким положением, она открыла собственную психотерапевтическую практику, стремясь приложить свои идеи к новой для нее социальной сфере.
Американский период научного творчества Ш. Бюлер посвящен углубленному изучению проблем основных тенденций личности, периодизации жизненного пути. В 1964 г. вместе с Карлом Роджерсом, Виктором Франклом и Абрахамом Маслоу она приняла участие в организации конференции, положившей начало новому научному направлению – гуманистической психологии. В 1965 г. она стала первым президентом Ассоциации гуманистической психологии. Центральными для этой научной школы, признанной в противовес фрейдизму и бихевиоризму «третьей силой» в психологии, были понятия личностного роста и самоактуализации. Этим проблемам посвящены важнейшие работы Ш. Бюлер – «Жизненный путь человека» (1968, в соавторстве с Фредом Массариком) и «Введение в гуманистическую психологию» (1972, в соавторстве с Мелани Ален). Окруженная единомышленниками, Шарлотта Бюлер, наконец, нашла достойное место в научной среде своей новой родины.
В 1972 г., ощущая серьезные отклонения в своем здоровье, она перебралась к детям в Штутгарт. Она пыталась практиковать и там, но все время тяжело переживала отрыв от «своей Америки» и того интеллектуального братства, которое она там оставила.
Умерла Шарлотта Бюлер 3 февраля 1974 г.
Ф. Перлз (1893–1970)
Настоящий крупный психолог редко бывает чьим-либо верным последователем. Самый яркий след в истории психологической мысли оставили те ученые, которые, критически переосмыслив многогранный спектр традиционных представлений, сумели выйти за привычные рамки и сказать свое собственное слово не только в дополнение, но порою и в противовес мнению авторитетов. К Фрицу Перлзу это относится в высшей мере. Фрейдист, взращенный ведущими психоаналитиками, на склоне лет говоривший о «фрейдистском вздоре». Психолог, который, по собственном упризнанию, не прочитал ни одного учебника по гештальтпсихологии, но создал направление, названное гештальт-терапией. Союзник многих видных деятелей гуманистической психологии, никогда не причисляемый к этому направлению. Таков Перлз, легендарная фигура мировой психологии.
Фриц (Фредерик Соломон) Перлз родился в Берлине в мелкобуржуазной еврейской семье. Его отец был коммивояжером, с переменным успехом торговавшим палестинскими винами. Это был человек, иногда умевший быть заботливым и сердечным, однако более склонный к патетическому морализаторству, за которым Фриц с малых лет начал угадывать лицемерие. Тем более, что ему и двум его сестрам постоянно приходилось наблюдать ожесточенные стычки между родителями, нередко заканчивавшиеся рукоприкладством. Доставалось и самому Фрицу – преимущественно от матери, которая палку для выбивания ковров использовала в «педагогических» целях чаще, чем по прямому назначению. В такой атмосфере дети нередко вырастают робкими и забитыми. Фриц, напротив, рос отчаянным и непокорным, враждовал с родителями, ломал палки, которыми его били. Он никогда не угодничал, остро реагировал на лицемерие и неискренность. Наверное, именно в детские годы сложился его непростой, бунтарский характер с выраженным стремлением к самораскрытию.
Учеником он был неважным, в седьмом классе просидел два года, после чего и вовсе был исключен из школы. Школу он, однако, в конце концов закончил и продолжил свое образование на медицинском отделении Фрейбургского, затем Берлинского университета. В годы I мировой войны служил военным врачом. Вернувшись с войны, Перлз в 1920 г. получил степень доктора медицины в Берлинском университете. В целом его врачебная практика не оказала существенного влияния на его научное мировоззрение, если не считать сотрудничество с Куртом Гольдштейном, у которого Перлз работал ассистентом во Франкфуртском неврологическом институте. Гольдштейн не принадлежал ни к одной психологической школе, однако историки науки находят его взгляды созвучными учению гештальтпсихологии, а также иногда называют его одним из предшественников гуманистической психологии. Под его влиянием Перлз проникся ощущением того, что человеческий организм следует рассматривать как единое целое, а не как конгломерат по отдельности функционирующих частей. Впоследствии, формулируя суть собственного подхода, Перлз указывал, что для него характерен «анализ не только симптомов или структуры характера, но и всего существования человека».
В конце двадцатых Перлз заинтересовался психоанализом. Лично встретиться с З.Фрейдом в ту пору ему не удалось, но он сумел наладить контакты со многими видными представителями психоаналитического движения. Первоначально учебный анализ он проходил у Вильгельма Райха. Он также в полной мере воспользовался своим правом выбирать и менять аналитика для учебного анализа: в течение нескольких месяцев его анализировали Хелен Дойч, Карен Хорни и Отто Фенихель. О результатах этого обучения он впоследствии вспоминал так: «От Фенихеля я получил нарушение ориентации, от Райха – наглость, от Хорни – способность к участию без злоупотребления специальной терминологией».
После прихода к власти нацистов в 1933 г., Перлз уехал в Голландию, а год спустя, по рекомендации Эрнста Джонса, близкого друга и биографа Фрейда, перебрался в Южную Африку, в Иоганесбург, где основал Южноафриканский институт психоанализа. В Южной Африке в 1942 г. увидела свет и его первая книга – «Эго, голод и агрессия», написанная совместно с женой. Лаура Перлз имела на мужа большое влияние и внесла значительный вклад в создание и развитие его теории.
Первая книга Перлза имела подзаголовок «Ревизия теории и метода Фрейда». В Америке в 1966 г. она была переиздана с новым подзаголовком – «Начало гештальт-терапии». Хотя учение о гештальт-терапии лишь начало складываться в Иоганесбурге, да и ревизионистом Перлз стал не сразу.
В 1936 г. Перлз ненадолго вернулся в Европу. Небезынтересно, что весь долгий путь он проделал по воздуху, пилотируя личный самолет. Он намеревался прочесть свой доклад на международном психоаналитическом конгрессе, а самое главное – встретиться наконец с основателем психоанализа. Эта встреча состоялась, однако не принесла Перлзу ничего, кроме разочарования. Он вспоминает, что встреча длилась около четырех минут, в течение которых Фрейд застыл в дверном проеме и даже не вышел в комнату, в которой находился гость. Короткий разговор ограничился несколькими общими фразами. Не было никакой возможности поговорить об идеях Фрейда, о чем Перлз мечтал годами. Возможно, эта неудачная встреча явилась решающей каплей, переполнившей подспудно накапливавшуюся чашу разочарования в психоанализе. Перл писал: «Мой разрыв с фрейдистами произошел несколькими годами позже… Я пытался сделать психоанализ духовным домом, религией. Позже пришло просветление: я должен принять всю ответственность за свое существование на себя». Тем не менее Перлз всегда сохранял уважение к Фрейду как к великому ученому. Он подчеркивал: «Устарели лишь философия и техника Фрейда, а не его открытия».
В 1946 г. Перлз эмигрировал в США и открыл частную практику в Нью-Йорке, пытаясь экспериментировать с сочетанием различным психотерапевтических приемов. В 1951 г. в соавторстве с Ральфом Хефферлином и Полом Гудмэном он опубликовал книгу «Гештальт-терапия», в которой сформулировал начала своего собственного терапевтического подхода. Вскоре после этого был организован Нью-Йоркский институт генштальт-терапии, центр которого находился в квартире Перлза. Свое жилище Перлз превратил в мастерскую, в которой проводились семинары и групповые занятия.
В 1954 г. был также создан Кливлендский институт гештальт-терапии, а к концу 50-х годов группы гештальт-терапии были организованы по всей стране.
В 1960 г. Перлз переехал на западное побережье Соединенных Штатов, некоторое время жил и работал в Лос-Анжелосе. В 1964 г. он вошел в штат знаменитого Эсаленского института в Биг Сур, штат Калифорния. В 1969 г. Перлз перебрался в Британскую Колумбию, где на острове Ванкувер основал гештальт-общину. В том же году он опубликовал две свои наиболее известные ныне работы – «Гештальт-терапия в дословном изложении» (Gestalt Therapy Verbatum), а также «Внутри и вне помойного ведра» (In and Out of the Garbage Pail). Последняя представляет собой научную автобиографию, написанную в весьма специфической литературной манере. Многие преподаватели рекомендуют студентам начинать знакомство с теорией Перлза именно с последней работы, поскольку в ней наиболее выпукло и зримо предстает фигура самого создателя гештальт-терапии, вне которой трудно представить его новаторские идеи. В конце концов, «лучшим специалистом по Перлзу» был и остается сам Перлз. Вероятно, то же самое можно сказать и о его учении.
Безусловно, на становление идей Перлза оказал значительное влияние психоанализ, хотя и критически переосмысленный. Особое значение, вероятно, имела концепция Райха, в частности его представление о наличии у индивидуума «защитного панцыря», благодаря которому сопротивление становится общей функцией организма. (Следует, правда, отметить, что одиозную теорию оргона, позднее выдвинутую Райхом, Перлз воспринял скептически.) Сильное влияние оказали на Перлза и работы гештальт-психологов – хотя в изучение их теории он не углублялся, однако внимательно ознакомился с некоторыми статьями Вертгеймера, Келера и Левина. Вообще, с гештальтпсихологией у Перлза, по его словам, сложились специфические отношения: восхищаясь многими идеями гештальтистов, он, однако, счел невозможным полностью следовать за ними. Перлз отмечал: «Наиболее важной для меня была мысль о незаконченной ситуации, а неполном гештальте». Проблема соотношения фигуры и фона, разрабатывавшаяся гештальтистами в области познавательных процессов, была перенесена Перлзом в область мироощущения в целом. Академические гештальтпсихологи такого расширения не принимали. Однако нельзя не признать, что сегодня понятие гештальта фигурирует в психологии главным образом благодаря новаторским трактовкам Перлза.
Важно также отметить определенное влияние на развитие гештальт-терапии идей Дж. Морено: некоторые терапевтические приемы Перлза косвенно почерпнуты из практики психодрамы.
Основным теоретическим принципом гештальт-терапии является убеждение, что способность индивида к саморегуляции ничем не может быть адекватно заменена. Поэтому особое внимание уделяется развитию у пациента готовности принимать решения и делать выбор.
Поскольку саморегуляция осуществляется в настоящем, гештальт возникает в «данный момент», то психотерапевтическая работа проводится сугубо в ситуации «здесь и теперь». Психотерапевт внимательно следит за изменениями в функционировании организма пациента, побуждает его к расширению осознания того, что происходит в ним в данный момент, с тем чтобы замечать, как он препятствует процессу саморегуляции организма, какие блоки он использует для избегания конфронтации со своим настоящим (для «ускользания из настоящего»). Большое внимание психотерапевт уделяет «языку тела», являющемуся более информативным, чем вербальный язык, которым часто пользуются для рационализаций, самооправдания и уклонения от решения проблем.
Технические процедуры в гештальт-терапии называются играми. Это разнообразные действия, выполняемые пациентами по предложению психотерапевта, которые способствуют более непосредственной конфронтации со значимыми переживаниями. Игры предоставляют возможность экспериментировать с самим собой и другими участниками группы. В процессе игр пациенты «примеряют» различные роли, входят в разные образы, отождествляются со значимыми чувствами и переживаниями, отчужденными частями личности. Цель игр-экспериментов – достижение эмоционального и интеллектуального просветления, приводящего к интеграции личности.
Большое внимание в гештальт-терапии уделяется и работе со снами пациентов. Но, в отличие от психоанализа, сны в гештальт-терапии не интерпретируются. Они используются для интеграции личности. Перлз полагал, что различные части сна выступают фрагментами личности. Для того чтобы достичь интеграции, необходимо их совместить, снова признать своими эти спроецированные, отчужденные части нашей личности и признать своими скрытые тенденции, которые проявляются во сне. С помощью проигрывания объектов сна, отдельных его фрагментов может быть обнаружено скрытое содержание сновидения через его переживание, а не посредством его анализа.
Перлз сначала применял свой метод в виде индивидуальной психотерапии, но впоследствии полностью перешел на групповую форму, находя ее более эффективной и экономичной. Групповая психотерапия проводится как центрированная на пациенте, группа же при этом используется лишь инструментально по типу хора, который, подобно хору в греческой трагедии, на заднем плане провозглашает свое мнение по поводу действий протагониста. Во время работы одного из участников группы, который занимает «горячий стул» рядом со стулом психотерапевта, другие члены группы идентифицируются с ним и проделывают большую молчаливую аутотерапию, осознавая фрагментированные части своего Я и завершая незаконченные ситуации.
По мнению знавших его людей, сам Перлз далеко не всегда был настолько ответственным, насколько, по его мнению, должен стать человек по завершении курса гештальт-терапии. Это, однако, не мешало ему быть чрезвычайно жизнерадостной личностью и, как сказали бы сегодня, – харизматической.
Фриц Перлз умер в возрасте 76 лет 14 марта 1970 г. после непродолжительной болезни. Незадолго до смерти он работал над двумя книгами – «Гештальт-подход» и «Свидетель терапии». Эти работы были изданы посмертно, в 1973 г.
В трудах этого оригинального теоретика и практика по сей день продолжают черпать вдохновение все новые поколения психологов, повторяя на свой лад его своеобразную заповедь:
Я делаю свое, и ты делаешь свое.
Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям,
И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям.
Ты – это ты, а я – это я.
Если нам случиться найти друг друга – это прекрасно.
Если нет, то ничего не поделаешь.
Л. Сонди[8] (1893–1986)
Сегодня в нашей стране можно встретить приверженцев любой психологической концепции или школы. На Урале существует небольшое общество последователей Леопольда Сонди, созданное для изучения его обширного научного наследия и пропаганды его идей. Остальным российским психологам Сонди если и известен, то лишь как создатель проективного теста, названного его именем. Однако, по мнению молдавского психолога Владимира Джоса, который еще четверть века назад первым в СССР перевел работы Сонди на русский язык и стал использовать его идеи в своей практической работе, – чтобы правильно применять эту проективную методику, необходимо понимать суть учения Сонди. А для этого, в свою очередь, важно проследить жизненный путь ученого, его личную и научную судьбу, итогом которой стало создание оригинальной теории. Ведь и теория эта так и называется – судьбоанализ.
В тех научных работах, где Сонди удостоен лаконичных упоминаний, его обычно называют венгерским психологом (вероятно из-за его венгерской фамилии и длительного проживания в Венгрии). Это определение не совсем точно. По национальности Сонди еврей. Он родился 11 марта 1893 г. в городе Нитра, который ныне расположен в Словакии, а в те времена принадлежал Австро-Венгерской империи. На рубеже веков семья перебралась в Будапешт, где Леопольд Сонди прожил почти полвека. Впоследствии катаклизмы эпохи забросили его в Швейцарию, где он на протяжении еще более сорока лет продуктивно работал до глубокой старости. Таким образом, перед нами предстает портрет человека, волею судьбы (!) ставшего гражданином мира.
В Будапеште Леопольд поступил в гимназию. Учился не блестяще – вероятно, отчасти из-за своего неуживчивого характера (который сегодня назвали бы нонконформистским). Показателен такой эпизод из его школьной жизни. Однажды учитель рассердился на одного из учеников и отвесил ему такую затрещину, от которой у бедняги лопнула барабанная перепонка. Отец пострадавшего подал жалобу в министерство просвещения. Однако приехавшая комиссия столкнулась с непреодолимым препятствием: опасаясь учительской мести, ученики как один словно в рот воды набрали. Свидетелем происшествия отважился выступить один Сонди. Опасения товарищей оказались небезосновательны: в отместку учитель снизил правдолюбцу годовую отметку. Но Леопольд не отступил и отправился к директору, который, просмотрев классный журнал, убедился, что оценка занижена. Справедливость была восстановлена.
По заслугам способности товарища оценивали лишь одноклассники. Добросердечный Леопольд с утра пораньше торопился в гимназию, где его уже поджидали менее способные ученики, чтобы списать домашнее задание. А в старших классах он начал давать частные уроки, помогая семье нести бремя расходов на собственное обучение.
Получив аттестат зрелости, Сонди решил продолжить образование. В те годы законы Австро-Венгии резко ограничивали профессиональный выбор для лиц еврейской национальности. В свое время именно из-за этих ограничений Зигмунд Фрейд избрал медицинское поприще, на которое евреи допускались. Так же поступил и Сонди.
Уже в студенческие годы у него зародились некоторые соображения, которые позднее легли с основу его психологической теории. Так, перечитывая своего любимого Достоевского (чьим творчеством, кстати, живо интересовался и Фрейд), Сонди обратил внимание, что в его романах постоянно фигурируют два ярких типа героев – с одной стороны преступники, с другой – блаженные, почти святые. По мнению Сонди, автор продемонстрировал тонкое понимание поведения тех и других потому, что сам в латентном состоянии носил в себе убийцу и святого. Сонди предположил, что такая предрасположенность могла быть обусловлена наследственно-родовым генофондом. Много лет спустя эта юношеская гипотеза нашла подтверждение благодаря изысканиям французского литературоведа Г. Труайя. В написанной им биографии Достоевского приведены примеры предков писателя, среди которых, действительно, были и убийцы, и ревнители благочестия.
Во время учебы Сонди в университете началась первая мировая война, и он был призван на военную службу. Но, поскольку к тому времени он уже проучился шесть семестров на медицинском факультете, его после нескольких месяцев подготовки направили на работу в госпиталь, а вскоре, в качестве лейтенанта медицинской службы, на русский фронт. На войне юный врач несколько раз побывал на волосок от смерти, и то, что после всех испытаний он остался жив, еще больше укрепило его фаталистскую веру в предначертание судьбы. В 1916 году его часть попала под сильный шрапнельный огонь. Солдаты вжались в землю, так что над ними торчали лишь ранцы на спинах. Когда обстрел закончился, Сонди обнаружил, что «предназначавшийся» ему смертоносный осколок застрял в переплете книги, которую он носил в ранце. Небезынтересно, что этой книгой был экземпляр первого издания «Толкования сновидений» Фрейда. В другой раз жизнь Сонди спасла командировка в соседнее подразделение. По возвращении он обнаружил, что его санчасть снесена снарядом, а все его товарищи погибли.
В 1916 году Сонди тяжело заболел и попал в госпиталь в Вене. Там он влюбился в медсестру, очаровательную блондинку. Она была немкой, христианкой, родом из Саксонии, ранее преподавала в школе иностранный язык. Союз людей столь разного происхождения представлялся очень проблематичным. Более того, подобный опыт уже имелся в роду Сонди. Тринадцать лет назад один из его родственников (старший сводный брат) изучал медицину в Вене и тоже влюбился… в блондинку, христианку, учительницу иностранного языка из Саксонии. Они поженились, но счастья им этот брак не принес. Однажды на больничной койке Леопольду приснился сон, в котором его родители обсуждали печальную судьбу его брата. Благодаря этому сновидению Сонди вдруг осознал, что безотчетно намеревается повторить судьбу своего несчастливого родственника. Все в нем восстало против навязчивого рока. Утром, объявив, что он совершенно здоров, Сонди покинул госпиталь и вернулся в свою часть.
Отслужив в армии четыре года, Сонди в 1919 г. завершил свое медицинское образование и открыл частную практику в Будапеште, а в 1924 г. начал совмещать ее с работой в поликлинике Аппони в качестве ассистента отделения неврологии и психиатрии. С первых же дней работы, помимо своих основных занятий, он увлекся экспериментальной психологией, которой стал заниматься в лаборатории доктора Пауля Раншбурга. Немаловажно, что Раншбург вел исследования в области психодиагностики, благодаря чему свои первые шаги в работе над тестом Сонди сделал под компетентным руководством.
Общение с нервно– и душевнобольными постоянно наводило его на мысль о семейной обусловленности психических болезней. Более того, психопатология, по его наблюдениям, накладывает характерный отпечаток на внешний облик больного. Опытный клиницист из гаммы проходящих перед ним лиц всегда может выявить (порой интуитивно) типичные признаки определенного заболевания.
Лаборатория, в которой работал Сонди, находилась в здании школы для умственно отсталых детей. Располагая столь богатым материалом, Сонди предпринял попытку проследить генеалогию каждого ребенка, дополняя ее данными биохимических и эндокринологических исследований. Ведя эту своеобразную летопись, Сонди открыл, что брачный выбор зачастую безотчетно диктуется тягой к партнеру с аналогичной латентной патологией. Вступающие в брак часто не ведают, что в их семьях встречаются одни и те же болезни. Оба партнера могут казаться вполне здоровыми людьми, однако их потомки обречены на патологию, поскольку родители латентно несут в себе нездоровую наследственность. Сонди назвал такой выбор генотропизмом. Этой проблеме и была посвящена его первая получившая известность книга «Анализ брачных союзов» (1937).
Отношение коллег к изысканиям Сонди было весьма прохладным. Когда он принес в редакцию официального медицинского журнала статью, содержавшую, в частности, его собственный генеалогический анализ, почтенный профессор медицины, редактировавший журнал, отшвырнул рукопись с брезгливой усмешкой: «Ну, Вы тут и насочиняли!» Свои семинары с обсуждением исследований Сонди проводил у себя дома. На этих неформальных собраниях часто присутствовали представители Психоаналитического общества, которые, в отличие от «чистых» медиков, живо интересовались работами Сонди и стремились к сотрудничеству с ним. Сонди принял участие в нескольких международных психоаналитических конференциях и съездах, где, в частности, близко познакомился с Анной Фрейд, а также с видным фрейдистом Августом Айххорном, чьими трудами после II мировой войны было воссоздано Венское психоаналитическое общество.
Сам Сонди испытал значительное влияние фрейдовского психоанализа, а также аналитической психологии Юнга. Развивая идеи классиков, он дополнил теорию глубинной психологии понятием «родовое бессознательное». Располагая его между личным бессознательным Фрейда и коллективным Юнга, Сонди находит его проявление в том серьезном влиянии, которое оказывает наследственность, род предков на судьбу человека. До Сонди доминирующим фактором в развитии психики считалась внешняя среда. Ее воздействия вызывали вынужденные реакции организма, необходимые для приспособления к создавшимся условиям. Реакции, которые приводили к успешной адаптации, закреплялись и обуславливали внутренние изменения в организме, способствующие формированию определенного типа поведения. Сонди обратил внимание психологов на то, что закрепленные формы поведения, по всей вероятности, передаются по наследству. В закодированном виде, переданном по генотипу, психика младенца уже имеет набор приспособительных реакций, которые в свое время обеспечивали существование его предков. Теперь они обуславливают развитии психики человека в определенном, то есть заданном предками его рода, направлении. В родовом бессознательном это проявляется в формировании «архетипа», образа предка, с которым необходимо считаться. По Сонди, «конечная цель фигуры предка заключается в том, чтобы полностью повториться в жизни потомка в той же самой форме экзистенции, в которой она один или несколько раз проявила себя в истории целого рода». Влияние родового бессознательного в жизнедеятельности потомков определяет их безотчетный выбор профессии и хобби, друзей и супруга, и даже формы смерти (например, Хэмингуэй застрелился из того же самого ружья, что и его отец).
Однако влияние рода предков, генетической детерминации в развитии психики не означает фатальной обреченности в судьбе человека. По Сонди, каждое побуждение изначально двойственно, амбивалентно, а значит имеет, как минимум, две возможности своей реализации. Психологу в своем анализе необходимо внимательно изучить обе тенденции, чтобы на этом основании помочь человеку сделать выбор и закрепить на жизненной сцене наиболее благоприятный и соответствующий его возможностям план судьбы. Суть так называемой судьботерапии состоит в освобождении человека от навязанной ему формы судьбы и предоставлении ему свободы на основе возможности выбора.
Рассуждения такого рода со стороны многих специалистов, в том числе и психоаналитиков, вызывали критические возражения: «Это же не наука, а мировоззрение». На это Сонди отвечал: «Горе науке, которая не отваживается стать мировоззрением». Психологам эти слова могли бы послужить замечательным девизом.
Тест, который принес Сонди всемирную известность, был опубликован им в 1939 г. Война на некоторое время затормозила распространение этого метода, который стал широко внедряться в практику лишь в конце сороковых.
В создании теста Сонди исходил из своих представлений о наследственно обусловленной склонности человека к определенным формам патологии. А также о манифестации патологии во внешнем облике. В качестве стимульного материала он отобрал 48 фотопортретов психически больных 8 категорий (эпилепсия, истерия, садизм, гомосексуализм, кататония, параноидная шизофрения, депрессия, мания). Испытуемому шестикратно предъявляются наборы из 8 фотографий (по одной из каждой категории) и в каждом предлагается указать два наиболее и два наименее понравившихся лица. По мнению Сонди, если четыре и более портретов одной категории получили положительную или отрицательную оценку, то данную «диагностическую область» следует признать значимой для обследуемого.
Широкое применение теста в клинической практике породило серьезные сомнения в его валидности. Тем не менее, сам принцип, положенный в основу теста, был продуктивно использован многими психологами. Например, Мартин Ахтних наподобие теста Сонди разработал собственный портретный тест профессиональных склонностей. В отечественной психологии на основе стимульного материала Сонди был разработан так называемый социально-перцептивный интуитивный тест, используемый для выявления трудностей в межличностных отношениях и ценностных ориентаций.
Судьба самого создателя теста сложилась драматически, но в итоге благополучно. В Венгрии выступавшей союзницей нацистской Германии, для евреев настали тяжелые времена. А после ввода немецких войск в Венгрию в 1944 г. положение стало и вовсе безнадежным. Сонди, однако, удалось спастись. По условиям тайной сделки союзников с Гиммлером, 1800 венгерских евреев, среди которых было много интеллектуалов, получили возможность выехать в Израиль. Однако закулисные переговоры затягивались, и Сонди пришлось провести долгие месяцы в лагере для перемещенных лиц под Веной, терзаясь мыслями о своей дальнейшей судьбе. Впрочем, для товарищей он оставался примером мужества и оптимизма. По вечерам в темном бараке он проводил семинары по результатам своих исследований, которые вызывали бурные дискуссии.
В начале декабря 1944 г. Сонди получил разрешение выехать в Швейцарию (до Израиля он так и не добрался). По приглашению доктора Оскара Фореля он получил должность ассистента в известном психиатрическом профилактории в Пранжино. Оттуда он еженедельно наведывался в Цюрих, где читал лекции в институте прикладной психологии. Потом он окончательно перебрался в Цюрих, в 1959 г. получил швейцарское гражданство.
В Швейцарии у Сонди нашлись последователи, объединившиеся в Общество под его руководством. В 1953 г. к шестидесятилетнему юбилею Сонди Общество выпустило сборник трудов «Сондиана». Впоследствии «Сондиана» стала периодическим изданием. Попытки отечественных энтузиастов, коих в России, как и в Швейцарии, насчитывается несколько десятков, наладить в начале девяностых выпуск «Сондианы» в нашей стране натолкнулись на непреодолимые финансовые затруднения. Видно, не судьба!
A.A.Смирнов (1894–1980)
В наши дни упоминание имени А.А. Смирнова можно порой встретить в немногочисленных работах, посвященных психологии памяти. Его замечательные труды по этой проблеме, прежде всего «Психология запоминания» (1948), вошли в Золотой фонд отечественной психологической науки. Даже если бы им ничего не было создано помимо этих трудов, его место в истории нашей науки по праву можно было бы назвать почетным. Однако этим его вклад далеко не исчерпывается. Многочисленные исследования Смирнова в различных областях психологии и его беспрецедентные организаторские усилия ставят его в первый ряд ключевых фигур отечественной психологии ХХ века.
Анатолий Александрович Смирнов родился 5 ноября 1894 г. в подмосковном городе Руза в семье адвоката. Он рано потерял мать и воспитывался у тетка в Варшаве (бывшей тогда одним из губернских центров Российской империи), где и окончил гимназию в 1912 г. Высшее образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета. В год его поступления в Университет начал работу руководимый Г.И. Челпановым Психологический институт (официально открывшийся два года спустя, в 1914 г.). Смирнов заинтересовался психологией, активно включился в семинарскую и исследовательскую работу. Его уже тогда заинтересовала проблема памяти, к которой он, под влиянием Челпанова, сначала подходил в позиций ассоциативной психологии. Челпанов относился к нему с большой симпатией и видел в нем представителя того поколения, которое сможет по-настоящему разрабатывать экспериментальную психологию. Правда, сам Челпанов большое значение придавал философскому аспекту этих исследований, а Смирнова философская сторона дела не очень увлекала – он предпочитал изучать психические явления методами экспериментальной науки, анализировать и обобщать факты и уже на этой основе строить какую-либо теорию. Первое его научное исследование, выполненное в 1914–1915 гг., называлось «О детерминативном и ассоциативном течении представлений»; испытуемыми выступили другие слушатели челпановского «семинария» – А.Ф. Лосев (впоследствии крупный философ), Н.И. Жинкин, П.А. Шеварев, С.В. Кравков (в будущем – выдающиеся советские психологи).
В 1916 г. Смирнов окончил Университет и был удостоен диплома первой степени. В том же году он обвенчался с Марией Федоровной Капустинской, ставшей его верной соратницей во всех делах. В ту пору люди еще всерьез принимали формулу «пока смерть не разлучит нас» и жили в соответствии с нею – супруги Смирновы прожили вместе 64 года.
А.А. Смирнов – кавалерийский офицер
Шла I мировая война, и выпускник университета сразу же был призван на военную службу. Год с небольшим Смирнов прослужил в кавалерии и в начале 1918-го был демобилизован по той простой причине, что сама армия, в которой он служил, прекратила свое существование. С февраля 1918 г. он работал инструктором в культпросветотделе Моссовета, затем в аналогичном отделе Московского центрального рабочего кооператива в качестве инструктора по организации клубов рабочих-подростков. В июне он снова был призван – на сей раз в Красную Армию, правда, лишь в статусе вольноопределяющегося (сказывалось недоверие к бывшим царским офицерам). Демобилизовался Смирнов только в августе 1921 г. С этого момента вся его жизнь связана с Московскими вузами и исследовательскими институтами, прежде всего с Институтом психологии МГУ (ныне Психологический институт РАО), где он начал работать после демобилизации и – с небольшим перерывом (1923–1933) – проработал до конца жизни, в течение 28 лет занимая пост директора.
В 1921 г. произошла значительная реорганизация Психологического института, в частности были организованы выборы директора. Этот пост, несмотря на свое «идеалистическое прошлое», сохранил Челпанов – его кандидатуру большинством голосов поддержал Ученый совет. Смирнов с января 1922 г. занял должность научного сотрудника первого разряда (говоря современным языком – старшего научного сотрудника). Он активно включился в работу и продолжил свои исследования представлений. По этой тематике он выступил с докладом на первом Всероссийском психоневрологическом съезде в январе 1923 г. Однако главным событием съезда стало не обсуждение научной работы, а доклад К.Н. Корнилова, возглавившего борьбу за перестройку психологии на марксистских основах. Результаты этой борьбы отразились на судьбе Психологического института и его сотрудников. В ноябре 1923 г. Челпанов был отстранен от руководства институтом, вместе с ним покинули институт многие его ученики, в том числе и Смирнов.
С января 1924 г. Смирнов – старший научный сотрудник Института методов внешкольной работы. В январе 1931 г. он стал профессором Института средней школы. Не оставлял он и педагогической работы. Основную область его научных интересов в этот период составляли проблемы изучения ребенка в русле педологии, а также проблемы психотехники (главным образом, профессионального самоопределения).
В области педологии наиболее значительными работами Смирнова были «Психология ребенка и подростка» (1926), которая выдержала 4 издания, а также «Введение в педологию в связи с учением о поведении человека» (1927). Обратившись к изучению детского развития, он суммировал результаты накопленных к этому времени исследований и присовокупил к ним результаты собственных наблюдений за своими сыновьями (которым и посвятил этот труд). Исходным принципом в этих трудах был эволюционно-генетический подход. Лейтмотивом проходит у Смирнова мысль о том, что ребенка надо рассматривать как существо, непрерывно развивающееся. К тому же, подчеркивал он, необходимо каждую особенность личности и поведения ребенка рассматривать в тесной связи со всеми другими характерными чертами, свойственными ребенку данного возраста. В зависимости от возраста, наглядно показывал он, одна и та же черта характерна может иметь разные психологические корни. Смирнов создал многоплановую картину детского развития в его наиболее существенных чертах в разные возрастные периоды, рассмотрел основные закономерности психического и физического развития, особенности формирования познавательных процессов, значение игры и начальных форм труда в жизни ребенка, роль детского рисунка и его значение для познания внутреннего мира ребенка. Добротное научное содержание книг сочеталось с доступной формой изложения и практически полезными рекомендациями.
В статьях, написанных в те годы, Смирнов рассмотрел также вечно актуальную для педагогической практики проблему школьной успеваемости. Эта проблема, подчеркивал он, не может быть узкопедагогической. Главная задача – понять причины, источники неуспеваемости школьника. А для этого надо знать ребенка не только со стороны его успехов в школе, но учитывать и другие стороны его жизни, особенности его организма и личности. «Учет школьной успешности должен быть составной частью более широкого, педологического изучения личности ребенка, точнее: данные учета приобретают свое подлинное значение только на фоне этого изучения», – утверждал Смирнов.
Какие же формы учета больше всего отвечают этим требованиям? – задался вопросом Смирнов. И пришел к выводу, что ряд преимуществ в этом отношении имеет метод тестов. Но он также таит в себе ряд опасностей и существенных недостатков. Для того чтобы их избежать, необходимо очень тщательно составить тесты и проанализировать результаты, полученные с их помощью. Этому вопросу Смирнов уделил самое серьезное внимание. Под его редакцией вышло детальное методическое руководство по использованию школьных тестов («Школьные тесты», 1929), в котором были определены принципы построения тестов, техника их проведения и интерпретации результатов. Сборник ставил ясную цель тестовых испытаний – «дать возможность произвести в строго определенной форме обследование фактического запаса знаний и навыков у современного школьника и тем самым получить материалы, базируясь на которых можно было бы наполнить конкретным содержанием общие контуры школьных программ».
Столь же четкие, практически ориентированные цели имели работы Смирнова по психотехнике. Наиболее значительной в этой области была монография «Психология профессий» (1927). Теоретически всем понятно, что выбор профессии должен базироваться на психофизиологических, экономических и социальных факторах. Однако в реальной жизни обнаруживается хаотичность и случайность тех оснований, в силу которых большинство решает проблему жизненного призвания. От этого страдает и сам человек, и общество. Поэтому необходима научная организация выбора профессии. В своей монографии Смирнов показал основные пути такой организации (профориентация, профконсультация, профотбор), обеспечивающие ее средства (прежде всего адекватные методы исследования профпригодности), принципы разработки профессиограмм. Он сосредоточился на личностном факторе и дал описание ряда рабочих профессий с точки зрения тех психофизиологических качеств, которые необходимы для их выполнения. Сопоставление различных профессий с этих позиций помогало определить одно из наиболее существенных направлений психотехнических исследований.
Применительно к школе психотехнические и педологические проблемы Смирнов рассматривал в едином русле. Среди задач школы он видел профориентацию и профконсультационную работу, построенную на психологическом материале (выяснение особенностей личности каждого учащегося и динамики его развития, изучение запросов и интересов и т. д.).
Работа Смирнова в области педологии и психотехники шла успешно и плодотворно. Однако к концу 20-х годов стало резко меняться положение в науке. Под усиливавшимся официальным давлением изменился сам стиль научных публикаций, стала обязательной идеологическая фразеология. Ярким документальным свидетельством этого непростого периода служит статья Смирнова о профориентации в школе, опубликованная в 1932 г. Содержание ее в целом построено на добротном научном материале, но во вводной части уже отмечена необходимость преодолеть аполитичность, педагогический нейтрализм, узкий профессионализм и рассматривать профотбор и профконсультацию прежде всего как политико-воспитательную работу, цель которой – правильное понимание социалистического отношения ко всякой профессионально-трудовой деятельности.
Идеологический прессинг все усиливался. Сохранить научный уровень исследований становилось все труднее. Работа Смирнова в области педологии и психотехники, в частности его книга «Психология ребенка и подростка», подверглась критике (отголоски этой критики проявлялись даже в связи с критикой вейсманизма-морганизма после сессии ВАСХНИЛ в 1948 г.). В такой ситуации Смирнов решил прекратить работу в этой области.
В январе 1933 г. Смирнов вернулся в Институт психологии и не расставался с ним до конца жизни.
После постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» (1936) Смирнов не мог избежать «покаяния» и вынужден был выступать с критикой «педологических извращений» в школе, связанных, в частности, с использованием работ Э.Торндайка и Ч.Спирмена. Некоторое время после этого он занимался изучением психологических проблем преподавания математики в начальной школе, а с 1938 г., став заведующим лабораторией памяти, заложил прочные основы многолетних исследований мнемических процессов.
Первая его крупная работа в области психологии памяти, основанная на обширном экспериментальном материале, была посвящена популярной в конце 30-х гг. проблеме ретроактивного торможения. Анализ существующих теорий ретроактивного торможения привел его к выводу, что основной проблемой, требующей дальнейшего исследования, является зависимость ретроактивного торможения от содержания предшествующей и последующей деятельности. В качестве предмета своего исследования он избрал вопрос о значении сходства обеих деятельностей и о роли трудности последующей деятельности в развитии ретроактивного торможения. В итоге исследования он показал, что величина ретроактивного торможения снижается по мере уменьшения сходства между предыдущей и последующей деятельностью. Не менее существенную роль играет степень трудности последующей деятельности. Результаты работ Смирнова не только выясняли важные моменты в постижении механизмов психической деятельности, но и помогали в организации всякой практической работы, связанной с заучиванием. Впоследствии Смирнов развернул широкую программу исследований по психологии памяти на основе деятельностного подхода.
В период Великой Отечественной войны, наряду с выполнением задач, диктовавшихся условиями военного времени, Смирнов продолжал научно-исследовательскую и преподавательскую работу. С 1941 г. (до 1952 г.) он был профессором МГУ. В связи с созданием Академии педагогических наук РСФСР Смирнов 11 марта 1944 г. был утвержден ее членом корреспондентом. В апреле 1944 г. он стал заместителем директора Института психологии АПН РСФСР, а 5 июля 1945 г. был утвержден в качестве директора института. 20 февраля 1947 г. его избрали действительным членом АПН РСФСР (в дальнейшем он избирался членом президиума академии и некоторое время исполнял обязанности вице-президента).
Основные научные интересы Смирнова в этот период были сосредоточены на исследовании влияния направленности и характера деятельности на запоминание и определении роли процессов мышления в запоминании. К концу 40-х гг. он завершил фундаментальный труд по психологии запоминания.
Среди множества проблем психологии запоминания Смирнов избрал три круга вопросов: соотношение двух основных видов запоминания – произвольного и непроизвольного; осмысленность запоминания, особенности мыслительных процессов при запоминании; значение и функции повторения в процессе заучивания.
Характеризуя произвольное запоминание, Смирнов рассмотрел различные виды мнемической направленности (на точность, полноту, последовательность, прочность запоминания), их источники и их влияние на результативность запоминания. Не обошел он вниманием и проблему мотивов запоминания, их значения для его продуктивности. В ходе анализа процессов непроизвольного запоминания он убедительно продемонстрировал его зависимость от направленности деятельности, от ее содержания и характера. Проведя сопоставительный анализ произвольного и непроизвольного запоминания, Смирнов выявил условия, при которых проявляются преимущества каждого их них, отметил возрастные различия в их соотношении, показал их постоянную взаимосвязь в реальной жизненной практике человека. Полученные данные позволили сформулировать общую закономерность соотношения произвольного и непроизвольного запоминания: преимущество того или другого вида запоминания зависит от степени его соответствия цели деятельности, от степени интеллектуальной активности, определяемой характером деятельности.
Исследуя особенности мыслительных процессов при запоминании, Смирнов получил большой экспериментальный материал, подтверждающий двусторонний характер взаимоотношения процессов памяти и мышления, их взаимовлияние. Под этим углом зрения он рассмотрел роль понимания в запоминании, показал возможность как положительного, так и отрицательного их взаимодействия, выявил возрастную динамику в развитии этих процессов. Благодаря этому исследованию проблема осмысленности запоминания наполнилась живым, конкретным содержанием, получила выход в реальную педагогическую практику.
Монография Смирнова «Психология запоминания» (1948) стоит в ряду фундаментальных исследований, имеющих непреходящую научную ценность и получивших мировое признание.
В январе 1949 г. Смирнову было присвоено ученое звание профессора, а в феврале 1951 ВАК утвердил его в ученой степени доктора педагогических наук (по психологии). В 1958 г. он получил звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
В 50-е гг. характер деятельности Смирнова несколько изменился. Помимо научной работы он должен был много внимания уделять научно-организационной деятельности. Положение обязывало его уделять внимание не только свои профессиональным интересам, но и проблемам, важным для всей психологической науки того времени. В частности после Павловской сессии двух академий (1950) перед психологией встала сложная задача: не вступая в открытую конфронтацию с идеологической линией (что в те годы было исключено), сохранить в то же время «свое лицо», отстоять свою самостоятельность, найти приемлемое русло исследований. И в этом немалую роль сыграл Смирнов.
В эти же годы после долгого перерыва (журнал «Психология» был закрыт в 1932 г.) психологи получили возможность издания своего специального журнала. В 1955 г. начал выходить журнал «Вопросы психологии», главным редактором которого Смирнов с небольшим перерывом был до конца жизни. В 1957 г. было создано Общество психологов, в организации которого Смирнов также играл огромную роль и был его первым президентом.
В этот же период после долгого перерыва чуть приоткрылся «железный занавес», и советские ученые получили некоторые возможности контактов с зарубежными коллегами. В 1953 г. Смирнов возглавил делегацию советских ученых на Международных днях ребенка в Париже, где выступил с докладом о развитии детской и педагогической психологии в СССР. Участвовал он и в других научных форумах, в частности ХV и ХVI Международных психологических конгрессах.
В 1966 г. ХVIII Международный психологический конгресс состоялся в Москве. Он собрал рекордное количество участников. Проведение конгресса потребовало огромной организаторской работы, основная тяжесть которой легла на сотрудников Института психологии и Смирнова как председателя организационного комитета. Помимо доклада по проблемам памяти Смирнов выступил на конгрессе с вечерней лекцией о путях развития советской психологии. Текст его выступления был издан на русском, французском и английском языках в Москве, а затем перепечатан во многих журналах других стран.
1 августа 1966 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о преобразовании Академии педагогических наук РСФСР в общесоюзную. Реорганизация закончилась к концу 1969 г. Изменения должны были коснуться и входящих в нее институтов. В это же время шла работа по созданию нового Института психологии в системе АН СССР. В связи с этим поднимался вопрос о том, чтобы изменить профиль работы Института психологии АПН, ограничить его исследования проблемами педагогической психологии. Смирнов тактично, но очень твердо отстоял необходимость разработки в институте всего спектра научных проблем, прежде всего проблем общей психологии. Во многом благодаря его усилиям общая психология стала часть названия институт (с января 1970 г. институт носил название НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР).
В январе 1973 г. Смирнов оставил пост директора института, сохраняя заведование лабораторией памяти. В мае 1975 г. он перешел на положение профессора-консультанта. Одной из последних крупных прижизненных публикаций стала статья в книге «Психология и психофизиология индивидуальных различий», для которой он написал воспоминания о своем многолетнем друге и соратнике Б.М. Теплове.
24 мая 1980 г. А.А. Смирнова не стало.
По решению коллектива Института психологии у входа в Большую аудиторию, в которой проходили заседания Ученого совета, руководимого А.А. Смирновым в течение трех десятилетий, навечно установлена мемориальная доска:
Ученому,
общественному деятелю
и замечательному человеку
Смирнову
Анатолию Александровичу
директору института
в трудные 1945–1973 годы
Благодарные сотрудники
А. Фрейд (1895–1982)
Если бы в середине ХIХ века кому-либо был задан вопрос: «Что вам говорит фамилия Фрейд?» – то лишь немногие жители моравского городка Фрайберг ответили бы, что так зовут их соседа – небогатого торговца шерстью. Спустя полвека фамилия Фрейд обрела широкую известность благодаря сыну скромного торговца – венскому психиатру Зигмунду Фрейду. В России это имя узнали в начале ХХ века. Впоследствии его упоминания избегали. А с середины 80-х годов начался новый фрейдистский «бум». Но до сих пор в нашей стране лишь немногим специалистам известно, что фамилия Фрейд была прославлена (пусть и не столь громко) еще одним представителем этой семьи – дочерью знаменитого психиатра Анной Фрейд.
Анна – младшая из шести детей Зигмунда и Марты Фрейд – родилась 3 декабря 1895 года. Отец же надеялся, что у него появится еще один сын. Он уже решил назвать его Вильгельмом в честь своего друга Вильгельма Флисса и планировал известить Флисса об этом событии телеграммой (стоившей в те времена немалых денег). О рождении дочери он лишь лаконично сообщил в одном из своих писем.
Материальное положение семьи в ту пору оставляло желать лучшего, и рождение шестого ребенка усугубило бытовые трудности. Марта Фрейд сама вела домашнее хозяйство и заботилась о детях. Чтобы помогать ей, в дом переехала жить ее сестра Минна, ставшая для Анны второй матерью.
Приват-доценту Зигмунду Фрейду приходилось очень много работать. Возможность для общения с детьми он находил лишь во время каникул, когда мог позволить себе отложить дела и погрузиться в семейные заботы. Дети очень ценили эти дни. Впрочем, если у кого-нибудь из них возникали проблемы, отец всегда оказывал помощь и поддержку. Его признание было высшей наградой для Анны. Ради этого она старалась быть лучше, «отодвигая дурное в царство фантазии».
В 1901 году Анна поступила в частную школу. Проучившись там два года, перешла в обычную народную школу. Следующей ступенью ее образования был частный лицей, закончив который она имела право получить педагогическую подготовку. Для поступления в университет этого было недостаточно – необходимо было закончить гимназию.
1911 год стал для Анны критическим. Ее сестра Софи – любимица отца, в которую срезу же влюблялись его посетители, – покинула отчий дом. Анна и Софи жили в одной комнате и были очень близки друг другу. И вот Софи вышла замуж. Анне уже исполнилось 16 лет, позади были выпускные экзамены в лицее. Ее мучил вопрос: как сложится ее судьба? Станет ли она учительницей, или ее тоже кто-то возьмет замуж? Впрочем, последнее представлялось весьма сомнительным. Анна не блистала яркой внешностью, более того – со свойственным юности максимализмом считала себя дурнушкой.
По совету отца Анна отправилась путешествовать, чтобы обилием новых впечатлений заглушить душевные терзания. Проведя пять месяцев в Италии, она по возвращении продолжила свое образование. В 1914 году Анна сдала заключительный экзамен и следующие пять лет посвятила учительской работе.
Зигмунд Фрейд был удовлетворен тем, как складывается карьера его дочери. В одном из своих писем он поощрительно отзывается о ее успехах, сетуя лишь на два ее недостатка – сутулую осанку и чрезмерное увлечение вязанием. Кстати, психоанализ трактует вязание как замещение половой жизни, ибо движение спиц якобы символизирует половой акт.
О психоанализе Анна впервые услышала от отца в возрасте 13 лет, когда во время прогулки разговор непроизвольно переключился на эту важную для З.Фрейда тему. Позднее, видя искреннюю заинтересованность дочери, З.Фрейд разрешил ей присутствовать на своих лекциях, на заседаниях Психоаналитического общества и даже во время приема пациентов. С 1918 по 1921 год Анна проходила анализ у собственного отца. Это было вопиющим нарушением психоаналитической этики, однако авторитет Фрейда не позволил никому из его последователей открыто высказать свое неодобрение.
Шла первая мировая война. Братья Анны были призваны в армию, сестры вышли замуж. Единственная из всех детей, она осталась рядом с отцом. Потенциальных женихов она всегда сторонилась, а война сделала ее брак еще менее вероятным. Зато духовная близость с отцом все усиливалась.
С 1918 года Анна Фрейд принимает участие во всех Международных психоаналитических конгрессах и заседаниях Венского психоаналитического общества. В 1920 г. она становится членом английского отделения «Психоаналитического издательства». Ее интересы связаны с фантазиями и так называемыми снами наяву. Книгу Дж. Варендок «Сны наяву» («Day-Dreaming») Анна перевела с английского на немецкий.
Условием приема в Венское психоаналитическое общество был научный доклад, основанный на собственных психоаналитических исследованиях. Первое свое исследование Анна провела в 1922 году. Ее пациенткой была 15-летняя девочка. Анна Фрейд сделала доклад «Воображаемое избиение в сновидении наяву» и стала полноправным членом Венского психоаналитического общества. В 1923 году она открыла собственную практику, разместившись в кабинете того же дома, где принимал пациентов ее отец. К З.Фрейду приходили взрослые пациенты. Анна принимала детей.
З.Фрейд признавал за ранним детством роль решающего этапа в становлении личности, но нужно отметить, что его теоретические построения сложились вне практического изучения детской психики (единственное исключение – небольшая работа «Анализ фобии пятилетнего мальчика»). Периодизация развития ребенка и концепция психической травмы сложились у З.Фрейда в результате анализа откровений его взрослых пациентов, а также самоанализа. До определенного момента ребенок для аналитиков выступал как отдаленный источник зрелой личности, но отнюдь не как реальный человек со своими специфическими проблемами, требующими помощи и коррекции.
Анне Фрейд принадлежит заслуга разработки психоанализа детского возраста как самостоятельного направления в клинической практике. Переосмыслив идеи своего отца, она сосредоточила внимание на ребенке, который страдает и нуждается в помощи так же, как и взрослый, а подчас и сильнее.
В профессиональной деятельности А.Фрейд поначалу испытала немало трудностей. Препятствием на пути к признанию было отсутствие у нее медицинского образования. З.Фрейд относил психоанализ скорее к психологии, чем к медицине. Однако большинство аналитиков были врачами. На этом фоне медицинское «дилетантство» А.Фрейд выглядело ее существенным недостатком. Ей не посылали пациентов. Начинать пришлось с детей своих друзей и знакомых. Снова проявилась старая проблема Анны, волновавшая ее еще в детстве, когда она бессознательно боролась с братьями и сестрами за любовь отца. Теперь ей приходилось соперничать с «приемными детьми» З.Фрейда – его сотрудниками, последователями и почитателями.
Выявились и неожиданные трудности работы с малолетними пациентами. В отличие от взрослых, заинтересованных в лечении и готовых платить за него, ребенка приводили родители – часто вопреки его воле. Нередко дети капризничали, отказывались разговаривать, даже прятались под стол. Тут и пригодился педагогический опыт: А.Фрейд умела расположить к себе учеников. Она рассказывала детям занимательные истории, показывала фокусы, а если нужно – то и сама залезала под стол, чтобы найти общий язык с маленьким упрямцем.
В 1923 году Анна неожиданно узнала, что ее отец болен раком. Скрывая свое состояние, З.Фрейд отправился на операцию, которая осложнилась сильным кровотечением. Анне сообщили, что ее отцу необходимо помочь добраться домой. С этого момента она прилагает самоотверженные усилия, пытаясь поддержать отца. Во многом благодаря ей З.Фрейд смог прожить еще 16 лет, перенеся 31 операцию. Анна не только ухаживала за ним, но и взяла на себя изрядную долю его дел. Она выступала вместо отца на международных конгрессах, зачитывала его доклады, принимала его почетные награды.
В 1925 году в Вену приехала Дороти Берлингам-Тиффани – дочь богатого фабриканта и изобретателя Тиффани, американского почитателя З.Фрейда. Она приехала с четырьмя детьми, но без мужа, с которым у нее были сложные отношения (он жил отдельно и впоследствии покончил с собой). Анна стала второй матерью для детей Д.Берлингам и для своего племянника – сына ее сестры Софи, умершей в 1920 году. С ними она играла, ходила в театр, путешествовала. Еще она подыскала им частных учителей, одним из которых был Эрик Эриксон, сам в то время проходивший у нее психоанализ.
Анна с отцом (1927)
В 1928 году Д.Берлингам переехала в дом З.Фрейда и с той поры до самой своей смерти в 1979 году жила под одной крышей с А.Фрейд. Постепенно сложился «круг четырех дам», куда входили Анна Фрейд, Дороти Берлингам, Жанна Лампл-де-Гру, Марианна Ри-Криз. Это были женщины либо незамужние, либо разведенные, либо жившие с мужем раздельно. В жизни каждой из них психоанализ имел более важное значение, чем мужчины. «Круг четырех» замкнулся вокруг З.Фрейда, ограждая его от посторонних. Доступ к больному патриарху можно было получить только с разрешения Анны, которой он полностью доверял, ценя ее заботу и поддержку.
Впрочем, были и другие известные женщины, успевшие заслужить расположение З.Фрейда еще до того, как Анна заняла исключительное положение. Например, Сабина Шпильрейн – единственный человек, сумевший сохранить добрые отношения с З.Фрейдом и К.Юнгом после их разрыва.
Многие последовательницы З.Фрейда стремились не утратить его расположения. С ними Анна пребывала в постоянном соперничестве. Особенно это касалось Хелен Дойч, которая была на 11 лет старше Анны и также проходила психоанализ у самого З.Фрейда. В конце 1924 года Х.Дойч возглавила только что созданный венский Психоаналитический институт. Анна стала секретарем этого института, читала в нем лекции по детскому психоанализу для педагогов. Из четырех лекций была составлена ее первая книга «Введение в технику детского психоанализа», увидевшая свет в 1927 г. В том же году эта книга, переведенная на русский язык, вышла в Одессе.
Важное место в книге занимает полемика А.Фрейд с другой известной исследовательницей детского развития Мелани Кляйн. А.Фрейд выступала против прямого перевода проявлений психической жизни ребенка на язык «взрослого» психоанализа. Например, М.Кляйн трактовала столкновение двух игрушечных повозок как символическое отображение подсмотренного полового акта родителей, а опрокидывание стоящей игрушки как агрессивное действие, направленное против отца. Такой подход А.Фрейд считала карикатурой на психоанализ.
В 1926 году М.Кляйн переехала в Лондон, где вокруг нее сплотился круг сторонников. Психоаналитическое движение оказалось под угрозой раскола. Чтобы сгладить напряжение, А.Фрейд в 1927 году отправляется в Лондон и участвует в симпозиуме по детскому психоанализу.
Тридцатые годы принесли много проблем как психоаналитическому движению, так и семейству Фрейда. В 1931 году «Психоаналитическое издательство», основанное еще в начале двадцатых на крупные пожертвования, оказалось на грани финансового краха. Лишь благодаря исключительным организаторским усилиям А.Фрейд издательство удалось спасти. В этом же году она становится секретарем Венского психоаналитического общества.
К 80-летнему юбилею отца Анна подготовила особый подарок, которым он очень гордился: в 1936 году вышел основной теоретический труд А.Фрейд «Я и механизмы защиты». В нем А.Фрейд выступала против мнения, что психоанализ занимается исключительно бессознательным. Объектом анализа становится «Я» как центр сознания.
В эти годы над Европой сгустились тучи нацизма. В Германии после прихода Гитлера к власти психоанализ подвергся запрету, а труды З.Фрейда – сожжению. Предчувствуя надвигавшуюся опасность, психоаналитики (в большинстве своем – евреи) покидали Австрию. Пожилому и больному З.Фрейду покинуть родину было трудно. Нацистская оккупация застала его в Вене. 22 марта 1938 года Анну Фрейд вызвали на допрос в гестапо. Страшась пыток, она спрятала на себе яд. Этот день явился для нее страшным испытанием, воспоминания о котором мучили ее всю жизнь. После этого она не могла вернуться на ту землю, где ей пришлось заглянуть в глаза смерти. Лишь в 1971 году она уступила настойчивым приглашениям и нанесла короткий визит в Вену (тогда же она посетила дом-музей, в котором когда-то жила сама).
Благодаря помощи влиятельных друзей – французской принцессы Марии Бонапарт, американских посло в в Австрии и во Франции – удалось выкупить у нацистов З.Фрейда, его жену и дочь. 4 июня 1938 года семья выехала из Вены в Париж, а оттуда – Англию, где З.Фрейд и его дочь прижили оставшуюся жизнь.
Британское психоаналитическое общество находилось под сильным влиянием М.Кляйн, чьи воззрения заметно расходились с фрейдистскими. Поэтому понятно, что приезд семьи Фрейд не был отмечен особыми торжествами. Тем не менее английские коллеги оказали иммигрантам действенную помощь и поддержку, за что А.Фрейд всегда оставалась им благодарна. Однако соперничество с М.Кляйн от этого не сгладилось.
Болезнь З.Фрейда прогрессировала, причиняя ему невыносимые страдания. 23 сентября 1939 года основоположник психоанализа ушел из жизни.
Анна Фрейд сразу же начала работу над «памятником» отцу – изданием собрания его сочинений. В Германии труды Фрейда жгли на кострах. В Англии, находившейся в состоянии войны с Германием, в 1942–1945 годах вышло его Собрание сочинений на немецком языке.
Право на работу в Англии А.Фрейд смогла получить не сразу. Но когда закончилась война, она направила свои силы на помощь английским детям, пострадавшим от бомбардировок. Вместе с добровольными помощниками из числа таких же иммигрантов А.Фрейд собирала по полуразрушенным домам детей, организовывала для них помощь, находила средства для их поддержки у различных фондов, фирм и частных лиц. Имена благотворителей она публиковала на первых страницах своих произведений.
В 1939 году она открыла ясли, в которых до 1945 года нашли приют свыше 80 детей разного возраста. На богатом экспериментальном материале А.Фрейд изучала влияние на ребенка разлуки с матерью, совместную жизнь детей, когда отношения с товарищами заменяют отношения с родителями, Эдипов комплекс при отсутствии эдипальных объектов, особенно отца. Результаты этих исследований публиковались в «Ежемесячных отчетах», которые были составлены так интересно, что их можно было читать как захватывающий детектив. (Известно, что А.Фрейд и ее отец сами были большими любителями детективов.)
А.Фрейд утверждала новые для того времени подходы к кормлению и пеленанию грудных детей, показывала, что отрыв ребенка от родителей в раннем возрасте (из-за поступления в лечебное учреждение или приют) может иметь серьезные негативные последствия.
Все новшества А.Фрейд демонстрировала в своей повседневной работе: она сама купала, пеленала, кормила детей, играла с ними. Кроме того, она читала лекции для сотрудников, а по ночам в пожарной каске дежурила на крыше и тушила зажигательные бомбы.
Неимоверное напряжение подорвало силы А.Фрейд. В конце 1945 года она заболела тяжелым вирусным воспалением легких и проболела более 10 месяцев. Но едва ей становилось лучше, она садилась за перевод на немецкий язык своих книг, написанных по-английски.
По окончании войны А.Фрейд приняла множество сирот, спасенных из фашистских концлагерей. А.Фрейд изучает этих детей и создает специальные методы помощи им.
В 1947 году в Хэмпстеде ею были открыты курсы, которые по сей день остаются главным европейским центром подготовки специалистов в области детского психоанализа.
В 1945 году Анне исполнилось 50 лет. Многие в этом возрасте уходят на пенсию, она же начинает новую жизнь, неся свои знания в мир. А.Фрейд участвует в конгрессах, встречах, почетных церемониях, много путешествует.
В 1950 году состоялась первая поездка А.Фрейд в США, где она читала лекции в университете Кларка (г. Вустер, штат Массачусетс), в котором 40 лет назад с восторгом принимали ее отца. Американцы (эти полезные «деньгодаватели», как называл их З.Фрейд) проявили большой интерес к работе А.Фрейд и торжественно присвоили ей степень почетного доктора. За 18 дней своего американского «марафона» А.Фрейд встретила также старых друзей по Вене: Э.Эриксона, Х.Дейч и др. В университете Кларка А.Фрейд заявила о своей центральной теме – «развитие».
В Лондоне А.Фрейд вела обычную работу в своем институте: лекции, семинары, учебный анализ, коллоквиумы, решение организационных вопросов. По введенной еще Зигмундом Фрейдом традиции, педагоги, учащиеся и друзья приглашались по средам на доклады и диспуты; по вторникам – представляли для разбора терапевтические случаи. А.Фрейд организует работу над наследием и биографией отца.
До 1982 года она сама проводила психоанализ пациентов. К ней обращались многие знаменитости. В их числе – Мерилин Монро, которой она поставила диагноз «истерический и депрессивный склад личности». А.Фрейд оказала сильное влияние на Германа Гессе (его роман «Степной волк» написан под влиянием общения с А.Фрейд), поддерживала постоянный контакт с А.Швейцером.
После 1950 года она еще 12 раз побывала с лекциями в США. Европейские столицы она посещала в последовательности проведения международных конгрессов.
Когда ей исполнилось 60 лет, А.Фрейд несколько ограничила свои служебные обязанности, прекратив семинары в Британском психоаналитическом объединении. К 1965 году, в своему 70-летию А.Фрейд сама сделала себе подарок – закончила итоговый труд своей жизни «Норма и патология в детстве», в котором обобщила результаты многолетних экспериментальных и теоретических исследований детского развития. В 1968 году она перевела его на свой родной язык. На немецком книга вышла под названием «Верные и ложные пути детского развития».
А.Фрейд дополнила психоаналитическое учение концепцией целостности психической систему («Я» в качестве ее центра). В учении о психических структурах личности она прослеживает становление «Оно», «Я» и «Сверх-Я» ребенка, изучает соотношение их влияния на психику. Главной заслугой А.Фрейд в этой области является выделение так называемых генетических линий развития.
Разрабатывая и наполняя конкретным психологическим содержанием основные положения классического психоанализа, А.Фрейд подробно описала закономерности смены фаз нормального развития ребенка. Она также рассмотрела широкий спектр психических нарушений – от «обыкновенных» трудностей воспитания (страхи, капризы, нарушения сна и аппетита) до тяжелых аутических расстройств – и предложила практические методы их лечения. Она выделила несколько линий индивидуального развития: от инфантильной зависимости в детстве до любви во взрослой жизни, от эгоизма к дружбе, от грудного вскармливания к рациональному питанию и т. д. По ее мнению, выявление достигнутого уровня развития по каждой линии, а также учет гармонии между ними позволяют поставить диагноз и дать рекомендации для решения практических вопросов: какой возраст наиболее благоприятен для поступления в детский сад и в школу, каков оптимальный срок появления второго ребенка в семье и т. п.
В 1973 году А.Фрейд избирают почетным президентом Международного психоаналитического объединения. Но сил уже не хватало. А.Фрейд долго страдала болезнью легких, болями в спине. В 1976 году к этому прибавилась еще и анемия. Ей стали необходимы переливания крови – сначала с большими перерывами, впоследствии каждое воскресенье, чтобы в понедельник иметь возможность работать. Ей уже было больше 80 лет, но она не прекращала активной работы. Девизом ее стали слова Ф.Ницше: «Что меня не сломает, делает меня сильнее».
1 марта 1982 года с нею случился инсульт, вызвавший поражение ствола головного мозга. Наступил паралич, расстроилась речь. Произошло то, чего Анна Фрейд больше всего боялась. Однако даже в таком состоянии, находясь в больнице, она продолжала работу над книгой о семейном праве.
А.Фрейд умерла 8 октября 1982 года.
В ее записях сохранились такие строки: «Когда в моей юности, как это столь часто бывает с молоденькими девушками, я была недовольна своей внешностью, я успокаивала себя привычными для меня тогда в Вене словами: «С определенного возраста каждая женщина приобретает такое лицо, какое она заслуживает», а это значит – такое лицо, какое она себе создает…» Анна Фрейд нашла свое лицо, которое не потерялось в тени великого отца.
Н.А. Бернштейн (1896–1966)
Николай Александрович Бернштейн – один из немногих, кто сам никогда не относил себя к психологам, но тем не менее заслужил славу одного из крупнейших теоретиков психологии. Сегодня, по прошествии ХХ века, становится все более очевидно, что теоретические основания нашей науки сложились не столько из фантазий сексуально неудовлетворенных невротиков и пробежек подопытных крыс сквозь лабиринты, сколько из глубокого осмысленных наблюдений за реальной активностью живых существ. Природа этой активности, закономерности, которым она подчиняется, – и есть основа знания о поведении. Ценнейший вклад в познание этой природы внес наш соотечественник физиолог Н.А. Бернштейн.
Историки науки, исследуя творчество ученого, обычно много внимания уделяют влиянию на него других ученых и научных направлений. Влиянию же семьи, в которой прошли детские и юношеские годы будущего ученого, отводится меньше внимания. Однако нередко культурные традиции семьи передаются как эстафетная палочка, причем такая, на которой каждое поколение оставляет свои зарубки. Н.А. Бернштейн родился в Москве 5 октября 1896 г. в семье, культурные корни которой прослеживаются с ХVIII века. Дед со стороны отца, Натан Осипович Бернштейн, умер за пять лет до рождения Николая Александровича. Однако его влияние на детей и – через них – на внука не вызывает сомнений. Он был врачом, физиологом, общественным деятелем. Еще будучи студентом-медиком в Московском университете, он в 1853 г. был удостоен золотой медали за научные достижения. В 1865 г. его назначили приват-доцентом Новороссийского университета в Одессе по кафедре физиологии и анатомии. Натан Осипович изучал физиологию в лучших лабораториях того времени: в 1866 г. – в Берлинской физиологической лаборатории Р.Дюбуа-Реймона, в 1868–1869 гг. – в лаборатории К.Людвига в Лейпциге. В 1871 г. в Новороссийский университет пришел И.М. Сеченов. С этого года Натан Осипович оставил за собой только курс анатомии, передав физиологию Сеченову.
Отец Николая Александровича – Александр Николаевич (Натанович) Бернштейн – был известным московским психиатром, учеником С.С. Корсакова. Его деятельность оставила заметный след в психиатрии. Но, кроме эрудиции и творческого вклада в психиатрию, в его трудах ясно просматривается очень широкий круг интересов – от точных до гуманитарных наук и искусства. Вопросы психиатрии и психологии он связывал с передовой для того времени физиологией, с идеями Сеченова.
Нельзя не обратить внимание, что детские и юношеские годы Николая Александровича прошли среди людей с широким кругом интересов, в обстановке творческих поисков в науке и серьезного отношения к проблемам воспитания и образования.
Образование Н.А. Бернштейн получил в Московском университете. Поступил он на историко-философский факультет, намереваясь посвятить себя филологии, но с началом I мировой войны перевелся на медицинский. Он попал в ускоренный выпуск – проучившихся 4 года медиков отправляли на фронт. Однако окончание университета пришлось на 1919 г., фронты были уже другие. Бернштейн был мобилизован в Красную армию в качестве военврача. После демобилизации в 1920 г. недолго проработал психиатром в клинике В.А. Гиляровского, но вскоре перешел в Центральный институт труда (ЦИТ), где через короткое время возглавил лабораторию биомеханики.
Основатель ЦИТа, революционер и идеолог новой культуры труда А.К. Гастев искал специалиста для занятий биомеханикой трудовых движений. Основной задачей, поставленной Гастевым перед лабораторией Бернштейна, было изучение трудовых движений человека в естественных условиях с целью облегчения труда и повышения его эффективности.
В физиологии было известно, что двигательный аппарат человека обладает огромным количеством степеней свободы движения. Это дает живому организму несравнимую с движениями механизма свободу, но эта особенность создает огромные сложности для регуляции движений: нервная система, в принципе, не способна управлять процессами на двигательной периферии с помощью одних только центробежных команд. До Бернштейна был известен только один способ решения проблемы степеней свободы – «выключение» лишних степеней свободы. Бернштейн предложил другое решение: непредсказуемую, складывающуюся по ходу движения ситуацию на периферии нужно отслеживать post factum или предваряя изменения с помощью «опережающих коррекций».
Идея проверки движения чувствованием разрабатывалась еще Сеченовым. Но Бернштейн усмотрел в сенсорной коррекции конститутивный элемент двигательного акта, сравнимый по сложности с интеллектуальным процессом. То есть движение, по Бернштейну, весьма далеко от механического выполнения команды, получаемой от нервной системы, и представляет собой процесс решения двигательной задачи.
После трех лет работы в ЦИТе стало ясно, что научные интересы Бернштейна трудно совместимы с полуутопическими замыслами Гастева, намеревавшегося конструировать движение, как конструируют машину, задавая человеку любые двигательные установки. В 1925 г. Бернштейн ушел из ЦИТа, перевезя исследовательскую аппаратуру в Институт психологии, где проблема живого движения вызывала большой интерес. В каких бы стенах по том ни работал ученый – он изучал движения пианистов в Государственном институте музыкальной науки, патологию походки в Институте профзаболеваний, ходьбу ребенка в Институте охраны здоровья детей и подростков, движения спортсменов в Институте физкультуры – он продолжал начатую в двадцатые годы линию – исследование живого движения. Подобно рабочему удару, который был классическим объектом исследований в ЦИТе, и все другие движения Бернштейн представлял целенаправленными, отвечающими определенной задаче.
Анализ движений в конечном счете перерос из задачи исследования в средство познания законов работы центральной нервной системы человека. Бернштейн считал, что «…моторика человека может и должна оказаться превосходным индикатором для изучения в ней процессов, происходящих в центральной нервной системе». Он подчеркивал, что этот «двигательный индикатор высшей нервной деятельности» отличается большой выразительностью, способностью отражать быстротекущие процессы работы мозга». «Движение уже перестает быть интересным нам своей чисто внешней феноменологической стороной. Мы уже уловили, что в нем содержится богатейший материал о деятельности ЦНС; правда, содержится он там в зашифрованном виде, но ведь нет такого шифра, которого нельзя было бы раскрыть при достаточном внимании и упорстве, при достаточной воле к этому».
Сформулированный Бернштейном принцип сенсорных коррекций стал одним из важнейших в современных подходах к регуляции поведения человека и животных. Предвосхитив основные принципы кибернетики, Бернштейн уже в 1929 г., опираясь на идеи высоко ценимых им Сеченова и Ухтомского, развил принцип обратной связи, предлагая перейти от павловского представления о разомкнутой рефлекторной дуге к представлению о замкнутом контуре регулирования.
Полемика с Павловым для Бернштейна была делом жизни: он не допускал мысли, что схема рефлекса приложима к образованию двигательного навыка, к любому человеческому движению. Для него рефлекс – «это не элемент действия, а элементарное действие», которое появилось на свет «там же, где возникло первое в мире «элементарное ощущение», – в обстановке лабораторного эксперимента». Как возражение Павлову он писал книгу «История учения о нервном импульсе». Во Всесоюзном институте экспериментальной медицины в 1936 г. была запланирована их очная дискуссия. Но Павлов умер. Узнав, что его оппонент больше никогда не сможет ему ответить, Бернштейн отдал в типографию распоряжение рассыпать набор книги. В 1950 г. во время объединенной сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук (известной как «павловская сессия») работы Бернштейна были подвергнуты критике за «антипавловскую» направленность. Аргументом обвинения было то, что в его книге «О построении движений» (которая за два года до этого получила Государственную премию) не было ссылок на Павлова. Сам он вскоре был уволен из институтов и до конца дней уже не имел лабораторной базы для работы. Возвращение его работ в научный оборот состоялось в период хрущевской «оттепели». Когда кончилась насильственная «павловизация» наук о жизни, в обнаружившемся интеллектуальном вакууме альтернативные модели Бернштейна были подняты на щит физиологами, кибернетиками, психологами.
В начале 60-х гг. Бернштейн много общается с физиками и математиками, пишет в кибернетические издания, выступает с лекциями на семинаре, организованном молодыми математиками, биологами и физиками. Семинары проходили в Институте нейрохирургии, в хорошую погоду все собирались в саду института. Это было похоже на аристотелевский Лицей: лектор гулял перед аудиторией, кто-то сидел на скамейке, кто-то лежал на траве… Бернштейн частично излагал идеи книги «О построении движений», а частично проигрывал на слушателях свои соображения относительно того, что потом получило название физиологии активности. В противовес изучению организма в покоящихся состояниях новое направление исследований, считал Бернштейн, должно делать упор на активное поведение организма, преодоление им среды, а не приспособление к ней.
Бернштейн писал о том, что тезис об активности был противопоставлен им гомеостазу. Однако физиология активности имела не только и не столько научное, сколько идеологическое звучание. Она была вдохновлена идеями двадцатых годов об организации труда, когда верили, что тяжелый механический труд может стать активным, целеустремленным, радостным. Идея активности была полумечтой, полуутопией в обществе, жизнь которого в сталинский период была основана на «реактивности» его членов по отношению к власти. Не случайно в период хрущевской «оттепели» физиология активности получила общественное звучание, а сам Бернштейн стал, как сказали бы в наши дни, культовой фигурой. И хотя теория построения движений была очень близка кибернетическим моделям управления, лежащая в основе этой теории идеология активности не позволяла Бернштейну согласиться с отождествлением «активного организма» с механизмом. Он неутомимо отстаивал свою излюбленную идею в полемике с кибернетикой, подчеркивая, что если кибернетическое устройство определяется программой, то инициатива движения организма находится в нем самом; только живое целеустремленно, способно формулировать цель и предвидеть – «моделировать» – будущее.
В начале 50-х гг. Бернштейн читал лекции на философском факультете Московского университета, где его слушали также преподаватели и студенты психологического отделения. Его работы многими прочитывались как философские, хотя в них и не было развернутых методологических дискуссий. Без долгих предисловий Бернштейн писал о психических процессах как о высшем уровне функционирования организма, используя как психологические, так и нейрофизиологические термины, которые он, в отличие от Павлова, не считал взаимоисключающими. В понятии об уровнях построения движения, которые в одно и то же время были и морфологическими, и функциональными образованиями, получила развитие идея Сеченова о движении как связующем звене между познанием объективного мира и субъективным чувством.
Интерес психологов к работам Бернштейна пережил несколько пиков. В 1925–1927 гг. Бернштейн был сотрудником психологичесского института, которым тогда руководил Корнилов. Реактологи надеялись сделать форму движения дискриминативным признаком для определения типа реакции. В годы Великой Отечественной войны и сразу после ее окончания идеи Бернштейна о построении движений были использованы в контексте изучения восстановления движений. А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и С.Л. Рубинштейн в это время сошлись во мнении о том, что концепция Бернштейна дает большие возможности для психологического исследования движений; Лурия даже назвал теорию построения движений психологической физиологией». Наконец, идеи Бернштейна об управлении движениями оказались созвучными нарождавшимся в 50–60-х гг. кибернетике и когнитивной психологии. Молодые психологи 60-х Л.М. Веккер, Б.М. Величковский, Ю.Б. Гиппенрейтер, В.П. Зинченко и другие стали говорить о построении образа по аналогии с построением движения. Эти работы легли в основание инженерной и когнитивной психологии в нашей стране.
За год до смерти Бернштейн поставил себе безнадежный диагноз, созвал учеников, раздал им темы для работы и принялся лихорадочно готовить свою последнюю книгу. Он еще успел прочесть верстку, но «Очерки по физиологии движений и физиологии активности» увидели свет уже посмертно.
Л.С. Выготский (1896–1934)
Выдающийся советский психолог А.Р. Лурия в научной автобиографии, отдавая дань своему наставнику и другу, писал: «Не будет преувеличением назвать Л.С. Выготского гением». В унисон звучат и слова Б.В. Зейгарник: «Он был гениальный человек, создавший советскую психологию». С этими оценками, наверное, согласится любой российский психолог – по крайней мере, каждый, кто не пожелал под напором рыночной стихии сменить квалификацию психолога на массовика-затейника или толкователя снов. По сей день идеи Выготского и его школы составляют основу научного мировоззрения тысяч настоящих профессионалов, в его научных трудах черпают вдохновение новые поколения психологов не только в России, но и по всему миру.
Биография Л.С. Выготского не богата внешними событиями. Жизнь его была наполнена изнутри. Тонкий психолог, эрудированный искусствовед, талантливый педагог, большой знаток литературы, блестящий стилист, наблюдательный дефектолог, изобретательный экспериментатор, вдумчивый теоретик. Все это так. Но прежде всего Выготский был мыслителем.
«Лев Семенович Выготский бесспорно занимает исключительное место в истории советской психологии. Именно он заложил те основы, которые стали исходными для ее дальнейшего развития и во многом определили ее современное состояние… Нет почти ни одной области психологических знаний, в которую Л.С. Выготский не внес бы важного вклада. Психология искусства, общая психология, детская и педагогическая психология, психология аномальных детей, пато– и нейропсихология – во все эти области он внес новую струю» – так журнал «Вопросы психологии» писал к 80-летию со дня рождения Выготского. Трудно поверить, что эти слова относятся к человеку, посвятившему психологии немногим более десяти лет своей жизни – и лет нелегких, отягощенных болезнью, сведшей его в могилу, сложностями быта, отнимавшими время от трудов и размышлений, непониманием и даже травлей.
Лев Семенович Выготский, второй из восьми детей банковского служащего, родился 5 (17) ноября 1896 г. в Орше, недалеко от Минска. Его родители были людьми небогатыми, но высокообразованными, владели несколькими языками. Их примеру последовал и сын, в совершенстве овладевший английским, французским и немецким.
В 1897 г. семья переехала в Гомель, который Выготский всегда считал своим родным городом. Здесь прошли его детские годы, здесь в 1913 г. он с отличием закончил гимназию. Продолжить образование Выготский решил в Московском университете. Ему повезло, он попал в «процентную норму» для лиц еврейского происхождения. Перед этой категорией молодых людей выбор факультетов был невелик. Наиболее реальные перспективы профессиональной карьеры сулила специальность либо врача, либо юриста. При выборе специальности юноша поддался уговорам родителей, которым казалось, что медицинское образование сможет обеспечить сыну в будущем интересную работу и средства к существованию. Но занятия на медицинском факультете не увлекли Выготского, и менее чем через месяц после поступления в университет он перевелся на юридический факультет. Окончание этого факультета открывало возможности поступления в адвокатуру, а не на государственную службу. Это давало разрешение жить вне «черты оседлости».
Наряду с государственным университетом Выготский посещал занятия в учебном заведении особого типа, созданном на средства либерального деятеля народного образования А.Л. Шанявского. Это был народный университет, без обязательных курсов и посещений, без зачетов и экзаменов, где мог обучаться всякий желающий. Диплом университета Шанявского официального признания не имел. Однако уровень преподавания был там чрезвычайно высок. Дело в том, что когда после студенческих волнений 1911 г. и последовавших за этим репрессий Московский университет в знак протеста против политики правительства покинули свыше ста выдающихся ученых (в их числе Тимирязев, Вернадский, Сакулин, Чебышев, Чаплыгин, Зелинский и др.), многие из них нашли приют в народном университете Шанявского. Психологию и педагогику в этом университете преподавал П.П. Блонский.
В Университете Щанявского Выготский сблизился с либерально настроенной молодежью, а его наставником стал известный литературный критик Ю.Айхенвальд. Сама атмосфера народного университета, общение с его студентами и преподавателями значили для Выготского намного больше, чем занятия на юридическом факультете. И вовсе не случайно, что годы спустя, тяжело больной, он обратился с просьбой об издании своих работ именно к Айхенвальду.
Конечно, и юридическое образование наложило отпечаток на его мировоззрение. Друг его юности С.Ф. Добкин вспоминал, как в 1916 г., приехав на каникулы в Гомель, Выготский вместе с товарищами организовал своеобразный «литературный суд». Для обсуждения был избран рассказ Гаршина «Надежда Николаевна», герой которого совершает убийства из ревности. При распределении ролей Выготскому предстояло выбрать роль либо прокурора, либо защитника. Он соглашался и на то и на другое, готовый отстаивать противоположные точки зрения. Товарищей это поначалу удивило: как же так – хоть суд и литературный, но возможно ли защищать любую из непримиримых позиций? Добкин пишет: «Потом я понял, в чем тут было дело. Он умел увидеть аргументы в пользу как одной, так и другой стороны. Именно такой подход к обстоятельствам дела воспитывали у будущего юриста на факультете. Но Лев Семенович и по самому складу мышления был чужд односторонности, предвзятости, излишней уверенности в правильности именно такой-то концепции. Замечательная способность понимать не только то, что было ему внутренне близко, но и чужую точку зрения, характерна для всей его научной деятельности.»
Интерес к психологии пробудился у Выготского в студенческие годы. Первые книги из этой области, о которых с достоверностью известно, что они были им прочитаны, – это известный трактат А.А. Потебни «мысль и язык», а также книга У.Джемса «Многообразие религиозного опыта». С.Ф. Добкин называет также «Психопатологию обыденной жизни» З.Фрейда, которая, по его словам, сильно заинтересовала Выготского. Вероятно, этот живой интерес впоследствии привел Выготского в ряды Русского психоаналитического общества, что, впрочем, явилось нехарактерной страницей его научной биографии. Судя по его трудам, идеи Фрейда заметного влияния на него не оказали. Чего, напротив, не скажешь о теории А.Адлера. Понятие компенсации, центральное для индивидуальной психологии Адлера, впоследствии становится краеугольным камнем дефектологической концепции Выготского.
Зародившееся в студенческие годы увлечение психологией определило всю последующую судьбу Выготского. Сам он об этом писал так: «Еще в университете занялся специальным изучением психологии… и продолжал его в течение всех лет». И позже подтверждал: «Научные занятия по психологии начал еще в университете. С тех пор ни на один год не прерывал работы по этой специальности». Небезынтересно, что специального психологического образования как такового в ту пору практически не существовало, и Л.С. Выготский, подобно большинству пионеров этой науки, дипломированным психологом не был.
В официальной справке о своей научно-исследовательской работе Выготский записал: «Начал заниматься исследовательской работой в 1917 г., по окончании университета. Организовал психологический кабинет при педтехникуме, где вел исследования».
Эти слова относятся к гомельскому периоду его деятельности. В родной город Выготский вернулся в 1917 г. и занялся преподавательской работой. В Гомеле им были написаны две большие рукописи, вскоре привезенные в Москву, – «Педагогическая психология» (издана в 1926 г., новое издание – 1991) и «Психология искусства», защищенная как диссертация, но опубликованная лишь через много лет после его смерти, а до того ходившая в списках и пользовавшаяся популярностью как среди немногочисленных в то время психологов, так и деятелей искусства. Оба произведения дают основание оценить уже «раннего» Выготского как зрелого самостоятельного мыслителя, высоко эрудированного и ищущего новые пути разработки научной психологии в той исторической ситуации, когда психология на Западе охвачена кризисом, а в России идеологическое руководство страны требовало внедрить в науки принципы марксизма.
В России в предреволюционный период в научном изучении психики возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, существовали психологические центры (главный из них – Психологический институт при Московском университете), где доминировала отживавшая свой век психология сознания, которая строилась на субъективном методе. С другой стороны, руками русских физиологов была создана наука о поведении, опиравшаяся на объективный метод. Ее исследовательские программы (авторами которых являлись В.М. Бехтерев и И.П. Павлов) позволили изучать закономерность механизма поведения исходя из тех же принципов, которым следуют все естественные науки. Концепция сознания оценивалась как идеалистическая. Концепция поведения (основанная на условных рефлексах) – как материалистическая. С победой революции когда государственно-партийные органы потребовали повсеместно истребить идеализм, эти два направления оказались в неравном положении. Рефлексология (в широком смысле) получала всемерную государственную поддержку, тогда как со стронниками воззрений, считавшихся чуждыми материализму. Расправлялись с помощью различных репрессивных мер. В этой атмосфере Выготский занял своеобразную позицию. Он обвинил повсеместно торжествовавших свою победу рефлексологов в дуализма. Его первоначальный план сводился к тому, чтобы объединить знание о поведении как системе рефлексов с зависимостью этого поведения, когда речь идет о человеке, от сознания, воплощенного в речевых реакциях. Эту идею он положил в основу своего первого программного доклада, с которым выступил в январе 1924 г. в Петрограде на съезде исследователей поведения.
Речь докладчика, «просвещенца» из Гомеля, обратила на себя внимание участников съезда новизной мысли, логикой изложения, убедительностью аргументов. Да и всем своим обликом Выготский выделялся из круга привычных лиц. Четкость и стройность основных положений доклада не оставляли сомнений, что провинциал хорошо подготовлен к представительному собранию и удачно излагает лежавший перед на кафедре текст. Когда же после доклада один из делегатов подошел к Выготскому, то с удивлением увидел, что никакого текста пространного доклада не было. Перед выступавшим лежал чистый лист бумаги. Этим делегатом, пожелавшим выразить восхищение выступлением Выготского, был уже хорошо известный, несмотря на свою молодость, своими экспериментальными работами (которым патронировал сам Бехтерев) и своими занятиями психоанализом (с ним переписывался сам Фрейд), а впоследствии и всемирно известный психолог А.Р. Лурия. В своей научной биографии Лурия писал, что жизнь свою делит на два периода: «маленький, несущественный – до встречи с Выготским, и большой и существенный – после встречи с ним».
Доклад, сделанный Выготским, произвел на Лурию такое впечатление, что он, несмотря на молодость бывший уже тогда ученым секретарем Психологического института, сразу бросился убеждать К.Н. Корнилова, возглавлявшего институт, немедленно, сейчас же этого никому не известного человека из Гомеля переманить в Москву. Выготский предложение принял, переехал в Москву, и его поселили прямо в институтском подвале. Работать он начал в непосредственном сотрудничестве с А.Р. Лурией и А.Н. Леонтьевым. Он поступил в аспирантуру и формально был как бы учеником Лурии и Леонтьева, но сразу же стал, по существу, их руководителем – образовалась знаменитая «тройка», переросшая потом в «восьмерку». Никто из входивших в эти своеобразные объединения молодых людей тогда не предполагал, что судьба столкнула их с замечательным человеком, который в свои 27 лет уже был сложившимся ученым. Они не знали, что в 19 лет он написал замечательную работу «Трагедия о Гамлете, принце Датском» и ряд других хорошо известных сегодня работ (психологический анализ басен, рассказов И.А. Бунина), что до приезда в Москву он успел выработать совершенно новый взгляд на психологию искусства и его роль в жизни человека, по сути дела, заложив основы психологического подхода к литературному творчеству. Сам Выготский об этих своих трудах не упоминал, а его товарищам по работе в Психологическом институте не приходило в голову, что у него может существовать еще один обширный круг интересов – настолько глубокими были мысли, которыми он с ними делился, что, казалось, они не могут оставить в сознании человека места ни для чего другого.
Мысль Выготского развивалась в совершенно новом для тогдашней психологии направлении. Он впервые показал – не почувствовал, не предположил, а аргументированно продемонстрировал, – что наука эта находится в глубочайшем кризисе. Лишь в начале восьмидесятых в собрании его сочинений будет опубликован его блестящий очерк «Исторический смысл психологического кризиса». В нем взгляды Выготского выражены наиболее полно и точно. Работа написана незадолго до смерти. Он умирал от туберкулеза, врачи дали ему три месяца жизни, и в больнице он лихорадочно писал, чтобы изложить свои главные мысли.
Суть их в следующем. Психология фактически разбилась на две науки. Одна – объяснительная или физиологическая, она на самом деле раскрывает смысл явлений, но оставляет за своими границами все сложнейшие формы человеческого поведения. Другая наука – описательная, феноменологическая психология, которая, наоборот, берет самые сложные явления, но лишь рассказывает о них, потому что, по мнению ее сторонников, явления эти недоступны объяснению.
Выход из кризиса Выготский видел в том, чтобы уйти от этих двух совершенно независимых дисциплин и научиться объяснять сложнейшие проявления человеческой психики. И вот тут был сделан капитальнейший шаг в истории советской психологии. Тезис Выготского был таким: чтобы понять внутренние психические процессы. Надо выйти за пределы организма и искать объяснения в общественных отношениях этого организма со средой. Он любил повторять: те, кто надеется найти источник высших психических процессов внутри индивидуума, впадают в ту же ошибку, что и обезьяна, пытающаяся обнаружить свое отражение в зеркале позади стекла. Не внутри мозга или духа, но в знаках, языке, орудиях, социальных отношениях таится разгадка тайн, интригующих психологов. Поэтому Выготский называл свою психологию либо «исторической», поскольку она изучает процессы, возникшие в общественной истории человека, либо «инструментальной», так как единицей психологии, были по его мнению орудия, бытовые предметы, либо же, наконец, «культурной», потому что эти вещи и явления рождаются и развиваются в культуре, – в организме культуры, в теле ее, а не в органическом теле индивида.
Мысли такого рода звучали тогда парадоксально, они были приняты в штыки и абсолютно не поняты. Не без сарказма вспоминал Лурия, как Корнилов говорил: «Ну, подумаешь, «историческая» психология, зачем нам изучать разных дикарей? Или – «инструментальная». Да всякая психология инструментальная, вот я тоже динамоскоп применяю». Директор института психологии даже не понял, что речь идет вов се не о тех инструментах, которые используют психологи, а о тех средствах, орудиях, что применяет сам человек для организации своего поведения…
Культурно-историческая концепция Выготского вызвала активное сопротивление. Стали появляться статьи, в которых автор ее разоблачался в различного рода отклонениях от истинной науки. Одна из наиболее опасных была написана неким Феофановым, сотрудником того же института. Он назвал ее «Об одной эклектической теории в психологии», но типография напечатала «Об одной электрической теории…» Эта забавная опечатка сильно снизила убойную силу статьи, но следующие за нею были набраны более тщательно. Новые идеи непросто входили в науку.
Еще в «Психологии искусства» Выготский ввел понятие эстетического знака как элемента культуры. Обращение к знаковым системам, которые творятся культурой народа и служат посредниками между тем. Что обозначается системами знаков, и субъектом (личностью, которая ими оперирует), изменило общий подход Выготского к психическим функциям. Применительно к человеку, в отличие от животных, он рассматривает знаковые системы как средства культурного развития психики. Это глубоко новаторское представление побудило его выделить в круг психических функций человека, знаково-опосредованный уровень их организации.
Знакомясь с марксизмом, он переносит на знаки марксистское учение об орудиях труда. Знаки культуры – это также орудия, но особые – психологические. Орудия труда изменяют вещество природы. Знаки же изменяют не внешний материальный мир, а психику человека. Сперва эти знаки используются в общении между людьми, во внешнем взаимодействии. А затем этот процесс из внешнего становится внутренним (переход извне внутрь был назван интериоризацией). Благодаря этому и происходит «развитие высших психических функций» (под таким названием Выготский написал в 1931 г. новый трактат).
Руководствуясь этой идеей, Выготский и его ученики провели большой цикл исследований развития психики, прежде всего таких ее функций, как память, внимание, мышление. Эти работы вошли в золотой фонд исследований развития психики у детей. В течение ряда лет главная исследовательская программа Выготского и его учеников заключалась в детальном экспериментальном изучении отношений между мышлением и речью. Здесь на передний план выступило значение слова (его содержание, заключенное в нем обобщение). То, как значение слова изменяется в истории народа, давно изучалось лингвистикой. Выготский и его школа, проследив стадии этого изменения, открыли, что это происходит в процессе развития индивидуального сознания. Итоги этой многолетней работы обобщила его монография «Мышление и речь» (1934), которую он, к сожалению, так и не увидел напечатанной, но которая стала на книжную полку тысяч психологов во многих странах мира.
Работая над монографией, он одновременно подчеркивал важность изучения мотивов, которые движут мыслью, тех побуждений и переживаний, без которых она не возникает и не развивается.
Этой теме он уделил основное внимание в большом трактате об эмоциях, который опять-таки оставался неопубликованным в течение десятков лет. Следует помнить, что все свои работы, касающиеся развития психики, Выготский непосредственно связывал с задачами воспитания и обучения ребенка. В этой области им был выдвинут целый цикл продуктивных идей, в частности ставшая особенно популярной концепция «зоны ближайшего развития». Выготский настаивал на том, что эффективным является лишь то обучение, которое «забегает вперед развития», как бы тянет его за собой, выявляя возможности ребенка решать при участии педагога задачи, с которыми он самостоятельно справиться не может.
Выготским было обосновано великое множество других новаторских представлений, в дальнейшем развитое его многочисленными учениками и последователями.
Л.С. Выготский с группой выпускников педагогического отделения Средне-Азиатского государственного университета (Ташкент, 1929)
По оценке М.Г. Ярошевского, «несмотря на раннюю смерть (он не дожил до 38 лет), ни один из выдающихся психологов мира не смог обогатить свою науку столь значительно и разносторонне, как Выготский». Ему приходилось повседневно преодолевать множество трудностей, связанных не только с катастрофически ухудшавшимся состоянием здоровья, материальными невзгодами, но и лишениями, вызванными тем, что ему не предоставлялась достойная работа, а чтобы заработать, приходилось ездить читать лекции в другие города. Ему с трудом удавалось прокормить небольшую семью. Одна из слушательниц его лекций – А.И. Липкина вспоминает, что студенты, чувствуя его величие, удивлялись тому, как он бедно одет. Лекции он читал в изрядно потертом пальто, из-под которого виднелись дешевые брюки, а на ногах (в суровом январе 1934 г.) – легкие туфли. И это у тяжело больного туберкулезом! На его лекции стекались слушатели из многих московских вузов. Обычно аудитория была переполнена и лекции слушали стоя у окон. Прохаживаясь по аудитории, заложив руки за спину, высокий, стройный человек с удивительно лучистыми глазами и нездоровым румянцем на бледных щеках, ровным, спокойным голосом знакомил слушателей, которые ловили каждое его слово, с новыми воззрениями на психический мир человека, которые для следующих поколений приобретут ценность классических. К этому нужно добавить, что неортодоксальный смысл психологического анализа, который культивировал Выготский, постоянно вызывал у бдительных идеологов подозрения в отступлениях от марксизма.
После приснопамятного постановления 1936 г. его труды, посвященные детской душе, попали в проскрипционный список запрещенных. С ликвидацией педологии, одним из лидеров которой он был объявлен, они оказались в «спецхране». Прошли десятки лет, прежде чем он был признан во всем мире величайшим новатором и началось триумфальное шествие его идей. Взращенные в московских школах и лабораториях, они придали мощный импульс движению научно-психологической мысли как в нашей стране, так и во многих странах мира.
Когда весной 1934 г. его из-за очередного страшного приступа болезни отвезли в санаторий в Серебряный бор, он взял с собой только одну книгу – любимого шекспировского «Гамлета», заметки к которому служили для него на протяжении многих лет своего рода дневником. В трактате о трагедии он еще в юности записал: «Не решимость, а готовность – таково состояние Гамлета».
По воспоминаниям медсестры, лечившей Выготского, его последними словами были: «Я готов». В отведенный ему срок Выготский исполнил больше любого психолога за всю историю науки о человеке.
Создатели американского биографического словаря по психологии, включившие Выготского в когорту великих, завершают статью о нем такими словами. «Нет смысла гадать, чего мог бы достичь Выготский, проживи он столько, сколько, например, Пиаже, или доживи он до своего столетия. Он наверняка подверг бы конструктивной критике современную психобиологию и теории сознания, однако нет сомнений в том, что он сделал бы это с улыбкой.»
Б.М. Теплов (1896–1965)
Отечественная психология на протяжении всего советского этапа ее развития существовала в жестких рамках, установленных официальной идеологией. Многим психологическим явлениям и понятиям в этих рамках просто не находилось места. Например, само упоминание о таких вещах, как ум, способности, индивидуальные различия считалось почти неприличным, ибо противоречило официальной декларации всеобщего равенства.
Было бы, однако, необъективно упрекать советскую науку в ограниченности или даже ущербности. Любая психологическая школа так или иначе ограничена определенными рамками, которые либо поставлены общественными условиями, либо возведены ею самой. Но, в отличие, скажем, от бихевиористов или гештальтистов, которые произвольно определяли рамки своих изысканий и были вольны их пересматривать (как это и произошло, например, с введением расплывчатых «промежуточных переменных» в бихевиористскую схему S – R), советские психологи были принуждены существовать в искусственно установленных границах, выход за которые был равносилен преступлению (и порою соответственно карался). И именно советские психологи, будь они знакомы с трудами Рейнгольда Нибура, могли бы наиболее прочувствованно произнести его молитву: «Господи, дай мне душевный покой, дабы переносить то, что я не могу изменить; дай мне силы – изменять то, что я могу, и дай мудрость, чтобы отличать одно от другого». Среди советских психологов было немало таких уравновешенных, сильных и мудрых людей, которые умели, считаясь с объективными условиями, реализовать свой талант в доступной им сфере. В ряду этих блестящих ученых заслуженное место принадлежит Б.М. Теплову. В эпоху пренебрежения умом и отрицания способностей он не только сам выступал ярким носителем этих качеств, но и сумел превратить их в предмет психологического исследования.
Борис Михайлович Теплов родился в Туле. В советских анкетах, придирчивых к социальному происхождению, неизменно писал: «в семье инженера». И это была правда, но не вся. Происходил он из дворянского рода. Дворянство получил еще его дед, хотя среди более дальних предков были и крепостные крестьяне. А отец – Михаил Владимирович Теплов – был не только видным инженером, но совладельцем крупной скобяной фабрики, почетным гражданином г. Тулы. В семейном архиве сохранилось письмо И.Л. Толстого – сына Л.Н. Толстого, адресованное «Его высокородию Михаилу Владимировичу Теплову». Через год после смерти отца И.Л. Толстой предлагал видному тульскому инженеру возглавить работы по реконструкции усадьбы в Ясной Поляне. Мать Б.М. Теплова – Мария Александровна – происходила из дворянской семьи обрусевших немцев, поселившихся в России, вероятно, в петровские времена.
Детство Б.М. Теплова можно назвать благополучным, но отнюдь не безоблачным. Он рано потерял мать. А когда ему было 4 года, пришла мачеха, у которой позже появились и свои дети. Настоящей материнской любви мальчик был лишен. Да и отец отличался повышенной требовательностью и строгостью. Каждый вечер сыну надлежало отчитаться перед отцом за «содеянное» за день. Эта процедура всегда повергала мальчика в трепет. Как человек высокообразованный и культурный отец никогда не допускал телесных наказаний, однако малейший проступок сына встречал его суровое осуждение. Позднее, делясь воспоминаниями с близкими людьми, Б.М. Теплов избегал упоминаний о детских годах. Наверное потому, что теплых воспоминаний о той поре почти не сохранилось.
Тягостное впечатление оставила у него больница, куда он попал, заболев скарлатиной. В инфекционное отделение посетителей не пускали, и ужас «брошенного» ребенка навсегда затаился в глубине его души. (Понятия «госпитализм» в те годы еще не знали, лишь много лет спустя его опишет Рене Спитц.) До конца жизни Теплов сторонился больниц, отказываясь лечь даже на обследование. И умер от инфаркта, как считают многие, вследствие несвоевременно оказанной помощи.
С ранних лет Бориса Михайловича учили, как это было тогда принято, французскому языку, которым он овладел в совершенстве, а в гимназии отлично освоил и немецкий. Наряду с гимназическим он получил и основательное музыкальное образование.
В 1914 году Б.М. Теплов, окончив гимназию с золотой медалью, с легким сердцем покинул не очень приветливый отчий дом и отправился в Москву, где поступил на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. На втором курсе, в возрасте 19 лет, впервые переступил порог Психологического института при Московском университете – начал посещать психологический практикум, которым руководил Г.И. Челпанов. Пройдут годы, и работа в этом институте станет основным содержанием его жизни.
В университете Теплову удалось проучиться недолго. Шла I мировая война, студентов мобилизовали в армию. С третьего курса Теплов попал в школу прапорщиков и в 1916 г. оказался в действующей армии, принимал участие в боевых действиях.
В октябре 1917 г. русская армия, в которую он был призван, фактически прекратила существование. Теплов вернулся в Москву, но в 1919 г. снова оказался на военной службе – на сей раз в Красной Армии. Как бывший офицер («военспец») он получил высокое звание комбрига и был направлен в Высшую школу военной маскировки. В те годы маскировке придавали большое значение, и работа в школе была хорошо организована. В 1921 г. Теплов окончил Школу, получив звание военного инженера. Параллельно он продолжал учиться в Московском университете, который также закончил в 1921 г. В дальнейшем на протяжении многих лет работал в военных ведомствах.
В годы службы Теплову пришлось побывать в заключении. В начале двадцатых по подозрению в соучастии в антисоветском заговоре он был арестован и препровожден в подвалы Лубянки, где провел несколько суток в тридцатиметровой камере в обществе еще около сотни подозреваемых. Времена тотальных репрессий еще не настали, и ввиду явного отсутствия состава преступления Теплов был вскоре отпущен, сохранив, однако, на долгие годы тягостное ощущение беззащитности перед карающей наотмашь рукой Лубянки.
Чтобы связать свою работу в научно-исследовательских учреждениях Красной Армии с психологической наукой, Теплов установил тесное сотрудничество с Психологическим институтом. Здесь он с 1929 г. руководил исследованиями по заданиям Высшего технического управления РККА. В 1933 г. он был уволен в запас. Теперь главным местом работы – до конца его дней – стал Психологический институт.
Как военным специалистам Теплову и двум его товарищам – братьям Преображенским – была выделена большая квартира на первом этаже многоэтажного дома в Спасопесковском переулке. Пока все молодые люди не обзавелись семьями, они располагались в квартире весьма вольготно. Женившись, все трое, но уже с семьями, так и остались в этой квартире, которая со временем стала очень многолюдной со всеми вытекающими неудобствами. Комната семьи Тепловых представляла собой сложный лабиринт из шкафов, где для каждого члена семьи был выделен маленький уголок. Так они и прожили до 1950 г. в отсутствие даже приблизительно нормальных условий для творческой работы. (Сегодня, когда мы сетуем на бытовые неудобства, нелишне иной раз вспомнить, в каких условиях создавались труды, ныне по праву считающиеся классикой отечественной психологии.)
Первые психологические исследования Теплова относились к области зрительных ощущений и восприятий: вопросы взаимодействия одновременных световых ощущений, соотношение пространственного и временного смешений цветов и др., имевшие не только практическое, применительно к задачам военной маскировки, но и существенное теоретическое значение. Эти исследования были образцом методической четкости. К ним примыкают и проводившиеся позднее работы в области слуховых восприятий. Теплов как психолог начинал с изучения простейших психических функций, применяя измерительные методики и добиваясь строгих количественных оценок. Но его интересы и устремления в психологии отнюдь не сводились к этому.
Сразу же после ухода из военного ведомства он начинает заниматься психологическими аспектами музыкальности. Переходом от прежних работ к новым стало для него углубленное изучение слуховых ощущений и восприятий, столь близких ему как музыканту. Сначала Теплов подверг анализу музыкальный слух, а затем и музыкальные переживания.
Такое направление исследований явилось выражением никогда не покидавшего его увлечения музыкой. Музыка занимала большое место в его жизни. Он часто бывал на концертах в Консерватории, слушал оперы в Большом театре. Еще во второй половине 20-х годов он занялся изучением творческих особенностей семи московских певиц – исполнительниц партии Татьяны в «Евгении Онегине»; он посещал оперные представления и фиксировал во время действия своеобразие каждой из семи «Татьян».
В течение ряда лет Теплов читал курс лекций по психологии специально для преподавателей музыки. При этом он заинтересованно общался с аудиторией, вникал в практический опыт своих слушателей. Именно при чтении этого курса и зародилась у него идея психологически исследовать проблему музыкальных способностей.
Имеется достаточно свидетельств того, что его влекли к себе в психологии не столько элементарные психические свойства и их предпосылки (хотя в силу разных обстоятельств ему пришлось заниматься именно этим), сколько высшие потенции человека. Это подтверждают и две его ставшие классическими работы: «Психология музыкальных способностей», написанная во второй половине 30-х гг. и защищенная в качестве докторской диссертации в 1940 г., и «Ум полководца», написанная в 1942 г. Эти труды подводили итог исследованиям, направленным на раскрытие собственно человеческого, личностного в людях.
Главное в замысле обеих работ – изучение индивидуальных различий. Этому направлению он остался верен до конца. Прижизненное собрание своих трудов он назвал «Проблемы индивидуальных различий» (М., 1961).
Тогда, во второй половине 30-х гг., Теплов не собирался вступать в идеологические или философские споры относительно неодинаковости людей или значения индивидуальных различий. Он задумал и стал осуществлять чисто эмпирические, опирающиеся на факты изыскания.
Первая статья Теплова по проблеме способностей и одаренности была опубликована в 1940 г. в журнале «Советская педагогика» (до этого в течение нескольких лет после постановления ЦК ВКП(б) о педологии никто из советских психологов не решался даже упомянуть об этих понятиях). Статья представляла собой извлечение из вводной части его докторской диссертации и по тому времени была в высшей степени новаторской.
Способности рассматривались Тепловым в плане индивидуально-психологических различий. Дифференциальный момент он ввел в само определение понятия: «Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого…» Далее в определении же отмечается, что способности не сводятся к знаниям, умениям, навыкам. Последнее означает, что, как ни велико для субъекта деятельности значение того, что можно усвоить, перенять, нельзя не учитывать и собственно внутренние индивидуальные предпосылки психологических свойств, влияющие на успешность деятельности.
Через всю статью проходит мысль, что способности существуют только в развитии, что нельзя говорить о способности, достигшей предела развития (достаточно усовершенствовать методы обучения и воспитания, чтобы «пределы» развития способностей повысились).
Понятие «одаренность» Теплов определял как «качественно своеобразное сочетание способностей», тем самым указывая, что различия в одаренности выступают не только в том, что у одного человека одаренность проявляется преимущественно в такой-то области, а у другого – в иной, но и в том, что люди, проявляющие себя в одной и той же сфере деятельности, отличаются по составу, структуре своих способностей. Отсюда следует, что успешная творческая деятельность осуществляется по-разному на основе разных внутренних свойств, отличающих индивидуальность.
Теплов отмечал сложную, опосредованную зависимость развития способностей от их природных предпосылок, выступая тем самым против биологизаторских и механистических концепций различий между людьми. Принципиальная позиция Теплова состояла в том, что фаталистические представления должны быть преодолены не игнорированием самой проблемы природной обусловленности индивидуальных различий, а правильным ее разрешением. Многие из приведенных положений могут теперь казаться самоочевидными, настолько они вошли в научный обиход.
Война заставила Теплова снова вернуться в армейский строй. Когда фашисты подходили к Москве, началось массовое патриотическое движение среди интеллигенции за вступление в ополчение. Вместе с другими в ополчение вступили с сотрудники Психологического института Б.М. Теплов, А.А. Смирнов и Л.Н. Шварц. Реально московское народное ополчение было плохо вооруженной и необученной массой, которая была выставлена живым заслоном перед надвигавшейся немецкой армадой. В живых остались немногие. Теплова и Смирнова спасло чудо. Для выдвижения на позицию надо было форсировать реку. Взвод Шварца переправился первым. В этот момент прибыл нарочный с предписанием вернуть психологов в Москву для выполнения работ оборонного значения. На троих был выписан один пропуск в тыл. Фамилию Шварца в нем пришлось вычеркнуть – он уже ушел навстречу своей смерти.
Во время войны реально использовались достижения школы маскировки. Объектами маскировки стали Большой театр, мавзолей Ленина. Была ли от этого польза, трудно сказать, так как невозможно было закамуфлировать все приметные ориентиры, но факт – здания сохранились.
В разгар Отечественной войны Теплов подготовил работу, впервые напечатанную в несколько сокращенном виде в 1943 г. под названием «Ум и воля военачальника» и вторично в 1945 г. в более полном виде – под названием «К вопросу о практическом мышлении». Известно, что с книгой ознакомился И.В. Сталин и в целом ее одобрил, вычеркнув лишь упоминания о Фрунзе. В книге своих избранных трудов («Проблемы индивидуальных различий», 1961) Теплов дал новое (ставшее окончательным) название этой работе – «Ум полководца».
Исследование, написанное по военно-историческим материалам и отвечавшее насущным задачам той поры, представляет и теперь очень большой интерес и сохраняет свое научное значение. В нем речь идет, по определению автора, «об общих умственных способностях, о качествах ума, требуемых определенным видом практической деятельности».
Необычной была уже сама направленность работы – обоснование того, что умственная деятельность в «практической» сфере не является более простой или менее ценной, чем собственно теоретическая деятельность. Новизна и значимость работы были и в другом. В ней дан анализ особенностей отдельных выдающихся людей, раскрыто значение внутренних личностных условий для успешного выполнения деятельности. При этом свойства личности отнюдь не выступают здесь как «проекция» особенностей деятельности. Хотя данная область деятельности, как и всякая другая, как бы производит отбор соответствующих ей личностей и нужных их свойств и оказывает свое формирующее воздействие, субъект деятельности, как это показано Тепловым, совершает выбор способов деятельности, оценивает происходящее, творит свое участие в ней. Каждый достигает нужного результата по-своему – индивидуальность накладывает отпечаток на деятельность.
Анализ материалов о выдающихся полководцах позволил обнаружить своеобразную диалектику умственных способностей, а именно необходимость совмещения противоположных качеств мышления: быстроты и неторопливости, осторожности и смелости, гибкости и устойчивости. Теплов подробно раскрывает такие умственные черты, как «схватывание» целого при одновременном внимании к деталям, способность находить быстрое решение, умение предвидеть и др. Было выявлено также значение знаний, образованности для роста способностей. Все содержание работы показывало, какого высокого, разностороннего развития личности требует «практическое мышление».
Характерная особенность данной работы состоит в том, что собственно умственные свойства раскрыты в ней в тесной связи с другими сторонами личности, прежде всего с волей. Одаренность полководца не может быть понята только как проявление интеллекта, она заключается в единстве интеллектуальных, волевых и эмоциональных моментов. Многосторонность анализа позволила получить полнокровные и убедительные, подлинно личностные характеристики.
Свежим ветром пахнуло от этой работы: она показывала, что научная психология может быть подлинно жизненной, помогающей разбираться в очень сложных психологических проявлениях личности. Личностный подход к проблеме интеллекта, равно как и содержащаяся в работе постановка проблемы интуиции, весьма актуален и для современной психологии.
В 1945 г. директором Психологического института стал А.А. Смирнов, а его заместителем Б.М. Теплов. При новом руководстве начался период расцвета института. В эти годы раскрылись необыкновенные возможности Теплова как крупномасштабного руководителя, организатора науки. В послевоенное десятилетие он был, пожалуй, самым влиятельным из психологических лидеров, хотя и не занимал очень высоких постов и, как и Смирнов, так и не вступил в КПСС (при этом он мягко иронизировал, что в «нерушимом единстве партии и народа» надо же кому-то представлять народ, оставаясь беспартийным). Его высочайшая образованность и культура, проницательный ум, сильный волевой характер делали его главной фигурой на психологическом Олимпе. Для всех причастных к психологии значительность его как ученого и как личности была очевидна – его немного побаивались, почитали и любили.
Однако нельзя забывать, какая общественно-политическая атмосфера царила в стране в те годы. Конец 40-х – начало 50-х годов: репрессии, параноидальный культ Сталина и партии, так называемые дискуссии, жестко направлявшие в определенное русло целые отрасли науки и культуры. Все это, разумеется не могло не оказывать вредоносного влияния на то, что делалось и в психологии. Но благодаря таким деятелям, как А.А. Смирнов и Б.М. Теплов, некоторые мрачные веяния той поры проявились в психологии не так сильно, а то и вовсе прошли стороной. Психологический институт оставался неким оазисом, где сохранялись многие нормы порядочности и проявления бескорыстной преданности науке. Трудно переоценить в этом заслуги тандема Смирнов – Теплов. Директору и его заму по науке удавалось во многих непростых ситуациях отстоять интересы психологии, да и благополучие отдельных психологов (что требовало определенного мужества).
Оба – ученые высшего класса, последние представители прежней русской интеллигенции, гуманисты, проявившие себя и как мудрые политики. Да, они вынуждены были стать конформистами, то есть в политическом отношении уподобиться окружающим, «принять правила игры». Но в этом вынужденном конформизме они не теряли чувства меры, блюдя свою порядочность и достоинство.
«Лысенковский период», отозвавшийся в психологии безудержным (и по сей день не изжитым) пафосом формирования и столь же решительной критикой представлений о природно-генетической основе индивидуальных различий, лишал Теплова возможности по-прежнему заниматься изучением проблемы способностей. Атмосфера была слишком накалена и попросту небезопасна. Теплов решил «переждать», как бы отойти в сторону, занимаясь историей психологии. Вместе с тем начиналась новая политическая кампания в науке – приближалась павловская сессия двух академий (1950).
Теплов всегда с пиететом относился к трудам И.П. Павлова и к самой личности этого выдающегося русского ученого. Он, как и Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн, был склонен многое почерпнуть из павловского объективного метода изучения психики. С трудами Павлова он был знаком не понаслышке. Когда же началось расширительное толкование павловского наследия и на его основе стала провозглашаться «перестройка» психологии, оценка такой кампании Тепловым не могла быть однозначной. Он считал, что обращение к Павлову было противовесом лысенковщине. Ведь павловские работы – это серьезная наука. При этом он, конечно же, понимал безнадежность попыток «слияния» психологического и физиологического подходов применительно ко многим собственно психологическим проблемам. Но в некоторых разделах психологии такое сближение представлялось ему перспективным. В павловском наследии он особенно ценил учение о типах высшей нервной деятельности.
Сам Павлов, как известно, связывал типы нервной системы в различиями по темпераменту, что получило всеобщее признание. Но Теплов увидел в типологических свойствах нечто большее – подлинное доказательство существования природных предпосылок широкого спектра индивидуально-психологических особенностей. И Теплов принял поистине судьбоносное для его дальнейшей научной жизни решение: он перевел работу своей лаборатории в основном в психофизиологическое русло. Научной программой «на перспективу» стало исследование физиологических основ индивидуально-психологических различий. Такая цель воодушевляла его. Вероятно, это и было поиском «ниши», где можно было заниматься честной работой, – он оставался в пределах добросовестной, доказательной науки.
С точки зрения личной судьбы Теплова вряд ли можно назвать естественным или тем более благоприятным для него принятое им «самоограничение» – прежде всего изучать физиологические предпосылки индивидуальных различий. Скорее в этом можно увидеть драматизм его судьбы, когда психологу по призванию пришлось отойти, хотя по замыслу и временно, но на деле до конца жизни, в смежную область науки.
Уже через несколько лет интенсивных исследований стала возникать новая пограничная область науки – дифференциальная психофизиология, основанная на строгом эксперименте и подводящая естественнонаучную базу под изучение некоторых индивидуально-психологических различий (поначалу в области ощущений, времени реакции, а также и более общих динамических особенностей психики). Новое направление исследований постепенно стало значительным явлением в психологии.
Б.М. Теплов (в центре) с М.В. Соколовым (слева) и А.А. Смирновым (справа) в дни совещания по психологии в Ереване (1960)
В дальнейшем идейная атмосфера стала относительно более свободной, и Теплов мог бы вернуться к своей излюбленной теме на собственно психологическом уровне. Но он уже был общепризнанным авторитетом в физиологии высшей нервной деятельности, высококомпетентным в электрофизиологии, в области математической статистики (показательна его статья о факторном анализе) – он уже не мог оставить возглавляемую им большую коллективную работу.
Автор «Психологии музыкальных способностей» и «Ума полководца», квалифицированный знаток истории психологии, он, казалось бы, мог написать труд по психологии индивидуальности, который стал бы событием в мировой науке. Такой труд был запланирован, к нему он тянулся, но откладывал работу над ним, так как логика возглавляемых им исследований требовала дальнейшего углубления в психофизиологию. Жизнь оборвалась неожиданно…
Еще в молодости Теплов записал в своем дневнике: «Честолюбия у меня нет вовсе, а честолюбие к научной известности огромное. К судьбе Ленина, Наполеона, Веры Фигнер, Форда, наркома, министра, героя – никакой зависти; к судьбе Бугаева [математик], Павлова, Лебедева [физик] и даже других гораздо меньших, – самая глубокая и неизбежная. И странно – чувство права на нее и возможности достижения. Хотя мне уже 34 года, а большого научного таланта за собой не признаю. Есть способности и безусловная толковость».
По формуле У.Джемса, человек есть дробь с достижениями в числителе и самооценкой в знаменателе. Порою тоска берет от созерцания исчезающе малых величин в нынешней психологии. Но одновременно не оставляет гордость за то, что в нашей науке оставили след и гигантские «числа» наподобие Б.М. Теплова.
Ж. Пиаже (1896–1980)
На рубеже веков членам Американской Психологической Ассоциации (а число их превышает 100 тысяч) было предложено назвать 100 самых ярких фигур мировой психологии уходящего столетия. Первенство в получившемся рейтинге патриотичные американцы отдали своему соотечественнику Б.Ф. Скиннеру (с чем многие европейцы, пожалуй, поспорили бы), зато второе место в «золотой сотне» занял швейцарец Пиаже, опередив таким образом даже Фрейда. На протяжении десятилетий он оставался самым цитируемым психологом, а на пороге нового века авторитетный журнал «Тайм» и вовсе включил его в сотню самых влиятельных личностей столетия. Почетный доктор свыше 30 университетов (включая знаменитые Гарвардский, Кембриджский и др.), лауреат дюжины престижных научных премий, Пиаже Монбланом возвышается на ландшафте мировой психологии. Однако для большинства российских психологов знакомство с Пиаже исчерпывается несколькими его яркими экспериментами да кочующей из учебника в учебник периодизацией умственного развития. А что же это был за человек, которого психологи всего мира почитают величайшим авторитетом? Каким путем пришел он к своим открытиям, в каких источниках черпал вдохновение? Не претендуя на подробное изложение его идей (этому посвящены десятки и сотни книг, статей, диссертаций), обратимся к творческому пути великого ученого, о котором до сих пор написано до обидного мало. Даже крупнейший в нашей стране знаток творчества Пиаже Л.Ф. Обухова фактически сводит биографию мэтра к хронологии его научных публикаций. А ведь все эти книги (числом более полусотни) и статьи (кажется, вообще не поддающиеся подсчету) написаны интереснейшим человеком. О нем и пойдет речь.
Жан Пиаже родился 9 августа 1896 г. в городе Невшателе, в одном из франкоязычных кантонов Швейцарии, знаменитом своими винами и часами (по сей день огромным спросом пользуются швейцарские хронометры от Пьяже – так наши модники называют часовщика, однофамильца известного ученого). Французский был его родным языком, на нем он всю жизнь говорил и писал (из-за чего некоторые поверхностные «знатоки» ошибочно причисляют его к французам), хотя, как всякий образованный европеец, достаточно свободно владел и другими языками. Отец Жана, Артур Пиаже, был профессором местного университета, специалистом по средневековой литературе, а помимо того – увлеченным историком и краеведом. Он оказал большое влияние на интеллектуальное развитие сына, постоянно стимулируя его любознательность. Однако интереса к своему любимому предмету – истории – он у Жана не поощрял, намекая на ненаучность большинства исторических изысканий: по его мнению, достоверность большинства так называемых исторических фактов спорна, не говоря уже о вольности их толкования. К примеру, самому Артуру Пиаже удалось доказать, что некий древний документ – свод привилегий невшательских горожан, относимый к раннему средневековью, – является на самом деле поздейшей фальсификацией, из-за чего важные моменты в истории края подлежат серьезному пересмотру.
Вероятно, не без влияния отца сложился научный стиль Пиаже – скрупулезный подход ко всем деталям исследования, высокие требования к достоверности данных. Не оттого ли выявленные им впоследствии психологические феномены, при всём возможном многообразии их толкований, отвечают всем самым строгим научным критериям и не подвергаются сомнению даже его критиками?
Мать Жана, Ребекка, была женщиной чрезвычайно яркой и интересной, сочетавшей широту кругозора с не типичными для своего круга политическими идеалами, да еще и фанатичной кальвинисткой. Отчасти под ее влиянием юный Жан Пиаже отдал дань увлечению политикой в составе молодежного движения христиан-социалистов, но быстро охладел к этой стезе, хотя в его социологических работах (социология также входила в круг его интересов) встречаются весьма политизированные антикапиталистические высказывания. Если бы советские психологи обратили на это внимание, то это только подняло бы авторитет Пиаже в их глазах. Однако сам он, погруженный в науку, никогда своими политическими убеждениями не козырял, в отличие от советских коллег, которым это было просто-напросто положено. Впрочем, как мудро заметил А. Адлер, сражаться за свои убеждения гораздо легче, чем иметь их.
Не перенял Жан у матери и ее фанатичную религиозность. Уже в подростковом возрасте он пришел к убеждению, что Бог и сама жизнь во всех ее проявлениях суть одно и то же, а это, надо признать, не очень-то согласуется с церковными доктринами. По мнению Пиаже, жизнь и есть религиозный долг человека, и правильно его исполнить – значит уметь сосредоточиться на главном деле своей жизни. Таким для Пиаже была наука.
Более никаких сведений о его религиозных убеждениях не удается отыскать ни в каких источниках. Судя по всему, сам ученый считал их делом сугубо личным и никак не связанным с его научным творчеством. Считал, надо думать, весьма справедливо, о чем нелишне было бы напомнить множащемуся в наши дни легиону православных психологов – возможно, кто-то из них и славен своим благочестием, но ученых масштаба Пиаже (а кажется и просто ученых) среди них пока не замечено.
Малое влияние матери на мальчика, а возможно даже и негативное влияние, может быть объяснено ее вздорным характером – по некоторым оценкам, мать Жана и вовсе была человеком душевно нездоровым. Эта ее психологическая особенность негативно влияла на всю атмосферу семейной жизни. Один из биографов Пиаже даже предполагает, что ранний интерес мальчика к естественнонаучным наблюдениям хотя бы отчасти мог быть продиктован простым стремлением вырваться из дома и поменьше там бывать. Впрочем, не под влиянием ли неблагоприятной семейной атмосферы и материнского нездоровья возник у Пиаже интерес к психопатологии, удовлетворить который он впоследствии пытался в знаменитой цюрихской клинике Бурхгёльцли (здесь он слушал лекции Юнга) и в парижской клинике Сальпетриер, где он также прослушал соответствующий курс лекций.
Не будет преувеличением назвать юного Жана Пиаже вундеркиндом – свою первую научную работу он опубликовал в возрасте 10 лет! Ее он выполнил как член Невшательского кружка юных натуралистов, объединявшего в своих рядах преимущественно старшеклассников. Опубликоваться в бюллетене кружка мальчика побудило главным образом стремление к самоутверждению – перед лицом не столько товарищей, сколько директора городского музея естественной истории семидесятилетнего господина Годеля, который не принимал юного натуралиста всерьез и отказывался допустить его в фонды музейной библиотеки. Своей цели Жан добился – не только снискал расположение Годеля, но и стал его внештатным помощником, временами получая в оплату своего труда кое-какие интересные экземпляры для своей коллекции (в самом деле – мальчишка хоть и смышлен, но не платить же ему денег!). Эта первая научная работа представляла собой небольшой, объемом в одну страничку отчет о наблюдениях за воробьем-альбиносом, которого Жан приметил в местном парке. Значение этой работы для науки не стоит переоценивать, но для начинающего исследователя это было первым серьезным шагом по пути научных изысканий.
Интерес к птицам сменился интересом к моллюскам, который также нашел отражение в нескольких публикациях. На основании этих работ Жану Пиаже было сделано предложение занять место куратора коллекции моллюсков Женевского музея естественной истории. Каково же было изумление администрации, когда выяснилось, что «эксперт» еще ходит в школу!
Интерес к психологии пробудился у Пиаже далеко не сразу. Биолог по образованию – Пиаже окончил Невшательский университет в 1915 г. и в 1918 г. стал доктором естественных наук – он не получил никакого формального психологического образования, по крайней мере – за всю жизнь не сдал ни одного экзамена по психологии. (Однако вот уже много лет студенты разных стран штудируют его классические труды по возрастной психологии!) Первоначально у него возник интерес к психоанализу, однако похоже, что прослушанные на эту тему лекции вполне данный интерес исчерпали. Такое происходило в истории психологии не раз – многие выдающиеся психологи на заре своей карьеры отдали дань увлечению психоанализом, но по зрелому размышлению предпочли мифам науку.
Не переломил ситуацию и курс дидактического анализа, который молодой Пиаже прошел у нашей соотечественницы Сабины Шпильрейн, личного друга Фрейда и Юнга, одной из ярких фигур психоаналитической когорты. Анализ длился восемь месяцев, ежедневно по утрам. Как вспоминал Пиаже много лет спустя, анализ не был ни терапевтическим (особых душевных терзаний он не испытывал), ни учебным (о карьере психоаналитика он не мечтал), а носил преимущественно пропагандистский характер, причем свою роль «пациент» не без иронии сравнивал с положением подопытной морской свинки. Пиаже был сильно заинтересован аналитическим процессом, но испытывал сомнения по поводу теоретических вопросов. В конце концов Шпильрейн прервала анализ по собственной инициативе, не желая, по словам Пиаже, «тратить по часу в день с человеком, который отказывается проглотить теорию». К тому же стало ясно, что в ряды психоаналитиков Пиаже не рвется, хотя он и принял участие в берлинском психоаналитическом конгрессе 1922 года, на котором была и Шпильрейн.
Нельзя, однако, сказать, будто общение с Сабиной Шпильрейн оказалось совершенно бесплодным. Историк психоанализа А.М. Эткинд в своей книге «Эрос невозможного» усматривает его весьма значительные итоги. По его мнению, анализ помог молодому Пиаже осознать реальный круг своих профессиональных интересов. Его познавательная энергия, до того метавшаяся от систематики моллюсков до философской эпистемологии, теперь наконец нашла точку приложения.
Примечательно, что список психологических работ Пиаже открывается обзорной статьей «Психоанализ и его отношения с психологией ребенка» (1920). Через год он начинает серию исследований, которые открыли новую эпоху в психологии развития. Именно в 1921 году – в пору прохождения психоанализа – Пиаже публикует первую свою статью, посвященную развитию речи и мышления ребенка. В эти годы он совершает открытие эгоцентрической речи, которая составляет примерно половину речевой продукции шестилетнего ребенка и нужна ему для расширения внутренних мыслительных задач. В этих ранних работах Пиаже эгоцентрическая речь противопоставляется социализированной речи, которая постепенно вытесняет первую, позволяя ребенку полноценно общаться с родителями и сверстниками. Эта идея Пиаже, развивавшаяся им во множестве экспериментальных работ на протяжении более чем полувека, завоевала мировое признание.
Годом ранее, в 1920-м, Сабина Шпильрейн сделала доклад на 6-м Международном психоаналитическом конгрессе в Гааге. Доклад в сокращенном виде был опубликован в официальном органе Международной психоаналитической ассоциации. Он назывался «К вопросу о происхождении и развитии речи». Шпильрейн рассказывала коллегам, что есть два вида речи – аутистическая речь, не предназначенная для коммуникации, и социальная речь. Аутистическая речь первична, социальная речь развивается на ее основе. Первые слова социальной речи – «мама» и «папа» – выводятся Шпильрейн из звуков, издаваемых ребенком при сосании. Первые взаимодействия с внешним миром, приносящие ему удовольствие, дают ребенку позитивные представления о внешней реальности, которые связываются с издаваемыми им звуками. Ставя ту же проблему, которую тогда же или чуть позже ставил Пиаже, Шпильрейн идет в другом направлении: не к логике формальных операций, которые станут открытием Пиаже, а к анализу взаимосвязи речи, мышления и эмоционально насыщенных отношений ребенка с родителями. А.М. Эткинд, известный смелостью своих гипотетических допущений, полагает, что сходство и различие позиций в ходе анализа могло обсуждаться между Шпильрейн и Пиаже, когда пациент подвергал сомнению теоретические основы анализа, а терапевт, помня о своих «пропагандистских» задачах, в ответ приводила свои аргументы.
Можно ли на этом зыбком основании допустить приоритет Шпильрейн в отношении концепции раннего Пиаже? Вопрос это спорный, но влияние Шпильрейн на определение научного пути Пиаже так или иначе представляется весьма значительным. С той поры интересы его определились, с тем чтобы найти воплощение в ярких экспериментах и новаторской теории умственного развития.
Биографы Пиаже традиционно акцентируют внимание на ином источнике его научного вдохновения. В 1919 году приехав в Париж для изучения патопсихологии, Пиаже по приглашению Т.Симона, соавтора знаменитой шкалы Бине-Симона, работал в его лаборатории – в частности, над адаптацией для французских детей тестов интеллекта, разработанных англичанином С. Бёртом. Формально суть этой работы состояла в отслеживании правильных и неправильных ответов детей на те или иные тестовые вопросы. Внимание молодого исследователя привлекла не количественная, а качественная сторона этого процесса. Пиаже стало ясно, что так называемые неправильные ответы детей вызваны не недостатком их ума в сравнении с умом детей более старших либо взрослых, а своеобразием их рассуждений. Экспериментальному изучению этого явления он и вознамерился посвятить свои исследования.
Подобно многим своим выдающимся коллегам, Пиаже не упустил блестящей возможности наблюдать процесс познавательного развития ребенка на примере собственных детей. Приглашенный в 1921 г. в Институт Руссо в Женеве, Пиаже встретил там юную Валентину Шатено, которая вскоре стала его женой. В этом браке родилось трое детей – две дочери и сын, наблюдая развитие которых Пиаже пришел к формулировке новаторской концепции умственного развития, изложенной в одной из самых, пожалуй, известных его книг «Речь и мышление ребенка». Именно в полемике с этим трудом сформулировал свою концепцию развития мышления Л.С. Выготский. Полемика эта была заочной – титаны мировой психологии при жизни никогда не встречались. Лишь много лет спустя, когда Выготского давно не было в живых, Пиаже познакомился с его критическими замечаниями и отнесся к ним с пониманием. Ведь, как отметил однажды Дж. Брунер, Пиаже и Выготский не столько противостояли друг другу, сколько друг друга дополняли. Впрочем, это тема для доброй сотни диссертаций – как уже написанных, так еще и ждущих своих авторов.
Обозревая дальнейший жизненный путь Пиаже, стоит, пожалуй, согласиться с уже упоминавшейся оценкой Л.Ф. Обуховой: «Пиаже прожил жизнь, все главные события которой были связаны с интеллектуальной работой. Знакомясь с его биографией, мы отмечаем: 1923-й – женитьба, 1925, 1927, 1931-й – рождение детей, все остальные годы, начиная с 1907-го – публикации, публикации…» Эти строчки заимствованы нами из недавно изданной под редакцией Л.Ф. Обуховой книги «Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссия», вобравшей в себя как ключевые для понимания идей мэтра его собственные работы, так и исследования отечественных и зарубежных авторов, вдохновленные открытиями великого швейцарца. Отсылая заинтересованного читателя к этому ценному источнику, нельзя не отметить, что его выход на заре ХХI века лишний раз убедительно свидетельствует: оценка Л.Ф. Обуховой – «ученый, изменивший лицо современной психологии» – более чем справедлива. Через годы после смерти Пиаже (он умер в Женеве 17 сентября 1980 г.) он продолжает оставаться крупнейшим авторитетом в мировой психологии. Да, многое в его наследии не очень-то легко для понимания (это только в учебниках, где Пиаже отведена пара страничек, его концепция предстает ходульно-компактной). Но говорил же Гёте: «Ты равен тому, кого понимаешь». Сравниться с Пиаже было бы наивной амбицией, но любой психолог должен хотя бы постараться его понять.
Г. Оллпорт (1897–1967)
Гордон Оллпорт – в мировой психологии фигура, вне сомнения, выдающаяся – в нашей стране известен мало и главным образом опосредованно, то есть по вторичным, реферативным источникам. Многочисленные работы этого плодовитого автора на наших книжных прилавках так и не появились, несмотря на психологический бум, охвативший в последние годы российский книжный рынок. Единственное исключение – появившаяся несколько лет назад книга «Личность в психологии» (М.: КСП+, 1998), которая, судя по данным Интернет-магазинов, по сей день не распродана. Это и понятно – Оллпорт никогда не претендовал на роль премудрого гуру, учителя жизни. Столь же немыслимо представить его и в роли массовика-затейника. А ведь именно эти психологические амплуа у нас наиболее популярны. Оллпорт был «просто» ученым. И сегодня ни одна книга, посвященная психологии личности, не обходится без специальной главы о его теории или хотя подробной ссылки на нее. Испытавший влияние разных школ, Оллпорт фактически не принадлежал ни к одной, а создал собственную. Он полагал, что исчерпывающая теория личности может быть создана путем сочетания достижений разных научных направлений, и тем самым, разумеется, заслужил многочисленные упреки в эклектизме. Сегодня такие упреки можно расценить скорее как похвалу, ибо будущее научной психологии все отчетливее видится в сбалансированной позиции, а не в перепалке антагонистов. В утверждении такой позиции Оллпорт сыграл очень важную роль, и ныне почетное место в галерее мэтров принадлежит ему по праву.
Гордон Виллард Оллпорт родился 11 ноября 1897 г. в городе Монтесума, штат Индиана. Он был младшим из четверых сыновей Джона и Нелли Оллпорт. Его отец после нескольких лет бесплодных попыток достичь успеха на предпринимательской ниве переквалифицировался во врача, но и тут, надо признать, впечатляющих успехов не достиг. Его частная клиника размещалась в стенах его собственного, довольно скромного, жилища, где главный (он же единственный) врач, медсестры, пациенты и домочадцы постоянно натыкались друг на друга. Мать, в прошлом – школьная учительница, была женщиной набожной и благочестивой. Она настойчиво, но не агрессивно, прививала детям навыки жизни разумной, упорядоченной и добродетельной. И характер Гордона сложился во многом под влиянием строгой, но гуманной материнской морали.
В первые шесть лет жизни Гордона семья трижды сменила место жительства, пока наконец не обосновалась в Кливленде, штат Огайо. Здесь он вырос, здесь окончил среднюю школу. Воспитанный в традициях благочестия, шумных игр и проказ Гордон не любил, сверстников сторонился, тем более что и те, в свою очередь, недолюбливали его за склонность к многословным рассуждениям. Учился он, по собственному признанию, без энтузиазма, однако сумел закончить школу вторым по успеваемости из ста выпускников. Так или иначе, в отличие от Фрейда и многих его последователей, Оллпорт, похоже, не был травмирован негативными переживаниями детства, и в психологию его привели не личные проблемы, а чисто научные интересы, а также пример старшего брата Флойда, который изучал психологию в Гарварде и стал впоследствии известным ученым (сегодня многие почитают его как «отца экспериментальной социальной психологии»).
Следуя по стопам Брата, Гордон в 1915 г. поступил в Гарвард. С этого началось его полувекового сотрудничества с Гарвардским университетом, которое лишь дважды на короткое время прерывалось. В автобиографии Оллпорт писал: «Почти в одночасье мой мир переменился. Основные моральные ценности я, несомненно, усвоил в родительском доме. Новым для меня явился широчайший спектр явлений науки и культуры, которые мне теперь предстояло изучать». Профессиональное самоопределение заняло у него несколько лет. В 1919 г. он окончил университет, получил ученую степень бакалавра по специальности «философия и экономика», однако еще не определился в своих предпочтениях. Когда представилась возможность попробовать себя на педагогическом поприще, Оллпорт поспешил ею воспользоваться. Многие источники указывают, что 1919/20 учебный год он провел в качестве преподавателя английского языка и социологии в Турции, в Колледже Роберта в Стамбуле. На самом деле эта территория в ту пору принадлежала Греции, и учениками молодого американца были юные греки, почти ровесники своего учителя. Ему удалось заслужить такие их симпатии, что по прошествии многих лет, в 1937 г., когда он проездом оказался в Стамбуле, его класс собрался почти в полном составе, чтобы приветствовать своего учителя. За этот год Оллпорт также неплохо освоил греческий, причем без специальных занятий, что само по себе свидетельствует о его незаурядных способностях.
Работая в Европе, Оллпорт получил приглашение от своего старшего брата Файетта, который служил в американской торговой миссии в Вене. В ходе визита в Вену произошла его встреча с Фрейдом, сильно повлиявшая на его представления о психологии личности. Об этой встрече он много рассказывал, и биографам она известна во многих подробностях. Так, Оллпорт признавался, что испытывал немалое смущение перед визитом к мэтру и не знал о чем повести разговор. Дабы избежать неловкости, он сразу принялся расспрашивать Фрейда о его мнении по поводу одного эпизода, который наблюдал по пути к нему. В трамвае Оллпорт обратил внимание на мальчика лет четырех, который проявлял явные симптомы фобии грязи и досаждал матери жалобами. Для Оллпорта этот эпизод был просто поводом для беседы. А Фрейд, поглядывая на него с глубокомысленным лукавством, вдруг спросил: «Признайтесь, этот маленький мальчик – вы?» Дальнейшая беседа протекала в том же ключе, так что в итоге Оллпорт даже попросил Фрейда порекомендовать ему американского аналитика. Тот посоветовал обратиться к своему верному последователю А.Бриллу. Этим советом Оллпорт впоследствии не воспользовался, и вообще в качестве пациента к психоанализу никогда не прибегал. А о встрече с Фрейдом он вспоминал как о «травматическом переживании». Вероятно уже тогда начало оформляться его убеждение, что в объяснении поведения психоанализ явно преувеличивает роль бессознательных механизмов в ущерб сознательным. Впоследствии он выражал несогласие с фрейдовской оценкой исключительной роли детских переживаний в развитии внутренних конфликтов взрослого человека. По мнению Оллпорта, нормальный человек живет не столько прошлым, сколько настоящим и будущим.
По возвращении в Гарвард Оллпорт в возрасте 24 лет защитил докторскую диссертацию по психологии – его научные интересы окончательно оформились. Основные положения диссертации были им представлены годом ранее в статье «Личностные черты: их классификация и измерение», написанной совместно с братом Флойдом и опубликованной в Journal of Abnormal and Social Psychology, который брат редактировал. В течение двух последующих лет Оллпорт, воспользовавшись гарвардской стипендией, стажировался в Европе – сначала в Германии, где работал под руководством М.Вертгеймера, В.Кёлера, В.Штерна, К.Штумпфа, а потом недолгое время в Англии, в Кембридже. Опираясь на личный опыт общения с корифеями немецкой психологии, он на родине долгое время был ведущим экспертом в этой области и интерпретатором их идей.
В 1924 г. он снова вернулся в Гарвард, где начал читать абсолютно новый курс психологии личности – важно отметить, что до той поры проблемы теории личности многими психологами, находившимися под влиянием бихевиористских схем, и вовсе не считались предметом психологии. Окончательный перелом в этой сфере произошел, пожалуй, в 1937 г. после выхода важнейшей монографии Оллпорта «Личность: психологическое исследование». В ней автор (кстати, задолго до появления новаторской теории Маслоу) впервые обратился к изучению здоровой, полноценной личности и описал ее существенные черты. Согласно Оллпорту, в поведении нормального человека ведущую роль играют рациональные мотивы, и лишь невротики живут в соответствии с импульсами бессознательного. Зрелая личность способна эффективно осваивать новые приемы поведения и за счет этого расти в течение всей жизни. Такому человеку свойственно «проактивное поведение», то есть он способен не только реагировать на стимулы среды, но и сознательно воздействовать на среду. При этом, по Оллпорту, неверно утверждать, будто всякое поведение направлено на снижение напряжения. Ведь проактивное поведение не только снижает напряжение, но и создает новые напряжения, и в этом суть жизненного процесса.
По Оллпорту, ядро личности составляют мотивы деятельности. Для объяснения характера мотивации он ввел понятие функциональной автономии, означающее, что мотивация взрослого человека функционально не связана с его детскими впечатлениями, подобно тому, как дерево, выросшее из семени, функционально от семени автономно. Повзрослев, человек начинает отдавать себе отчет в своих поступках и сам за них отвечает, вне зависимости от перипетий раннего возраста. Так, в начале профессиональной деятельности человек может руководствоваться давними стремлениями к упрочению своего положения, а для этого стремится сделать карьеру, заработать побольше денег и т. п. Достигнув этих целей, он, скорее всего, продолжит работать, однако по иным причинам. По Оллпорту, мотивы зрелой личности нельзя выводить из ранних намерений и представлений. Цели взрослого человека определяются текущей ситуацией и нынешними намерениями.
Для характеристики личности Оллпорт использует латинское понятие проприум («свойственный», «присущий»). Личность – это то, что присуще каждому из нас. Она включает все уникальные, присущие нам и только нам черты, которые и составляют ядро личности. В своем развитии от детского возраста до взрослого состояния проприум проходит семь стадий, которые, однако, ничего общего не имеют с фрейдовскими стадиями психосексуального развития. Напротив, развитие идет на основе социальных факторов и преимущественно на основе изменения взаимоотношений с матерью.
Оллпорт различал общие черты личности, которые могут встречаться у многих людей, и индивидуальные, присущие только данному человеку. И те, и другие поддаются изучению на основе внешнего наблюдения, позволяющего выявить определенное постоянство и регулярность в поведении. Впрочем, важно также отметить, что подобно многим теоретикам личности, Оллпорт пессимистичен относительно итоговых возможностей психологических методов в разгадке всех тайн поведения человека. Слишком велика сложность объекта изучения!
Посмертно изданный сборник работ Оллпорта «Личность в психологии» демонстрирует широкий круг его интересов – его привлекали и проблемы психического здоровья, религии и суеверий, социальных предрассудков, а также основные методологические проблемы психологии. В своем творчестве, которое нашло выражение в 12 книгах и более двух сотен статей, он пытался охватить сложность человеческого бытия в современном социальном контексте и решительно отказывался следовать модным догмам своей профессии, демонстрируя приверженность «образному и систематическому эклектизму».
За время своей карьеры Оллпорт был удостоен практически всех регалий, мыслимых для психолога. Он избирался президентом Американской Психологической Ассоциации (1939), Президентом Общества психологического изучения социальных проблем. В 1963 г. он был награжден Золотой медалью Американского психологического фонда, в 1964 г. получил награду АПА за выдающийся вклад в науку.
Заядлый курильщик, Гордон Оллпорт умер от рака легких 9 октября 1967 г., незадолго до своего семидесятилетия.
Хотя лишь немногие психологи приняли его воззрения безоговорочно, о широком признании его научных заслуг свидетельствуют данные опроса американских психологов-практиков. В ответах на вопрос, чья теория личности наиболее важна для их практической работы, большинство назвали Оллпорта вторым после Фрейда.
В. Райх (1897–1957)
В истории психологической науки Вильгельм Райх выступает одной из наиболее ярких и противоречивых фигур. Всю жизнь преследуемый и гонимый, он в середине просвещенного ХХ века окончил свои дни в тюрьме, не пожелав поступиться научными убеждениями. Райх задавал слишком много острых вопросов, которые общество было не готово воспринять, и сам предлагал на них не менее вызывающие ответы. Многие такие ответы снискали ему репутацию эксцентричного чудака и даже шарлатана. Однако небывалый успех, который выпал в нашей стране на долю запоздалых переводов его книг, указывает, что по крайней мере кое-какие вопросы подняты им небезосновательно.
Вильгельм Райх родился 24 марта 1897 г. в Галиции, бывшей в ту пору частью австро-венгерской империи. Его отец, крестьянин среднего достатка, стремился максимально адаптироваться к австро-венгерскому социуму. Ради этого он отрекся от своего еврейского происхождения, принял христианство и категорически настаивал, чтобы домочадцы изъяснялись только по-немецки. В результате Вильгельм оказался изолирован как от местных крестьянских детей-украинцев, так и от своих сверстников-евреев, говоривших на языке идиш. Детские годы Вильгельм провел, общаясь почти исключительно со своим младшим братом, в отношениях с которым парадоксально переплетались товарищество и соперничество.
К своей матери Вильгельм тоже относился противоречиво. По его признанию, мать он боготворил. Однако это не помешало ему наябедничать отцу о ее романе с домашним учителем. Отец Райха был мужчиной властным, ревнивым и вспыльчивым. Спровоцированная сыном сцена ревности закончилась самоубийством матери. Такого результата, вероятно, не ожидал и сам ревнивец, которого смерть жены буквально подкосила и лишила воли к жизни. Не в силах сопротивляться одолевшим его болезням, отец и сам вскоре умер, оставив в наследство 17-летнему Вильгельму небогатое, но крепкое хозяйство. Это было накануне I мировой войны, которая разрушительным смерчем прокатилась по полям Галиции. В 1916 году вся семейная собственность обратилась в пепелище. Райх оставил родные места, с которыми его больше ничто не связывало, и поступил на военную службу. Он стал офицером и сражался в Италии. После окончания войны поступил в медицинскую школу Венского университета. Здесь он всерьез увлекся психоанализом и в 1919 вступил в Венское психоаналитическое общество и открыл собственную практику. В университете он познакомился с Анни Пинк, которая, как и он сам, училась на врача и увлекалась психоанализом; вскоре она стала первой женой Райха.
В 1922 г. Райх стал первым клиническим ассистентом Фрейда в основанной тем Венской психоаналитической клинике; позднее он стал вице-директором клиники. В 1924 г. Райх стал директором Семинара по психоаналитической терапии, первого учебного института психоанализа. Многие начинающие аналитики проходили у него личный анализ и супервизию.
Сам Райх проходил анализ у нескольких коллег, однако по разным причинам ни один курс так и не был завершен. В 1927 г. Райх обратился с просьбой анализировать его к самому Фрейду, однако тот отказывался анализировать членов так называемого внутреннего психоаналитического кружка и не пожелал сделать для Райха исключение. Этот отказ серьезно осложнил их отношения, хотя на самом деле выступил для этого лишь поводом. Реальной причиной послужили все углублявшиеся идеологические расхождения.
На основе ранних идей Фрейда Райх разработал собственную концепцию, согласно которой непосредственной причиной возникновения невроза является невозможность разрядить сексуальную энергию. Райх стремился преобразовать доктрину Фрейда, освободив ее от тех элементов, которые считал «консервативными». Он подверг пересмотру учение Фрейда о влечениях: Танатос рассматривал как вторичное образование, определяемое теми отношениями, при которых происходит удовлетворение сексуального влечения. С целью ревизии фрейдизма в отличие от большинства психоаналитиков, пошедших в противоположном направлении (как, например, Э.Фромм и К.Хорни), он довел до крайности фрейдовский гиперсексуализм. Сексуальность (конкретнее – оргазм) для Райха выступала в качестве центрального механизма, регулирующего существование как индивида, так и общества в целом. Вследствие налагаемых обществом ограничений, глубинное здоровое ядро личности обрастает вторым слоем, состоящим из деструктивных импульсов. Третий слой образуется из потребности адаптировать эти импульсы к социальным нормам. Это своего рода «панцирь», состоящий из искусственных адаптивных черт. Он находит свое выражение и в телесном «панцире», препятствующем свободному волеизъявлению. В качестве терапевтического приема предлагается прямое воздействие на мышечный защитный панцирь посредством специальных упражнений.
Увлечение идеями марксизма, появившееся еще в студенческие годы, привело Райха к вступлению в коммунистическую партию. Стремясь соединить учения Фрейда и Маркса, он фактически выступил родоначальником течения, известного как фрейдомарксизм. Райх был убежден, что психоанализ – это «материалистическая наука», поскольку она имеет дело с реальными человеческими потребностями и реальным человеческим опытом; он также полагал, что психоанализ основан на фудаментально-диалектической теме психического конфликта и его разрешения. Райх настаивал, что психоанализ – революционная наука, что он дополняет марксову критику буржуазной экономики критикой буржуазной морали. Он выдвинул концепцию двуединой – социальной и сексуальной – революции. Первая, по мнению Райха, невозможна без второй, так как сохранение сексуального подавления способствует формированию консервативного характера, склонности к подчинению. Такого рода подавление, последовательно осуществляемое традиционной семьей, политической и культурной системой, выступает основой эксплуатации и обусловливает существование авторитарной власти. Поэтому залог общественного прогресса Райх видел в сексуальном «раскрепощении». В 1929 г. Райх участвовал в создании первых клиник сексуальной гигиены для рабочих, предоставлявших свободную информацию по разнообразным вопросам сексуальных отношений. Идеи Райха, как и его клиники, намного опережали время. Программа этих клиник содержала моменты, удивительно созвучные настроениям наших дней и даже теперь вызывающие противодействие консервативных моралистов: свободное предоставление контрацептивов всем желающим, широкомасштабное просвещение по вопросам контроля над рождаемостью; полный отказ от запретов на аборт; отказ от фетишизации законного брака, свобода развода; борьба с венерическими заболеваниями и сексуальными преступлениями не репрессивными, а просветительскими и терапевтическими мерами.
В 1930 г. Райх переехал в Берлин, во-первых, чтобы пройти личный анализ у Шандора Радо, а во-вторых, потому, что отношения с венскими коллегами все более обострялись. В Берлине он глубоко включился в коммунистически ориентированное движение психического здоровья. Он путешествовал по всей Германии, читая лекции и организуя гигиенические центры.
Большинство психоаналитиков не разделяли политических взглядов Райха, а политические единомышленники не одобряли его радикальных программ сексуального просвещения. В результате в 1933 г. Райх был исключен из компартии, а в 1934 г. – из Международной психоаналитической ассоциации.
Приход Гитлера к власти заставил Райха эмигрировать. На что было рассчитывать в нацистской Германии еврею-психоаналитику, который к тому же осмелился весьма уничижительно отозваться о наци в своей книге «Психология масс и фашизм»? Он расстался со своей первой женой, оставшейся в Берлине, из-за личных, профессиональных и политических разногласий. Годом раньше, в Берлине, Райх встретил Эльзу Линденберг, танцовщицу и члена его партийной ячейки. Позже она присоединилась к Райху в Дании и стала его второй женой. Но в Дании молодая семья не задержалась. Смелые воззрения Райха встретили недовольство консервативной датской общественности, и под давлением газетной критики и официальных преследований он был вынужден перебраться в Швецию, но и там встретил не лучшее отношение. Следующим пунктом скитаний стала Норвегия, где удалось прожить 5 лет. Но относительно спокойными были лишь года три, потом и тут Райх стал мишенью газетной травли. Он попадал во все большую изоляцию. Ухудшились его отношения с Эльзой, которая в конце концов ушла от него.
В 1939 г. Райху был предложен пост адъюнкт-профессора медицинской психологии Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке, и он переехал в США. В Нью-Йорке он встретил Ильзу Оллендорф, немецкую эмигрантку, которая стала его лабораторным ассистентом, а позже – третьей женой.
В США Райх основал Институт оргона. В своих лабораторных экспериментах он пришел к выводу, что существует фундаментальная космическая энергия – оргон, пронизывающая все живое, и что эта энергия является биологической силой, лежавшей в основе фрейдовской концепции либидо.
В 1950 г. Райх занялся экспериментированием с аккумуляторами оргонной энергии. Он считал, что причиной многих заболеваний, таких, как рак, стенокардия, эпилепсия и др. является нарушение свободного тока оргоной энергии в организме. Практические результаты оргонной терапии оказались неоднозначны и в известной мере объяснимы банальным механизмом плацебо. В 1954 г. теория и практика Райха были официально объявлены несостоятельными и на использование оргонных аккумуляторов был наложен запрет. Райх пытался протестовать, подчеркивая, что научного опровержения его позиции никто так и не представил, а органы правосудия не правомочны выносить вердикт по научной проблеме. Согласно повторному распоряжению, все публикации Райха, посвященные оргонной энергии, подлежали сожжению, а ему самому за неуважение к суду надлежало провести два года в тюрьме. Там, в пенсильванской тюрьме, в ноябре 1957 г. он и умер от сердечного приступа.
Следует признать, что Райх в своих исследованиях, несмотря на многие заблуждения, далеко опередил свое время. Его взгляды на половое воспитание, «сексуальную революцию» (ему принадлежит сам этот термин), причины неврозов, биоэнергетику во многом спорны, но не безосновательны. Его техники освобождения «мышечных панцирей» успешно используются в современной психотерапевтической практике и получили дальнейшее развитие. А чего стоит его блестящая книга «Психология масс и фашизм»! Вот только одна цитата: «Для того, чтобы занять высшее общественное положение в условиях социального хаоса, необходимо лишь обладать достаточной хитростью, невротическим честолюбием, волей к власти и грубостью». Трудно поверить, что это сказано много десятилетий назад.
Б.В. Зейгарник (1900–1985)
На факультете психологии МГУ, где долгие годы работала профессор Б.В. Зейгарник, иногда вспоминают курьезный эпизод, происшедший на ХIХ Международном психологическом конгрессе (Лондон, 1969). Группа советских психологов в неформальной обстановке знакомилась с японскими коллегами. Те, выслушивая труднопроизносимые русские фамилии, в традиционной восточной манере вежливо улыбались и кивали. И тут им была представлена немолодая женщина маленького, почти кукольного роста. Выражение лиц японцев враз переменилось, дежурные улыбки сменились неподдельным изумлением. А самый молодой член японской делегации, забыв о деликатности, наивно воскликнул: «Так это вы и есть – Зейгарник? Неужели вы еще живы?»
Всемирную известность Зейгарник принес открытый ею феномен, названный ее именем и описанный почти во всех психологических энциклопедиях, словарях и учебниках. Это открытие было сделано Зейгарник в 1925 году, и ее имя у многих последующих поколений психологов ассоциируется с именами давно почивших мэтров – Кёлера и Коффки, Вертгеймера и Левина.
Ее имя действительно принадлежит истории. Но не той отдаленной истории, которая открывается нам в пожелтевших фотографиях и в ломких страницах старых книг, а той живой, к которой имели возможность прикоснуться многие современные российские психологи. Студенты семидесятых, слушая ее лекции, воспринимали мировую психологию буквально из первых рук. Может быть, именно поэтому кое-кому из них и удалось стать психологами. Ведь психология – это не просто свод знаний. Это особое мироощущение. Это духовная практика. А чтобы освоить ее, необходим Учитель. Таким Учителем для многих по праву была Б.В. Зейгарник.
Блюма Вульфовна Зейгарник родилась 9 ноября 1900 года в литовском городке Пренай. Там же и окончила гимназию. Документальных свидетельств о той поре ее жизни не сохранилось. Можно лишь догадываться, что ее судьба в те годы складывалась весьма заурядно: ничто не предрекало скромной девушке из небогатой еврейской семьи блестящую научную карьеру.
Она рано вышла замуж и в 1921 году отправилась вместе с мужем в Берлин: он был командирован для работы в торговом представительстве РСФСР. Она поступила в Берлинский университет, куда ее влекло зародившееся в юности увлечение психологией. Однако по признанию самой Зейгарник, психологию она в те годы понимала своеобразно: психологические озарения она искала в книгах Л.Н. Толстого, Ф. Шиллера, И.В. Гете. (Подход, надо признать, небезосновательный, хотя довольно односторонний и ненаучный). Поэтому ее выбор пал на филологический факультет. Там ей пришлось погрузиться в изучение языков, в частности – разнообразных диалектов немецкого. Сразу же стало ясно, что никакой психологии здесь найти не удастся.
Однако при существовавшем тогда свободном посещении лекций студенты могли по своему желанию слушать кого угодно. Так, Зейгарник побывала на лекциях А. Эйнштейна. Впоследствии она вспоминала, что ничего не поняла из его слов, но была очарована обаянием этого «большого ребенка с лучистыми синими глазами».
Случайно попав на лекцию профессора М. Вертгеймера, Зейгарник поняла, в какое русло ей следует направить свой интерес. После лекции она подошла к профессору и с юношеской непосредственностью заявила, что ей очень нравится теория гештальт-психологии. Вертгеймер вполне серьезно ответил: «Мне она тоже нравится».
Вертгеймер, как известно, входил в триумвират, который создал программу гештальтистского направления. К этому триумвирату относят также В. Кёлер а и К. Коффку. Келер возглавлял Берлинский институт психологии, Вертгеймер был там профессором, Коффка периодически читал лекции.
Преподавал в Берлинском институте и Курт Левин. В те годы его психологическая теория была еще в стадии становления. Близкий по своим научным взглядам гештальтистам, он тем не менее не входил в их круг, что впоследствии дало повод исследователям рассматривать его теорию как вполне автономную.
Зейгарник познакомилась с Левином в 1924 году, стала посещать его семинар. Среди прочих авторитетных ученых именно Левин привлек ее тем, что непосредственно занимался психологией личности. Именно эта сфера интересовала Зейгарник.
Левин не скрывал своего пренебрежения к так называемой академической психологии, из поля зрения которой выпадала личность и движущие ею мотивы, потребности, квазипотребности и их зависимости от социального окружения. Ориентация на изучение поведения личности в ее среде (в дальнейшем Левин называл среду жизненным пространством) отличала его подход от подхода многих гештальт-психологов. В исследованиях последних доминировала, говоря современным языком, когнитивистская установка, и категориальная сетка психологического мышления стягивалась к категории образа, а не мотива, как у Левина.
Вокруг Левина сложился круг его ближайших последователей и учеников, в который входили несколько студентов из Германии, а также России, США и даже Японии. Зейгарник вошла в их число.
Параллельно Зейгарник продолжала посещать занятия и у других преподавателей. Она часто бывала в психиатрической клинике К. Гольдштейна, который был близок гештальтистам своим учением об организме как целом. Она прослушала курс лекций Э. Шпрангера, который запомнился ей как блестящий лектор. Шпрангер, однако, не только не примыкал к гештальтистам, но и был их противником. Узнав, что Зейгарник посещает семинар Левина, он принялся настойчиво ее отговаривать от этого. Сходной со Шпрангером позиции придерживался и М. Дессуар, преподававший эстетику, но постоянно касавшийся вопросов психологии. Он отрицательно относился к гештальт-теории. Однако взглядов Зейгарник это не поколебало. Она нашла себя в школе Левина.
Сам Левин, который был ненамного старше своих учеников, выступал для них не только учителем, но и другом-единомышленником. Зейгарник вспоминала, что общение с Левином отличалось от принятого в академических кругах. С теми, кто становился его учениками, Левин постоянно общался вне стен университета, нередко приглашал к себе домой. Сквозь призму психологических проблем велись беседы на самые разные темы, в частности, и о художественной литературе, знатоком которой, особенно Толстого и Достоевского, был Левин. Его научная школа стала своего рода семьей, о которой он заботился.
Человек с общительным, живым характером, Левин вовлекал своих учеников в особую «игру-поиск», часто делая предметом исследования непосредственные житейские наблюдения над людьми. Так, его семинары часто проходили в кафе за чашкой кофе. В частности, сам феномен запоминания незавершенных действий был «подсмотрен» именно в такой ситуации. Дело было так. Внимание психологов привлек тот факт, что официант, приняв у них заказ, не сделал никаких записей, хотя перечень заказанных блюд был обширным, и принес к столу все, ничего не забыв. На замечание по поводу его удивительной памяти он пожал плечами, сказав, что он всегда точно помнит, какие блюда заказывают клиенты. Тогда психологи опросили его припомнить, что выбрали из меню посетители, которых он обслуживал до них и которые только что ушли из кафе. Официант растерялся и признался, что не может сколь-нибудь точно воспроизвести тот заказ. Вскоре после этого случая возник замысел проверить экспериментально, как влияет на запоминание завершенность или незавершенность действия. Эту работу и проделала Зейгарник.
Она просила испытуемых за ограниченное время решить некую интеллектуальную задачу. Время решения определялось Зейгарник произвольно, так что она могла позволить испытуемому найти решение либо в любой момент заявить, что время истекло и задача не решена.
Выяснилось, что в случае, если решение задачи не доведено до конца, прервано, то она запоминается лучше по сравнению с задачами, решение которых было благополучно найдено участниками эксперимента. Число запомнившихся прерванных задач примерно вдвое превышает число запомнившихся завершенных задач. Можно предположить, что определенный уровень эмоционального напряжения, не получившего в условиях незавершенного действия разрядки, способствует сохранению этого действия в памяти. Эта закономерность получила название «эффект Зейгарник».
Умение всматриваться в обыденную жизнь, видеть за ее мелочами глубокие психологические корни развилось у Зейгарник, по-видимому, в значительной степени именно в годы работы с Левином. В течение всей последующей жизни она совершенствовала эти навыки, опираясь на данные наблюдений в своей исследовательской работе.
В 1927 году Зейгарник окончила Берлинский университет. Она успешно защитила диплом, посвященный открытому ею феномену запоминания незавершенных действий. Данные ее исследований были обнародованы еще раньше: о них сообщил Левин в своем докладе на VIII Международном психологическом конгрессе (Гронинген, 1926).
Сорок лет спустя подсчитали, что уточнению и толкованию эффекта Зейгарник было посвящено свыше 160 научных работ, а соответствующими экспериментальными исследованиями было охвачено свыше 30 тысяч испытуемых. Трактовки данного феномена предпринимались в рамках различных направлений, за исключением, пожалуй, психоанализа. Правда, одним из сотрудников Фрейда была предпринята попытка повторить опыты Зейгарник с целью психоаналитической интерпретации их результатов: в докладной записке, адресованной Фрейду, он обосновывал целесообразность такой работы. Однако, по свидетельствам очевидцев, Фрейд с гневом отбросил эту записку, заявив, что психоанализ в экспериментальном подтверждении не нуждается. Так или иначе, эффект Зейгарник – подлинно научный феномен, объективно наблюдаемый и воспроизводимый, чего не скажешь, например, о комплексе кастрации.
В 1931 году Зейгарник вернулась на родину с разу же включилась в научную деятельность. Она работала в психоневрологической клинике Института экспериментальной медицины, став ближайшим помощником Л.С. Выготского. В те годы она сближается со многими выдающимися советскими психологами, становится их соратницей и единомышленницей.
Тридцатые годы явились для Зейгарник временем тяжелых испытаний. Нарастало идеологическое давление на науку, омрачалась политическая и нравственная атмосфера в стране. Безвременная смерть Выготского, по мнению Зейгарник, была отчасти обусловлена этим: в атмосфере огульной критики (легко перераставшей в травлю, а затем и в прямые репрессии) он, по ее словам, «сделал все, чтобы не жить», не искал в себе сил бороться с мучившей его болезнью.
В 1938 году был арестован муж Блюмы Вульфовны. Она осталась одна с малолетним сыном на руках, второй сын родился вскоре после ареста мужа… Он так никогда и не увидел своего отца (тот погиб в застенках Лубянки). Страх, неуверенность в будущем, материальная неустройенность поселились в семье Зейгарник на долгие годы. Среди немногих верных друзей были А.Р. Лурия и С.Я. Рубинштейн. Сусанна Яковлевна Рубинштейн оставалась подругой и соратницей Б.В. Зейгарник до последних дней ее жизни.
В годы Великой Отечественной войны, эвакуировавшись из Москвы, Зейгарник работала в нейрохирургическом госпитале на Урале. Она принимала активное участие в работе по восстановлению психической деятельности тяжелораненых. В этот период укрепляются ее научные и личные контакты со многими крупнейшими психологами страны – А.Р. Лурией, А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, С.Г. Геллерштейном. Впоследствии она с большим теплом и любовью вспоминала о них, отмечая, что именно в этот период под влиянием общения с психологами школы Выготского и оформились ее представления о патопсихологии как особой отрасли знания.
После войны Зейгарник возглавила лабораторию психологии в Институте психиатрии, созданную при ее активном участии. Здесь в сотрудничестве с очень небольшим поначалу коллективом единомышленников сформировалась экспериментальная патопсихология как самостоятельная научная дисциплина на стыке общей психологии и психиатрии. И хотя задолго до этого в нашей стране было опубликовано немало психологических трудов по исследованию патологии памяти, внимания, мышления, личности, именно благодаря Зейгарник патопсихология из разрозненной области знания превратилась в особую ветвь науки со своей систематизированной теоретической проблематикой, развернутой программой подготовки кадров, очерченной областью практического приложения.
Теоретические и экспериментальные исследования обобщены Зейгарник в книгах, ставших настольными для любого патопсихолога, – «Нарушения мышления у психически больных» (1959), «Патология мышления» (1962), «Введение в патопсихологию» (1969), «Основы патопсихологии» (1973), «Патопсихология» (1976). Научные тексты Зейгарник прозрачны и просты. Простота изложения сложных научных положений была важнейшим принципом ее творчества. Она любила родной язык, в частности, критически относилась к его засорению англицизмами.
Интерес к человеку, наблюдательность в сочетании с высоким профессионализмом психолога-клинициста делали Зейгарник исключительно проницательным человеком, понимающим другого при первом взгляде на него. Вслед за мастерами прошлого, для которых при оценке человека было важно все: походка, речь, взгляд, рукопожатие и т. д., Зейгарник также считала важными все эти внешние проявления, умела их увидеть, оценить и составить психологический портрет человека. Этому она учила и студентов-психологов, молодых специалистов, своих сотрудников.
В людях Зейгарник особенно ценила качество, называемое ею опосредствованностью. Имелось в виду умение человека критически оценить себя, способность самостоятельно справиться с внутренними проблемами. В этой связи она крайне скептически относилась к возможности широкого использования психотерапии. По ее мнению, развитая, гармонично организованная личность должна уметь самостоятельно «отрегулировать» свой внутренний мир. В психотерапии, считала она, нуждаются люди незрелые, с несформированной системой психической саморегуляции. «Мы же с вами, – говорила она одному из своих собеседников, – не пойдем в психотерапевтическую группу».
Блюма Вульфовна Зейгарник прожила долгую, но далеко не безоблачную жизнь: это была жизнь-борьба, жизнь-преодоление, жизнь-поиск. Мужественная и жизнелюбивая, душевно щедрая и открытая всему истинно прекрасному, она была искренне любима и почитаема психологами разных поколений.
Э. Фромм (1900–1980)
Эрих Фромм – выдающийся мыслитель ХХ века, во многом определивший общественные настроения своей эпохи. Немного найдется психологов, чьи идеи пользовались бы столь широкой популярностью во всем мире (еще при жизни Фромма его основные труды выдержали десятки переизданий миллионными тиражами). В то же время множество практических психологов, увлеченных диагностическими и тренинговыми манипуляциями, почти ничего не знают о Фромме, так как ни тем, ни другим он никогда не занимался. Его труды в основном посвящены философским, этическим, социально-психологическим вопросам природы человека, его места в мире, смысла его существования. А ведь это, по сути дела, и есть те стержневые вопросы, вокруг которых ветвятся все прикладные психологические исследования и разработки. Поэтому обратимся с вниманием и почтением к истории становления его идей.
Эрих Фромм родился 23 марта 1900 г. во Франкфурте-на-Майне в еврейской семье. Его мать, Роза Фромм, в девичестве Краузе, была дочерью раввина, эмигрировавшего из России, а ее дядя, Даян Людвиг Краузе, слыл одним из самых авторитетных талмудистов в Познани. Под влиянием этого двоюродного деда, который регулярно присылал мальчику указания по чтению Талмуда, юный Эрих намеревался посвятить свою жизнь изучению и проповеди иудаизма. Этому способствовал весь уклад семейной жизни. Отец Эриха, Нафтали Фромм, также был сыном и внуком раввинов и, хотя без особого энтузиазма посвятил себя торговле, сохранял и поддерживал в семье ортодоксальные религиозные традиции. Целыми днями он просиживал в своей скромной лавочке над священными книгами, всякий раз сетуя, что покупатели отвлекают его от столь благочестивого занятия. Нетрудно догадаться, что при таком подходе к коммерции финансовые дела семьи шли из рук вон плохо.
Еврейская среда, из которой вышел Фромм и связь с которой он сохранял до конца своих дней, не имела ничего общего с миром прагматичных и корыстных дельцов. Сам Фромм называл свой мир докапиталистическим, а иногда и просто средневековым, подчеркивая, что атмосфере, в которой он воспитывался, был абсолютно чужд буржуазный дух рубежа ХIХ-ХХ веков. Фромм вспоминал: «Я приходил в недоумение, когда кто-либо в моем присутствии признавал, что является дельцом, то есть тратит свою жизнь на добывание денег. Мне становилась за него очень стыдно». Ведь, согласно иудаистской традиции, конечной целью всякого труда, любой деятельности является самосовершенствование, а самое верное средство для этого – хозяйственная самостоятельность; поэтому собственность может служить не целью, но лишь средством достижения свободы ради удовлетворения духовных запросов. По сути дела, эта идеология и нашла воплощение в философской концепции Фромма, хотя уже вне тесной связи с иудаистской традицией, от которой Фромм постепенно отходил по мере того, как расширялись его интересы.
Характерно, что в Священном Писании Фромма привлекали и воодушевляли весьма специфические моменты – история грехопадения Адама и Евы, заступничество Авраама за жителей Содома и Гоморры, судьба пророка Ионы. Наверное, еще в юношеских штудиях зародилась та мысль, которую Фромм высказал много лет спустя и которую с энтузиазмом подхватило поколение молодых бунтарей шестидесятых: «История человечества начинается с акта непослушания, что в то же время есть начало его освобождения и интеллектуального развития».
«Грехопадение» самого Фромма произошло на редкость банально. Однажды, чувствуя сильный голод, он был привлечен вкусным запахом, исходившим из уличного киоска. Недолго думая, юный талмудист купил и съел на ходу горячую свиную сосиску – поступок для благочестивого иудея немыслимый. И мир не перевернулся! Более того, юноша не ощутил себя грешником, не почувствовал, что стал хуже. Может быть, той самой сосиске мы обязаны тем, что мир потерял заурядного раввина, но приобрел замечательного психолога.
Во Франкфурте Фромм посещал национальную школу, в которой, наряду с основами вероучения и религиозными традициями, преподавались и все предметы общеобразовательного цикла. В 1918 г. он сдал экзамены на аттестат зрелости и после недолгих колебаний остановил свой выбор не на продолжении религиозного образования, а на изучении права. Такой выбор не был чем-то радикальным, поскольку Фромм понимал право как «кристаллизованный минимум этики какого-либо общества». Однако перспектива стать юристом быстро утратила для него привлекательность, и он отправился в Гейдельберг изучать философию, социологию и психологию.
Престиж социологии в Гейдельбергском университете был утвержден Максом Вебером, с которым Фромм, однако, познакомиться не успел. Он изучал социологию у его брата Альфреда Вебера и под его руководством защитил в 1922 г. докторскую диссертацию.
Важным событием в личной жизни и научной карьере Фромма явилось знакомство с Фридой Райхман, которая до того успела побывать ассистенткой Курта Гольдштейна, потом – основателя школы аутогенной тренировки И.Х. Шульца, а в 1923 г. освоила психоанализ в Берлинском психоаналитическом институте под руководством Ганса Сакса. В 1924 г. Фрида Райхман открыла в Гейдельберге, на Менхофштрассе, 15 пансионат «Терапойтикум», в котором стала практиковать психоанализ.
Знакомство состоялось через третье лицо и поначалу носило чисто приятельский характер. Однако довольно скоро Фрида Райхман сумела заинтересовать Фромма психоанализом и предложила выступить для него аналитиком. И подобно историям Шандора Радо и Вильгельма Райха, женившихся на своих пациентках, терапевтическая связь между Фридой Райхман и Эрихом Фроммом привела к женитьбе (вот и попробуй после этого не спутать любовь с трансфером!). Многие недоумевали, что ни аналитические откровения, ни солидная разница в возрасте (Фрида была на 10 лет старше) не воспрепятствовали браку. Впрочем, сомнения оказались небезосновательными. Прожив вместе всего 4 года, супруги расстались (развод был оформлен лишь в 1940 г. в США, где их пути снова случайно сошлись). Впрочем, добрые отношения им удалось сохранить, и все последующие годы Фрида жила под двойной фамилией – Фромм-Райхман, под которой и получила немалую известность.
Психоаналитическую подготовку Фромм завершил в берлинском Институте, который с конца 20-х годов все более становился центром притяжения аналитиков и их клиентов и оспаривал первенство у венского. В разные годы здесь практиковали и преподавали Шандор Радо, Франц Александер, Макс Эйтингон, Ганс Сакс, Вильгельм Райх, Рене Спитц и другие видные аналитики. Здесь Фромм близко познакомился с Карен Хорни, чья протекция впоследствии обеспечила ему должность профессора в Чикаго.
В 1925 г. Фромм, завершив обязательную психоаналитическую подготовку (серьезным изъяном которой, впрочем, считалось отсутствие у него медицинского образования), открыл собственную частную практику. Среди его пациентов оказалось немало американцев. Практикуясь с ними в разговорном английском, Фромм делал большие успехи, что впоследствии позволило ему легко ассимилироваться за океаном.
Первоначально Фромм стоял на позициях ортодоксального фрейдизма, его ранние работы публиковались в солидных психоаналитических журналах, в том числе в авторитетном «Имаго». С Зигмундом Фрейдом он никогда не был лично знаком, но глубоко проникся духом его учения. Со временем, однако, приверженность фрейдистской доктрине стала ослабевать, и в итоге Фромм выступил одним из самых решительных ревизионистов психоанализа.
Обширная практика, общение с пациентами дали Фромму богатый материал для переосмысления соотношения биологического и социального начал в формировании человеческой психики. Анализ эмпирического материала был осуществлен им в период работы в Институте социальных исследований во Франкфкрте-на-Майне (1929–1932). Будучи руководителем отдела социальной психологии института, Фромм в 1932 г. организовал исследование неосознаваемых мотивов поведения больших социальных групп и в результате анализа полученных данных пришел к выводу, что народные массы не только не окажут сопротивления нарождающемуся фашизму, но и своими руками приведут его к власти. Объяснение этому «иррациональному» явлению Фромм видел в механизме «бегства от свободы», когда измученные национальным унижением, безработицей, инфляцией народные массы охотно отказываются от привилегий, даваемых свободой, и с готовностью жертвуют ими в обмен на «порядок» и гарантированную миску баланды. (Не потому ли эта концепция стала психологической классикой, что жизнь подтверждает ее снова и снова?)
Фромм был одним из первых, кто в 1933 году оставил Германию, ибо результаты его изысканий заставили отказаться от всяких иллюзий. (Те его коллеги, кто продолжал питать иллюзии о «твердой руке» и «новом порядке», впоследствии были вынуждены спасаться паническим бегством, а иным и этого не удалось).
Фромм поселился в США, где в 1941 г. увидела свет написанная им по-английски книга «Бегство от свободы», разоблачавшая различные модификации тоталитаризма. Книга принесла автору известность в Америке и вызвала к нему ненависть в Германии, куда он и после окончания войны уже не вернулся. В Америке – сначала в США. А затем в Мексике – Фромм занимается широкой исследовательской и педагогической деятельностью, ведет большую клиническую практику, пишет и издает книги, приносящие ему все большую славу: «Человек для себя» (1947), «Сказки, мифы и сновидения» (1951), «Здоровое общество» (1955), «Искусство любви» (1956), «Революция надежды» (1968), «Иметь или быть?» (1976) и др. (в наши дни большинство основных произведений Фромма издано в переводе на русский язык). Последнюю из названных книг можно считать откликом на сочинение французского философа Г.Марселя «Быть или иметь?», где высказано много близких Фромму суждений о негативных аспектах технократической цивилизации с ее неконтролируемым культом потребления. Подзаголовок книги Фромма ясно обозначает направление его поисков – «В направлении гуманизированной технологии».
Переосмысление и творческое развитие теории Фрейда поставило Фромма во главе одного из влиятельных направлений современной гуманитарной науки – неофрейдизма. (Хотя его небезосновательно причисляют и к теоретикам гуманистической психологии. Идея самоактуализации явно прослеживается в его суждении: «Главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий – его собственная личность») Фромм стремится перенести акцент с биологических мотивов человеческого поведения в психоанализе на социальные факторы и тем самым как бы уравновесить два этих начала. В этом он, в частности, опирается на марксистскую концепцию отчуждения человека от своей сущности в процессе труда и жизнедеятельности, когда человек используется как средство, но не как цель. Различные варианты синтеза фрейдизма с марксизмом были вообще свойственны многим представителям Франкфуртской школы, но они разошлись во взглядах на роль революционности в преобразовании общественных структур. Так, Г.Маркузе, с которым Фромм лично и заочно полемизировал еще в Европе, в своей книге «Эрос и цивилизация» обвинял неофрейдистов, прежде всего К.Хорни и Э.Фромма, в том, что они трансформируют фрейдизм в моральную проповедь – конформистскую и годную (вернее, негодную) для всех времен и культур. Фромм же критиковал в учении Маркузе те идеи, которые поставили последнего в ряд вождей так называемой молодежной революции 1968 г. Маркузе предлагает революционный, «хирургический» способ лечения болезней общества потребления; Фромм более склонен к «терапевтическим» методам воспитания, просвещения, гуманизации на основе вечных нравственных ценностей, которые, лишь сохраняясь в душе отдельного человека, не исчезнут и в обществе. Здесь, как мы видим, старинный философский спор об основаниях – с чего начинать: с «я» или с «мы»? Фромм понимал, что история творит человека, и этому посвящена одна из самых известных его книг – «Человек для себя». Смысл книги и ее названия станет ясным, если привести слова, взятые Фроммом из Талмуда (годы ученичества не прошли даром) в качестве эпиграфа:
Если я не за себя, то кто же встанет за меня?
Если я только для себя, то кто же я такой?
Если не сейчас, то когда?
Фромм проанализировал типы социальных характеров, формирующиеся различными типами культур, показал роль гуманистической и авторитарной этики в этом формировании и пришел к заключению, что человек может, а значит и должен противопоставить внешнему авторитету власти и анонимному авторитету общественного мнения свои собственные разум и волю. То есть спасение от авторитарности во всевозможных ее видах Фромм видел в самостоятельности и самосовершенствовании человека.
Эта мысль является главной и для, пожалуй, самой известной его книги «Искусство любви». Человеку предстоит самостоятельно выбирать путь меж двух бездн – агрессивности и покорности. Разумом он отличается от прочих живых существ, и кроме разума ему не на что рассчитывать. Однако не следует считать Фромма сугубым рационалистом, ведь он имел огромный опыт изучения человеческой иррациональности и не мог недооценивать ее роль на личностном уровне и особенно на уровне больших социальных групп. Еще накануне второй мировой войны он показал, что тоталитаризм, то есть подавление независимой мысли и свободы воли, – результат не только узурпации и террора власти, но и неспособности миллионов людей ценить и любить свободу и разум, что делает их молчаливыми соучастниками злодеяний, а то и палачами.
По существу, и в сегодняшнем мире единственным достойным и надежным противодействием иррациональной деструктивности остаются только разум и добрая воля. «Здоровое общество», о котором размышлял Фромм, все еще не построено. Одиночество, отчуждение, бегство от угнетающей реальности в мир наркотических иллюзий, психопатология в обыденной и общественной жизни, изнурительная рутина сизифова труда – разве это не наши сегодняшние проблемы? Поэтому и сегодня актуально звучат слова Фромма: «Человек не может жить без веры. Решающим для нашего и следующего поколений является вопрос о том, будет ли это иррациональная вера в вождей, машины, успех, – или рациональная вера в человека, основанная на опыте нашей собственной плодотворной деятельности».
М. Мид (1901–1978)
Все-таки живем мы неправильно! Страдаем тяжелыми комплексами, тяготимся нелепыми ограничениями, натужно исполняем бессмысленные ритуалы. И детей своих растим такими же страдальцами, потому что иначе не умеем…
Похожие мысли временами приходят в голову почти каждому. И тому, кто решится произнести их вслух, да еще убедительно аргументировать, наверняка обеспечена восторженная аудитория. А если не ограничиться критикой, а предложить конструктивную альтернативу, овация будет нескончаемой.
В адрес Маргарет Мид такая овация не стихает уже более полувека. Педагоги, социологи, культурологи всего мира цитируют ее взахлеб, психологи преклоняются перед ее авторитетом. В кругах интеллектуалов рубежа веков поговорить о воспитании детей или построении здорового общества, не упомянув при этом идеи Мид, стало решительно невозможно. И это при том, что начинала она свою многогранную деятельность как рядовой антрополог и не претендовала на большее, чем описание туземных нравов на далеких островах. Увиденное, однако, воодушевило ее настолько, что отчеты об экспедициях вылились в настоящий революционный манифест. Впрочем, как почти при всяком революционном перевороте, не обошлось без скандальных разоблачений, выставляющих пророка не в самом благовидном свете. Кто же такая Маргарет Мид и что такого она открыла в южных морях, что ухитрилась вызвать бурю восторгов с одной стороны и бурю негодования – с другой?
Маргарет Мид родилась 16 декабря 1901 года в Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания. Она стала первым ребенком появившемся на свет в только что отстроенной больнице Уэст Парк. Родители Маргарет происходили из семей квакеров, были людьми весьма образованными и придерживались передовых для того времени взглядов. Отец, Эдвард Шервуд Мид, был профессором экономики Пенсильванского университета, а мать, Эмили Мид, феминистка и социолог, изучала жизнь эмигрантских семей.
Можно сказать, что интерес к социальным наукам, как и тягу к образованию, Маргарет впитала с молоком матери. Сегодня этим никого не удивишь, но в пуританской Америке начала прошлого века стремление к собственной карьере не было общепринятым для женщин среднего класса.
Семья часто переезжала с места на место, и Маргарет приходилось каждый раз заново привыкать к новой школе и новым товарищам. Из-за этого ее отношения со сверстниками не всегда складывались гладко. Отношения с родителями, по-видимому, тоже не были безоблачными, во всяком случае в своей автобиографии «Иней на цветущей ежевике» Маргарет о них почти не упоминает.
Еще в школьные годы она познакомилась со своим будущим мужем Лютером Крессманом. Их свадьба состоялась в 1923 году, когда она уже училась в Колумбийском университете. Однако судьбу Мид в большей мере определили другие знакомства, состоявшиеся в студенческие годы. Под влиянием Франца Боаса, крупнейшего в те годы авторитета в антропологии, Маргарет увлеклась этой наукой и стала работать под его руководством.
В ту пору в американской науке шел яростный спор о соотношении биологических (наследственных) и социальных факторов в развитии человека и общества. Франц Боас, наставник Мид, склонялся в пользу идей культурного детерминизма – он считал культуру и воспитание основополагающими факторами развития человека и общества, не случайно его научная школа получила название культурной антропологии.
Изучение «примитивных» обществ открывало уникальные возможности для ответа на вопрос, насколько универсально человеческое поведение, в какой мере оно подвержено культурным влияниям. Поэтому Боас и его сотрудники изучали эскимосов, квакиютлей, зуньи, пуэбло и прочие «отсталые» народы. Но их исследования ограничивались территорией Северной Америке, а Маргарет Мид предстояло гораздо более дальнее странствие.
В 1925 году молодая исследовательница по заданию своего научного руководителя отправилась на острова Восточного Самоа в южной части Тихого океана для изучения туземных нравов. Боаса прежде всего интересовала проблема становления личности в детском и подростковом возрасте. В западной культуре подростковый возраст традиционно считается (а в большинстве случаев на самом деле является) «переходным», «трудным». Было очень интересно узнать, так ли это в другом обществе, в рамках совершенно иной культуры. Как протекает конфликт отцов и детей у народа, мало затронутого западной цивилизацией? Если в далеких краях удастся обнаружить какие-то специфические особенности данного явления, то тем самым удастся подтвердить, что социальные условия играют в становлении человека более важную роль, чем якобы универсальная «человеческая природа».
С заданием Мид справилась блестяще – по крайней мере, если судить по полученным ею результатам. За год она опросила десятки самоанских девушек и девочек-подростков (понятно, что с юношами ей было труднее найти общий язык) и пришла к сенсационным выводам. По ее наблюдениям, так называемый пубертатный кризис, который типичен для западного общества, в этой островной культуре просто не существует. Процесс становления личности протекает гладко и постепенно, без обострений и конфликтов. Растущие дети легко ладят со старшими, поскольку те не задают им непосильных требований, а с другой стороны – почти не сковывают их никакими ограничениями. В основном – и Мид обращала на это особое внимание – это касается сексуальной сферы. Тут царит полная раскованность. Добрачные половые связи, в основном кратковременные, практикуются с самого юного возраста, и это никого не смущает и не шокирует. Результаты – потрясающие. На Самоа практически отсутствуют преступления на сексуальной почве, как и вообще какая бы то ни было преступность. Эти райские места населены психически здоровыми, уравновешенными и по-настоящему счастливыми людьми, которым чужды депрессии, комплексы и неврозы. Надо ли говорить, что ни о каком конфликте отцов и детей тут нет и речи. Психиатрам и психоаналитикам на Самоа просто нечего делать!
В июне 1926 года ее экспедиция завершилась, и вскоре Мид отправилась в шестинедельное океанское плавание в Европу. На борту она познакомилась с молодым новозеландским психологом Рео Форчуном, которым увлеклась настолько, что в Марселе даже не заметила, как судно причалило к пирсу. Между тем на пристани ее встречал муж, специально для этого приехавший в Европу. Но Маргарет было уже не до него, вскоре она развелась, чтобы выйти замуж за Рео. Правда, и этот брак продлился недолго. В 1932 году в очередной экспедиции на Новой Гвинее Маргарет и Рео познакомились с британским психологом и антропологом Грегори Бейтсоном. Возник сложный любовный треугольник, разрешившийся в итоге разводом Маргарет с Рео и замужеством с Грегори. В этом третьем браке, продлившемся 14 лет и также завершившимся разводом, Маргарет родила дочь. Как это ни парадоксально, столь бурная судьба не помешала ей, трижды разведенной матери единственного ребенка, приобрести репутацию крупнейшего специалиста по семейным отношениям и воспитанию детей.
Научным же итогом первой экспедиции стала защита докторской диссертации и выпуск книги «Взросление на Самоа». Именно эта публикация и прославила Мид на весь мир. Книга вышла в 1928 году с предисловием самого Боаса, что сразу привлекло к ней внимание ученых. Но и на широкую публику эта работа произвела сильное впечатление. Увлекательно и образно написанная, совершенно свободная от научного занудства, книга сразу стала бестселлером, продается и читается до сих пор (общий тираж в Америке превысил два миллиона экземпляров) и переведена на семнадцать языков, в том числе фрагментарно и на русский. Сама Мид очень любила свою книгу и при переизданиях никогда ее не переделывала, а только снабжала новыми предисловиями. Многочисленных читателей книга привлекает тем, что доходчиво и наглядно разъясняет: привычные для нас проблемы не являются «общечеловеческими» и вызваны специфическими особенностями, характерными для нашего образа жизни. Стоит изменить этот образ жизни по примеру самоанских «детей природы» – и наступит всеобщее душевное благоденствие.
Впоследствии она написала еще несколько книг – «Как растут на Новой Гвинее», «Пол и темперамент в трех примитивных обществах» и др. – ни одна из которых, впрочем, так и не сравнилась по популярности с ее первым бестселлером.
В начале 50-х Мид предприняла попытку психологического анализа русского менталитета – с ее точки зрения, не менее интересного, чем менталитет полинезийцев и папуасов. Характерно, что в России она никогда не бывала. Не известно также, была ли она вообще знакома хоть с кем-то из русских. Похоже, изыскания знаменитого антрополога ограничились прочтением литературной классики. Из этих авторитетных источников (за что Федору Михайловичу и Льву Николаевичу отдельное спасибо!) она вынесла следующее заключение. По ее мнению, русский национальный характер отличается следующими чертами:
склонность к насилию;
хитрость, порождающая бесконечные заговоры;
истеричная исповедальность;
страх перед врагами, которые часто даже не имеют четкого определения;
анархизм;
неумение находить компромисс;
маниакальные поиски истины;
неизбывное чувство вины.
И чтобы вы думали – лежит в основе всех этих черт? По мнению Мид, – русская манера туго пеленать младенцев и удерживать их в таком скованном состоянии вплоть до 9-месячного возраста. Долгие периоды полной пассивности и бурная эмоциональная разрядка в моменты «распеленания» отразились на общем ритме русской жизни и предопределили все типические черты национального менталитета.
Неудивительно, что эта идея пришлась по душе западным психоаналитикам. Ведь она, с одной стороны, оказалась вполне созвучна фрейдистской доктрине, с другой – предлагала доходчивое объяснение «загадок русской души».
Стоит ли нам доверять суждению знаменитого антрополога? Или обидеться? Вот самоанца, например, обиделись на Мид очень сильно. И лишь не так давно стало ясно – почему.
В 1983 году, через пять лет после смерти Мид, австралийский этнограф Дерек Фримэн опубликовал сенсационную книгу «Маргарет Мид и Самоа. Создание и развенчание одного антропологического мифа». Сам Фримэн свыше сорока лет посвятил изучению быта и нравов самоанцев и пришел в недоумение от того, насколько расходились его собственные наблюдения с суждениями Мид.
Уже из названия книги ясно, что автор вознамерился сокрушить бесспорный авторитет всемирно признанного антрополога. По его мнению, книга Мид «Взросление на Самоа», на которой основывалась ее мировая слава, является не столько отчетом о научной экспедиции, сколько художественным вымыслом, совершенно искажающим истинный образ жизни островитян. Следовательно, и какие бы то ни было выводы из этого творения – психологические, социологические, педагогические – абсолютно не обоснованы.
По наблюдениям Фримэна, о бесконфликтности подросткового возраста у самоанцев не может быть и речи, они гораздо более воинственны и агрессивны, чем их описывала Мид, а семейное воспитание очень авторитарно и основано на физических наказаниях. Сексуальная вседозволенность – скорее всего плод скабрезных фантазий тех, кого Мид расспрашивала, ибо ничего подобного в действительности наблюдать она не могла. Самоанские девушки во все времена воспитывались в строгости, а половая распущенность жестоко наказывалась – вплоть до членовредительства. Идиллическая картинка жизни на райских островах, нарисованная Мид, – не более чем миф, ибо в действительности душевная патология и преступность здесь сравнимы с тем, что наблюдается и на Западе.
Как же возникло такое недоразумение? Проанализировав материалы первой экспедиции Мид, Фримэн пришел к выводу, что она, в силу разных причин, реально занималась непосредственными исследованиями не год, а от силы месяца полтора. За такое время собрать более или менее обширную информацию невозможно. Обрывочные данные, полученные из случайных источников, Мид представила как результаты широкомасштабного исследования, что само по себе просто некорректно.
Сомнения вызывают не только ее интерпретации, но и сама процедура сбора данных. Дело в том, что Мид практически не знала местного языка! Даже получив высшее образование, она вообще не удосужилась выучить хоть какой-то иностранный язык (для европейца это кажется странновато, но для Америки – в порядке вещей). На Самоа она прибыла с полинезийским разговорником под мышкой. С трудом верится, что этого было достаточно для ведения непринужденных бесед на деликатные темы.
К тому же некоторые опрошенные, похоже, просто издевались над американкой, рассказывая ей непристойные байки. Можете себе представить научное исследование менталитета народов Севера, основанное на анекдотах про чукчу? А ведь в данном случае имело место почти то же самое! Про русских умолчим, там хоть источники оказались посолиднее…
В научном мире разразился скандал, серьезно подмочивший репутацию… Дерека Фримэна. Ревнители «свободного воспитания», сексуальной революции, феминистки и сторонники неошаманистского движения Нью Эйдж хором обвинили его в казуистике, непочтительности к авторитету, приверженности консервативным общественным нормам. Фримэна заподозрили в том, что свои выводы он не обнародовал при жизни Мид, опасаясь ее контраргументов. Заметили и то, что работал он на Западном Самоа, а не на Восточном, как Мид, что якобы лишает его суждения научной достоверности.
Маргарет Мид до конца жизни купалась в лучах славы, вела активную научную и общественную жизнь. В Америке она была не менее популярна, чем знаменитый Бенджамин Спок – однажды они даже выступили в совместном радиоинтервью, полностью придя к согласию по большинству проблем воспитания. Мид вела регулярную рубрику в журнале «Редбук», часто выступала в Конгрессе США по социальным вопросам, участвовала в работе Организации Объединенных Наций, была удостоена премии ЮНЕСКО. Ну и что с того, что где-то на далеких островах жизнь совсем не такая, как она ее описала? Зато ведь верно угадала, чего от нее хотят услышать!
П.Я. Гальперин (1902–1988)[9]
Согласно распространенной точке, личность творца неотделима от его творений. Далеко не всегда это положение оказывается верным. Однако жизнь П.Я. Гальперина – как личная, так и профессиональная – целиком и полностью подтверждает идею о неразрывном единстве личности ученого и созданной им теории. П.Я. Гальперин, отличавшийся от многих своих современников-ученых последовательностью научных, таким же, по свидетельствам очевидцев, был и в жизни.
При упоминании его имени перед глазами встает худой человек невысокого роста, абсолютно седой, с большим носом, в очках. Запомнилась его ироничная улыбка, красивые, как бы отточенные движения, негромкий спокойный голос. В аудиторию Петр Яковлевич всегда входил с портфелем, но во время лекций к записям почти не обращался. Говорил медленно, четко формулировал свою мысль, останавливая внимание слушателей на ключевых положениях. Его лекции вызывали большой интерес именно потому, что Петр Яковлевич всегда отвечал на многочисленные записки с вопросами.
По свидетельствам учеников и сотрудников, П.Я. Гальперин был отзывчивым и доброжелательным человеком. Его квартира являлась местом проведения интереснейших встреч и дискуссий. Отличительной чертой, на которую указывают современники П.Я. Гальперина, была его скромность. Петр Яковлевич публиковался до обидного мало. работа с его личным архивом позволяет предположить, что скромность сочеталась с очень высокой требовательностью. Статьи переписывались по 5–7 раз, главная книга «Введение в психологию» писалась более 20 лет (первые записи относятся к середине 50-х годов, а книга увидела свет в 1976 году).
Хотя печатных работ у него немного, но каждая из них – будь то статья в журнале или тезисы к конференции, интервью или брошюра – может быть рассмотрена как маленький психологический шедевр. Петр Яковлевич Гальперин безусловно занимает одно из первых мест в ряду выдающихся советских психологов. Мировую известность принесла ему теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий.
Исследуя теоретические вопросы обучения и умственного развития, он разработал принципиально новый подход к практике школьного обучения; экспериментально показал, что возможно быстрое и эффективное усвоение без проб и ошибок основных положений любых предметных знаний (математики, физики, русского языка и др.). Представления ученого об организации усвоения знаний логически вытекает из предложенного им оригинального понимания предмета психологии как науки об ориентировке субъекта в предметной ситуации. П.Я. Гальперин создал новый метод изучения психических процессов, принципиально отличающийся от широко распространенного у нас в стране и за рубежом тестового метода исследования. Теоретически и экспериментально доказал, что магистральный путь исследования психических явлений – их построение с заданными свойствами.
Его имя хорошо известно зарубежным коллегам, его книги переведены на многие языки. Однако теоретическое наследие изучено недостаточно. До сих пор не написана биография. Это обусловлено рядом жизненных обстоятельств: многочисленные переезды мешали сохранению семейных архивов.
Петр Яковлевич Гальперин родился в 1902 году в Тамбове. Его отец Яков Абрамович Гальперин в то время был уездным врачом-отоларингологом, впоследствии он стал известным нейрохирургом. Мать София Моисеевна Маргулис была дочерью купца первой гильдии и вышла замуж за сына типографского рабочего вопреки воле родителей. В 1911 году семья переехала в Харьков, где маленький Петя пошел учиться в единственную в России гимназию с совместным обучением мальчиков и девочек. В той же гимназии в том же классе училась и Тамара Израилевна Меерзон, впоследствии жена Петра Яковлевича. По воспоминаниям сестры Полины Яковлевны Слободской, брат рос живым и озорным мальчиком. Однажды на школьной переменке он так бесился и танцевал на крыше погреба, что провалился прямо в бочку со сметаной.
Самое сильное переживание детства связано с трагической гибелью матери: ее сбила машина на глазах у сына (по разным сведениям, ему в то время было 12 или 15 лет). Петр Яковлевич вспоминал, как в детстве любил сидеть рядом с матерью и распутывать нитки для вязания. Впоследствии он говорил о поисках нити Ариадны, когда предстояло найти ответ на вопрос о происхождении психологических явлений. Можно предположить, что Петр Яковлевич видел двойной смысл этого выражения, мысленно возвращаясь в далекие детские годы. После смерти матери в дом вошла сотрудница отца операционная сестра Анна Ивановна, которая благодаря своей доброте смогла стать детям второй матерью.
Петр Яковлевич, по его воспоминаниям, много болел, точного диагноза поставить не могли, но предполагали туберкулез кишечника. Выздоровление наступило неожиданно и необъяснимо. Во время болезни он прочитал много книг по философии и психологии из отцовской библиотеки.
Отец был высокообразованным человеком, с уважением относился к знаниям. Достаточно привести такой пример: в течение двух лет в их семье жил профессор Столпнер, который, будучи почти слепым, первым перевел на русский язык Гегеля. Именно в те юношеские годы у Петра Яковлевича появилось желание найти метод, с помощью которого можно объективно исследовать человеческое мышление. Эту идею как путеводный принцип он сохранил в течение всей жизни.
Когда пришло время определиться в выборе профессии, а это были первые послереволюционные годы, отец посоветовал ему заняться медициной. С 1921 (по другим данным, с 1920-го) по 1926 год Петр Яковлевич обучался в харьковском медицинском институте и получил квалификацию врача-психоневролога.
Начиная с 3-го курса Гальперин посещал неврологическую клинику профессора Платонова, который увлекался проблемами гипноза. Первая научная работа и первая публикация будущего ученого была посвящена влиянию гипноза на пищеварительные лейкоциты. В 1926 году он начал работать в амбулаторном лечебном центре для наркоманов. Обследуя больных, пришел к выводу, что в основе наркомании лежит нарушение процессов метаболизма, которые можно восстановить с помощью яда.
С 1928 года Петр Яковлевич стал работать в психоневрологической лаборатории, которая там же, как и клиника наркомании, была частью психоневрологического института. В 1930 году он совместно с другими сотрудниками пытался объединить Психоневрологический институт с психиатрической клиникой, чтобы основать Всеукраинскую психоневрологическую академию. Хотя официальное учреждение академии так и не состоялось, она стала приглашать в Харьков специалистов из других городов. Именно с этого времени Петр Яковлевич вплотную занялся психологическими исследованиями. Вначале он работал с А.Р. Лурией, но в 1931 году присоединился к харьковской психологической группе, возглавляемой А.Н. Леонтьевым. В состав группы входили Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Н.А. Морозова, Р.Е. Левина, Л.С. Славина. Хотя Петр Яковлевич говорил о большом значении для него встречи с А.Н. Леонтьевым, можно предположить, что все эти люди, ставшие впоследствии известными психологами, а в то время просто влюбленные в психологию, оказывали сильное взаимное влияние друг на друга.
Работая в составе харьковской группы, в 30-е годы Петр Яковлевич пытался обоснованно доказать недопустимость сведения психологии к павловской теории высшей нервной деятельности. В Харькове он несколько раз виделся с Л.С. Выготским (Выготский умер в 1934 году), а впоследствии назвал его «действительно гениальным человеком, единственным в истории советской и русской психологии».
В 1932 году Гальперин был призван на годичную военную службу, по возвращении до 1936 году работал в академии в отделе психологии. В это время он писал кандидатскую диссертацию на тему «Орудие и средство. Различие между орудиями человека и вспомогательными средствами животных» и защитил ее в 1936 году перед медицинским научным советом Психоневрологического института. Но диссертация была принята лишь в 1938 году, так как имела выраженную психологическую направленность. В этой работе впервые было показано четкое психологическое различие между двумя видами действий с предметами: если животные пользуются предметами как продолжением естественных частей тела, то человеческие орудия очень сложные, к ним рука должна приспособиться. До настоящего времени полный текст диссертации не опубликован.
После выхода в свет постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» (1936) Гальперин был вынужден перейти в психиатрическую клинику, на кафедру хронических болезней, где проработал до начала войны, занимаясь в основном психиатрией.
В 1942 году Харьков был оккупирован. Психоневрологический институт, превращенный в госпиталь, переехал в Тюмень. П.Я. Гальперин проработал здесь врачом до начала 1943 гда, когда по приглашению А.Н. Леонтьева переехал в свердловск, где Леонтьев создал реабилитационный центр для лечения двигательных нарушений, возникших в результате ранений. Петру Яковлевичу удалось доказать (работа была начата еще в Тюмени), что важным условием восстановления двигательной функции руки является ее включение в привычную профессиональную деятельность (например, плотника). Кроме того, он убедительно продемонстрировал, что выполнение действия в составе осмысленной деятельности также способствует возвращению движений. Например, больной оказывается не в состоянии просто поднять руку, но может это сделать, например, чтобы достать шляпу.
Осенью 1943 года П.Я. Гальперин приехал в Москву и стал работать доцентом кафедры психологии философского факультета МГУ. В конце 40-х – начале 50-х годов он провел исследования, которые позволили затем сформулировать гипотезу о поэтапном формировании умственных действий и понятий. Впервые о таком подходе Петр Яковлевич заявил в июле 1952 года, выступив в прениях на совещании по вопросам перестройки психологической науки на основе труда Сталина по вопросам языкознания. В июле 1953 года в Москве состоялось еще одно совещание по вопросам психологии, на котором Петр Яковлевич сделал доклад «Опыт изучения формирования умственных действий». С этого времени началась история теории поэтапного формирования (ТПФ) умственных действий.
Согласно данной теории умственное развитие есть результат переноса внешних материальных действий в план восприятия, представлений и понятий. Процесс переноса осуществляется через ряд этапов, на каждом из которых происходит новое воспроизведение действия и его системные преобразования. Петр Яковлевич выделил основные свойства – параметры действия, представления о которых менялись с получением новых экспериментальных фактов и теоретических обобщений. Изменение действий по уровням, по мнению ученого, составляет основу движения по этапам. На первом формируется мотивационная основа, на втором – ориентировочная, от особенностей которой и зависит качество формируемого действия. далее начинается отработка действия. Сначала это происходит в материальной (или материализованной) форме, затем в громкоречевой: ребенок вслух повторяет содержание ориентировочной схемы. После этого постепенно исчезает внешняя сторона речи – действие осуществляется во «внешней речи про себя» и, наконец, речевой процесс уходит из сознания – действие выполняется во «внутренней речи».
Одним из ключевых понятий ТПФ является понятие ориентировки. Петр Яковлевич выделил три типа ориентировочной деятельности и соответственно три этапа учения.
Первый тип характерен для традиционного обучения, второй – для хорошего традиционного, третий – вооружает таким методом исследования, что ребенок оказывается в состоянии самостоятельно решать частные задачи. Три типа имеют разный развивающий коэффициент. Если первый и второй не влияют, по мнению Гальперина, на умственное развитие, то в третьем ярко выступает эффект общего развития. Этот тип обучения дает ребенку четкие средства различения и оценки внутреннего строения и свойств объектов, порождает сильнейший интерес к их изучению; позволяет по-новому подойти к проблеме возрастных возможностей детей, в частности, дошкольников.
Данные теоретические положения легли в основу докторской диссертации, которую Петр Яковлевич защитил в 1965 году, а в 1966 году ему было присвоено звание профессора. С 1971 года П.Я. Гальперин – заведующий кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ, с 1984 года – профессор-консультант. В 1980 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
В 1976 году вышла главная работа П.Я. Гальперина – «Введение в психологию». В этой небольшой по объему книге в сжатом виде изложено оригинальное понимание психологии как главной науки об ориентировочной деятельности. Несмотря на то что книга очень невелика, по глубине и важности представленных в ней проблем она может быть отнесена к числу фундаментальных теоретических работ в области общей психологии.
Петр Яковлевич готовил к печати второе, расширенное издание, но издать не успел. Он умер 25 марта 1988 года. При жизни Петр Яковлевич, как уже говорилось, публиковался мало, поэтому предстоит большая работа по внимательному изучению и систематизации его научного архива. Среди важных событий последних лет хочется отметить выход сборника трудов П.Я. Гальперина «Психология как объективная наука».
Если научный вклад ученого может быть по-разному оценен потомками, то некоторые факты личной биографии говорят сами за себя. Всю жизнь Петр Яковлевич прожил со своей женой Тамарой Израильевной Меерзон. Они были рядом в течение всей долгой совместной жизни и умерли в один год. Книге «Введение в психологию» Петр Яковлевич предпослал посвящение: «Моему дорогому другу, моей жене Тамаре Израильевне Меерзон». Это искреннее выражение любви и признательности. Далеко не каждый оказывается способным испытывать и вызывать такие чувства.
А.Р. Лурия (1902–1977)
Историю психологии ХХ столетия, наверное, лучше всего изучать по многотомному американскому изданию «История психологии в автобиографиях». Эта уникальная серия начала выходить в те годы, когда в США еще не настолько возобладал великодержавный эгоцентризм, которым за версту разит от большинства современных американских книг по психологии. В серии нашлось место автобиографиям многих европейских ученых. Правда, наша страна оказалась представлена скромно. Единственным российским психологом, которому редактор серии Э.Г. Боринг предложил представить для публикации свою научную автобиографию, оказался Александр Романович Лурия. И это был действительно ученый с мировым именем, иностранный член Национальной академии наук США, Американской академии наук и искусств, Американской академии педагогики, почетный член французского, британского, швейцарского, испанского психологических обществ, почетный профессор шести зарубежных университетов. Его труды с 20-х годов и до наших дней издаются на разных языках по всему миру. Лурия не кичился своими заслугами и титулами (ведь для настоящего ученого звания и титулы – побочный продукт, а не самоцель). Однажды он даже возмутился, когда в одной из журнальных статей его имя поставили в один ряд с именами великих ученых Павлова и Шеррингтона. Но на самом деле нет сегодня в мире специалиста по исследованиям мозга, который не изучал бы его труды. Помимо этого, Лурия внес весомый вклад в решение множества психологических проблем. И для новых поколений психологов будет весьма полезен и поучителен пример такого выдающегося соотечественника.
Александр Романович Лурия родился в 1902 г. в Казани в семье врача. Его отец был известным специалистом по желудочно-кишечным заболеваниям, человек строгой естественнонаучной направленности, и ему впоследствии пришлось не по душе увлечение сына психологией. Как вспоминал А.Р. Лурия, он, по мнению отца, выбрал «никому не нужную, дурацкую науку». Лишь в 1937 г., когда А.Р. Лурия получил второе высшее образование, окончив мединститут, его отец наконец испытал удовлетворение судьбою сына.
1917 год Лурия встретил 15-летним юношей, за плечами у которого было 6 классов восьмилетнего курса классической гимназии. Завершив среднее образование на краткосрочных курсах, он в 1918 г. поступил в Казанский университет, который в ту пору распахнул двери практически всем желающим, независимо от уровня подготовки. В университете царил хаос. Чему и как следует учить студентов, никто толком не представлял. Факультет, на который поступил Лурия, назывался юридическим, но вскоре был переименован в факультет общественных наук. В учебном плане сохранился курс римского права, наспех переименованный в «социальные основы права». (Ничто не ново под луной. Вспомним, как уже на нашей памяти вузовский курс научного коммунизма мимикрировал в «социальную философию», сохранив те же ритуальные заклинания и тех же жрецов.)
К психологии Лурия пришел не сразу и, надо сказать, весьма извилистым путем. Вот его собственное крайне парадоксальное утверждение: «Я начал свой путь в науке с того, что получил прочное, длительное и совершенно безоговорочное отвращение к психологии». Как и многие молодые люди той поры, студент Лурия бредил социальным прожектерством. Он намеревался написать книгу о законах возникновения и распространения идей. Этот замысел так и не был осуществлен, однако побудил Лурию[10] обратиться к психологическим источникам, каковыми оказались труды Вундта, Титченера и Гефдинга. «Ни в этих, ни в каких других книгах по психологии тех времен и намека не было на живую личность, и скучища от них охватывала человека совершенно непередаваемая. И я для себя сделал вывод – вот уж наука, которой я никогда в жизни не стану заниматься!»
Пересмотреть эту категоричную точку зрения Лурию заставило знакомство с трудами З.Фрейда, которыми он сильно заинтересовался.
В недавно выпущенном справочнике «Российские психоаналитики» А.Р. Лурия удостоен специальной статьи с перечислением всех его достижений на ниве психоанализа. Статья, правда, получилась небольшая – достижений оказалось не так уж и много. Однако, в отличие от многих других упомянутых в справочнике ученых, чьи труды имеют к психоанализу отдаленное отношение (а то и вовсе никакого), Лурия здесь фигурирует по праву. Он без всяких оговорок является одним из пионеров российского психоанализа, хотя, конечно, его вклад в психологическую науку этим отнюдь не исчерпывается. Вот только сам он в научной автобиографии уделяет этому эпизоду чуть более странички, подытоживая ее фразой: «В конце концов я убедился, что ошибочно считать человеческое поведение продуктом «глубин» сознания, игнорируя его социальные «высоты». Кто-то скажет, что в конце семидесятых иначе и нельзя было написать. Да, но можно было просто ничего не писать, замолчать эту страничку научной биографии, тем более что широкой общественности (в том числе и большинству психологического сообщества) она ранее была совершенно неведома. Тем не менее сам Лурия решил отметить этот этап своего творческого пути – причем именно как ранний, преходящий, исчерпанный и критически осмысленный. К тому же в автобиографии, предназначавшейся для издания в США, автор мог бы позволить себе не лукавить. Да он, похоже, и не слукавил. Постараемся же разобраться непредвзято, кем является Лурия для психоанализа и чем психоанализ был для него.
Именно Фрейду мы обязаны тем, что психология не потеряла свое будущее светило. Знакомство с его «Толкованием сновидений» побудило юного Лурию на продолжение психологических штудий. Характерно, что не меньший интерес вызвали у него также работы Адлера и Юнга, которые к тому времени уже порвали с Фрейдом и жили каждый своей жизнью. Похоже, российские неофиты старались вовсе не замечать глубоких трещин, расколовших психоаналитический стан. Их, кажется, почти не занимали те вопросы, которые казались западноевропейским спорщикам принципиальными и привели в итоге к их антагонизму. Российский психоанализ 20-х годов представлял собой весьма своеобразную попытку сочетания фрейдистских, адлерианских и юнгианских идей вопреки их противоречивости. В силу этого российский психоанализ той поры не был категорично сексуализирован во фрейдистском духе. Создается впечатление, что уже в те далекие годы здравомыслие советских ученых заставляло их заимствовать лишь те принципиальные идеи, которые казались им конструктивными, и игнорировать цеховую полемику, казавшуюся вторичной.
Роль Лурии в истории российского психоанализа по справедливости следует признать преимущественно организационной. Его профессиональная подготовка в этой сфере свелась к самообразованию, так как иных вариантов в Советской России не существовало. Собственной практики он никогда не вел, а его немногочисленные психоаналитические работы имели либо реферативный, либо умозрительный характер. Подписанные его именем публикации в «Международном журнале психоанализа» – это всего-навсего формальные отчеты о работе Казанского психоаналитического кружка. Правда, кружок этот сам Лурия создал и возглавил, о чем поспешил немедленно сообщить Фрейду в Вену. Через три недели пришел ответ, начинавшийся словами: «Уважаемый господин президент…» Фрейд писал, как он рад был узнать, что его идеи подхвачены в далекой Казани. Этот уникальный автограф, а также еще одно письмо с разрешением на публикацию одной из небольших статей Фрейда, хранится в архиве Лурии по сей день. Так что, когда нынешние исследователи указывают, что Лурия состоял в переписке с Фрейдом, это чистая правда. Для полноты картины следует лишь отдавать отчет в скромном объеме и формальном содержании этой переписки.
Среди участников Казанского психоаналитического кружка (в современных источниках иногда велеречиво именуемого ассоциацией) было 7 врачей (достоверных свидетельств их психоаналитической практики нет), 2 педагога, один историк – В.М. Нечкина, впоследствии ставшая академиком, – а также пятеро тех, кого с известной долей условности можно назвать психологами. В задачи этой организации, как указано в протоколе первого заседания, входило «знакомиться с новыми направлениями в изучении психологии личности; связаться с заграничной наукой и получить иностранную литературу; переводить на русский язык и издавать наиболее интересные психоаналитические новинки». То есть кружок фактически был чем-то вроде фрейдистского фан-клуба, а совсем не профессиональным сообществом в строгом смысле слова. На заседаниях разбирались клинические случаи невротических расстройств. о которых рассказывали врачи – члены кружка, делались реферативные доклады по отдельным теоретическим вопросам психоанализа, рассматривались с фрейдистских позиций судьбы литературных героев. Характерно, что в дискуссиях звучали и критические суждения, например: «Символика снов, предложенная Фрейдом, по мнению М.В. Нечкиной, очень спорна, поражает своей пестротой и часто не может быть понятна у людей, не знакомых с предполагаемым субстратом символов. Эту символику можно сравнить с лунным и солнечным толкованием сказок, введенных бр. Гримм» (из протоколов кружка).
На одном из заседаний кружка Лурия сделал доклад «К психоанализу костюма». Доклад посвящен подсознательным мотивам, коим подчиняется костюм, причем основным мотивом у женщин называется пассивно-сексуальный («стремление нравиться»), а у мужчин активно-агрессивный («стремление импонировать, самоутверждаться») Соответственно трактуются такие выразительные детали, как декольте, пижмы, кринолины, с одной стороны, и гусарский кивер или, скажем, высокий цилиндр, с другой. В наши дни такими откровениями не рассмешишь даже первокурсника, не говоря уже о том, чтобы относиться к ним всерьез. Да и сам Лурия никогда не помышлял о развитии этой темы и сохранил в архиве протокол доклада, вероятно, как забавное свидетельство своих юношеских исканий. В ином качестве его и в самом деле трудно оценить.[11]
В справочнике «Российские психоаналитики» читаем: «В 1923 г. опубликовал работу «Психоанализ в свете основных тенденций современной психологии». Историю ее публикации сам Лурия вспоминал так: «У нас был тогда журнал «Казанский библиофил». Я принес туда обзор книг по психоанализу, его напечатали. Я работал в то время в типографии и взял журнальный набор, разрезал его на соответствующие блоки и вышла книжка, переплет которой, вот этот, серенький, я купил в писчебумажном магазине. В 1923 году, когда я первый раз приехал в Москву, я показал эту книжку Отто Юльевичу Шмидту, жена которого была видным психоаналитиком. Шмидт тогда работал директором Госиздата, и очень скоро книжка моя вышла в свет немалым тиражом – около полутысячи экземпляров…»
В 1923 г. Лурия переехал в Москву и поступил на работу в Институт психологии. Здесь он познакомился с Л.С. Выготским, с которым стал тесно и плодотворно сотрудничать. Одна из их совместных работ – предисловие к книге Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия». Увы, помимо доброжелательного отношения к венскому мыслителю и робкой попытки найти созвучие его идей с марксистской психологией (?!), никаких научных откровений эта публикация не содержит.
Параллельно с работой в Институте психологии Лурия являлся также сверхштатным сотрудником психоаналитического института, недолгое время существовавшего в Москве, и выступал ученым секретарем Российского психоаналитического общества. Институт, правда, был быстро закрыт, а вяло функционировавшее общество тихо прекратило свое существование в конце двадцатых. С.А. Богданчиков («Вопросы психологии», 2002, № 4) по этому поводу пишет: «…Уже к началу 30-х гг. ХХ в. (в отличие от истории педологии и психотехники в СССР, точную границу здесь указать невозможно) психоанализ в СССР фактически перестал существовать». Границу, кстати, потому и невозможно указать, что никаким официальным запретам и гонениям фрейдизм в ту пору не подвергался. Просто увлечение психоанализом, даже среди членов этого фрейдистского фан-клуба, постепенно сошло на нет. Официальная обструкция началась потом, задним числом – на волне отторжения всего иностранного, а следовательно буржуазного и чуждого. Тогда кое-кому, в самом деле, пришлось каяться в прошлых «заблуждениях». Однако, похоже, такое покаяние для многих не составляло острой моральной проблемы. В статье «Психоанализ», написанной для Большой Советской Энциклопедии (1940), Лурия вполне объективно и корректно укажет на очевидные издержки этого учения. Статья, разумеется, написана с соблюдением всех требований времени, но без особого идеологического пафоса. Ведь Лурия был настоящим ученым и никогда не писал того, что противоречило его убеждениям.
Таким образом, научная биография Лурии служит наглядным примером отношения здравомыслящего психолога к фрейдистской доктрине. В большинстве случаев (случай Лурии просто наиболее показательный) это эволюция взглядов от восторженного принятия и искреннего интереса через глубокое ознакомление и опробование к критическому переосмыслению. Без фрейдизма Лурия мог бы и не стать психологом, но Психологом с большой буквы он бы точно не стал, оставшись фрейдистом. Поучительный урок!
Психоаналитическими штудиями процесс психологического самообразования не закончился (как у любого настоящего психолога, у Лурии он длился всю жизнь). Немалый интерес вызвали у него работы В.М. Бехтерева, поразившие его объективным подходом к психологическим проблемам. Под впечатлением от идей Бехтерева, Лурия решил основать журнал, надеясь, что Бехтерев согласится войти в редакционную коллегию. Согласием удалось заручиться, и журнал увидел свет. Вышло, правда, всего два номера. Ввиду отсутствия типографской бумаги журнал был напечатан на желтой оберточной, которую удалось раздобыть на местном мыловаренном заводе. (В наше «невыносимое» время психологи, и не только они, в один голос стонут, как трудно сейчас что-то создать, а тем более издать. В очередном приступе уныния пускай вспомнят про эти желтые листки оберточной бумаги.)
В этом журнале были опубликованы статьи Лурии, в которых были описаны объективные методы изучения времени реакции при утомлении (эти исследования были выполнены им в Казанском институте научной организации труда). Статьи привлекли внимание К.Н. Корнилова, недавно сменившего Г.И. Челпанова на посту директора Московского психологического института, и он пригласил молодого подающего надежды исследователя в Москву. Именно здесь Лурия провел свое первое исследование, получившее международный резонанс, – создал так называемую сопряженную моторную методику. В ее основе лежала идея ассоциативного эксперимента К.Г. Юнга. Предложенная Лурией модификация метода была довольно простой. От испытуемого требовалось в ответ на предъявляемое слово отвечать первым пришедшим на ум словом и одновременно сжимать рукой резиновую грушу. Слова предъявлялись самые разные – как нейтральные, так и такие, которые могли иметь для испытуемого особый эмоциональный подтекст. В том случае, когда стимул провоцировал какие-то скрытые переживания, можно было зафиксировать некоторую задержку словесной и двигательной реакции. Эксперимент Лурии был использован в криминалистической практике. С его помощью удалось среди нескольких подозреваемых выявить того, кто последующими следственными процедурами действительно изобличен как преступник.
В первые же годы пребывания в Москве Лурия стал заниматься педагогической работой. С 1923 г. он начал работать в Академии Коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской в качестве заведующего кафедрой психологии. Там было начато новое исследование, которое позже было опубликовано в виде двух монографий: «Речь и интеллект в развитии ребенка» (1928) и «Речь и интеллект у городского, деревенского и беспризорного ребенка» (1930). Это были первые публикации, в которых проявился интерес Лурии к проблеме речи, которой он впоследствии посвятил много экспериментальных и теоретических работ.
В июле 1925 г. Лурия отправился в Германию вместе с отцом, который намеревался посетить несколько немецких клиник. Так Лурия познакомился с Куртом Левином – крупным немецким психологом, с которым у него сложились дружеские отношения. Впоследствии, в 1933 г., когда Левин возвращался в Берлин из командировки в Японию и остановился в Москве, Лурия настойчиво уговаривал его не возвращаться в фашистскую Германию, а остаться в СССР. Прозорливый Левин внял совету лишь отчасти: домой он не вернулся, но и в Москве не остался, предпочтя направиться в США.
В 1924 г. произошло важнео событие. На Втором неврологическом съезде в Ленинграде Лурия встретился с Л.С. Выготским. Доклад Выготского произвел на него неизгладимое впечатление. По инициативе Лурии Выготский, живший и работавший в Гомеле (где он преподавал психологию в техникуме), был приглашен в Москву, в Институт психологии. Хотя Лурия был моложе Выготского всего на 5 лет и за его спиной был уже немалый опыт научной работы, он сразу и безоговорочно признал Выготского своим учителем и руководителем. Правда, формально Лурия первое время был руководителем Выготского, который, придя в Институт, поступил в аспирантуру.
С именем Выготского и его учеников связано начало построения новой советской психологии, непосредственно ориентированной на практику. Выготскому принадлежит четкое осознание «психологического кризиса», а также путей выхода из него. Вместо объяснительной или физиологической психологии, занимавшейся лишь простейшими психическими явлениями, и описательной феноменологической психологии, которая безуспешно пыталась описывать сложные психические процессы, не умея их объяснить, по мнению Выготского, следовало заново осмыслить психические процессы как производные от исторических (культурных) отношений, а психологию – как науку о формировании и функционировании этих процессов.
В эти годы на общей теоретической основе сплотилась знаменитая «тройка» ученых – Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев. Позже к ним примкнула «пятерка» соратников – Запорожец, Славина, Левина, Божович, Морозова. Образовавшаяся «восьмерка» составила коллектив единомышленников, который под руководством Выготского начал последовательно разрабатывать новую психологию.
Главное, что объединяло Лурию и Выготского, – это признание того, что предметом психологии являются сложные сознательные произвольно регулируемые формы психической деятельности («высшие психические функции»), а не элементарные психические акты (типа реакций), и что их объяснение следует искать в исторических, объективных психологических и физиологических закономерностях работы мозга.
Интерес Лурии к неврологии, зародившийся в эти годы, стал впоследствии основным делом его жизни. Он привел Лурию к убеждению о необходимости получить законченное медицинское образование.
В эти же годы у Лурии сложился интерес к изучению умственно отсталых детей. И эта линия исследований также первоначально была инициирована Выготским. Основная проблема этих исследований – проблема диагностики умственной отсталости, которая разрабатывалась в 20-е годы Выготским и его учениками, позже, в 50-е годы стала одной из центральных тем, над которой работал Лурия и его коллектив.
Звершением этого периода жизни и деятельности Лурии была его поездка в Америку в 1929 г. на IХ Международный психологический конгресс и выступление там с докладом об объективном исследовании аффектов.
Пассажирские авиаперелеты в ту пору еще были экзотическим новшеством, из Европы в Новый Свет добирались по морю. Лурия плыл в Америку на четырехпалубном трансокеанском лайнере «Стейтендэн». Он вез два доклада – один про «сопряженную моторную методику» исследования аффекта, второй, совместный с Л.С. Выготским, про функции и судьбу эгоцентрической речи ребенка. Выготский не удостоился командировки на конгресс, а их совместный с Лурией доклад там по достоинству оценен не был. Идеи, эскизно намеченные в этом докладе, были подробно развиты Выготским в его самой известной книге «Мышление и речь», написанной пять лет спустя и получившей широкую известность на Западе лишь через полвека. А вот доклад самого Лурии был встречен благожелательно. Более того – автору было предложено издать описание своей методики в виде книги. Книга увидела свет под не вполне адекватным названием «Природа человеческих конфликтов», авторское название «Конфликты человеческой природы» показалось издателю недостаточно «рыночным» (с той поры издатели – и там, и тут – мало изменились, так что не пугайтесь иных несерьезных названий, за ними может скрываться вполне приличная книга). Практичные американцы быстро нашли методике применение (хотя, по мнению автора, опростили ее до примитивизма по сути, усложнив по форме) – идеи Лурии легли в основу создания полиграфа, или детектора лжи. На русском языке книга лишь недавно была опубликована в нашей стране. Может быть, потому, что у нас всегда предпочитали иные, более прямолинейные способы дознания.
Иных публикаций, касающихся той давней поездки в Америку, не существует. Лишь в архиве Лурии сохранился путевой дневник, который он вел во время путешествия, записи, относящиеся к докладам на конгрессе, и тетрадь «Rocks», в которой в виде двадцати отдельных новелл записаны впечатления психолога об Америке. Наверное, было бы преувеличением считать эти записки крупным вкладом в науку. В конце концов, в Новом Свете Лурия увидел то же, что и автор «Города Желтого Дьявола». Но последнему надо было отрабатывать свое реноме пролетарского поэта. Психолог мог позволить себе оставаться психологом. Кое-какие его наблюдения – порой забавные, порой печальные – именно коллегам покажутся наиболее интересными.
Из путевого дневника
18.08.29 На борту парохода Statendan
На пароходе есть человек, который меня открыто и обидно презирает. Когда он подходит ко мне – я теряюсь.
Мне рассказывали об актере, который не мог играть, когда знал о присутствии в зале враждебного ему критика. Я нахожусь в таком же положении. Меня искренне и упорно презирает наш кельнер, который обслуживает нас за столом.
Я потерял его уважение в первый же вечер, когда впервые сел за стол. Я сознаюсь – я не мог понять ничего в той полной названиями карточке, которую мне подали. Я не понял меню, – это плохо; я не сделал вид, что понял, – это гораздо хуже; я растерялся и сказал, что не понимаю, – это предел падения.
За столом испытываешь глупое чувство: заказывая все подряд – получаешь какую-то странную фантасмагорию блюд, противоречащую всему укладу, с которым ты сжился с самых первых лет. Ты начинаешь с дыни и кончаешь блинами…
Все эти блюда надо есть неодинаковыми ножами, разными вилками. Растерявшийся быстро остается без ножей и вилок, и кельнер с укоризненным взором безмолвно пододвигает ему вилки соседнего свободного набора. Нарушенная система восстанавливается, но право на уважение потеряно безвозвратно…
С нами едет один русский парень – красный директор. Едет изучать доменное дело в Америке.
Красный директор не знает ни одного слова ни на одном европейском языке. «Лишь бы до завода добраться, там будем дело делать».
Он не смущается, и жизнь улыбается ему, а строгие кельнеры покорно кивают головой: «Yes, sir»
Красный директор с полным достоинства видом тыкает пальцем по порядку в три-четыре места меню наугад, и всегда остается доволен. Кельнеры удивляются его хорошему и своеобразному (но сразу видно – изысканному) вкусу, а сидящие за тем же столом немцы, французы и итальянцы украдкой глядят на него и заказывают те же блюда, что и этот уверенный и спокойный «американец»…
25.09.29 Бостон
…У американцев изумительные полированные дороги от Атлантики до Тихого океана, цепи автомобилей, необычайно мягко звучащее радио, горячая и холодная вода в каждом из домов страны, чудные вечные ручки, которые заставили забыть простую чернильницу, и идеальные статистические машины.
Америка свысока смотрит на Европу, и журналы приводят смешные картинки «европейское радио», «европейский трамвай», «европейские дома», представляющие Европу отсталой и старомодной страной.
Но что такое средний американец? Кто такой «средний человек» в Америке?
В американской армии было проведено через тестовое исследование три миллиона взрослых людей. Результаты показали средний интеллект 12-летнего ребенка.
Американцы свято верят в тесты. Тест, проведенный на тысячах, для американцев – библия, а его показатели – бесспорная математическая величина.
Американцы практики, и из теста были сделаны немедленные практические выводы. Кинофабрики стали выпускать свои фильмы, ориентируясь на психику двенадцатилетнего ребенка, и фильмы имели грандиозный успех, принося миллионы долларов и затирая фильмы со сложным, продуманным содержанием…
12.10.29 На борту парохода Statendan
Выдержка из письма, которое я получил от американского издателя:
Дорогой сэр! Мы имеем удовольствие предложить наш официальный контракт на публикацию вашей замечательной работы, и если вы согласны…
Издатель никогда не читал моей книги, и я должен поверить ему на слово, если б мне очень хотелось согласиться с тем, что моя книга действительно явлется «most excellent work».
Но я могу быть спокоен и не очаровывать себя ложными надеждами: моя книга – средняя, может быть, приличная работа, и издатель сам не верит тому, что он пишет. Вежливость, преувеличенная до лести, – форма выражения в Америке, и вы поступите неосмотрительно, если будете верить ей.
Мы, советские делегаты, смеясь, так описывали обычную встречу на конгрессе:
Как поживаете? Как я рад встретиться с Вами! Я так много о Вас слышал! Мне так понравилась Ваша прекрасная работа! Кстати, как Вас зовут?
За прошедшие семьдесят лет многое в мире изменилось. Океан теперь можно пересечь за несколько часов. Но любой, кто в наши дни проделал этот путь, готов подтвердить: люди, похоже, мало изменились, и меткие наблюдения психолога нисколько не устарели. А уж что касается кино, то в этом каждый легко может убедиться, просто включив современный телевизор…
По дороге в Америку Лурия заехал в Германию, где вновь встретился с К.Левином, а также с В.Кёлером и другими немецкими психологами. Там он познакомился с Б.В. Зейгарник – ученицей Левина, с которой позже его надолго объединит совместная работа на факультете психологии Московского университета.
30-е годы можно назвать вторым московским периодом в жизни Лурии. Он был очень насыщен событиями разного рода и прежде всего большими научными достижениями. Начало этого периода можно датировать временем первой экспедиции Лурии в Среднюю Азию летом 1930 г.
Дочь ученого, Елена Лурия вспоминает: «Я родилась и выросла среди восточных вещей. Их в начале тридцатых годов папа привез из Средней Азии, куда ездил с психологической экспедицией». Речь тут идет об экспедиции, которая, пожалуй, первой в мировой практике, была не этнографической с элементами психологического исследования, а непосредственно психологической. Задумывая это начинание, Лурия, вдохновляемый идеями Выготского, хотел найти способ продемонстрировать, что все психические процессы имеют историческую природу, – причем продемонстрировать так, чтобы это утверждение звучало не гипотезой, а было бы экспериментально подтверждено. И Лурия вместе с Федором Николаевичем Шемякиным провели два лета, тридцатого и тридцать первого года, в Средней Азии, в кишлаках и джайлау (горных пастбищах) Узбекистана.
Узбекистан – страна великой древней культуры, давшая миру Улугбека и Авиценну, Бируни и Низами. Однако на протяжении веков эта культура оставалась привилегией немногочисленного просвещенного сословия. Основная же масса населения была загнана сложившимися социально-экономическими условиями в состояние глубокой культурной отсталости. На рубеже 20–30-х годов это положение стало резко и радикально меняться. Старая классовая структура общества распалась, во многих деревнях были открыты школы, возникли новые формы производственной общественной и экономической деятельности. Это был период коллективизации сельского хозяйства, борьбы с неграмотностью, эмансипации женщин. Переходный характер этого периода позволял сравнивать как малоразвитые, неграмотные группы населения, живущие в деревнях, так и группы, уже испытывающие на себе влияние общественной перестройки.
С жителями кишлаков центральных районов, которые работали в совхозах, войти в контакт не составляло труда: «Совхоз в степи. Вдруг – сберкасса и квасная лавка… Разговор об Америке; Германию и Европу здесь не знают, но знают социализм. Мы пьем чай и долго говорим в ночь… Плов в полночь. Мы – в одной из самых экзотических ситуаций. Намаз, подушки и социализм…»
Жители отдаленных кишлаков к участникам психологической экспедиции относились настороженно, с явным недоверием: «С нами определенно не хотят разговаривать! Чайхана и угрюмое негодование… Я втягиваюсь в беседу. Тысяча небылиц о Германии. Я дарю ножик от бритвы Жилет. Старик идет за паспортом». С жителями горного пастбища поладить было еще сложнее: «Нас снова боятся. При приближении все уходят в горы. Женщина-киргизка и паническая реакция: «Не сглазь ребенка!»
Опыты психологической экспедиции всегда начинались с беседы в непринужденной обстановке: в чайхане, где жители кишлаков проводят большую часть свободного времени, или вокруг вечернего костра на горных пастбищах. Вместо обычных психологических тестов исследования строились на специально разработанных пробах, которые не могли восприниматься испытуемыми как бессмысленные и вместе с тем допускали несколько решений, каждое из которых было бы признаком определенной структуры познавательной деятельности. Постепенно в беседу включались заранее подготовленные задания, которые по характеру напоминали распространенные среди населения «загадки» и составляли как бы продолжение разговора. Запись эксперимента вел ассистент, который старался не привлекать к себе внимания.
Одни и те же психологические исследования проводили с «ичкари» – неграмотными, забитыми женщинами, и с колхозными активистами, ребятами, прошедшими краткосрочные курсы. В основе опытов было испытание на классификацию типа «четвертый лишний», когда надо отбросить один из предметов как несоответствующий трем остальным. Неграмотные кишлачники всегда классифицировали только по ситуационному признаку – например, они никогда не рассматривали топор, пилу и лопату вместе как инструменты, а полено как вещь, к ним не относящуюся. Нет, они объединяли пилу, топор и полено, а лопата была в их понимании «для другого дела, для огорода». Если же испытуемому говорили, что вот один человек сказал, что пилу, топор и лопату можно положить вместе, потому что они инструменты, а вот полено как раз сюда не подходит, то всегда слышали в ответ о том человеке крайне нелестные слова. Однако стоило этим же самым людям пройти хотя бы трехмесячные курсы, поработать в колхозе, как они сразу же начинали классифицировать и по абстрактному признаку.
Примерно те же результаты дало изучение восприятия. На этот раз в дело пошли привезенные из Москвы картинки, которые вызывают оптико-геометрические иллюзии. Выяснилось, что и тут уровень культурного развития определяет все: люди, которым не приходилось до этого рассматривать фотографии и чертежи, кто не привык к изображениям объемных предметов на плоскости листа бумаги, не испытывают зрительных иллюзий, обычных для человека западной культуры. Лурия под влиянием этих экспериментов поспешил послать Выготскому телеграмму: «У узбеков нет иллюзий». Эта телеграмма позже была истолкована совсем в другом – политическом – смысле и послужила одним из поводов для прекращения работы Лурии в Средней Азии.
Выготский с огромным интересом следил за результатами среднеазиатского исследования. В архиве Лурии имеется шесть писем Выготского, которые тот послал ему в Узбекистан. В них Выготский пишет о «ни с чем не сравнимом впечатлении от протоколов», «блестящих результатах, которые заслуживают мировой известности», о том, что эти результаты «более богатые, чем любом этнопсихологическом исследовании… чем у Леви-Брюля».
Лурия, пробыв в Средней Азии несколько месяцев, выучил узбекский язык и позже, через много лет, удивлял коллег тем, что мог говорить в клинике с больным узбеком, которого никто не понимал.
Уникальные результаты, полученные в среднеазиатских экспедициях, в те годы не были оценены по достоинству и не были опубликованы. Более того, чиновники от науки усмотрели в них признаки расизма и запретили продолжать исследования. Вот официальная точка зрения, отраженная в статье некоего товарища Размыслова «О «культурно исторической теории психологии Выготского и Лурия» (1934):
«Вместо того, чтобы показать процесс развития и культурного роста трудящегося Узбекистана, они ищут обоснования своей «культурно-психологической теории» и «находят» одинаковые формы мышления у взрослой узбечки и пятилетнего ребенка, под флагом науки протаскивая идеи, вредные для национально-культурного строительства Узбекистана…
Никакого научного эксперимента и никакой научной работы в экспедиции Лурия, конечно, не было. И как бы Лурия и его соратники ни клялись в том, что они изучают проблемы мышления колхозников национальных районов в историческом развитии, это им не поможет скрыть и завуалировать свою реакционную и враждебную марксизму теорию.
Эта лженаучная реакционная, антимарксистская и классово враждебная теория приводит к антисоветскому выводу о том, что политику в Советском Союзе осуществляют люди и классы, примитивно мыслящие, не способные к какому бы то ни было абстрактному мышлению…»
Александр Романович поставил толстые папки, в которых он хранил экспедиционные материалы, в книжный шкаф, и принялся разрабатывать другие отрасли психологии.
Только 40 лет спустя Лурия вернулся к этой работе – в значительной степени под влиянием американца Майкла Коула, бывшего у него тогда стажером и интересовавшегося «культурной психологией». Обработав часть результатов (многое так и осталось в архиве), Лурия опубликовал монографию «Об историческом развитии познавательных процессов» (1974), которая вскоре была переведена на английский язык и имела большой успех. Фактически Лурия был одним из первых, кто систематически исследовал проблему влияния культурно-исторических факторов на познавательные процессы человека – проблему, которая стала настолько популярной в настоящее время, что составила содержание целого направления в современной психологии.
Эта линия исследования логически тесно переплеталась с другим направлением – изучением близнецов. Лурия исследовал взаимоотношения наследственности и воспитания в психическом развитии человека. Использовав традиционно, со времен Ф.Гальтона применявшийся с этой целью близнецовый метод, Лурия внес в него существенные изменения, проводя экспериментально-генетическое изучение развития детей в условиях целенаправленного формирования психических функций у одного из близнецов. Он показал, что соматические признаки индивида в значительной степени обусловлены генетически, элементарные психические функции (например, зрительная память) – в меньшей степени, а для формирования высших психических процессов (понятийное мышление, осмысленное восприятие и др.) решающее значение имеют условия воспитания.
В годы Великой Отечественной войны Лурия возглавил восстановительный госпиталь на Южном Урале. Нет, он не бежал на восток, спасаясь от вражеских полчищ. Напротив, в первые дни войны он вызвался добровольцем отправиться в действующую армию, но получил в военкомате отказ. Ученому было заявлено, что для него найдется более важное дело в тылу. И дело нашлось.
В тыл с фронта непрерывным потоком везли раненых. В том числе и тех, кого еще в недавнюю пору считали безнадежными, – тяжелые ранения в голову не только обрекали их на телесные мучения, но и приводили к распаду психических функций. Без специального лечения эти люди были обречены остаться беспомощными инвалидами. Хотя в большинстве случаев их удавалось в буквальном смысле поставить на ноги, но поражения мозга лишали их способности к полноценному человеческому существованию.
Лурии было поручено организовать тыловой восстановительный госпиталь для лечения и реабилитации раненых, получивших мозговые травмы. Он выбрал для этой цели небольшой санаторий в поселке Кисегач близ Челябинска.
Поселок лежал между двух озер. На берегу меньшего озера стояли два двухэтажных корпуса санатория на 400 мест. В них, ничего не перестраивая, разместили госпиталь: устроили больничные палаты и операционные, где с утра до вечера хирурги оперировали и извлекали осколки. Очень кстати оказались грязе– и водолечебница, в свое время построенные для санатория. Через некоторое время открыли нейрофизиологическую и патоморфологическую лаборатории, оборудование которых было более чем скромным. В полуподвале, где раньше размещалась бильярдная, Лурия организовал восстановительные трудовые мастерские для раненых бойцов: столярную, слесарную, швейную, сапожную, а также курсы счетоводов. В мастерских работали выздоравливавшие бойцы для того, чтобы восстановить динамику движения; здесь же они получали новую специальность, если ранение мешало вернуться к прежней работе.
В госпитале Лурия создал группу, в которую входили ученые разных специальностей – психологи, физиологи и невропатологи. Перед ними стояли две основные задачи: во-первых, они должны были разработать методы диагностики локальных мозговых поражений, а также осложнений, вызванных ранениями, и во-вторых, разработать рациональные научно обоснованные методы восстановления психических функций.
Лурия не только исследовал раненых и помогал им как специалист, но у него складывались с пациентами теплые неформальные отношения. Одним из таких раненых был младший лейтенант Лев Засецкий. Осколком снаряда у него была разрушено мозговая ткань левой теменно-затылочной области мозга. В результате ранения мир Засецкого разбился на тысячи осколков, он потерял память, утратил способность ориентироваться в пространстве, разучился читать и писать. Лурия помог Засецкому снова научиться писать и наблюдал его не только в госпитале, но и в течение более тридцати последующих лет.
На Урале ученый провел три года – бесценных не только своим гуманистическим подвигом, но и исключительной научной значимостью. Именно в эти годы в результате наблюдений над мозговыми поражениями сложилась нейропсихология, превратившаяся вскоре в самостоятельную отрасль психологической науки («Травматическая афазия», 1947; «Восстановление функций мозга после военной травмы», 1948; «Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга», 2-е изд. – 1969). Лурией была разработана теория локализации психических функций, сформулированы основные принципы динамической локализации психических процессов, создана классификация афазических расстройств и описаны ранее неизвестные формы нарушения речи. Лурия также изучал роль лобных долей головного мозга в регуляции психических процессов, мозговые механизмы памяти. Нейропсихологическим проблемам посвящено большинство из 30 опубликованных им научных монографий.
С 1945 г. Лурия начал работать в МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедре психологии философского факультета, где он начал (совместно с А.Н. Леонтьевым) читать курс по общей психологии, а позднее (с 1950 г.) – также курс по нейропсихологии.
В 1971 г. была опубликована одна из наиболее известных его книг – «Потерянный и возвращенный мир. История одного ранения». Это повесть об одном человеке – Л.С. Засецком, перенесшим ранение мозга в годы войны. В книге переплетены две линии наблюдений: дневники самого Засецкого, подробно описывавшие его состояние, и анализ автора – нейропсихолога, «препарирующего» эти сведения. Это – удивительный человеческий документ, имеющий отнюдь не только научное значение (как о том, в частности, писал Лурии английский писатель Джон Фаулз). Это – документ, свидетельствующий о мужестве больного и такте, внимании и милосердии ученого. Как и многие другие, эта книга была издана за рубежом и получила широкую известность.
В последние годы жизни Лурия разрабатывал проблемы функциональной асимметрии больших полушарий мозга, а также широкий круг теоретических вопросов психологии.
Одну из своих последних работ он так и назвал: «Последняя книга». Правда, она впервые увидела свет на английском языке под названием, данным ее американским редактором М. Коулом, – «Сотворение разума». На русском языке она вышла уже после смерти Лурии под названием «Этапы пройденного пути». Это научная автобиография, в которой читатель, заинтересовавшийся данным очерком, найдет гораздо больше интересных и поучительных данных в изложении самого Лурии. Но «Этапы пройденного пути» – это и своего рода научное завещание. Своим собственным примером Лурия завещал новым поколениям психологов, которые учатся по его книгам, свое творческое отношение к делу, веру в гуманистическое назначение науки, интерес не только к теории, но и к психологической практике, без чего не может быть настоящей науки. Это мировоззренческий и этический аспект его завещания, значимость которых возрастает с каждым днем.
К. Роджерс (1902–1987)
В детстве любимым занятием Карла Роджерса было чтение приключенческих романов. Герой одного из таких романов произвел на юного читателя сильное впечатление: в одной главе он сражался с индейцами, в другой – одерживал верх над морскими пиратами, в третьей – пересекал пустыню… Трудно было поверить, что одному человеку по силам совершить столь разнообразные подвиги во всех концах Земли, на суше и на море. Судьба самого Роджерса сложилась так, что во многом напоминает историю героя полузабытого романа. Он исколесил полсвета и сумел своими трудами оказать влияние на столь разнообразные отрасли человеческой деятельности, что сегодня по праву считается одним из выдающихся авторитетов в психологии ХХ века.
Имя К.Роджерса часто упоминается в ряду других известных имен – Ф. Перлза, Ш. Бюлер, К. Хорни, Э. Фромма… В отличие от названных коллег, которых привели в Америку из Европы трагические потрясения ХХ века, Роджерс был стопроцентным американцем. История его семьи неразрывно связана с историей Соединенных Штатов. Еще до Гражданской войны его дед – Александр Гамильтон Роджерс, потомок выходцев из Англии, оставил родные места в штате Нью-Йорк и двинулся на Запад, чтобы в конце концов осесть в городке Вауватоша в штате Висконсин. В Вауватоше по сей день есть улица, названная в его честь Роджерс-авеню, на которой стоит старый дом, признанный историческим памятником. Здесь родилось пятеро его сыновей, один из которых – Уолтер Александр Роджерс, отец Карла.
Семейство матери – Кашинг – также имело давнюю историю. Англичанин Мэтью Кашинг пересек Атлантику еще в 1638 г. и поселился в Массачусетсе. Его потомки, как и Роджерсы, двинулись на Запад и осели в Висконсине. В этом штате, в городе Делафилд сохранился памятник трем братьям Кашингам, погибшим в годы Гражданской войны.
Уолтер Роджерс и Джулия Кашинг, знавшие друг друга с детства, поженились в 1891 г. В семье родилось шестеро детей. Четвертым был Карл Рэнсом Роджерс. Он родился 8 января 1902 г.
Карл рос застенчивым и чувствительным ребенком, тяжело переживавшим постоянные насмешки старших братьев и сестры. Отец часто бывал в деловых разъездах, поэтому более близкие отношения сложились у него с матерью. Любимым занятием было чтение, которому он предавался часами. Однако если чтение библии его родители – люди глубоко религиозные – поощряли, то к чтению художественной литературы относились неодобрительно, как к пустой трате времени. (Много позднее, уже став профессором, он порой ловил себя на безотчетном ощущении вины, которое возникало, когда кто-то заставал его читающим.)
Едва достигнув семилетнего возраста Карл поступил в школу. Кстати, в ту же школу ходил его сосед Эрнест Хэмингуэй, а доктор Хэмингуэй – отец Эрнеста – преподавал там естествознание. Способности Карла к чтению оказались столь впечатляющими, что с первого же урока он был отправлен во второй класс продемонстрировать навыки беглого и правильного чтения. В тот же день ему пришлось проделать это и в третьем, и даже в четвертом классах. Естественно, в первый класс он больше не вернулся, а начал свое обучение со второго.
Здесь он познакомился со своей сверстницей Хелен Эллиот, которая через пятнадцать лет стала его женой. (Роджерс иронично вспоминает: «Она была первой, кого я решился пригласить на свидание. Наверное потому, что мы были уже давно знакомы. А я был так застенчив, что знакомиться ни с кем не осмеливался».)
Биографические источники упоминают, что детство Карла прошло на ферме. Однако фермерство для Уолтера Роджерса, преуспевающего промышленника, было своего рода хобби. Да и сама ферма скорее напоминала фешенебельный особняк (только ванных комнат там насчитывалось пять). Тем не менее сельскохозяйственные работы были поставлены весьма серьезно. В автобиографических заметках Роджерс вспоминает, что первыми книгами, оказавшими влияние на становление его научного мировоззрения, были, как это ни покажется странным, труды по сельскому хозяйству. «Я узнал, как трудно проверить гипотезу. Я получил знания о научных методах в практической деятельности и стал их уважать».
Эти занятия определили выбор профессии. В колледж Роджерс поступил с намерением изучать сельскохозяйственные науки. По прошествии двух лет он довольно неожиданно изменил свой выбор. Этот шаг был продиктован тем, что в студенческом городке он поселился в общежитии Молодежной христианской ассоциации (его старший брат Росс был одним из ее активистов). Насыщенное эмоциональное общение с товарищами побудило его избрать духовную стезю. В 1922 г. в составе немногочисленной делегации американских студентов он отправился в Китай на Международную христианскую конференцию. Хотя сама конференция длилась всего неделю, путешествие и сопутствующие мероприятия заняли целых полгода и явились важной вехой в становлении его личности.
На конференции Карл впервые столкнулся с представителями разных государств и народов. Он вспоминает: «Я увидел, как страшно ненавидели друг друга французы и немцы, хотя сами по себе они были очень приятными людьми. Это заставило меня серьезно задуматься, и я пришел к выводу, что у искренних и честных людей могут быть совершенно разные религиозные взгляды. В основном я в первый раз освободился от религиозной веры моих родителей и понял, что дальше я не могу идти вместе с ними. Из-за расхождений во взглядах наши отношения стали напряженными и причиняли нам душевную боль, но, оглядываясь назад, я думаю, что именно тогда я стал независимым человеком».
Свое образование Роджерс продолжил в теологической семинарии. Однако его взгляды в результате поездки на Восток претерпели серьезные изменения. «Со времени этой поездки мои цели, ценности, моя философия стали моими собственными, весьма отличными от тех взглядов, которых придерживались мои родители и которых я сам придерживался до этого времени». Все большее его внимание привлекала психология. Он начал понимать, что его главная жизненная цель – помогать людям, нуждающимся в духовной поддержке, – может быть достигнута и вне церкви. Он также убедился, что работа психолога – вполне достойное занятие, способное к тому же обеспечить достаточные средства к существованию.
Роджерс пожелал заочно пройти курс психологии в Висконсинском университете. Этот курс основывался главным образом на работах Уильяма Джемса, которые Роджерс, по собственному признанию, нашел скучноватыми. Это, однако, не ослабило его интереса к психологии, и он закончил свое образование в Педагогическом колледже Колумбийского университета. Курс философии он прослушал в У. Килпатрика, которого нашел блестящим педагогом.
По окончании университета Роджерс поступил на работу в качестве клинического психолога в Центр помощи детям в г. Рочестере (штат Нью-Йорк). Здесь он проработал 12 лет. Его практическая деятельность в известном смысле носила импровизационный характер. Роджерс не примыкал ни к какой психологической школе. Так, посетив двухдневный семинар Отто Ранка, он нашел много привлекательного в его терапевтических приемах, но не в теории. Собственная теория и метод сложились постепенно в годы его работы в Рочестере. От формального, директивного подхода, принятого в традиционной психотерапии, он перешел к иному, который позже назвал терапией, центрированной на клиенте.[12]
До Роджерса психотерапевты работали с пациентами, с больными. Роджерс намеренно ввел в научный обиход понятие «клиент». И это была не просто игра слов. За терминологическим изменением лежал коренной пересмотр всей стратегии психотерапии. Ибо пациент – это тот, кто болен и нуждается в помощи, поэтому обращается за ней к профессионалу – психотерапевту. Последний руководит им, направляет его, указывает путь выхода из болезненного состояния. А клиент – это тот, кто нуждается в услуге и полагает, что мог бы сделать это сам, но предпочитает опереться на поддержку психотерапевта. Клиент, несмотря на беспокоящие его проблемы, все же рассматривается как человек, способный их понять. В представлении о клиенте содержалась идея равноправия, отсутствующая в отношениях врача и пациента.
Задача терапии – помочь человеку разрешить свою проблему с минимумом инструкций со стороны терапевта. Роджерс определял терапию как «высвобождение уже наличной способности в потенциально компетентном индивидууме, а не квалифицированную манипуляцию более или менее пассивной личностью». Согласно Роджерсу, «индивидуум имеет в себе способность, по крайней мере латентную, понять факторы своей жизни, которые приносят ему несчастья и боль, и реорганизовать себя таким образом, чтобы преодолеть эти факторы».
Работая в Рочестере, Роджерс написал книгу «Клиническая работа с трудным ребенком» (1939). Книга была встречена одобрительно, и автор получил приглашение занять должность профессора в университете Огайо. Начав свою академическую карьеру с этой довольно высокой ступени, он избежал того излишнего давления, которое, по его мнению, часто мешает начинающим ученым творчески проявить себя. Опыт преподавательской работы, а главное – живой отклик студентов на его идеи вдохновили его на более полное и детальное рассмотрение проблем психотерапии в книге «Консультирование и психотерапия» (1942).
В 1945 г. Чикагский университет предоставил Роджерсу возможность создать собственный консультативный центр. Новаторской тенденцией центра было предоставление пациентам (точнее – клиентам) возможности свободного выбора направления терапии. На посту директора центра Роджерс работал до 1957 г.
В 1951 г. он опубликовал книгу «Терапия, центрированная на клиенте», в которой его принципы нашли наиболее полное отражение. Книга была встречена массированной критикой со стороны терапевтов различных направлений, усмотревших в позиции Роджерса угрозу традиционным директивным методам. Основные выводы из этой позиции, далеко выходящие за рамки терапевтической тематики, Роджерс изложил в своей наиболее известной книге «Становление личности» (1961), выдержавшей несколько изданий (русский перевод вышел в 1994 г.). Несмотря на настороженное отношение коллег, книга Роджерса привлекла широкий общественный интерес и, став бестселлером (что не так часто происходит с психологическими трудами), обеспечила автору неплохие гонорары.
С чикагским периодом деятельности Роджерса связано и одно серьезное затруднение личного порядка. Работая с одной пациенткой, страдавшей тяжелым расстройством, он настолько проникся ее состоянием, что почти впал в аналогичную патологию. Лишь трехмесячный отпуск и курс психотерапии у одного из коллег позволили ему оправиться и понять необходимость соблюдения известных пределов сопереживания.
В 1957 г. Роджерс сменил место работы. Он стал преподавать психологию и психиатрию в Висконсинском университете. В профессиональном плане это оказалось нелегким периодом. Возникли серьезные противоречия с руководством, весьма ограниченно понимавшим свободу студентов учиться, а преподавателей – учить. Недовольство Роджерс отразил в критической статье, в которой, в частности, писал: «Мы делаем неумную, неэффективную и бесполезную работу, обучая психологов в ущерб обществу». Представленная в журнал «Американский психолог», статья была первоначально отвергнута и напечатана лишь позднее, когда в виде списков обрела широкую известность в студенческих кругах.
Не приходится удивляться, что Роджерс оставил должность профессора. К преподаванию в университете (Сан-Диего, штат Калифорния) он ненадолго вернулся позднее, однако снова разошелся во мнениях с президентом университета относительно прав студентов.
С 1963 г. его деятельность была связана с Центром изучения личности (Ла Джолла, Калифорния). Здесь, без назойливой опеки администрации, он обрел покой и уверенность, много работал, писал.
Всего Карл Роджерс написал 16 книг и свыше 200 статей, его работы переведены на 60 иностранных языков. Свою позицию он подытожил, цитируя Лао Цзы:
Когда я удерживаюсь от того,
чтобы приставать к людям,
они заботятся сами о себе.
Когда я удерживаюсь о того,
чтобы приказывать людям,
они сами ведут себя правильно.
Если я удерживаюсь от проповедования людям,
они сами улучшают себя.
Если я ничего не навязываю людям, они становятся собой.
В беседе, состоявшейся в 1966 г., Роджерс так описывает свой статус: «У меня не слишком замечательная репутация в психологии как таковой, и это меня меньше всего заботит. Но в образовании, промышленности, групповой динамике и социальной работе, в философии, науке, теологической психологии, а также в других областях мои идеи распространились и оказали такое влияние, какого я никогда не мог себе представить».
Подлинный гуманист и демократ, Роджерс проявлял большой интерес к событиям, происходившим в России. Осенью 1986 г. он приехал в Москву, выступил перед многочисленной аудиторией психологов, провел терапевтические занятия. Этот уже очень пожилой человек был удивительно бодр и оптимистичен, преисполнен жизненной энергии. Те, кто встречался с ним в Москве, отказывались верить известию о его кончине, которое пришло из Америки год спустя.
Еще в конце семидесятых Карл Роджерс говорил:
…В детстве я был болезненным ребенком, и отец как-то сказал, что я, наверное, умру молодым. В известном смысле он ошибся: ведь мне уже семьдесят пять. Но в каком-то смысле я готов признать его правоту. Я чувствую себя молодым и надеюсь никогда не стать стариком. Я и правда умру молодым…
Э. Эриксон (1902–1994)
В 1970 году один из номеров популярного американского журнала «Ньюсуик» вы шел с броским заголовком на обложке «Эрик Эриксон: в поисках идентичности». Главный материал номера был посвящен эпигенетической концепции Э. Эриксона. В этом проявился живой интерес общественности к личности известного психолога и к центральному понятию его научных изысканий – идентичности.
Слово «идентичность» в русском языке употребляется нечасто и преимущественно в том значении, которое подсказывает перевод-калька – «тождественность», «одинаковость». Эриксон, заговоривший об идентичности человека, трактовал это понятие не так односторонне. В его понимании идентичность – это центральное качество личности, в котором проявляется неразрывная связь человека с окружающим социальным миром. Становление идентичности является важнейшей задачей развития личности.
Философы неоднократно отмечали: когда рассматриваются представления человека о себе, то речь идет об интимной и невыразимой реальности, которую трудно обозначить и сделать объектом наглядной демонстрации. Определенную помощь может оказать клинический опыт, часто имеющий дело с «размытой» идентичностью: «я в замешательстве», «я не знаю, где я теперь и куда стремлюсь». В таких случаях возникает острое чувство растерянности, потери себя, определяемое как невроз. Исходя из клинического анализа непостоянства Я при неврозах Эриксон создал свою теорию идентичности. При этом он во многом опирался на теорию психоанализа, которую имел возможность освоить буквально из первых рук – под руководством З. Фрейда и его дочери Анны.
С психоанализом Э. Эриксон познакомился в 1927 году, когда ему было 25 лет (родился он 15 июня 1902 года во Франкфурте-на-Майне). Ничто не предрасполагало его к психоаналитической практике, ибо он в это время был художником, специализировавшимся на детских портретах. Именно поэтому он познакомился с Анной Фрейд, которая заинтересовала его детским психоанализом и привлекла к участию в семинарах венской психоаналитической школы. В 1927–1933 годах Эриксон активно осваивал теорию и практику психоанализа. К идеям З. Фрейда он относился чрезвычайно уважительно, хотя его собственная концепция выросла из критического переосмысления этих идей.
Сам З. Фрейд понятие идентичности упомянул лишь однажды – в докладе, адресованном еврейской ассоциации в Вене в 1926 году. Он употребил этот термин в его традиционном смысле – как этническую идентичность, поддерживаемую еврейской диаспорой. Несмотря на свои атеистические взгляды, он заявил о приверженности иудаизму и о разделении им «ясного сознания внутренней идентичности, ощущения схожести психической организации». Эриксон часто цитировал это высказывание Фрейда, стараясь найти в его работах несформулированное понятие идентичности. Эриксон писал: «Я употребляю термин «Я-идентичность»… будучи уверен, что Фрейд упомянул о внутренней идентичности как о смысле своей жизни».
Эриксон неоднократно подчеркивал свою приверженность фрейдизму, особенно когда в 1969 году заявил: «Я прежде всего психоаналитик, это единственный метод, который я приемлю».
В 1933 году, как и большинство других психоаналитиков, Эриксон эмигрировал в Соединенные Штаты. В 1939 году он принял американское гражданство. Его академическая карьера в США сложилась весьма успешно: он преподавал в Йельском университете, в университете беркли, а в конце жизни – в Гарварде.
Именно в Соединенных Штатах Эриксон взял себе то имя, под которым он известен. Это небезынтересная деталь, особенно характерная для человека, занимавшегося проблемой идентичности. До того он носил фамилию Хомбургера – еврейского педиатра, женившегося на его матери и усыновившего маленького Эрика, внебрачного сына матери-еврейки и неизвестного отца-датчанина. Именно в знак верности своему неизвестному отцу Эриксон выбрал фамилию нордического звучания; беря такую фамилию, он становился сыном Эрика, или, как отмечает его биограф Поль Розен, «сыном самого себя».
В довоенные годы Эриксон вместе с антропологом Микелем изучал жизнь индейцев племени сиу в резервации в штате Южная Дакота. Это исследование проводилось по заказу Американской комиссии по делам индейцев, озабоченной катастрофически низкой эффективностью образования индейской молодежи.
Молодые сиу не принимали жизненных принципов, внушаемых белыми воспитателями, пребывали в апатии и демонстрировали настораживающую склонность к пьянству и воровству. Психологи и психиатры рассматривали эти факты как свидетельство инфантильной стадии развития общества у сиу или говорили о невротическом складе личности его членов. Эриксон не разделял такого мнения. Он считал, что ни одно общество, пускай самое «примитивное», не может позволить себе культивировать инфантильность и невротичность.
Внимательно изучив жизнь резервации и настроения индейцев, Эриксон в результате наблюдений пришел к таким выводам.
Племя сиу испокон века было народом воинов и охотников за бизонами. Вся жизнь племени состояла в нескончаемом кочевье по бескрайним прериям, в преследовании бизоньих стад и стычках с враждебными племенами. Освоение белыми Америки привело к тому, что прерии были ими захвачены и распаханы, бизоны перебиты. Значительная часть индейцев была истреблена, а остальные насильственно перемещены в резервацию, где во избежание эрозии почвы запрещалось заниматься скотоводством. Весь уклад жизни сиу оказался разрушен.
Покорив индейцев, белые не дали им никаких возможностей создать новую систему ценностей, обрести новую идентичность. В этих условиях единственным способом сохранить свою идентичность у сиу стало поддержание прежней системы ценностей. В детях с раннего возраста продолжали воспитывать личность охотника за бизонами, а все знания, умения, ценности, формы поведения, которые не связаны с этой идентичностью, отвергались.
По собственному признанию Эриксона, исключительная важность феномена личной идентичности стала ему ясна в ходе психотерапевтической практики после второй мировой войны. Его пациентами оказались бывшие солдаты, вернувшиеся к мирным занятиям. Мужественно перенеся все тяготы войны, они заболевали неврозом в условиях мирной жизни. Лейтмотивом рассказов этих пациентов были жалобы на то, что они «потеряли себя», «не знают, кто они», что у них «нет цели, направления».
Причину комплекса подобных невротических симптомов Эриксон усмотрел в резком изменении социальных условий существования личности. Солдаты и моряки на нелегкой военной службе занимали четко определенное место в обществе, были включены в социальные отношения, имели устойчивые цели и систему ценностей, специфические способности и личные качества, необходимые для выполнения воинских обязанностей. После окончания войны она должны были включиться в новые социальные отношения, найти новое место в послевоенном обществе. Иначе говоря, поясняет Эриксон, солдаты должны были сформировать взамен старой новую личностную идентичность. Трудности подобной перестройки и вызывали невротическое состояние, обозначаемое Эриксоном как диффузность, или утрата идентичности.
В качестве характерного примера потери личной идентичности Эриксон приводит ситуацию из другой сферы. У пятилетнего мальчика внезапно возникли необъяснимые припадки. Как оказалось, его отец, тоже в пятилетнем возрасте, был привезен родителями из Европы в США, где он попал в такое окружение, в котором можно было выжить, лишь сформировав идентичность «парня, бьющего первым». В этом духе он воспитывал и своего сына. Однако – лишь до той поры, пока не открыл собственный магазинчик. С этого момента он принялся внушать мальчику, что сын владельца магазина должен быть услужливым и предупредительным. Малышу оказалось не под силу разрешить конфликт двух противоположных идентичностей – заискивать перед теми, кого он уже выучился презирать. Его хрупкая психологическая организация не смогла обрести новую целостность, стремление к которой Эриксон считает одной из сильнейших тенденций функционирования личности.
Эриксон исследовал социально-психологические механизмы и способы формирования психосоциальной идентичности в процессе взросления человека. Ученый построил схему развития человека, выделив восемь этапов, охватывающих всю жизнь – от рождения до старости. Данная модель основывалась на эпигенетическом принципе, взятом из эмбриологии: каждый этап развития содержит моменты, являющиеся решающими для дальнейшей эволюции. Эриксон свел этапы развития в таблицу, над которой тщательно работал в течение двадцати лет. Он опубликовал ее трижды (в 1959, 1963, 1968 годах), каждый раз несколько видоизменяя.
Сегодня его таблица периодизации развития входит во все учебники по возрастной психологии.
Среди многочисленных работ Эриксона наиболее известны две его книги по возрастной психологии – «Детство и общество» (1950; русский перевод – 1996) и «Идентичность: юность и кризис» (1968; русский перевод – 1996).
Литературное признание и престиж в среде американских ученых он обрел как актор двух биографических исследований, в которых рассматривал соединение истории жизни выдающейся личности и определенного исторического момента. Это книги «Молодой Лютер» (1958; русский перевод – 1996) и «Истина Ганди» (1969). Последняя принесла ему национальную премию США и Пулитцеровскую премию.
Эрик Эриксон прожил долгую, плодотворную и насыщенную жизнь. Умер он в мае 1994 года в возрасте 92 лет. Возможно, источником его творческого долголетия послужил принцип поведения, который он вывел, переформулировав известное «золотое правило». В устах Эриксона оно звучало так: «Поступай по отношению к другому так, чтобы это могло придать новые силы ему и тебе».
Б. Беттельхейм (1903–1990)
Рассказывают, как на одной конференции, посвященной проблемам душевного здоровья, после блестящего выступления американского психоаналитика Бруно Беттельхейма (блестящего даже вопреки явному обострению у оратора насморка) его сменил на трибуне шотландский психиатр Рональд Лэйнг, один из основателей «антипсихиатрического» движения. Заметив на кафедре забытый Беттельхеймом носовой платок, Лэйнг потянулся за ним, чтобы передать его коллеге. Тот испуганно замахал руками: «Не касайтесь его, а то подхватите мой вирус!» «Почту за честь!» – с улыбкой ответил Лэйнг. Такова была харизма этого человека, что именитые коллеги готовы были перенимать у него что угодно.
В нашей стране Беттельхейма знают мало. Из 14 написанных им книг, ставших всемирными бестселлерами, нашему читателю сегодня доступна лишь «Пустая крепость», посвященная проблемам детского аутизма. Но тяжелый 700-страничный том не очень располагает к дорогостоящей покупке. К тому же даже не всякому психологу что-то говорит само имя автора. Попробуем восполнить этот пробел и познакомиться с этим видным деятелем мировой психологии – фигурой столь же яркой, сколь и противоречивой.
Бруно Беттельхейм родился 28 августа 1903 года в Вене в еврейской семье среднего достатка. Вторая половина его жизни, прошедшая в Америке, своею внешней канвой известна достаточно хорошо – страстно жаждавший признания, Беттельхейм любил быть на виду и пользовался большим вниманием общественности (Характерно, что знаменитый Вуди Аллен, вознамерившись ввести психоаналитика в круг героев своего фильма «Зелиг» (1983), пригласил Беттельхейма сыграть самого себя, и тот охотно это предложение принял.) Что же касается его детства, юности и ранней зрелости – то тут информация скупа и весьма противоречива. Беттельхейм не оставил мемуаров и вообще не любил предаваться воспоминаниям. Скептики склонны объяснять это тем, что с момента появления в Америке он успел насочинять о себе слишком много выдумок, ставших официальной канвой его биографии, а потом этот вымысел неловко было повторять, еще более неловко – опровергнуть. К этой пикантной стороне его жизни необходимо будет вернуться позднее. Пока же ограничимся теми сведениями о европейском периоде жизни Беттельхейма, которые в отсутствие иных источников известны с его слов.
Вопреки психоаналитической доктрине (которой, кстати, психолог Беттельхейм последовательно придерживался), юный Бруно никогда не испытывал эмоциональной близости с матерью, которая относилась к нему брезгливо-снисходительно. На свет он появился таким маленьким и страшненьким, что мать, едва его увидев, воскликнула: «Какой ужас! Слава Богу, что это хоть мальчик!» (вероятно, имея в виду, что такой уродец женского пола был бы обречен на пожизненные страдания). Об отце Бруно вспоминать не любил, и по вполне понятной причине: много ли хорошего можно сказать о человеке, которого свел в могилу сифилис? Да и своим еврейским происхождением Бруно явно тяготился, что впоследствии дало повод для обвинения в его в антисемитизме (кстати, на удивление нередком среди самих евреев). По крайней мере, однажды выступая перед аудиторией студентов-евреев, он в открытую назвал главной причиной антисемитизма… особенности менталитета и поведения самих евреев. Понятно, что в определенных кругах популярности ему это не прибавило. Хотя в целом на отсутствие популярности ему жаловаться не приходилось.
Так или иначе, детство и юность Беттельхейма были окрашены в депрессивные, минорные тона. Щуплый и неказистый, лишенный родительской любви, он остро страдал от комплекса неполноценности, так что кажется даже странным, что в своих духовных исканиях он не склонился к акцентирующей эти аспекты теории Альфреда Адлера (весьма популярной в Вене тех лет). Беттельхейм, напротив, предпочел учение Фрейда, с чьими работами начал знакомиться еще подростком (можно себе представить, какое впечатление произвели на подростка фрейдистские откровения!). Личная встреча с Фрейдом, о которой он впоследствии не раз упоминал, сильно вдохновила юношу – основатель психоанализа якобы порекомендовал ему пройти лечебный курс в связи с депрессией, но при этом также усмотрел в пациенте подающую большие надежды творческую натуру и порекомендовал рассматривать лечебный анализ и как дидактическим, с тем чтобы впоследствии взяться за практику самому. К сожалению, достоверность этой версии весьма спорна – помимо лаконичного упоминания самого Беттельхейма, не существует никаких свидетельств того, что он хотя бы встречался с Фрейдом, не говоря уже про обнадеживающее напутствие. Так или иначе, курс психоанализа, длившийся год или два, Беттельхейм прошел. Помимо знакомства с трудами Фрейда, этим его психоаналитическая подготовка и ограничилась, то есть классического психоаналитического образования он так никогда и не получил. В силу этого, зная о строгих критериях профессионализма, принятых в психоаналитическом сообществе, Беттельхейм никогда не называл себя психоаналитиком, предпочитая зваться психологом. Правда, для этого оснований у него было не больше.
Энциклопедические источники указывают, что психологическое образование он получил в Венском университете. Это опять же известно с его собственных слов. На волне критики, поднявшейся после его смерти, нашлись желающие уточнить достоверность этой информации. И выяснили, что она сильно приукрашена. В университете он, действительно, учился (правда, ранняя смерть отца заставила его надолго прервать обучение и посвятить себя семейному бизнесу), но не психологии, а истории искусств. Так что случай фрейдистской интоксикации, обратившей «гуманитария широкого профиля» в психоаналитика, – это не особенность постсоветской России. Как выясняется, глубокого внутреннего конфликта, широкой эрудиции и богатой фантазии вполне достаточно для того, чтобы войти в энциклопедии в качестве звезды психоаналитической когорты.
Размеренная венская жизнь Беттельхейма, казалось, не предвещала никаких трагедий и триумфов. Но судьба распорядилась иначе, и на его долю в избытке достались «огонь, вода и медные трубы».
Подобно основателю психоанализа, Беттельхейм недооценивал надвигавшуюся угрозу нацизма и не последовал примеру многих коллег, которые, начиная с 1933 г. потянулись за океан. Как и Фрейд, он встретил германскую аннексию Австрии в Вене. Судьба обоих была предрешена – проповедникам «еврейской порнографии», как нацисты именовали психоанализ, был уготован один путь – за колючую проволоку, потом в газовую камеру. Заступничество влиятельных зарубежных последователей и внесенный ими крупный денежный выкуп позволили Фрейду спастись. За Беттельхейма заступиться в ту пору было некому. Вскоре в переполненном товарном вагоне он двигался тем путем, который для тысяч ему подобных был последним. Его путь лежал в Дахау.
Наверное, психолог – это не просто ремесло, а мировоззрение, аналитический образ мыслей и особая манера восприятия действительности. Даже в нечеловеческих лагерных условиях Беттельхейм продолжал оставаться психологом. Он внимательно наблюдал за поведением окружавших его людей – таких же заключенных, как и он сам, и приставленной к ним охраны – и пытался анализировать их душевное состояние, их мотивы и чувства. Он был поражен тем, насколько эффективно функционирует нацистская система подавления личности, имевшая целью низведение заключенных до полуживотного состояния. Однако сломить удавалось не всех. И это было абсолютно необъяснимо с привычных для Беттельхейма психоаналитических позиций. Позднее он писал: «В условиях, преобладавших в лагерях, оказалось невозможным рассматривать храбрые, ставящие под угрозу жизнь поступки с позиций инстинкта смерти, аутоагрессии, маниакального отрицания опасности, нарциссизма или любой другой категории психоанализа. Способ, каким человек действовал в критический момент, нельзя было вывести из его глубинных либидозных мотивов. Ни его сны, героические или кошмарные, ни свободные ассоциации или осознанные фантазии – ничто не позволяло сделать точное предсказание относительно того, пойдет ли он в следующий момент на риск жизнью, чтобы защитить жизнь других, или же в панике предаст многих в тщетной попытке получить какую-то привилегию для себя». Знание психоанализа оказалось практически бесполезным и для самого Беттельхейма. «Самое удивительное заключалось в том, что психоанализ, который я привык считать лучшим ключом ко всем человеческим проблемам, не помог мне найти решение о том, как вообще выжить в лагерях и как выжить, сохранив хотя бы некоторое достоинство».
В ходе своих наблюдений Беттельхейм приходит к выводам, удивительно созвучным позиции другого заключенного психотерапевта, Виктора Франкла. Только наличие твердой внутренней позиции, позитивного жизненного смысла, не сводимого к мелким потребительским удовольствиям, позволяет сохранить человеческое в человеке. Люди, лишенные идейных принципов, замкнувшиеся в узком мирке потребительских интересов и потому не имевшие морально-психологической внутренней опоры, подвергались быстрой личностной дезинтеграции. Они начинали идентифицировать себя либо со своими палачами, подражая и прислуживая им, либо с уголовниками. «Их поведение, – пишет Беттельхейм, – показало, насколько слабо аполитичный средний класс Германии мог противостоять национал-социализму. У них не было ни моральной, ни политической, ни социальной философии, которая помогла бы им сохранить свою целостность и давала внутреннюю силу для противоборства с нацизмом. У них не было или почти не было ресурсов, на которые можно было бы опереться, попав в заключение. Их самоуважение строилось на статусе и уважении, которые были связаны лишь с их положением и зависели от их работы, семейной роли или подобных внешних признаков».
Перед собой Беттельхейм поставил задачу описать, проанализировать и сохранить для потомков поучительные примеры человеческой слабости и стойкости перед лицом бесчеловечной машины подавления. Он начал «писать» устную книгу, последующие издание которой виделось в ту пору несбыточным чудом. Хотя в конце 30-х надежда на чудо еще оставалась. Нацисты еще не определились с «окончательным решением еврейского вопроса», и печи лагерных крематориев еще не были растоплены. К тому же заключенным, внеся необходимую плату в казну, можно было обеспечить себе более или менее сносные условия содержания и щадящий режим каторжных работ. Беттельхейм не преминул воспользоваться этой возможностью. А в 1939 году заключенный Беттельхейм, проведя в лагерях десять с половиной месяцев, был освобожден и получил разрешение эмигрировать. Сам он объяснял это ходатайством первой леди Америки, Элеанор Рузвельт, хотя этот ничем не подтвержденный факт скептики также склонны относить к его выдумкам.
Оказавшись в Америке, он обобщил свои наблюдения сначала в статье «Индивидуальное и массовое поведение в экстремальных ситуациях» (1943), а затем в книге «Просвещенное сердце» (1960), принесшей ему мировую известность.
Несмотря на ставшую для него очевидной ограниченность психоаналитической теории, Беттельхейм остался на фрейдистской позиции, однако предпринял самоотверженные усилия по ее гуманизации и сближению с социальными реалиями эпохи. В 1944 г. он организовал и возглавил клинику для детей с психическими травмами и нервными расстройствами при Чикагском университете. Новым значительным успехом явилась его книга «Психоанализ волшебной сказки. О пользе волшебства» (1973), удостоенная нескольких научных и литературных премий. А книга «Сносные родители» (1987) составила серьезную конкуренцию бестселлерам доктора Спока.
Если даже знакомство с Фрейдом относится к грезам Беттельхейма, его фантазия получила свое своеобразное воплощение в реальности – наряду с классическими трудами основателя психоанализа, его книга «Психоанализ волшебной сказки» оказалась включена в сборник «25 ключевых книг по психоанализу», увидевший свет на рубеже веков. И это действительно замечательная книга, очень полезная для понимания природы если не сказок, то фрейдизма.
Беттельхейм много размышлял о детской литературе. Он констатировал, что книги, предлагаемые юной публике, обычно предназначены либо для того, чтобы научить малышей читать, либо для развлечения. В предисловии к своей работе он замечает: «Ничто из всей детской литературы (за очень редкими исключениями) не обогащает и не удовлетворяет детей в такой степени, как волшебные сказки». Ведь волшебные сказки «притягивают внимание», «возбуждают любопытство», стимулируя при этом воображение. А значит, такая литература помогает ребенку «развивать свои умственные способности и лучше разбираться в собственных эмоциях», а также «навести порядок в своем внутреннем доме».
Сказки позволяют ему понять на примере, что у его психологических затруднений имеются временные или постоянные решения. Любой персонаж из сказок Андерсена, братьев Гримм, Метерлинка и Перро предлагает ему такие решения, которые малыш способен понять.
Мальчик-с-пальчик, Золушка или Красная Шапочка полны уверенности в себе; они в одиночку решаются идти на опасные дела, не зная, к чему приведут их приключения. Познакомившись с другими людьми, они живут счастливо; им незнакомо тревожное чувство разлуки. Созданные воображением, сказки способствуют развитию личности ребенка. У него появляется потребность перенести свои чувства на героя, он может, не подвергаясь опасности, выплеснуть свою агрессивность на злую мачеху.
Родители должны чутко относиться к желаниям ребенка. Им не следует позволять себе поспешных суждений. Они обязаны уважать развивающийся внутренний мир малыша. Ведь единственно в этом заключается секрет Белоснежки, Кота в сапогах и Питера Пэна: лишь сам ребенок сможет постепенно осмыслить собственную жизнь и мало-помалу начать ею управлять. Мы развиваемся лишь тогда, когда самостоятельно понимаем и разрешаем наши проблемы. Именно так, а вовсе не слушая объяснения других, ребенок понемногу обретает внутреннюю уверенность.
Могущество сказок заключается в том, что они пробуждают воображение слушателей, заставляют их самих переживать незамысловатые приключения чудесных героев, которые пытаются сами создать для себя реальность, чтобы лучше с ней потом справиться. Некоторые представляют себе сказки только в последовательном, литературном виде. Беттельхейм читает их через призму фрейдовской теории и считает самой главной в них воспитательную – читай: психотерапевтическую функцию. Способность сказок развлекать и забавлять для него лишь вторична.
Ребенка Беттельхейм воспринимает очень серьезно. Он рассматривает малыша как личность, во всей её целостности, – ведь в очень многих сказках можно выделить «Оно», «Я» и «Сверх-Я».
Таким образом, сказки – это прямое обращение к бессознательному; с помощью чудесного они восстанавливают душевное равновесие, а иногда и исправляют нарушения в нашем поведении.
В наибольшей мере известность Беттельхейму принесли результаты лечения детей, страдающих аутизмом. Этим детям он и посвятил свою знаменитую работу «Пустая крепость».
В 1973 г. Беттельхейм вышел в отставку, но не удалился на покой, а продолжал много писать и выступать перед широкой аудиторией по всему миру. Правда, посвятив жизнь чужому душевному благополучию, он, похоже, так и не обрел своего. Еще при жизни многие характеризовали его как крайне неуравновешенного человека, склонного к вспышкам ярости и затяжным приступам депрессии.
В безнадежную депрессию он впал на склоне лет, после смерти горячо любимой жены. Шесть лет спустя, престарелый и тяжело больной, Бруно Беттельхейм добровольно ушел из жизни, приняв запредельную дозу снотворного. Произошло это 13 марта 1990 года. Он покинул этот мир в ореоле непревзойденного врачевателя душ и великого гуманиста.
Увы, прошло совсем немного времени, и этот ореол катастрофически померк. Еще не стихли поминальные всхлипы, а в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья коллеги-психоаналитика Рудольфа Экстайна, который написал, что Беттельхейм превратил детский приют, которым заведовал много лет, в настоящий концлагерь. Он и его подручные систематически избивали и оскорбляли больных детишек. Причем об этих издевательствах знали родители и весь персонал пансионата. Однако жестокий доктор так сумел всех запугать, что никто не смел и слова сказать против него.
В подтверждение этого обвинения, показавшегося поначалу немыслимым, вдруг обрушилась лавина свидетельств бывших пациентов Беттельхейма и их родителей. На естественный вопрос: «Что же вы молчали раньше?» – раздавался один и тот же ответ: удерживало опасение, что голос протеста не будет услышан сквозь хор славословий «великому гуманисту». «Да что вы такое говорите! Доктор Б. [так многие звали Беттельхейма. – С.С.] – настоящий профессионал и эталон добропорядочности. Его знает весь мир как гениального теоретика и практика». Но достаточно было раздаться лишь одному голосу, и плотину молчания прорвало.
Волна критики заставила и профессионалов внимательнее присмотреться к достижениям и трудам доктора Б. Увы, и тут результаты оказались печальны. Помимо уже упоминавшихся натяжек и вымыслов, обнаружились подтасовки и чисто профессионального свойства. Так, Беттельхейм в своих трудах утверждал, что в своем заведении достиг 85-процентного излечения аутизма. Будь это правдой, это было бы действительно непревзойденным рекордом – таких успехов ни до Беттельхейма, ни после не удавалось достичь никому. Однако внимательный анализ работы ортогенетической школы показал: диагноз «аутизм» ставил сам доктор по одному ему известным критериям, он же и давал заключение об излечении. На самом же деле в большинстве случаев речь шла о детях, если и страдавших эмоциональными расстройствами, то отнюдь не идентичными аутизму, а если и аутизмом – то в весьма мягкой степени. Сильные сомнения вызвало и утверждение Беттельхейма о том, что в возникновении аутизма у ребенка в первую очередь следует винить его мать, которая якобы просто бессознательно не желала, чтобы у нее был этот ребенок. Не проекция ли это собственного травматического опыта, которой так часто грешат психоаналитики?
Бруно Беттельхейм так и не написал своей научной автобиографии. Появившиеся же после его смерти биографические книги и статьи почти все повествуют о нем, как о запутавшемся лжеце, тиране и параноике. Так что, наверное, не стоит спешить к книжному прилавку за русским переводом «Пустой крепости». Или, наоборот, стоит ее все-таки прочитать, чтобы вынести собственную оценку? Так или иначе, следует помнить, что у блестящей медали «Бруно Беттельхейм» есть и ржавая оборотная сторона.
А.Н. Леонтьев (1903–1979)
Алексей Николаевич Леонтьев широко известен как признанный лидер советской психологии 40–70-х гг. Его заслуги перед отечественной наукой велики и разносторонни. В Московском университете он создал сначала отделение психологии на философском факультете, а затем и факультет психологии, которым руководил в течение многих лет, был одним из руководителей Академии педагогических наук РСФСР и СССР (в частности, ее вице-президентом), написал множество научных работ, в том числе несколько книг, каждая из которых была переведена на десятки иностранных языков, а одна из них, «Проблемы развития психики», через 4 года после выхода в свет была отмечена Ленинской премией. Почти все университетские психологи среднего и старшего поколения – его непосредственные ученики и сотрудники.
Алексей Николаевич Леонтьев родился в Москве 5 февраля 1903 г. в семье служащего. После окончания реального училища поступил на факультет общественных наук Московского университета, который по официальной версии закончил в 1924 г. Однако, как о том пишут А.А. Леонтьев и Д.А. Леонтьев (сын и внук ученого, также психологи) в комментариях к его биографии, на самом деле кончить университет ему не удалось, он был исключен. О причинах существуют две версии. Более интересная: будучи студентом, он в 1923 г. заполнял какую-то анкету и на вопрос «Как вы относитесь к Советской власти?» якобы ответил: «Считаю исторически необходимой». Так рассказывал он сам своему сыну. Вторая версия: всеми нелюбимому лектору по истории философии Леонтьев прилюдно задал вопрос, как следует относиться к буржуазному философу Уоллесу, биологизатору и вообще антимарксисту. Не очень образованный лектор, испугавшись, что его поймают на недостатке эрудиции, долго и убедительно разъяснял затаившей дух аудитории ошибки этого буржуазного философа, выдуманного студентами накануне лекции. Эта версия тоже восходит к устным мемуарам А.Н. Леонтьева.
В университете Леонтьев слушал лекции самых разных ученых. Среди них был философ и психолог Г.Г. Шпет, филолог П.С. Преображенский, историки М.Н. Покровский и Д.М. Петрушевский, историк социализма В.П. Волгин. В Коммунистической аудитории МГУ тогда впервые читал курс исторического материализма Н.И. Бухарин. Довелось Леонтьеву послушать и лекции И.В. Сталина по национальному вопросу, о которых, впрочем, через полвека он отзывался более чем сдержанно.
Первоначально Леонтьева привлекала философия. Сказывалась потребность мировоззренчески осмыслить все происходившее в стране на его глазах. Своим обращением к психологии он обязан Г.И. Челпанову, по инициативе которого им были написаны первые научные работы – реферат «Учение Джемса о идеомоторных актах» (он сохранился) и несохранившаяся работа о Спенсере.
Леонтьеву повезло: он попал на работу в Психологический институт, где даже после ухода Челпанова продолжали работать первоклассные ученые – Н.А. Бернштейн, М.А. Рейснер, П.П. Блонский, из молодежи – А.Р. Лурия и, с 1924 г., Л.С. Выготский.
Существует хрестоматийная версия: пришли к Выготскому молодые психологи Лурия и Леонтьев, и началась школа Выготского. На самом деле, пришли к Лурии молодые психологи Выготский и Леонтьев. Первое время возглавлял этот кружок именно Лурия, старший по должности в институте, уже известный психолог, имевший к тому времени несколько опубликованных книг. Лишь потом произошла перегруппировка, и лидером стал Выготский. Самые первые публикации Леонтьева были в русле исследований Лурии. Эти работы, посвященные аффектам, сопряженной моторной методике и др., были выполнены под руководством Лурии и в соавторстве с ним. Лишь после нескольких работ такого плана начинаются работы в культурно-исторической парадигме Выготского (первая публикация Леонтьева на эту тему датирована 1929 г.).
К концу 20-х гг. ситуация в науке стала складываться неблагоприятно. Леонтьев лишился работы, причем во всех московских учреждениях, с которыми он сотрудничал. Примерно в то же время Наркомздрав Украины решил организовать в Украинском психонеровлогическом институте, а позже, в 1932 г., во Всеукраинской психоневрологической академии (она находилась в Харькове, который тогда был столицей республики) сектор психологии. Пост заведующего сектором был предложен Лурии, пост заведующего отделом детской и генетической психологии – Леонтьеву. Однако Лурия вскоре вернулся в Москву, и практически всю работу вел Леонтьев. В Харькове он одновременно возглавил кафедру психологии в пединституте и отел психологии в НИИ педагогики. Возникла знаменитая Харьковская школа, которую одни исследователи считают ответвлением школы Выготского, иные – относительно самостоятельным научным образованием.
Весной 1934 г., незадолго до смерти, Выготский предпринял несколько шагов к тому, чтобы собрать всех своих учеников – московских, харьковских и прочих – в одной лаборатории во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ). Сам Выготский уже не смог ее возглавить (он умер в начале лета 1934 г.), и руководителем лаборатории стал Леонтьев, покинув для этого Харьков. Но продержался он там недолго. После доклада на Ученом совете этого института о психологическом исследовании речи (текст доклада опубликован в I томе его избранных трудов, и сегодня все желающие могут составить о нем непредвзятое мнение) Леонтьев был обвинен во всех возможных методологических грехах (дело дошло до горкома партии!), после чего лабораторию закрыли, а Леонтьева уволили. Он снова остался без работы. Сотрудничал в небольшом научно-исследовательском институте при ВКИПе – Высшем коммунистическом институте просвещения, занимался психологией восприятия искусства в ГИТИСе и во ВГИКе, где постоянно общался с С.М. Эйзенштейном (они были знакомы и раньше, с конца 20-х гг., когда Леонтьев преподавал во ВГИКе, пока последний не был объявлен гнездом идеалистов и троцкистов с понятными последствиями).
В июле 1936 г. грянуло знаменитое постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов». Это постановление означало полный разгром детской и педагогической психологии и «достойно» венчало серию постановлений ЦК начала 30-х гг., повернувших вспять советскую школу, отменивших все инновации и эксперименты и сделавших былую демократическую школу авторитарной и милитаризированной. Особенно досталось идеологам демократической школы – Выготскому и Блонскому. Выготскому, правда, уже посмертно. И некоторые из тех, кто раньше объявлял себя учениками Выготского, начали с не меньшим энтузиазмом осуждать его и свои ошибки.
Однако ни Лурия, ни Леонтьев, ни другие подлинные ученики Выготского, как на них ни давили, не сказали ни одного дурного слова о Выготском ни публично, ни в печати, и вообще они никогда не меняли своих взглядов. Как ни странно, все они тем не менее уцелели. Но ВКИП был закрыт, и Леонтьев опять остался без работы.
Как раз в это время директором Института психологии вновь стал Корнилов, и он взял Леонтьева на работу. Конечно, ни о каких методологических вопросах речи не могло быть; Леонтьев занимался темами сугубо конкретными: восприятием рисунка (продолжение исследований Харьковской школы) и фоточувствительностью кожи.
Докторская диссертация Леонтьева на тему «Развитие психики» была задумана им как грандиозный проект. Было написано два объемных тома, третий том, посвященный онтогенезу психики, был подготовлен частично. Но Б.М. Теплов убедил Леонтьева, что для защиты достаточно и того, что есть. В 1940 г. диссертация в двух томах была защищена. Первый ее том составляло теоретическое и экспериментальное исследование возникновения чувствительности, которое практически без изменений вошло во все издания книги «Проблемы развития психики». Самое интересное, что, как сегодня отчетливо видно, это парапсихологическое исследование, посвященное обучению воспринимать свет руками! Конечно, Леонтьев подавал это исследование иначе, наводя материалистический лоск и говоря о перерождении определенных клеток в эпидермисе ладоней, но это квазифизиологическое истолкование четко доказанных им фактов развития способности воспринимать световые сигналы пальцами ничуть не более убедительно, чем допущение экстрасенсорной природы этого феномена.
Второй том был посвящен развитию психики в животном мире. В «Проблемы развития психики» вошли сравнительно небольшие фрагменты этой части диссертации, а наиболее интересные фрагменты, оставшиеся за рамками хрестоматийных текстов, были опубликованы посмертно в сборнике научного наследия Леонтьева «Философия психологии» (1994).
Еще одна работа, которая относится примерно к этому же периоду (1938–1942), – это его «Методологические тетради», заметки для себя, которые в довольно полном виде также вошли в книгу «Философия психологии». Они посвящены самым разным проблемам. Характерно, что очень многие вещи, прописанные здесь тезисно, были впервые обнародованы спустя десятилетия либо не опубликованы вовсе. Например, первая публикация Леонтьева по проблемам личности относится к 1968 г. В законченном виде его взгляды на личность, образовавшие последнюю главу книги «Деятельность. Сознание. Личность», опубликованы в 1974 г. Но практически все, что вошло в эту главу, прописано и обосновано в «Методологических тетрадях» около 1940 г., то есть одновременно с выходом первых западных обобщающих монографий по проблеме личности К.Левина (1935), Г.Оллпорта (1937), Г.Мюррея (1938). В нашей стране проблему личности в этом ключе (через понятие личностного смысла) рассмтаривать было невозможно. Понятие «личность» встречается в работах ряда психологов – Рубинштейна, Ананьева и других – с конца 40-х гг. в единственном значении – как обозначающее социально-типичное в человеке («совокупность общественных отношений»), в отличие от характера, выражающего индивидуально-своеобразное. Если немного обернуть эту формулу, учитывая социальный контекст, обнажается идеологическая подоплека такого понимания: индивидуально-своеобразное в человеке допустимо только на уровне характера, на уровне же личности все советские люди обязаны быть социально-типичными. Всерьез говорить о личности тогда было невозможно. Поэтому теория личности Леонтьева «выдерживалась» три десятилетия.
В начале июля 1941 г., как и многие другие московские ученые, Леонтьев вступил в ряды народного ополчения. Однако уже в сентябре Генеральный штаб отзывает его для выполнения специальных оборонных заданий. В самом конце 1941 г. Московский университет, включая входивший в то время в его состав Институт психологии, был эвакуирован сначала в Ашхабад, затем в Свердловск. Близ Свердловска, в Кисегаче и Кауровске, были образованы два экспериментальных госпиталя. Первый в качестве научного руководителя возглавил Лурия, второй – Леонтьев. Там работали А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, С.Я. Рубинштейн и многие другие. Это был реабилитационный госпиталь, который занимался восстановлением движений после ранения. На этом материале была блестяще продемонстрирована не только практическая значимость теории деятельности, но и абсолютная адекватность и плодотворность физиологической теории Н.А. Бернштейна, который через несколько лет, в конце сороковых, был совершенно отлучен от науки, и неизвестно, что с ним было бы, если бы Леонтьев не взял его к себе сотрудником на отделение психологии. Практическим результатом работы экспериментальных госпиталей было то, что время возвращения раненых в строй сокращалось в несколько раз за счет использования техник, разработанных на базе деятельностного подхода и теории Бернштейна.
По окончании войны, уже будучи доктором наук и заведующим лабораторией в Институте психологии, Леонтьев опубликовал на основе своей диссертации небольшую книжку «Очерк развития психики». Тут же, в 1948 г., вышла разгромная рецензия на нее, и осенью была организована очередная «дискуссия». В ней выступили многие ныне широко известные психологи, обвиняя автора книги в идеализме. Но соратники Леонтьева встали на его защиту, и дискуссия для него последствий не имела. Более того – его приняли в партию. Вот что об этом пишут его сын и внук, самые сведущие биографы: «Едва ли он это сделал по соображениям карьеры – скорее это был акт самосохранения. Но факт остается фактом. Нельзя забывать и того, что Алексей Николаевич, как и его учитель Выготский, был убежденным марксистом, хотя и отнюдь не ортодоксальным… Членство в партии, конечно, способствовало тому, что с начала 50-х гг. Леонтьев становится академиком-секретарем Отделения психологии АПН, затем академиком-секретарем всей академии, позже ее вице-президентом…»
В 1955 г. начал выходить журнал «Вопросы психологии». В эти годы Леонтьев много публикуется, а в 1959 г. выходят первым изданием «Проблемы развития психики». Если судить по количеству публикаций, конец 50-х – начало 60-х – самый продуктивный для него период.
С 1954 г. началось восстановление международных связей советских психологов. Впервые после длительного перерыва в очередном Международном психологическом конгрессе в Монреале приняла участие довольно представительная делегация советских психологов. В нее входили Леонтьев, Теплов, Запорожец, Асратян, Соколов и Костюк. Начиная с этого времени Леонтьев много сил и времени уделяет международным связям. Кульминацией этой деятельности явился организованный им в 1966 г. Международный психологический конгресс в Москве, президентом которого он был.
В конце жизни Леонтьев много раз обращался к истории советской (а отчасти и мировой) психологической науки. Наверное, это прежде всего было связано с мотивами личного характера. С одной стороны, всегда верный памяти своего учителя Выготского, он стремился популяризировать его творчество и в то же время – выявить в нем наиболее перспективные идеи, а также показать преемственность идей Выготского и его школы. С другой стороны, естественно стремление к рефлексии над своей собственной научной деятельностью. Так или иначе, Леонтьеву – частично в соавторстве с Лурией – принадлежит целый ряд историко-психологических публикаций, имеющих и вполне самостоятельную теоретическую ценность.
Сегодня исторические работы пишутся уже о нем (например, «Леонтьев и современная психология», 1983; «Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии. Школа А.Н. Леонтьева», 1999). Его труды по сей день систематически переиздаются за рубежом, а иногда даже и у нас, вопреки повальному увлечению псевдопсихологическими манипуляциями. В телеграмме, присланной на смерть Леонтьева, Жан Пиаже назвал его «великим». А как известно, мудрый швейцарец не бросал слов на ветер.
К. Лоренц (1903–1988)
В развитие психологической мысли наряду с титулованными психологами немалый вклад внесли многие исследователи, не получившие специального психологического образования и порой даже не причислявшие себя к психологам. Среди них австрийский естествоиспытатель Конрад Лоренц, до недавнего времени известный в нашей стране главным образом как автор замечательных книг о животных. Энциклопедии и биографические словари называют его зоологом, а также этологом, подчеркивая его роль как основоположника этологии (от греческого слова этос — нрав, характер, манера вести себя) – науки о «биологии поведения», то есть об общебиологических основах и закономерностях поведения животных. Однако наиболее известная его книга «Так называемое зло», получившая в русском переводе лаконичное название «Агрессия», увидела свет в серии «Библиотека зарубежной психологии». Такое отнесение кажется вполне оправданным, тем более что практически любое современное пособие по введению в психологию содержит упоминание о феноменах, выявленных Лоренцем, а также о его взглядах на природу побудительных мотивов поведения.
Конрад Захариас Лоренц родился 7 ноября 1903 г. в Вене в семье преуспевающего хирурга-ортопеда. Его отец, Адольф Лоренц, вышел из низов (дед Конрада был простым шорником) и, как это часто случается с разбогатевшими бедняками, пожелал воплотить свой успех в помпезном символе. Таковым стало поместье Лоренц-Холл в Альтенберге близ Вены, обильно декорированное крупными художественными полотнами и статуями. Там и прошло детство Конрада. Большую часть времени он проводил, бродя по полям и болотам вокруг Лоренц-Холла, где у него впервые зародилось чувство, названное им впоследствии «страстной любовью к животным».
На обширной территории поместья Конрад собрал замечательную коллекцию домашних и диких животных – настоящий частный зоопарк. В своих воспоминаниях Лоренц писал: «У соседа я взял однодневного утенка и, к огромной радости, обнаружил, что у него развилась реакция повсюду следовать за моей персоной. В то же время во мне проснулся неистребимый интерес к водоплавающей птице, и я еще ребенком стал знатоком поведения различных ее представителей». Так Лоренц впервые обратил внимание на феномен импринтинга (запечатления) – особой формы научения, которая наблюдается на ранних этапах жизни животных и способствует формированию у них жизненно важных навыков. Для новорожденных утят первый попавший в поле зрения движущийся объект (которым в естественных условиях является мать-утка) выступает как притягательный стимул, за которым они готовы следовать. Все учебники психологии обошли знаменитые фотографии, на которых сам Лоренц, выступив объектом импринтинга, возглавляет процессию птенцов, подменив собой наседку.
Получив начальное образование в частной школе, которой руководила его тетка, Конрад поступил в «Шоттенгимназиум» – престижное учебное заведение, славившееся высоким уровнем преподавания. Здесь его интерес к поведению животных и привычка к наблюдению за их жизнью были подкреплены обучением зоологическим методом и принципам эволюции. «По окончании средней школы, – писал впоследствии Лоренц, – я был по-прежнему увлечен эволюцией и хотел изучать зоологию и палеонтологию. Однако я послушался отца, который настаивал на моих занятиях медициной». В 1922 г. Лоренц был зачислен в Колумбийский университет в Нью-Йорке, однако спустя полгода вернулся в Австрию и продолжил образование на медицинском факультете Венского университета. У него не было сильного стремления стать врачом, но он решил, что медицинское образование не повредит его призванию.
Работая над диссертацией для получения медицинской степени, Лоренц, по собственному признанию, пришел к выводу, «что сравнительный метод должен быть так же приложим к моделям поведения, как и к анатомическим структурам». Целью подобного исследования должно было быть выявление «черт сходства, вызванных общим происхождением, от таковых, обусловленных параллельной адаптацией». Одновременно с диссертационным исследованием Лоренц начал систематически сопоставлять особенности инстинктивного поведения животных. После получения в 1928 г. медицинской степени Лоренц начал работать над диссертацией по зоологии. Служа в должности ассистента кафедры анатомии, он тем не менее читал лекционный курс по сравнительному поведению животных.
До начала 30-х гг. во взглядах на природу инстинктов преобладали две противоположные позиции – витализм и бихевиоризм. Виталисты при объяснении целесообразного поведения животных в естественной среде либо оперировали расплывчатым понятием «мудрость природы», либо считали, что животные мотивируются теми же факторами, которые побуждают деятельность человека. бихевиористы, изучавшие поведение животных методом лабораторного эксперимента, склонны были описывать его по принципу рефлекторного реагирования. В такую трактовку не укладывалось само понятие инстинкта – сложного набора врожденных, а не усвоенных реакций.
Лоренц первоначально склонялся к бихевиористской позиции, полагая, что инстинкты основываются на рефлексах. Однако его собственные исследования поставляли все больше фактов в пользу того, что инстинктивное поведение является внутренне мотивированным. Результаты своих наблюдений Лоренц сообщал в многочисленных статьях, публиковавшихся в период 1927–1938 гг. Но лишь в 1936 г. Лоренц признал исключительную важность этих данных и встал на ту точку зрения, что инстинкты вызываются не рефлексами, а внутренними побуждениями.
В том же году на симпозиуме в Лейдене он встретился с голландским коллегой Николасом Тинбергеном. Их общение, по признанию самого Лоренца, сразу продемонстрировало, что их «взгляды совпадают до неправдоподобной степени». Тинберген впоследствии писал: «Мы сразу же точно подошли друг другу… Удивительная интуиция Конрада и его энтузиазм были плодотворно дополнены моим критическим настроем, склонностью добираться до сути его идеи и моим неудержимым желанием проверить «подозрение» экспериментальным путем».
Работая совместно (Тинберген и его семья подолгу гостили в Лоренц-Холле), они выдвинули гипотезу, согласно которой источником инстинктивного поведения животных выступают внутренние мотивы, побуждающие к поиску обусловленных средой, или социальных, стимулов. Это так называемое ориентировочное поведение чрезвычайно изменчиво; как только животное сталкивается с некоторыми «ключевыми стимуляторами» (сигнальными раздражителями, выполняющими роль пусковых механизмов), оно автоматически выполняет стереотипный набор движений (фиксированный двигательный паттерн – ФДП). Для каждого вида животных характерна своя система ФДП и связанных с нею сигнальных раздражителей, которые эволюционируют по принципу естественного отбора.
В 1937 г. Лоренц начал читать лекции по психологии животных в Вене. Одновременно он занимался изучением процесса одомашнивания гуся. Этот процесс предусматривает утрату навыков, приобретенных в борьбе за выживание в естественной среде, а также возрастание роли пищевых и сексуальных стимулов. Наблюдения за этим процессом вызвали у Лоренца глубокую озабоченность по поводу того, что подобные явления с большой вероятностью могут иметь место и у человека. Вскоре после присоединения Австрии к нацистской Германии Лоренц сделал то, о чем впоследствии вспоминал так: «Послушавшись дурного совета… я написал статью об опасностях одомашнивания и… использовал в своем сочинении худшие образцы нацистской терминологии». Эта страница научной биографии Лоренца дала повод его критикам для упреков в расизме, хотя скорее всего являлась результатом политической наивности.
В 1940 г. Лоренц получил должность на кафедре психологии Кенигсбергского университета. Сотрудничество с Тинбергеном прервалось: тот был арестован нацистами за протест против преследования евреев и до конца войны был интернирован. Сам Лоренц был призван в армию и, хотя не имел практического опыта, был направлен военным врачом на Восточный фронт. В 1942 г. он попал в плен и несколько лет работал в госпитале для военнопленных. Репатриирован он был лишь в 1948 г., когда родные и близкие уже не надеялись на возвращение «пропавшего без вести».
Вернувшись в Австрию, Лоренц не сумел получить никакой официальной должности, однако продолжал свои исследования, пользуясь материальной поддержкой друзей. В 1950 г. он вместе с Эрихом фон Холстом основал Институт физиологии поведения Макса Планка.
На протяжении двух последующих десятилетий Лоренц продолжал заниматься этологическими исследованиями, уделяя преимущественное внимание изучению поведения водоплавающих птиц. Его престиж как основоположника современной этологии был неоспорим, и в этом качестве Лоренц играл ведущую роль в дискуссиях между этологами и представителями других научных дисциплин, в частности – психологами.
Однако, статус признанного эксперта не спасал Лоренца от массированной критики, порожденной отдельными его спорными суждениями. Особый резонанс вызвала его концепция агрессивности, которой посвящена наиболее известная его книга «Так называемое зло» (1963, рус. пер. – 1994). Как видно из самого названия книги, подход Лоренца к природе агрессивности неоднозначен. Агрессивное поведение он считает изначально свойственным живым существам и имеющим глубинную природную основу. Несмотря на нередко разрушительные последствия, этот инстинкт способствует осуществлению в животном мире таких важнейших функций, как выбор брачных партнеров, установление социальной иерархии, сохранение контроля над определенной территорией. Склонный к широким обобщениям, Лоренц распространил некоторые свои выводы, сделанные в результате наблюдений за животными, и на человеческое поведение. Он также предпринял попытку дать рекомендации по смягчению враждебности в человеческом обществе и предотвращению войн. Эти идеи Лоренца вызвали широкий общественный резонанс, хотя по мнению Эриха Фромма, обстоятельно проанализировавшего позицию Лоренца в своей работе «Анатомия человеческой деструктивности», его рекомендации либо тривиальны, либо просто неверны. Тем не менее по сей день о природе агрессивности ведутся серьезные дискуссии, и аргументы, высказанные в свое время Лоренцем, продолжают активно обсуждаться.
В 1973 г. Нобелевская премия по физиологии и медицине (по собственному признанию лауреатов, – весьма неожиданно для них самих) была присуждена Конраду Лоренцу, Николасу Тинбергену и Карлу фон Фришу. Достижением Лоренца считалось, в частности, то, что он «наблюдал модели поведения, которые, судя по всему, не могли быть приобретены путем обучения и должны были быть интерпретированы как генетически запрограммированные». Более любого другого исследователя Лоренц способствовал пониманию того факта, что поведение в значительной степени определяется генетическими факторами и, следовательно, подвержено действию естественного отбора. Хотя нельзя не признать, что расширительные трактовки Лоренца, касающиеся человеческого поведения, представляются довольно спорными.
Когда Лоренц узнал о присуждении ему Нобелевской премии, его первой мыслью было то, что это камень в огород американских сравнительных психологов, его главных научных противников, а вторая – об отце. Он пожалел, что его нет в живых, и представил, как тот говорит: «Невероятно! Этот мальчишка получает Нобелевскую премию за дурачества с птицами и рыбами».
После ухода на пенсию в 1973 г. из Института Макса Планка Лоренц продолжал вести исследования в отделе социологии животных Института сравнительной этологии Австрийской академии наук в Альтенберге.
Научные заслуги Конрада Лоренца были отмечены множеством наград и знаков отличия, среди которых золотая медаль Нью-Йоркского зоологического общества (1955), Венская премия за научные достижения, присуждаемая Венским городским советом (1959), премия Калинги, присуждаемая ЮНЕСКО (1970). Лоренц был избран иностранным членом Лондонского королевского общества и Американской Национальной академии наук.
Умер Конрад Лоренц 27 февраля 1989 г. в Вене.
Б. Спок (1903–1998)
Очерк об этом замечательном человеке можно было бы начать высоким штилем: «В начале мая все прогрессивное человечество отмечает годовщину со дня рождения выдающегося психолога-гуманиста». И это был бы тот редкий случай, когда пафос вполне оправдан. Бенджамин Спок – культовая фигура второй половины ХХ века, он заслужил признание и любовь миллионов людей во всем мире. Причем в данном случае уместно говорить именно о «прогрессивном человечестве», поскольку Спок был превозносим либерально мыслящими приверженцами новых гуманистических ценностей, а у консерваторов, ретроградов и авторитаристов всегда был не в чести.
Не будет ошибкой и причисление его к стану психологов-гуманистов (хотя его традиционно и относят к педиатрам). Гуманистическая психология, по словам одного из ее видных представителей Сиднея Джурарда, – это тенденция, а не доктрина. О Споке можно с полным основанием сказать, что он стоял у истоков этой тенденции и на протяжении полувека активно способствовал ее утверждению. В своих работах он по форме выступал как детский врач, а по сути – как тонкий психолог, чья гуманистическая позиция определила мировоззрение нескольких поколений. Как и любой новатор, даже революционер, Спок не избежал противоречий, упущений, перегибов; по прошествии лет многие издержки его позиции становятся все более очевидны. В то же время с годами не утрачивает актуальности гуманистический пафос его идей. Так вспомним о том, чему он научился за свою долгую жизнь и чему научил нас.
К Споку более чем к кому-либо подходит определение «сын своего века». Его рождение пришлось на начало ХХ века, а смерть – на последние мгновения уходящего столетия, когда взоры человечества устремились уже в грядущий век. Спок не обогнал свое время, он шел в ногу с ним, проживал его шаг за шагом, чутко впитывая научные идеи и общественные настроения и сам создавая ту идейную атмосферу, которую с готовностью приняли современники.
В становлении его взглядов решающую роль сыграла семья. Некоторые ее традиции и принципы он безоговорочно принял, иные – столь же безоговорочно отверг, критически их переосмыслив на собственном опыте.
Бенджамин Маклейн Спок родился 3 мая 1903 г. в городе Нью-Хейвен, в американском штате Коннектикут – цитадели пуританской морали. Его семья вела род от голландских первопоселенцев, основавших в давние времена на берегах Гудзона город Новый Амстердам (переименованный впоследствии в Нью-Йорк); сама фамилия Спок – не что иное, как переиначенное голландское родовое имя Спаак. Бенджамин был старшим из шестерых детей в семье, а потому с юных лет познал заботы няньки. «Сколько же пеленок я сменил, сколько бутылочек с сосками поднес!» – вспоминал он о собственном детстве.
Отец Бена – Бенджамин Айвз Спок, юрист в железнодорожной компании, был человек рассудительный, серьезный и строгий. Следуя вековым традициям, он практически не занимался уходом за детьми («не мужское это дело!»), передоверив эту обязанность своей жене Милдред-Луизе. Та сама выросла в пуританской семье, где исповедовались строгие принципы воспитания. И в той же манере растила своих сыновей и дочерей. Суровая атмосфера, царившая в доме, хотя и основывалась на незыблемых принципах христианской морали, сказывалась на детях весьма негативно. Одна из сестер Бена, вспоминая родителей, рассказывала: «Я никогда не лгала отцу, ибо в том не было нужды, а вот матери – постоянно, так как за малейшую провинность она наказывала безжалостно». Дети были уверены, что отец, хоть и мало общается с ними, но любит их, а мать – нет. Сам Спок писал: «В детстве я боялся родителей. Да и не только в детстве, но и в юности. Научившись бояться их, я боялся всех: учителей, полицейских, собак. Я рос ханжой, моралистом и снобом. Со всем этим мне пришлось потом бороться всю жизнь». Результаты такого семейного воспитания говорят сами за себя. Уже будучи взрослыми, четверо детей семьи Спок были вынуждены прибегать к психиатрической помощи; трое так и не смогли создать собственные семьи, а у двоих неудачно сложились первые браки.
Но мать смогла преподать сыну и позитивный урок. Она была убеждена, что житейский здравый смысл позволяет ей растить детей не хуже, чем всем остальным, с недоверием относилась к докторам и предпочитала полагаться на свою интуицию. Однажды, когда кто-то из детей серьезно заболел, Милдред-Луиза решила сама поставить диагноз. Воспользовавшись домашним медицинским справочником, она пришла к выводу, что у ребенка малярия. К врачу она обратилась лишь за необходимыми лекарствами. Тот скептически указал дилетантке, что малярия – тропическая болезнь, крайне маловероятная в климате Коннектикута. Убежденная в своей правоте мать настояла на взятии анализа крови, который подтвердил ее диагноз. Когда Бенджамин Спок получил диплом врача, мать вместе с поздравлениями подарила ему свою «малярийную книгу». Эту семейную реликвию Спок хранил долгие годы. Не она ли подтолкнула его к сакраментальному призыву, с которым он много лет спустя обратился к матерям: «Доверяйте себе. Вы знаете больше, чем вы думаете… Вы знаете своего ребенка лучше всех».
До окончания школы Бен беспрекословно подчинялся матери. Даже когда он начал учиться в Йельской медицинской школе, он не обрел права на самостоятельность – должен был жить вместе с семьей и непременно являться домой к ужину. Немалого труда и изобретательности ему стоило добиться разрешения снимать комнату на территории университетского городка. Здесь и начался самостоятельный путь большого во всех отношениях человека. Он не только вырос до шести с лишним футов, но и стал олимпийским чемпионом в составе Йельского гребного экипажа на Играх 1924 года в Париже.
В Йеле Бен встретил Джейн Чини, студентку одного из местных колледжей, которой при первой же встрече сделал предложение. Мать без энтузиазма встретила решение сына, но благословение на брак все же дала, хотя и в необычной манере: «Что ж, женись – это, в конце концов, не самое худшее в жизни, иные вообще попадают на электрический стул». С таким эмоциональным напутствием и материальной поддержкой от Спока-старшего в размере тысячи долларов в год Бен и Джейн поженились в 1927 году и прожили вместе почти полвека.
В 1929 г. Бенджамин Спок, получив диплом, приступил в работе детского врача. Приобретя необходимый опыт, он четыре года спустя открыл частную педиатрическую практику, которой занимался в течение одиннадцати лет.
Довольно скоро молодой врач понял, что большинство родительских обращений к нему по поводу детского нездоровья были вызваны причинами не столько медицинскими, сколько поведенческими – навязчивое сосание пальца, отказ от еды, беспокойный сон, истерики, проблемы в приучении к горшку и т. п.
Молодой врач стремился узнать как можно больше об истории жизни каждого маленького пациента, укладе и воспитательных традициях семьи, заботах и проблемах матерей. Интерес к психологическим аспектам жизни ребенка подтолкнул Спока к более глубокому изучению детской психологии. Впоследствии Спок признавался, что в юности у него были очень смутные представления о психике ребенка: «Когда Джейн сказала мне, что личность ребенка проявляется уже в два года, я с горячностью назвал это полным вздором. Такое мне даже не приходило в голову, так как развитие ребенка не входило в учебную программу медицинской школы. Я ничего про это не читал».
Для восполнения этого пробела Спок углубился в изучение трудов по детской психологии и воспитанию маленьких детей. В ту пору самой популярной в Америке книгой на эту тему был «Психологический уход за ребенком» пера основателя бихевиоризма Джона Уотсона. Ознакомившись с доктриной Уотсона, Спок пришел в ужас. «Ни в коем случае не целуйте ребенка. Никогда не берите его на руки. Никогда не качайте колыбель», – наставлял родителей самый знаменитый психолог Америки (к слову сказать, его собственные сыновья, воспитанные таким образом, выросли психологически очень ранимыми людьми, а один и вовсе покончил с собой). Испытавший на собственном опыте нечто подобное, Спок решительно отверг идеи бихевиористской дрессировки. Гораздо ближе ему оказались идеи Джона Дьюи, считавшего, что «вовсе не обязательно загонять детей во взрослую жизнь с помощью дисциплинарных методов – они вполне могут стать взрослыми по собственной воле».
Наибольшее влияние оказали на Спока идеи Зигмунда Фрейда. Сам глубоко травмированный ранним детским опытом, молодой медик решил пройти курс дидактического анализа. С аналитиком ему повезло – им оказался Дональд Винникотт, гуманист в не меньшей мере, чем фрейдист. Результаты анализа воодушевили Спока, позволили ему пересмотреть свое мироощущение, по-новому взглянуть на собственные эмоциональные проблемы с опорой на ранний детский опыт. Спок был увлечен настолько, что решил сам стать практикующим психоаналитиком. По его убеждению, решение детских проблем следует начинать с проблем родительских. Некоторое время он работал с молодыми семьями, стремясь предохранить будущих родителей от предстоящих им проблем. Свои размышления, предназначенные родителям, он обобщил в своей первой книге «Психологические аспекты педиатрической практики». Фактически книга явилась приложением теории Фрейда к практике ухода за ребенком: кормлению, отнятию от груди, приучению к горшку, дисциплине и многим другим поведенческим и эмоциональным проблемам. Избегая теоретических рассуждений, Спок по существу попытался вложить основы психоанализа в умы американского среднего класса. Опираясь на положение Фрейда, что подавление детских поведенческих реакций может в будущем вызвать серьезные невротические нарушения, Спок предлагал родителям быть терпеливыми, терпимыми и спокойно пережить определенные стадии детского развития. Через несколько лет материал этой первой и наименее известной книги доктора Спока лег в основу другой его книги – той, что принесла ему всемирную славу.
За свою долгую жизнь «педиатр мира», как назвала его газета «Нью-Йорк Таймс», обычно воздерживающаяся от громких эпитетов, написал 13 книг. Но именно «энциклопедия для родителей» принесла скромному детскому врачу и малоизвестному психоаналитику мировую славу. Позже он и сам не раз называл этот труд главным делом своей жизни.
А началось все в 1943 году. Издательство «Покет букс» задумало выпустить популярное руководство для молодых родителей и подыскало для этой цели автора, уже зарекомендовавшего себя на этой ниве, но не избалованного славой. Издательские амбиции были скромные – шедевра от автора не ждали и не требовали. Заключая контракт, издатель с подкупающей прямотой сказал доктору Споку: «Книжка не обязательно должна быть очень хорошей», – и напомнил о запланированной продажной цене – 25 центов (1 цент с каждой проданной книги – на долю автора). Спок пообещал учесть пожелание, но слова не сдержал. Книжка получилась очень хорошей. Впервые выпуская ее в свет в 1946 г., издательство рассчитывало распродать 10 тысяч экземпляров. За первый год разошлось 750 тысяч – и это без предварительной рекламы, или, как принято ныне говорить, «раскрутки». Такой объем продаж сохранялся еще долгие годы, выведя книгу Спока в Америке на второе место по популярности после Библии. К концу века суммарный тираж книги перевалил за 50 миллионов (и это без учета пиратских изданий на диком российском рынке последних лет). Книга была переведена на 42 иностранных языка, включая даже такие, как тайский, тамильский и урду.
«Поверьте в себя», – таким напутствием родителям открывается первое издание с несколько тяжеловесным заглавием «Книга здравого смысла о ребенке и уходе за ним». Именно здравый смысл должен стать основой воспитания, утверждал Спок. Если дитя плачет, утешьте и накормите его, пусть даже будет нарушен график кормления – ничего страшного не случится. Но и не надо бросаться к младенцу стремглав, едва он захнычет. Если ребенок не может или не хочет что-то делать, не заставляйте его насильно – успеется… По убеждению автора, «растить ребенка – не такое уж трудное дело, если вы подходите к нему непринужденно, доверяете собственным инстинктам и следуете разумным советам врача».
Это сейчас такая точка зрения в самом деле кажется воплощением здравого смысла, а тогда… В Америке середины ХХ века существовали жесткие педиатрические установки по уходу за ребенком. Американцы кормили своих младенцев в 6, 10, 14, 18 и 22 часа – не раньше и не позже, и в строго определенном количестве. Считалось: если ребенок почувствует, что его могут покормить в любое время, он станет капризничать, требовать больше еды. А это испортит и пищеварение, и характер. Брать ребенка на руки, по рекомендации Уотсона, не следует – это его опять-таки испортит. Приучение к горшку начиналось не тогда, когда ребенок был к этому готов, в строго определенном возрасте – в середине первого года жизни.
Для большинства американских родителей новая книжка была подобна глотку свежего воздуха. Как оказалось, Спок поступил очень мудро, начав писать ее еще в военные годы. Сразу после войны, когда тревоги были позади и Америка, вырвавшись из тисков депрессии и значительно окрепнув, уверенно вступила на путь экономического процветания, в ней начался «бэби-бум» – невиданный всплеск рождаемости. Потребность в умных и доходчивых советах о том, как воспитывать ребенка, была велика как никогда. К тому же новое поколение родителей было готово к новому уровню семейных отношений, безотчетно стремилось уйти от строгости и сдержанности в отношениях с детьми. Книга Спока оказалась созвучной их ожиданиям.
Главное, что сказал автор родителям: не бойтесь любить своих детей. Каждый ребенок нуждается в том, чтобы его ласкали, обнимали, брали на руки, улыбались ему, играли с ним. Любой совет автора пронизан гуманистической перспективой: «Когда вы показываете ребенку, что он самый чудесный малыш на свете, это питает его дух так же, как молоко – его тело».
Спок стремился сделать жизнь в семье более легкой и более приятной для родителей и для детей. Он учил, что не нужно чрезмерных родительских жертв – родители тоже люди, и они не должны забывать и о своих нуждах. Что хорошо и удобно для родителей, то хорошо и удобно для ребенка, и наоборот.
Молодые американские мамы читали Спока запоем. «У меня такое чувство, – признавалась в письме автору одна из читательниц, – будто вы разговариваете со мной, а главное, считаете меня разумным существом…» К началу пятидесятых уже несколько миллионов американских семей воспитывали детей по Споку. Однако всенародный энтузиазм не мог и не настораживать. Спок быстро понял, что многие воспринимали его советы слишком буквально и впадали в крайности. Воспитывая ребенка «по Споку», родители теряли свое ведущее положение, так как уверовали, что ребенок лучше знает, что ему нужно, а свою роль видели лишь в том, чтобы следовать за его побуждениями. Уже в пятидесятые Спок начал предостерегать от таких крайностей. Во втором издании книги (1957) он акцентировал роль родительского авторитета, в третьем (1968) значительно расширил главу «Дисциплина», где, оставаясь на своих прежних позициях относительно определяющей роли родительской любви в воспитании ребенка, он подчеркивал также обязанность родителей ставить перед детьми разумные ограничения, учить их на примерах и наставления, что правильно и что прилично. Нормально, писал Спок, что дети сопротивляются, капризничают, протестуют, испытывают гнев. Но родители вправе настаивать на разумном поведении детей и всегда должны оставаться на лидирующих позициях.
Фактически вторую половину жизни доктор Спок посвятил тому, что оправдывался за свои радикальные призывы сороковых и призывал не трактовать гуманизм как вседозволенность. Но джинн был уже выпущен из бутылки. Поколение «бэби-бумеров», росшее без окриков и шлепков, все крепче становилось на ноги и не желало разделять буржуазные ценности своих отцов. Когда Спока упрекают (хотя можно ли это считать упреком?) в том, что он породил поколение хиппи, – это чистая правда. Длинноволосых американских шестидесятников легко осудить за вызывающую внешность, культ марихуаны, безголосый рок-н-ролл. Но в историю они вошли не только эпатажными выходками, но и искренним протестом против буржуазного лицемерия, проповедью любви и добра, а главное – мощным антивоенным движением, заставившим милитаристскую Америку свернуть вьетнамскую войну, а в итоге и отказаться от всеобщей воинской повинности. Тысячи длинноволосых юношей и девушек, фактически еще детей, с цветами в руках шли на полицейские кордоны без страха перед дубинками и пулями. Их убивали и калечили, но их цветы оказались в конце концов сильнее дубинок. Они добились того, о чем в другие времена и в других краях молодые инфантилы не смеют и мечтать, – конца позорной войны и отмены казарменной каторги.
Вице-президент США Спиро Агню, глядя на нескончаемый поток демонстрантов, надвигавшийся на Белый Дом, в бессильной злобе шипел: «Споково отродье!..» Кто сегодня помнит мистера Ангю? И кто не знает доктора Спока?
Седоволосый доктор (ему уже перевалило за шестьдесят) шел в рядах демонстрантов. Когда началась война во Вьетнаме, он сразу примкнул к антивоенному движению. Для респектабельного медика это означало превратиться в изгоя. Он сознательно пошел на это, мотивируя свой поступок так же рассудительно и просто, как давал в своей книжке советы матерям: «Какой смысл растить детей, чтобы потом отправлять их гореть заживо?»
В 1968 году, в разгар антивоенных выступлений, Спок был признан виновным в «преступном пособничестве уклоняющимся от службы в вооруженных силах». Ему грозили годы тюрьмы, но апелляционный суд, к счастью, отменил приговор.
В 1972 году он баллотировался на президентских выборах в качестве кандидата Народной партии – коалиции левых сил. Предвыборная платформа: бесплатное медицинское обслуживание, гарантированный минимум доходов, вывод американских войск с территории иностранных государств, а также… легализация марихуаны (видно, сказалось тесное общение в кругу детей-цветов). Разумеется, консервативному большинству электората такой радикализм пришелся не по вкусу. К тому же на доктора ополчились набиравшие силу феминистки. Еще бы – ведь он призывал женщин быть женщинами и больше сил отдавать детям, чем карьере. Моральные извращенки всего мира не могут простить ему этого по сей день.
Главный парадокс в жизни доктора Спока состоял в том, что от травматического опыта собственного детства ему, похоже, так и не удалось освободиться. В кругу собственной семьи он представал совсем не таким, каким его воображали миллионы почитателей. В отношении своих сыновей он вел себя в прямом противоречии с собственными рекомендациями, напротив – словно вознамерился воплотить в жизнь наставления Уотсона: «Я никогда не целовал своих сыновей», – признавался он на склоне лет. Джон Спок, младший сын доктора, в возрасте 52 лет позволил себе шокирующую откровенность: «Отец постоянно устраивал нам нешуточные разносы даже по мелочам. У нас в доме царила гнетущая обстановка. Моим обычным состоянием были страх, чувство унижения и подавленности». Вполне понятна та ирония, с какой Джон относится к бестселлеру доктора Спока. Он запомнил своего отца совсем другим – «отвратительным тираном по отношению к родному сыну».
Не сложились отношения доктора и с матерью его детей – Джейн. По свидетельству близких, она была его первой помощницей в подготовке книги, но все время чувствовала себя недооцененной. Душевный дискомфорт вылился в алкоголизм Джейн, что разрушило их брак накануне золотой свадьбы. Вскоре спутницей Спока стала Мэри Морган – женщина, на 40 лет моложе его. С нею он на склоне лет поселился в Калифорнии.
Умер Бенджамин Спок в возрасте 95 лет в своем доме близ Сан-Диего. Вопреки распространенному мнению, жил он небогато – большая часть его внушительных гонораров ушла на благотворительные цели, в антивоенные и правозащитные фонды. За несколько дней до его смерти жена обратилась к друзьям с просьбой помочь оплатить чек на его лечение. Деньги наверняка нашлись бы, но в 95 лет от смерти уже не откупишься…
Хоронили доктора в ясный день… под бодрую мелодию джаза. «Я терпеть не могу казенную атмосферу похорон, – писал он в своих мемуарах «Спок о Споке», – Мой идеал – негритянские похороны в духе Нового Орлеана, когда друзья идут за гробом, пританцовывая под звуки джаз-банда». Собравшиеся пели не похоронные псалмы, а «Боевой гимн республики», «Америку прекрасную» – песни, которые много лет назад распевал многотысячный хор на антивоенных демонстрациях.
Вот только сами те демонстранты, похоже, утратили тот дух, которым их наставник жил до конца дней. В одной из своих последних книг «Лучший мир для наших детей», написанной словно в опровержение всего сказанного ранее, он признает: «Никто и не предполагал, что представители этого поколения вырастут в своей массе такими неинтересными людьми. Сегодня они думают только о деньгах и сексе, а о духовной жизни не имеют ни малейшего представления и вообще мало чем отличаются от своих предков. Я старался сделать для них все, что только мог, а они меня страшно разочаровали».
Так виднейший представитель гуманистической психологии разделил ее общую судьбу: блестящий замысел – плачевный результат. Хотя любить детей, безусловно, нужно. Вот только Спока следует читать внимательнее. И чем более позднего – тем более внимательно читать.
Б. Ф. Скиннер (1904–1990)
В 1972 г. членов Американской Психологической Ассоциации (которых уже в то время насчитывалось около ста тысяч) попросили назвать самых выдающихся психологов ХХ столетия. По их почти единодушному мнению, этот почетный список возглавил в ту пору здравствовавший Б.Ф. Скиннер, опередивший даже Фрейда (тот был назван вторым). Наверное, тут сыграл свою роль и великодержавный нарциссизм американцев. Однако, если в такой оценке и было допущено преувеличение, то небольшое. Скиннер – действительно выдающийся психолог, и если не первый, то один из первых. Его влияние на мировую психологию, на весь комплекс наук о человеке огромно. Можно по-разному относиться к его радикальным идеям (а в радикализме его упрекали постоянно), но в анализе мировой психологической мысли минувшего столетия их ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
Беррес[13] Фредерик Скиннер родился в городке Саскуэханна, штат Пенсильвания, 20 марта 1904 г. Как он сам отмечал в автобиографии[14], воспитывался он в теплой и доброжелательной семейной атмосфере, которой, однако, была не чужда строгая дисциплина. Общий позитивный настрой достигался за счет того, что родители не злоупотребляли наказаниями, а напротив – поддерживали дисциплину и порядок, всякий раз поощряя и вознаграждая те поступки, которые того заслуживали. Вероятно, такой стиль отношений впоследствии повлиял на формирование психолого-педагогических воззрений Скиннера: так называемому позитивному подкреплению он всегда отводил решающую роль.
В детстве и юности интересы будущего психолога были крайне разнообразны и совершенно не систематичны. Как и многие мальчишки, он увлекался экспериментированием с механическими устройствами, пытался смастерить самодельное пневматическое ружье, даже сконструировал изощренную многоблочную конструкцию для… аккуратного развешивания собственной пижамы. В этих интересах его биографы усматривают (хоть это и кажется некоторой натяжкой) предвестие крайнего механицизма его будущих теорий. Дома он устроил целый террариум, где содержал нескольких жаб, ящериц, черепах и даже змей. (Впоследствии Скиннер явно отдавал предпочтение экспериментированию над животными, преимущественно голубями и крысами, считая, что отличие человека от животных слишком преувеличено, а на самом деле совсем не принципиально.) Успел он и поиграть в школьном оркестре, в юности считался неплохим саксофонистом. Но наибольшее внимание юный Скиннер уделял литературе. Уже в четырнадцатилетнем возрасте он на основе скрупулезного анализа шекспировских пьес выдвинул собственную гипотезу об их авторстве, которое приписал Бэкону. Подобные гипотезы высказывались и раньше, и потом, но характерно, что американский школьник пришел к такому заключению своим умом, что само по себе характеризует этот ум как весьма незаурядный. Много вы знаете восьмиклассников, способных на такие умозаключения, да еще и читавших Бэкона? А Скиннер с особым вниманием вникал в бэконовскую философию науки, восхищаясь верой английского мыслителя в возможность научного решения практических жизненных проблем.
Высшее образование Скиннер получил в колледже Гамильтона, небольшом гуманитарном учебном заведении штата Нью-Йорк. Здесь он специализировался в области английского языка и литературы, намереваясь в будущем посвятить себя литературному творчеству. О студенческих годах он сохранил не самые приятные воспоминания. Многое в учебном распорядке его раздражало, особенно – обязательные ежедневные богослужения (на протяжении всей жизни религиозность была ему абсолютно чужда). Близко сойтись с однокашниками ему не удалось, поскольку он считал их (вероятно – небезосновательно) людьми ограниченными, с низкими духовными запросами. В то время, как они предавались незамысловатым юношеским увеселениям, он с упоением читал Джойса и Пруста. Такие интересы, действительно, нелегко было совместить. Впрочем, и в студенческих проказах Скиннер порой принимал активное участие, а в результате нескольких рискованных розыгрышей, организованных по его инициативе, едва не был исключен из колледжа. Окончить колледж ему все-таки удалось, в 1926 г. он получил степень бакалавра.
Следует отметить, что в колледже Гамильтона психология преподавалась факультативно. Скиннер этих занятий не посещал, его интерес к психологии оформился позже. А в те годы он всерьез планировал свою литературную карьеру. Знакомство с известным поэтом Робертом Фростом еще более укрепило его в этом намерении. Фрост полагал, что юноша подает большие надежды, и тепло его напутствовал на писательском поприще. Этому прогнозу не суждено было оправдаться. По окончании колледжа Скиннер провел довольно продолжительное время в творческих исканиях, пока наконец не пришел к неутешительному выводу, что ему как писателю «решительно нечего сказать».
В этот момент произошла его решительная переориентация из области искусства в область науки, которая, как он осознал, и является «искусством ХХ века». В 1928 г. Скиннер поступил в Гарвардский университет на психологическое отделение. Он отдавал себе отчет, что упустил много времени и в плане психологической эрудиции далеко отстал от своих университетских товарищей. Поэтому он установил для себя строжайший, поистине спартанский режим учебных занятий, полностью отказав себе в досуге: на внеучебные занятия он отводил себе 15 минут в сутки. Такая самоотверженность дала свои плоды. В 1931 г. Скиннер получил докторскую степень и опубликовал свое первое серьезное научное исследование, сразу выдвинувшее его в первые ряды специалистов по поведенческой психологии.
С 1931 по 1936 г. Скиннер занимался в Гарварде научной работой. Он сконцентрировал свои усилия на изучении поведения животных. В 1936 г. он занял должность преподавателя в Миннесотском университете и оставался там до 1945 г. В это время Скиннер много и творчески работал и приобрел известность как один из ведущих бихевиористов. Осенью 1945 г. он возглавил кафедру психологии в Университете штата Индиана и занимал этот пост до 1947 г., после чего вернулся в Гарвард в качестве лектора. Он работал там до ухода на пенсию в 1974 г.
Научная библиография Скиннера весьма обширна: за полвека им было написано 19 крупных монографий и множество статей. Но самая ранняя публикация, принесшая ему известность, обычно упоминается даже в самых кратких списках его трудов. Это небольшая статья «Понятие рефлекса в описаниях поведения». Здесь впервые условный рефлекс трактовался не как реальный акт жизнедеятельности, присущий ей самой по себе, а как производное от операций экспериментатора.
В одной из своих последующих работ Скиннер писал, что за всю свою жизнь он имел только одну идею и эту идею выражает термин «управление» («контроль»), имея в виду управление поведением. Справиться с этой задачей экспериментатор способен лишь в том случае, если контролирует все переменные, под влиянием которых складывается и изменяется поведение организма. Он утрачивает власть над своим объектом, когда допускает его зависимость от гипотетических, ускользающих от прямого наблюдения внутренних факторов. Поэтому интерес для науки представляют только непосредственно фиксируемые отношения между экспериментально контролируемыми стимулами и последующими реакциями.
По мнению Скиннера, к гипотезам и дедуктивным теориям наука вынуждена прибегать там, где ее объектами выступают явления, недоступные прямому восприятию. Психология же находится в более выгодном положении. Взаимодействие факторов, порождающих поведенческие реакции, можно непосредственно увидеть. Для этого, однако, требуются специальные экспериментальные установки и схемы. Они подобны оптическим приборам, позволяющим обнаружить события, скрытые от невооруженного глаза. Таким прибором Скиннер считал изобретенный им экспериментальный ящик (названный впоследствии, вопреки протестам самого изобретателя, скиннеровским ящиком), в котором крыса или голубь, нажимая на рычажок или кнопку, получает подкрепление. Рычаг соединяется с самописцем, регистрирующим движение. Нажим на рычаг рассматривается в качестве образца и самостоятельной единицы «оперантной реакции» – очень удобной для фиксации, поскольку всегда можно однозначно определить, произошла она или нет. Дополнительные устройства позволяют соединять подкрепление с различными сигналами (звуковыми, световыми и т. п.).
Схема опыта может быть усложнена. Например, вместо одного рычажка перед крысой находятся два, тем самым ставя ее в ситуацию выбора. Из этого довольно простого набора элементов составляются самые разнообразные планы управления поведением. Так, крыса нажимает на рычаг, но получает пищу только тогда, когда загорается лампочка. В результате в дальнейшем при свете лампочки скорость реакции заметно возрастает. Или пища выдается лишь при нажиме с определенной силой. В дальнейшем движения требуемой силы появляются все чаще и чаще. Можно соединить движения в цепи (скажем, реакция на зеленый цвет ведет к появлению нового раздражителя – красного цвета, двигательный ответ на который подкрепляется). Экспериментатор может также широко варьировать время и порядок положительного и отрицательного подкрепления, конструируя различные «планы подкрепления».
Б.Ф. Скиннер в лаборатории
Скиннер отрицательно относился к статистическим обобщениям, считая, что лишь тщательная фиксация реакций отдельного организма позволит решить главную задачу психологии – предсказывать и контролировать поведение конкретных индивидов. Статистические данные, касающиеся группы (выборки), недостаточны для выводов. Имеющих предсказательную силу в отношении каждого из ее членов. Частоту реакций и их силу запечатлевают кривые, которыми, по Скиннеру, исчерпывается все, что позитивная наука способна сказать о поведении. В качестве образца такого типа исследований предлагалась работа Скиннера, выполненная им совместно с Ч. Ферстером, «Планы подкрепления» (1957), в которой были в 921 диаграмму данные о 250 миллионах реакций, непрерывно производившихся подопытными голубями в течение 70 000 часов.
Подобно большинству бихевиористов, Скиннер полагал, что обращение к физиологии бесполезно для изучения механизмов поведения. Между тем его собственная концепция «оперантного обусловливания» сложилась под влиянием учения Павлова. Признавая это, Скиннер разграничил два типа условных рефлексов. Он предложил отнести условные рефлексы, изучавшиеся павловской школой, к типу S. Это обозначение указывало на то, что в классической павловской схеме реакция возникает только в ответ на воздействие какого-либо стимула (S), то есть раздражителя. Поведение же в «скиннеровском ящике» было отнесено к типу R и названо оперантным. Здесь животное сперва производит реакцию (R), а затем реакция подкрепляется. В ходе экспериментов были установлены существенные различия между динамикой реакции типа R и выработкой слюноотделительного рефлекса по павловской методике.
По мнению Скиннера, ограниченность традиционной поведенческой формулы S – R состоит в том, что она не учитывает влияния результатов реакции на последующее поведение. Реакция рассматривается только как производное от стимула, только как следствие, но не как детерминанта, которая преобразует организм. Адекватная формула о взаимодействии организма со средой, писал Скиннер, всегда должна учитывать три фактора: 1) событие, по поводу которого происходит реакция, 2) саму реакцию, 3) подкрепляющие последствия. Эти взаимоотношения являются несравнимо более сложными, чем отношения между стимулом и реакцией.
Так наметился принципиальной важности переход от линейного представления о поведении к утверждению роли обратной связи в построении реакций. В этой роли выступало подкрепление, производящее отбор и модификацию реакций. Разработанная Скиннером и его последователями техника «оперантного обусловливания» получила в Соединенных Штатах широкое применение в различных областях практики. Установка на то, чтобы приложить принципы оперантного бихевиоризма к решению практических задач разного рода, придала этому направлению широкую популярность далеко за пределами психологии. Оперантную технику стали использовать при воспитании умственно отсталых детей, лечении невротиков и психически больных. Во всех случаях модификация поведения достигается за счет постепенного подкрепления. Например, больной вознаграждается за каждое действие, ведущее шаг за шагом к цели, предусмотренной схемой лечения.
В годы II мировой войны наблюдение за склевыванием пищи обученными голубями привело Скиннера к изобретению особых управляемых снарядов. Однако это изобретение не было применено на практике. (Эта идея Скиннера много лет назад была иронично спародирована датскими кинематографистами: в комедии «Бей первым, Фредди!» специально обученные голуби оказываются подменены в чреве ракеты обычными почтовыми голубями, которые приучены… возвращаться домой).
А вот в педагогике идеи Скиннера нашли чрезвычайно широкое применение. Сам он объяснял это явление случайностью, как, впрочем и все свои достижения (верный своей теории, все происходящее в жизни он оценивал как следствие складывающихся обстоятельств). 11 ноября 1953 г., посетив урок арифметики в школе, где училась его дочь, Скиннер, как он вспоминает в автобиографии, пришел в смятение. «Внезапно ситуация представилась мне совершенно абсурдной. Не ощущая своей вины, учитель нарушал почти все законы, открытые учеными относительно процесса научения». Под впечатлением этой картины Скиннер стал размышлять о факторах подкрепления, которые можно было бы использовать для улучшения преподавания школьных предметов, и спроектировал серию обучающих машин. Так возникло направление, названное программированным обучением. Его быстрое развитие отвечало запросам эпохи научно-технической революции. Но сама по себе идея оптимизации обучения и использования в этих целях специальных машин не связана неразрывно с какой-либо определенной психологической концепцией. Что касается теории Скиннера, то она смогла (в отличие от других психологических систем) направить поисковые работы по программированному обучению в силу того, что вводила принцип членения процесса решения учебной задачи на отдельные операции, каждая из которых контролируется подкреплением, служащим сигналом обратной связи.
Уязвимость скиннеровской «технологии обучения» состояла в том, что она вносила в педагогическую теорию и практику присущую всему бихевиоризму идею об идентичности механизмов модификации поведения у всех живых существ. Спорность этого положения особенно резко обнажилась в скиннеровской трактовке тех высших форм психической деятельности, которые издревле принято считать чисто человеческим достоянием, а именно речевых актов.
В книге «Вербальное поведение» (1957) Скиннер развивает концепцию, согласно которой овладение речью происходит по общим законам образования оперантных условных рефлексов. Когда один организм производит речевые звуки, другой организм их подкрепляет (положительно или отрицательно), контролируя тем самым процесс приобретения этими звуками устойчивых значений. Последние, по мнению Скиннера, могут относиться к одному из двух разделов – указывать либо на предмет, в котором говорящий индивид испытывает потребность, либо на предмет, с которым этот индивид соприкасается. С острой критикой этой концепции выступил известный американский лингвист Ноэм Хомский, показавший, что попытки объяснить порождение речи по типу оперантных реакций крысы, нажимающей на рычаг, не только несовместимы с лингвистической трактовкой языка как особой системы, но и обессмысливают ключевые для бихевиоризма понятия о стимуле, реакции, подкреплении. И хотя большинство специалистов в области теории языка в этой полемике тяготеют скорее к позиции Хомского, сам Скиннер до конца своих дней считал «Вербальное поведение» наиболее удачной и убедительной работой.
Не меньшую, а пожалуй, еще более острую полемику вызвала другая работа Скиннера – социальная утопия «Уолден 2». В этой книге, совместив свои литературные задатки и психологические находки, Скиннер изобразил в беллетристической форме перспективы создания с помощью техники опреантного обусловливания нового справедливого социального устройства. Несмотря на гуманистический замысел, аналогия с «Прекрасным новым миром» Олдоса Хаксли просматривалась в «Уолдене 2» так явно, что наиболее экзальтированные публицисты записали Скиннера чуть ли не в фашисты. Впрочем, жизнь сама все расставила на свои места. Созданные по предложенной Скиннером модели коммуны просуществовали недолго: не очень-то уютно оказалось в них жить. Впрочем, как и в коммунах детей-цветов, исповедовавших диаметрально противоположные принципы. Наверное, такова судьба всех социальных утопий.
Скиннер, в самом деле, дал много поводов для критики. Однако имена его критиков (за исключением Хомского и еще, пожалуй, Роджерса) вряд ли сохранятся в истории психологии, а Скиннер по сей день остается одним из самых часто цитируемых авторов. На Золотой медали, врученной ему в 1971 г. Американской Психологической Ассоциацией, едва уместился панегирик: «Б.Ф. Скиннеру – пионеру психологических исследований, лидеру теории, мастеру технологии, который произвел революцию в изучении поведения».
Б.Ф. Скиннер умер от лейкемии 18 августа 1990 г.
На русский язык ни одна из его работ до сих пор не переведена.
Д.Б. Эльконин (1904–1984)
В одном популярном кинофильме герой Евгения Леонова – заведующий детским садом – демонстрирует пример редкого психологического чутья, побуждая капризных воспитанников съесть на завтрак не любимую ими кашу. Молодые коллеги, наблюдая за этим педагогическим чудом, просто ахают: «Вы гений!» И, пожалуй, такая оценка справедлива. Только отнести ее следовало бы не к вымышленному киногерою, а к реальному ученому, который применил этот прием еще много лет назад.
Одну из своих книг Даниил Борисович Эльконин начинает с автобиографической зарисовки.
Интерес к психологии детской игры возник у меня в самом начале 30-х годов в ходе наблюдений над игрой дочурок и в связи с чтением лекций по детской психологии. Записи этих наблюдений затерялись во время войны в блокированном ленинграде, и в памяти остались лишь некоторые эпизоды…
В один из выходных дней мне пришлось остаться с девочками дома одному. Обе девочки были дошколльницами и посещали детский сад. Провести вместе выходной день было для нас праздником. Мы читали, рисовали, возились, шалили. Было весело и шумно до тех пор, пока не наступило время второго завтрака. Я приготовил традиционную и изрядно надоевшую им манную кашу. Они наотрез отказались от еды, не хотели садиться за стол.
Не желая омрачать хорошее настроение и прибегать к принуждению, я предложил девочкам поиграть в «детский сад». Они с радостью согласились. Надев белый халат, я превратился в воспитательницу, а они, надев переднички, – в воспитанниц детского сада. Мы начали выполнять в игровом плане все, что полагается в детском саду: порисовали, затем, накинув на себя как будто бы пальтишки, погуляли, обойдя два раза вокруг комнаты; почитали. Наконец наступило время еды. Одна из девочек взяла на себя функции дежурной и подготовила стол к завтраку. Я, «воспитательница», предложил им на завтрак ту же кашу. Без всякого протеста, даже выражая удовольствие, они стали есть, старались быть аккуратными, тщательно выскребли тарелки и даже попросили еще. Всем своим поведением они старались показать себя образцовыми воспитанницами, подчеркивая отношение ко мне как к воспитательнице, беспрекословно подчиняясь каждому моему слову, обращаясь ко мне подчеркнуто официально. Отношения дочерей к отцу превратились в отношения воспитанниц к воспитательнице, а отношения сестер – в отношения между воспитанницами. Игровые действия явились чрезвычайно сокращенными и обобщенными – вся эта игра продолжалась около получаса.
Наблюдения дали повод для предположения, что главным в игре детей-дошкольников является роль, которую берет на себя ребенок. В ходе осуществления роли преобразуются действия ребенка и его отношение к действительности. Так родилась гипотеза, что мнимая ситуация. В которой ребенок берет на себя роли других людей и реализует типичные для них действия и отношения в особых игровых условиях, есть основная единица игры.
В этом примере Д.Б. Эльконин предстает психологом-практиком в подлинном смысле этого слова, то есть специалистом, умеющим в реальной жизненной ситуации подметить психологические закономерности, и наоборот, воплотить научные закономерности в решение конкретных жизненных задач. В этом – весь Даннил Борисович, тонкий знаток душевной жизни, глубокий теоретик и мудрый практик.
Д.Б. Эльконин рано начал трудовую деятельность, проработав два года воспитателем в колонии для малолетних правонарушителей.
После окончания в 1927 году педологического отделения педагогического факультета ЛГПИ им. А.И. Герцена он работал педологом в детской профамбулатории Октябрьской железной дороги и одновременно преподавал в педагогическом институте на кафедре педологии.
Знаменательно, что первыми его учителями в науке стали знаменитый физиолог А.А. Ухтомский и не менее знаменитый психолог Л. С. Выготский, с которым Д.Б. Эльконин в 1931 году начал исследование проблем психологии детской игры.
Успешная научная деятельность сопровождалась восхождением по административной лестнице – в 1932 году Д.Б. Эльконин стал заместителем директора по науке ленинградского научно-практического педологического института. Однако после печально известного постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» (1936) этот институт закрылся, а Д.Б. Эльконин лишился ученой степени кандидата наук и остался без работы.
Отказавшись согласиться с правильностью партийной оценки педологии как лженауки, молодой ученый предстал перед руководителем Ленинградского обкома А.А. Ждановым. Сохранилась архивная запись их беседы. Это поразительный документ, свидетельствующий об исключительной научной честности Д.Б. Эльконина. Единственный из всех сотрудников педологического института, Даниил Борисович заявил первому секретарю обкома, члену Политбюро партии, что он «не привык изменять убеждения за 24 часа».
Видавший виды партийный лидер был настолько поражен, что дал разрешение Эльконину работать в школе (то есть в идеологической сфере, куда люди с идеологически сомнительными взглядами не допускались).
Результатом учительской деятельности Д.Б. Эльконина явилось написание в 1938–1940 годах букваря, книги по русскому языку для школ народов Крайнего Севера и методических указаний к ней. В эти же годы он подготовил и защитил в ЛГПИ им. А. И. Герцена вторую кандидатскую диссертацию. Это было накануне Великой Отечественной войны.
Вступив 2 июля 1941 года добровольцем в народное ополчение, Д.Б. Эльконин окончил войну майором, награжденным многими боевыми орденами и медалями.
Военные годы Даниил Борисович вспоминать не любил (тем более что война трагически оборвала жизнь двух дочерей – Наташи и Гали и первой жены – Ц.П. Немановой, убитых фашистами на Кавказе), но один эпизод воспроизводил с горьким юмором.
«Служил я в штабе Ленинградского фронта, – рассказывал Д.Б. Эльконин. – Вдруг вызывают меня в особый отдел и спрашивают: «Вы, Эльконен, финн?» – «Нет, – отвечаю. – Я – Эльконин, еврей». – «О, это очень хорошо», – говорят мне особисты. Так что в тот момент мне помогло, что я еврей».
Правда, это был единственный случай, когда пресловутый «пятый пункт» оказался полезен. Бывало и наоборот, как, например, в марте 1953 года, когда подполковник Эльконин, несколько лет успешно проработавший в Московском областном военно-педагогическом институте Советской Армии, был изгнан оттуда за «ошибки космополитического характера». Чтобы плодотворно работать в науке, а порою просто выжить, Эльконину приходилось мучительно бороться, в том числе и с некоторыми влиятельными академиками АПН (сам он оставался лишь членом-корреспондентом, горько посмеиваясь, что П.Я. Гальперин и Л.И. Божович вообще ни в какие члены АПН допущены не были). Но несмотря ни на какие трудности, умение радоваться, находить возможности для творчества всегда были свойственны Д.Б. Эльконину.
При этом он был бесконечно добрым человеком, который щедро дарил научные идеи и экспериментальные замыслы ученикам, сотрудникам, коллегам.
Как заметил В.П. Зинченко, «Эльконин не страшился научного пиратства, говоря, что с идеей нужно украсть и голову, а это даже в такой стране, как наша, сложновато».
Последние 30 лет жизни Д.Б. Эльконин работал в Психологическом институте АПН, где последовательно руководил лабораториями психологии младшего школьника, психологии подростка, диагностики психического развития школьников (организовывал, налаживал деятельность и передавал заведование своим ученикам), одновременно ведя преподавательскую работу на факультете психологии Московского университета.
Всю свою научную жизнь Д.Б. Эльконин, выдвигая продуктивные идеи, разрабатывая теории и концепции, развивал и творчески переосмысливал наследие Л.С. Выготского, перед научным гением которого он преклонялся.
Работал Даниил Борисович в тесном сотрудничестве (основанном на единстве научных воззрений и личной дружбе) с такими ведущими отечественными психологами, как А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович. Умение дружить и верность научным принципам Даниил Борисович воспитывал и в своих учениках. При его всемерной поддержке выросли многие известные психологи нашей страны, ныне самостоятельно возглавляющие научные направления.
Круг изучаемых Д.Б. Элькониным психологических проблем был исключительно широк, хотя центральной для него всегда оставалась проблема культурно-исторической природы детства и глубинных законов детского развития.
Особое видение и понимание явлений развития позволили Даниилу Борисовичу полно, четко и аргументированно построить теорию психического развития ребенка, в которой дана развернутая характеристика структуры и содержания этого сложнейшего процесса. Созданная им теория, по точному определению В.В. Давыдова, «во-первых, существенно конкретизировала и уточнила общее его понимание, сложившееся в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, А.В. Запорожца… во-вторых, четко различила и охарактеризовала внешние условия, источники и движущие силы развития ребенка, в-третьих, обобщила достаточно большой фактический материал».
Последовательно раскрывая сформулированное еще Л.С. Выготским положение о том, что обучение и воспитание ребенка ведут за собой его психическое развитие, Д.Б. Эльконин убедительно показал: при организации обучения ребенка в том или ином возрасте необходимо ориентироваться не на те психические процессы, которые уже сформировались. А на те, которые следует формировать и развивать путем построения деятельности, соответствующей данному возрасту.
Д.Б. Эльконин глубоко изучил весь спектр детских возрастов (от младенческого до юношеского), реально создав возрастную детскую психологию, неразрывно связанную с педагогической психологией и возрастной диагностикой.
Наряду с концептуальной проработкой важнейших теоретико-методологических проблем детской психологии Д.Б. Эльконин целенаправленно работал над прикладными, психолого-педагогическими, дидактическими вопросами. Например, им был разработан эффективный метод обучения детей чтению на основе звукового анализа слов, воплощенный в экспериментальном букваре.
Итоги научно-исследовательской и психолого-педагогической деятельности Даниила Борисовича Эльконина обобщены в десяти его монографиях и множестве научных статей, в которых нашла яркое отражение исключительная личность этого ученого и человека.
А.В. Запорожец (1905–1981)
Научное творчество А.В. Запорожца – яркая страница в истории отечественной психологии ХХ века. Увы, нынешнему поколению фасилитаторов и коучей такие страницы не очень интересны, так как мало способствуют процветанию их бизнеса. Но в нашей стране каким-то чудом сохранились еще и психологи, для которых история жизни и творчества выдающегося коллеги может служить полезным и поучительным уроком. Посему и сегодня стоит прикоснуться к страницам этой яркой научной биографии и уже с позиций нового века поразмышлять над наследием великого предшественника.
Александр Владимирович Запорожец родился 12 сентября 1905 г. в Киеве в скромной небогатой семье. Было бы, однако, неверно, заключить, будто происходил он из рода обывателей, скорее напротив – мятежников и бунтарей. Дед Запорожца по отцовской линии, ветеран Крымской войны, по возвращении из окопов Севастополя в родную деревню организовал крестьянский сход, на котором призвал соседей присвоить помещичью землю. Закончилась эта инициатива, естественно, каторгой, но много позже, в годы Советской власти была поощрена – дедушка был награжден изрядным земельным наделом под Белой Церковью, где Саша подростком провел немало времени, совмещая посильный крестьянский труд с естественными мальчишескими забавами. Мятежный дух отца унаследовал и один из его 11 детей – Сашин дядя П.К. Запорожец, один из первых соратников В.И. Ленина по «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса».
Мать Саши Елена Григорьевна (в девичестве Маньковская) также отличалась характером неспокойным и бунтарским. В Киеве на Рейтерской улице еще сохранился дом, принадлежавший в ХIХ веке семье Маньковских. В 1889 г. этот дом стал явочной квартирой сестер Маньковских, сначала старшей – Анны Григорьевны, члена «Народной воли», а с 1893 г. младшей – Елены Григорьевны – члена РСДРП, учительницы природоведения. В этом доме неоднократно производились обыски, в ходе одного из которых Елена Григорьевна была арестована, а затем сослана на каторгу.
Как это нередко бывает, замужество и рождение ребенка изгнали ветер из буйной головы революционерки и побудили ее вспомнить о своем женском естестве. Тем более что мальчик родился слабым и болезненным, требовал постоянной заботы и ухода. Благодаря самоотверженности матери Сашу удалось поставить на ноги, и о мучительных недугах детства можно было забыть. Даже туберкулез, для избавления от которого мать ценой невероятных усилий возила сына на морские курорты, отступил, не оставив следа.
В 15-летнем возрасте у будущего психолога неожиданно проснулась страсть к театру. Совсем юным он поступает в театральное училище и еще будучи студентом выделяется ярким талантом характерного актера. Подающего большие надежды молодого артиста заметил знаменитый украинский режиссер Лесь Курбас и пригласил в свой театр «Березиль». Позже, уже будучи психологом, Запорожец не раз встречался с бывшими коллегами по «Березилю», которые не переставали сетовать, какой актер оказался потерян для театра. Но эти годы своеобразного ученичества наверняка не прошли даром – нельзя не признать, что для настоящего психолога известный артистизм является большим достоинством.
Уже на склоне лет, в 1981 г. Запорожец написал для сборника воспоминаний о Лесе Курбасе очерк о своем первом, театральном учителе. Это небольшое сочинение многое проясняет насчет его последующего профессионального выбора. Запорожец пишет: «Мне представляется достойной пристального изучения, оригинальной и глубокой по своему психологическому содержанию идея «перетворенного руху» («превращенного движения»). А.С. Курбас предлагал актеру прежде всего сосредоточиться на содержании своей роли и спектакля в целом, осмыслить его и вчувствоваться во внутренний мир изображаемого героя, вжиться в ту систему отношений и обстоятельств, в которой герою предстоит действовать, осмыслить общественную значимость его переживаний и поступков. Вместе с тем он считал необходимым развить у актера способность расслабиться, снять мышечную напряженность, избавиться от власти штампов, жестко зафиксированных и прагматически направленных «орудийных» действий, ограничивающих «степени свободы» человеческой моторики, побуждая ее звучать подобно эоловой арфе в унисон с внутренней симфонией дум и переживаний изображаемой личности. Таким образом, выдвигалась новая и, с моей точки зрения, очень продуктивная концепция актерской выразительности, в каких-то отношениях сходная с той системой научных понятий о живом человеческом движении, которая разрабатывается в современной психологии». В эту систему понятий Запорожец внес неоценимый вклад.
Далее он пишет: «Курбас своей идеей строительства философского театра, утверждением того, что творчество актера и режиссера должно строиться не на голой интуиции, а на сознательном отношении к изображаемым событиям, на глубоком понимании их внутреннего смысла, пробудил во мне, может быть, сам того не подозревая, интерес к психологии, к научному познанию внутреннего мира человека, к исследованию возникновения его мыслей и эмоциональных переживаний, процесса становления его личностных качеств. Все это побудило меня в конце концов уйти из театра, поступить во 2-й Московский университет и заняться изучением психологии. Я стал учеником знаменитого советского психолога Л.С. Выготского… Обнаружилось, что, несмотря на глубокое различие между моей предшествующей актерской и последующей научной деятельностью, между ними существует какая-то внутренняя связь и то, что раньше постигалось интуитивно, теперь должно было стать предметом объективного экспериментального изучения и концептуального осмысления».
Таким образом, А.В. Запорожец пришел в психологию с уже сложившимися интересами и своими проблемами. Здесь, на новом поприще, в новой среде он поистине нашел себя. Ибо какая это была среда! Еще в 80-е годы Б.В. Зейгарник горько иронизировала: «В наши дни каждый – сам себе Выготский». В 20-е Выготский был самый настоящий! В тесный круг его учеников и последователей и вошел Запорожец.
Атмосфера поисков, господствовавшая в театральном искусстве (да и вообще в искусстве) в те годы, наложила на будущего ученого глубокий отпечаток. По словам супруги Запорожца Т.О. Гиневской, первыми его учителями помимо Курбаса были В. Мейерхольд и С. Эйзенштейн. Под их влиянием и складывалась его программа психологических исследований и стратегия ее реализации. Поэтому вовсе не случайно во второй половине 20-х гг. Запорожец стал учеником и последователем именно Выготского, а не других, в то время значительно более известных психологов, таких, как П.П. Блонский, К.Н. Корнилов, Г.Г. Шпет, у которых ему также довелось учиться во 2-м МГУ. Не случайно, что Выготский направил именно Запорожца в студию Эйзенштейна для планирования и организации совместных исследовательских работ, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться.
Дальнейшая, теперь уже научная, судьба Запорожца была неразрывно связана со школой Выготского. Поначалу ее составляли пять студентов одного курса – помимо Запорожца, это были Л.И. Божович, Л.С. Славина, Н.Г. Морозова, Р.Е. Левина, – а также двое старших, но тоже еще очень молодых ученых – А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев (вскоре к ним присоединился приехавший из Ленинграда Д.Б. Эльконин). Впрочем, о старшинстве, да и вообще о возрасте тут приходится говорить очень условно. Выготский был старше самого молодого своего ученика – Запорожца – всего на 5 лет. Может быть, благодаря такой возрастной близости скорее и легче сплачивался этот научный коллектив, так много сделавший для развития психологической науки в нашей стране.
Еще в студенческие годы Запорожец начал работу лаборантом кафедры психологии Академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской, которой заведовал А.Р. Лурия. В 1929 г. Запорожец участвовал в экспедиций на Алтай, проехал свыше 1000 километров верхом по горным тропам от селения к селению. Целью экспедиции являлось изучение зависимости между особенностями умственного развития ребенка и социально-культурными условиями с точки зрения «теории культурно-исторического развития». Результаты экспедиции послужили материалом для первой печатной работы молодого исследователя – «Умственное развитие и психические особенности ойротских детей».
В 30-е гг. Запорожец вошел в состав харьковской группы психологов во главе с А.Н. Леонтьевым. Совместно с Леонтьевым и под его руководством он выполнил ряд работ по проблемам возникновения и развития психики в филогенезе. Вместе с Леонтьевым он сформулировал широко известную ныне гипотезу о происхождении психики и возникновении чувствительности. Основной смысл гипотезы в том, что возникновение чувствительности и появление ориентировочной реакции возможны лишь в ситуации активного действия в поисковой ситуации. Сам Запорожец начал самостоятельные исследования в области детской психологии, а затем возглавил кафедру психологии Харьковского государственного педагогического института и руководил ею вплоть до начала Великой Отечественной войны.
В этот первый период самостоятельной научной деятельности основное внимание Запорожец уделял изучению генетической связи между внешней, практической, деятельностью ребенка и развитием его внутренней, психической, деятельности. С этой точки зрения было подвергнуто изучению развитие детского восприятия, мышления, воображения.
Первые исследования детского восприятия Запорожец вместе с сотрудниками (Д.М. Арановская, О.М. Концевая, К.Е. Хоменко и др.) начал в середине 30-х гг. Предметом исследований было восприятие сказок, басен, детских спектаклей, иллюстраций к художественным произведениям. Анализ формирования эстетического восприятия у детей дошкольного и младшего школьного возраста привел Запорожца к заключению о наличии в этом процессе выразительных движений детей, выполняющих функцию «содействия» героям произведений, когда ребенок становится как бы участником происходящих событий. Данный цикл исследований позволил Запорожцу ввести в психологию понятие действия восприятия.
В 30-е гг. А.В. Запорожец выполнил большой цикл исследований по развитию детского мышления. Первоначально было показано, что этот процесс основан на практических обобщениях, возникающих у ребенка при решении сходных практических задач и состоящих в переносе способа действия, сформировавшегося при решении одной задачи, на другую. Вопреки мнению таких авторов, как В. Штерн и Ж. Пиаже, ребенок дошкольного возраста способен разумно и последовательно рассуждать, делать выводы, если он опирается на достаточный опыт действий с предметами. Обобщенный опыт таких действий с предметами составляет основу и для усвоения детьми значений слов, приобретения речью планирующей функции при последующем решении практических задач. Изучение значения практической деятельности для развития мышления легло в основу кандидатской диссертации Запорожца «Роль элементов практики и речи в развитии мышления ребенка» (1936). В цикле этих исследований отчетливо выступила идея о том, что действие, а не значение, как полагал Выготский, является исходной единицей анализа мышления.
Анализируя мышление, Запорожец искал вместе с тем критерий интеллектуальности действия. Он отдавал себе отчет в том, что наличие разумного содержания еще не обязательно должно быть связано с разумной интеллектуальной формой, ибо хотя форма и содержание едины, но они не тождественны. И действительно, со стороны внешнего наблюдателя, например, формы инстинктивного поведения могут восприниматься как в высшей степени разумные. Запорожец искал критерий интеллектуальности в изменении формы, строения деятельности, и прежде всего действия. В статье «Действие и интеллект» он отмечал, что «интеллектуальное действие даже в простейших случаях двухактное в том смысле, что одно действие служит целью для другого… Действие, бывшее раньше единым, как бы раскалывается на две части – теоретическую и практическую: осмысление задачи и ее практическое решение».
Такое структурное расчленение интеллектуального действия и выделение смысловых и функциональных различий между его структурными компонентами, или актами, которое было осуществлено Запорожцем в конце 30-х гг., подготовило почву для более широкого обобщения, сделанного им в послевоенные годы. Оно касается строения человеческой деятельности и состоит в выделении внутри любого акта деятельности ориентировочной и исполнительной частей.
На основе обобщения этих исследований Запорожцем была подготовлена докторская диссертация, защита которой должна была состояться в июле 1941 г. К несчастью, диссертация и все материалы исследований харьковского периода погибли от фашистской бомбы, попавшей в дом, где жил Запорожец.
В годы Великой Отечественной войны ученый работал в госпиталях над восстановлением работоспособности верхних конечностей у раненых бойцов Красной Армии. Психолого-физиологические основы содержания и методов функциональной двигательной терапии изложены им в написанной совместно с А.Н. Леонтьевым книге «Восстановление движений» (1945). В процессе реабилитационной работы с ранеными нередко отмечались случаи, когда выполнение отдельных трудовых или спортивных задач, направленных на достижение предметной цели, лишь внешне изменяло движения, но не вело к перестройке их внутренней организации, оставляло субъекта безразличным к их цели. Причиной этого было отсутствие резервов совершенствования функциональной системы движений, содержащихся в их внутренней организации. Наблюдения и специальные исследования позволили Запорожцу сделать вывод о том, что внутренняя моторика связана с личностными установками человека, мотивами его деятельности, определяющими его отношение к ситуации. Впоследствии Запорожец включил во внутреннюю моторику образ ситуации и образ действия в этой ситуации. Нет никакого сомнения, что постановка проблемы развития широкой системы внутренней моторики непосредственно связана с собственным опытом актерской деятельности Запорожца. По сути дела, в этом цикле исследований он открывает новую главу психологии, которая впоследствии будет им обозначена как «моторика и личность».
В послевоенные годы Запорожец возглавил лабораторию психологии детей дошкольного возраста Института психологии АПН РСФСР и направил работу коллектива на анализ процесса формирования у дошкольников различных типов двигательных навыков, которое рассматривалось в качестве модели овладения любыми новыми видами поведения. Обнаружилось, что усвоение любых новых действий начинается с обследования детьми условий выполнения задания, после чего следует само выполнение. При этом решающую роль всегда играет первое, ориентировочное, звено. От того, насколько планомерно и полно ребенок обследует ситуацию, выделяет в ней существенные для выполнения задания моменты, зависит успешность выполнения действия, легкость и быстрота его усвоения. Поэтому наиболее эффективным способом обучения новым действиям является организация взрослым полноценной ориентировки ребенка в задании.
Факты, установленные в руководимых Запорожцем исследованиях, позволили ему прийти к выводу, что внутренние формы ориентировки происходят из ее внешних форм, сами психические процессы есть не что иное, как ориентировочные действия, выполняемые во внутреннем плане. Было показано, что в основе любого познавательного процесса лежат практические действия, в частности, что восприятие и мышление являются системой свернутых перцептивных действий, в которых происходит уподобление основным свойствам предмета и, за счет этого, формирование перцептивного или мыслительного образа.
Результаты изучения ориентировочных компонентов деятельности детей в процессе усвоения новых действий были обобщены Запорожцем в докторской диссертации, защищенной в 1958 г., и изложены в монографии «Развитие произвольных движений» (1960).
Гипотеза о психических процессах как интериоризованных формах ориентировочных действий положила начало исследованиям, проведенным Запорожцем, его сотрудниками и учениками, начиная с середины 50-х гг. в Институте психологии АПН РСФСР и затем в Институте дошкольного воспитания АПН СССР, директором которого он являлся с момента его основания в 1960 г. до последних дней жизни. В этом цикле исследований произошел как бы возврат к проблематике харьковского периода: закономерностям развития восприятия, мышления, эмоций. Однако это был возврат на новой основе. Изучению подверглись содержание и структура тех видов ориентировочных действий, которые обеспечивают реализацию указанных психических процессов на разных этапах их развития, и закономерности перехода с этапа на этап.
Один из основных результатов исследований – создание теории развития детского восприятия путем формирования и совершенствования перцептивных действий. В основе теории лежит разработанное Запорожцем учение о процессах восприятия как о системе выполняемых человеком специфических перцептивных действий, направленных на обследование предметов и явлений действительности, выявление и фиксацию их внешних свойств и отношений.
Одновременно с изучением развития восприятия Запорожец исследовал развитие детского мышления. В ряде выполненных под его научным руководством работ были подвергнуты детальному анализу различные виды мыслительных действий, складывающиеся на протяжении дошкольного возраста. Особое внимание уделялось наиболее характерным для детей-дошкольников видам мышления – наглядно-действенному и наглядно-образному. Изучались особенности формирования действий мышления на различных этапах раннего и дошкольного детства, закономерности и условия перехода от наглядно-действенного к наглядно-образному и к словесному, рассуждающему, мышлению, возможности формирования у детей обобщенных представлений о закономерностях окружающей действительности. В исследованиях был установлен характер тех общественно выработанных средств, овладение которыми происходит в ходе развития наглядно-образного мышления ребенка и позволяет ему строить обобщенные представления. В качестве центрального вида таких средств выступают наглядные модели, передающие отношения вещей и явлений.
В последние годы жизни Запорожец сосредоточил внимание на изучении одного из самых сложных и малоизученных в психологии вопросов – вопроса о происхождении и природе эмоций. Это работа продолжается его учениками и сотрудниками. Эмоции рассматриваются Запорожцем как особая форма отражения действительности, при помощи которой осуществляется коррекция поведения. Отражение действительности в форме эмоций – это «пристрастное» отражение; в ходе его создаются особые эмоциональные представления, выделяющие и часто преувеличивающие особенности объектов, ситуаций, представления, которые определяют их смысл и ценность для ребенка.
В новом свете выступили причины зависимости, существующие между формированием психических процессов и их качеств и практической деятельностью. Ведь именно в процессе развития практической деятельности ребенок учится ориентироваться в условиях ее выполнения, у него складываются новые виды ориентировочных действий, а следовательно, возникают новые психические действия.
А.В. Запорожец умер 7 октября 1981 г. Сплоченная им команда соратников и единомышленников еще несколько лет продуктивно работала над развитием его идей – вплоть до расформирования в 1992 г. прежде всемирно известного Института дошкольного воспитания. Увы, в исполнении формулы «до основанья, а затем…» первая часть нам всегда удается лучше второй – институт позднее был воссоздан в реорганизованной форме, но многие бывшие сотрудники Запорожца, не принявшие новых веяний, туда уже не вернулись. Многие из них нашли себя в работе Центра «Дошкольное детство» при Московском департаменте образования. Вскоре после его организации Центру было присвоено имя А.В. Запорожца.
Прекрасный педагог и организатор, человек редких душевных качеств, А.В. Запорожец воспитал несколько поколений психологов Московского государственного университета. Многим запомнились слова, не раз сказанные им о психологии: «Много есть наук полезней, но лучше нету ни одной». Те, кто слышал это из его уст, поверили этим словам навсегда.
Р.Б. Кеттелл (1905–1998)
В наши дни почти любого студента-психолога легко смутить каверзным вопросом: «Как звали психолога Кеттелла и чем он знаменит?» Еще бы – ведь не каждый доктор наук знает правильный ответ! Например, в популярной книжке профессора М.И. Еникеева можно прочитать, что Джеймс Маккин Кеттелл известен своими работами в области психодиагностики, в частности – созданием 16-факторного личностного опросника. У нас мало кому известно, что в историю науки вошли два человека, носивших такую фамилию, и популярный опросник создан не Джеймсом, а Раймондом, принадлежавшим к другому поколению. Помимо опросника, знакомого любому практику, Р. Кеттелл внес заметный вклад в психологию личности и интеллекта и может по праву считаться одним из выдающихся психологов ХХ века. В России о нем знают до обидного мало, и настало время восполнить этот пробел, обозрев основные вехи его жизненного пути и научной карьеры.
Раймонд Бернард Кеттелл родился через 15 лет после того, как его американский однофамилец, ученик Гальтона, ввел в научный обиход слово «тест». Своего предшественника, с которым его иногда путают, он пережил на полвека и ушел из жизни лишь несколько лет назад в очень преклонном возрасте, так что своим современником его могут считать несколько поколений психологов, включая нынешнее.
Он появился на свет 20 марта 1905 г. в деревеньке Хиллтоп близ Бирмингема. Кстати, по английским меркам деревенское происхождение весьма престижно – крупные города населены в основном представителями низших классов, тогда как каждая солидная семья непременно имеет сельское домовладение. Семья Кеттелла, безусловно, принадлежала не к низшим классам – с начала ХIХ в. она владела довольно крупной фабрикой, закрывшейся лишь в 1929 г. в пору экономического кризиса. Правда, Раймонд стал первым в своей семье и единственным из трех братьев (он был средним), кто получил высшее образование – по понятным причинам не пользуясь поддержкой и одобрением родных. Его родители, хоть образования и не имели, но были людьми весьма неглупыми. Когда, став психологом, Раймонд решился протестировать их интеллект, то выяснилось, что его отец, Альфред Эрнст Кеттелл, обладает IQ 120, а мать, Мэри Филд, – и того выше, целых 150.
Когда мальчику исполнилось шесть, семья «улучшила жилищные условия» и перебралась в особняк на морском побережье в Девоншире. Здесь юный Раймонд всей душой полюбил море. Его любимым занятием стало плавание на лодке. Впоследствии он долгие годы провел вдали от моря, и лишь на склоне лет, поселившись на Гавайях, снова смог самозабвенно предаться давнему мальчишескому увлечению.
I Мировая война резко изменила облик респектабельного морского курорта, окрестные санатории превратились в госпитали. Раймонд был еще слишком юн, чтобы служить, но вся военная атмосфера повлияла на него очень сильно, сделав его не по годам серьезным. День за днем наблюдая прибытие с полей сражений искалеченных солдат и похороны умерших от ран, он, по его словам, проникся ощущением скоротечности человеческой жизни и необходимости ее по возможности улучшить. Это ощущение он пронес сквозь годы. Характерно, что в день его похорон над могилой было прочитано его любимое стихотворение «Солдат», написанное английским поэтом-романтиком Питером Бруком, который сам сложил юную голову на полях Первой мировой.
В 1921 г., окончив школу одним из первых учеников (точнее – вторым в общем табеле успеваемости), Раймонд удостоился стипендии графства Девоншир, позволявшей продолжить образование в столице. Он поступил в Лондонский Королевский колледж, где проучился три года, специализируясь в области физики и химии, и в 1924 г. получил степень бакалавра естественных наук, причем по успеваемости он на сей раз был признан среди однокурсников первым. Перед ним открывались неплохие перспективы, но в этот момент молодой человек резко изменил свои жизненные планы, оставив естественные науки в пользу психологии. «Моя ученическая скамья показалась мне слишком узкой по сравнению с необозримой широтой окружавшего меня мира», – писал он впоследствии об этом событии.
Мотивы такого выбора были отчасти продиктованы всей общественной атмосферой той поры, накладывавшей неизгладимый отпечаток на пытливый юношеский ум (не будем забывать, что бакалавру Кеттеллу в ту пору едва исполнилось девятнадцать). Послевоенные годы в Англии знаменовались невероятным подъемом общественной мысли. Властителями дум английской молодежи были Бертран Рассел, Джордж Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Олдос Хаксли, призывавшие к переосмыслению традиционных ценностей и преобразованию общества силой не оружия, но разума. Под влиянием этих идей юный Кеттелл даже начал склоняться к социалистической доктрине. Но это увлечение было недолгим. Сыну промышленника и одаренному студенту трудно было принять эгалитаризм социалистов. В первой крупной работе Кеттелла «Психология и общественный прогресс», посвященной преимущественно социальным вопросам, социалистический дух уже почти неуловим. Хотя идеи человеческого прогресса и улучшения общества он развивал всю жизнь – правда, весьма своеобразно. Под влиянием дарвинистской теории Кеттелл склонялся в пользу улучшения человеческой «породы» средствами евгеники. За этим учением, доведенным нацистскими идеологами до кровавого абсурда, после II мировой войны закрепилось клеймо антинаучности и бесчеловечности. Хотя, если разобраться непредвзято, до абсурда можно довести любую здравую идею. Та же социалистическая идея, в основе своей благородная и гуманная, стараниями фанатиков может быть доведена до кошмаров ГУЛАГа и полпотовского геноцида. То же и с евгеникой. Что, в принципе, дурного содержит идея поощрения рождаемости людей одаренных и сдерживания воспроизводства неполноценных? Причем Кеттелл акцентировал в своих работах не столько ущемление, сколько поощрение. И с его рассуждениями легко согласиться, воочию наблюдая: активное воспроизводство свойственно отнюдь не интеллектуальной и культурной элите, а как раз наоборот. Во что это может вылить и уже выливается в массовом масштабе – нетрудно догадаться, хотя и не принято говорить вслух. Кеттелл решился назвать вещи своими именами, за что и поплатился (но об этом – ниже).
Интерес к психологии возник у Кеттелла под влиянием работ Сирила Бёрта – крупнейшего английского психолога той поры, идейного наследника Ф.Гальтона, развивавшего его психометрические и евгенические идеи. Знакомство с этими работами убедило Кеттелла, что именно психология способна наилучшим образом способствовать решению политических и экономических проблем, стоящих перед обществом. В результате, как он написал в своих воспоминаниях, однажды туманным лондонским утром он навсегда закрыл за собой дверь в химическую лабораторию и двинулся путем психологических изысканий. Он поступил в аспирантуру Лондонского университета и в 1929 г. получил степень доктора философии. Будучи аспирантом, Кеттелл работал в лаборатории Ч. Спирмена, выдающегося британского психолога, выдвинувшего в 1904 г. основные идеи факторного анализа, а в то время занимавшегося фундаментальными исследованиями человеческих способностей. О тех годах он впоследствии написал: «Воодушевленный работами Спирмена, Бёрта и Терстоуна, я опубликовал с дюжину статей, посвященных изучению способностей, а позднее переключился на исследование личности и мотивации». И еще один характерный штрих: в 1931 г. вышел из печати английский перевод книги Эрнста Кречмера «Гениальные люди», выполненный Кеттеллом. Обращает на себя внимание, что многие выдающиеся психологи в начале своей карьеры (да и не только) обогатили себя трансляцией на родной язык работ признанных зарубежных мэтров (тому же Фрейду, к примеру, принадлежит перевод книги Шарко). Исключительная польза видится в том, чтобы буквально «пропустить через себя» слово за словом хоть какой-то капитальный труд психологической классики. Увы, в наши дни чаще всего приходится настаивать, чтобы будущие психологи что-нибудь из классики хотя бы просто прочитали в чужом переводе! И откуда взяться настоящим специалистам, коли большинство пренебрегает даже этим!
Защитив диссертацию, Кеттелл стал лектором в Юго-Западном Университете (ныне Университет г. Эксетер) и проработал там до 1932 г. В декабре 1919 г. он женился на художнице Монике Кэмпбелл, два года спустя в семье родилась дочь (ныне – известный хирург-ортопед). Однако семейная жизнь Кеттелла не сложилась, в 1934 г. брак распался. Лишь через много лет он женился снова, и на сей раз удачно – со второй женой Хитер он прожил до конца своих дней.
В 30-е годы в Англии профессиональные возможности для психолога были весьма ограничены, по крайней мере значительно скромнее, чем в Америке. Поэтому не приходится удивляться, что получив лестное предложение от Э.Торндайка стать его ассистентом в Колумбийском университете, Кеттелл охотно его принял. В ту пору он, правда, не собирался переселяться в Америку, полагая, что его заокеанский круиз продлится не более года. Однако в Англию с той поры он хотя и многократно возвращался, но уже только в гости – его новым домом стала Америка. Здесь он некоторое время проработал в Университете Кларка, а также в Гарварде, где познакомился Г. Оллпортом, общение в которым значительно повлияло на формирование его теории.
В годы Второй Мировой войны Кеттелл, как и большинство американских психологов, работал по заказу Министерства обороны над созданием психодиагностических методик, применявшихся для отбора офицерского состава. Тут ему впервые пришлось трудиться в составе сплоченной команды, занятой совместным решением общей проблемы, что было совсем не свойственно университетскому стилю работы. После окончания войны он наконец нашел место, предоставлявшее возможность проводить академические исследования именно так. Как ему этого хотелось, – место директора Лаборатории изучения и оценки личности при Университете штата Иллинойс. На этом посту Кеттелл проработал 30 лет, оказавшиеся самыми продуктивными в его научной карьере. Кроме того в 1949 г. Кеттелл стал одним из основателей Института тестирования личности – организации, которая в частности занималась распространением и популяризацией в научных и медицинских кругах тех методик, которые разрабатывались Лабораторией изучения и оценки личности. До сего дня дело отца в Институте продолжает одна из его дочерей, Хитер.
После отставки в 1973 г. Кеттелл некоторое время работал в Колорадо, а в 1979 г. принял предложение занять должность профессора-консультанта Гавайского университета в Гонолулу. Здесь, посреди Тихого океана, он и провел последние годы своей жизни, продолжая весьма продуктивную научную работу.
За долгие годы работы Кеттелл создал оригинальную теорию личности, основанную преимущественно на психометрических исследованиях. Используя индуктивный метод, он собрал количественные данные из трех источников: регистрации реального поведения людей в течение их жизни (L-данные), свидетельства самих людей о себе (Q-данные) и результатов объективных тестов (Т-данные), вычислил взаимную корреляцию величин и сформировал корреляционную матрицу. На этом основании им были выделены так называемые первичные факторы – основные структуры, определяющие личность. В целом Кеттелл выделил 35 личностных черт первого порядка – 23 черты, присущие нормальной личности, и 122 патологических черт. Эти факторы коррелируют между собой, что позволяет провести повторный факторный анализ и выявить по крайней мере восемь черт второго порядка. Эти первичные и вторичные факторы в теории Кеттелла называются «основными чертами личности» и соответственно сама теория получила название теории черт. Кеттелл также классифицировал способности и мотивационные черты. Мотивационные или динамические черты подразделяются на врожденные побуждения, называемые эргами, и приобретенные посредством культурного влияния мотивы, которые Кеттелл назвал семами. Практическим воплощением этих построений явились несколько психодиагностических методик, среди которых уже упоминавшийся 16-факторный личностный опросник является наиболее известным, хотя и не единственным.
Еще в 60-е годы начав серию исследований природы и структуры способностей, Кеттелл выдвинул собственную теорию, согласно которой человеческие способности имеют иерархическую организацию. Им научный обиход введены понятия так называемого текучего (fluid) и кристаллизированного (cristallyzed) интеллекта.[15] По мнению Кеттэла, текучий интеллект составляют способности решать новые проблемы, тогда как кристаллизированный интеллект отвечает за репродуктивную умственную деятельность. Кристаллизированные способности наращиваются в течение всей жизни и в значительной мере подвержены внешним воздействиям, текучие являются преимущественно врожденными, они особенно интенсивно развиваются в детстве, достигают своего пика в юности и снижаются к старости.
Несмотря на то, что экспериментальные и теоретические разработки Кеттэла были восприняты с большим энтузиазмом, применявшиеся им методы (факторный анализ и сложные математические модели) оказались «не по зубам» многим практическим психологам. Пожалуй, его разработки сами по себе можно расценить как своеобразный профессиональный тест – не каждому дано проникнуть в суть его построений. И не оттого ли его идеи не получили у нас широкого распространения, что слишком для многих оказались «шибко мудреными»?
Раймонд Кеттелл был исключительно плодовитым автором – за свою долгую жизнь он написал 55 книг (причем не только по психологии – его первое юношеское сочинение, недавно переизданное, посвящено морским путешествиям) и свыше 500 научных статей. Сохранилось суждение одного из коллег: «Раймонд Кеттелл умеет писать быстрее, чем я умею читать». (Не только идеи, но и фразы носятся в воздухе – примечательно, что буквально теми же словами немногословный П.Я. Гальперин отозвался о творчестве А.Р. Лурии). Причем писать он продолжал до самых последних дней жизни. На протяжении своей карьеры удостоенный нескольких научных наград и почетных званий, он на склоне лет, в 1997 г. был представлен к самой высокой награде, которую присуждает Американская Психологическая Ассоциация, – золотой медали за выдающийся вклад в науку (за всю историю АПА этой медали удостоено 12 человек). Непременно упоминая об этом важном событии, большинство источников, однако, умалчивают, что именно оно явилось причиной самого серьезного скандала в научной карьере Кеттелла.
В конце 90-х в США истерия политкорректности достигла своего пика. Честным ученым, отваживающимся на малейшее упоминание об индивидуальных различиях, там теперь приходится любое свое суждение сдабривать ханжескими реверансами и псевдогуманистической патетикой. Кеттелл, настоящий ученый старой закваски, прошедший естественно-научную школу и не привыкший называть черное белым, естественным образом превратился в мишень для завистливых ничтожеств. Несколько либералов-эгалитаристов обратились в Президиум АПА с протестом против присуждения высокой награды человеку, в чьих работах они усмотрели «расистские» суждения. Функционеры АПА переполошились и с перепугу (сегодня одно лишь подозрение в нежелании заискивать перед чернокожими может сломать человеку жизнь) отложили вручение награды до той поры, пока специально назначенный комитет не изучит досконально все обвинения.
Уязвленный ученый обратился к АПА с открытым письмом. В нем он, в частности писал: «Я верю в равные возможности для всех индивидов и решительно отвергаю любую дискриминацию по расовому признаку. Любое иное убеждение противоречило бы делу всей моей жизни. Те, кто утверждает обратное, вероятно просто не потрудились понять суть моих теорий». В то же время Кеттелл продолжал настаивать, что качественные и количественные индивидуально-психологические различия нельзя не принимать во внимание, более того – следует всячески поощрять воспроизводство наиболее способных индивидов, иначе обратная тенденция рискует привести к интеллектуальной деградации нации и человечества.
Здравомыслящие люди не перевелись еще и в Америке, и многие из них решились встать на защиту Кеттелла. Некоторые психологи даже демонстративно покинули ряда АПА в знак протеста против бесхребетной и ханжеской позиции ее президиума. Не желая обострять конфликт 91-летний (!) ученый предложил АПА отказаться от рассмотрения своей кандидатуры на представление к награде. До разрешения скандальной склоки (в его, кстати, пользу) Кеттелл не дожил. 2 февраля 1998 г. он умер в своем доме в Гонолулу и был похоронен на холме на морском берегу.
Под небом просторным, в подлунном краю Меня положите в могилу мою. С улыбкою жил – и в последний приют С улыбкой сойти я готов. Камень могильный покройте строкой: «Вот он покоен, искавший покой — Моряк возвратился с моря домой, И охотник вернулся с холмов».Ж. П. Сартр (1905–1980)
Жана Поля Сартра энциклопедии называют его философом и писателем, но такое определение не безупречно. Философ Хайдеггер считал его скорее писателем, чем философом, а вот писатель Набоков, напротив, скорее философом, нежели писателем. Но все, пожалуй, согласились бы с емким определением «мыслитель». А всякий мыслитель это обязательно еще и в той или иной мере психолог, причем, что касается Сартра, то его принадлежность к психологической науке очевидна и бесспорна (просто не столь выделяется на фоне его литературных и общественных достижений). Экзистенциальное направление в психологии и психотерапии, за последние полвека завоевавшее огромную популярность, восходит к его представлениям о природе и назначении человека. А «Очерк теории эмоций», написанный Сартром в 1940 г., представляет собой один из наиболее значительных психологических трудов на эту тему.
Большинство психологов Сартра не читали. Отчасти в этом виноват он сам – его труды доходчивыми не назовешь. Впрочем, его идеи не так уж абстрактны и непостижимы. Было время, когда ими бредили миллионы. И вполне можно изложить их в доступной форме. Не менее интересно рассмотреть, каков же тот человек, которому они пришли в голову.
Жан Поль Сартр родился 21 июня 1905 г. в Париже. Он был единственным ребенком Жана Батиста Сартра, морского инженера, который умер от тропической лихорадки, когда мальчику не исполнилось и года, и Анн-Мари Сартр, урожденной Швейцер – она происходила из семьи известных эльзасских ученых и была двоюродной сестрой Альберта Швейцера. Дед мальчика, профессор Шарль Швейцер, филолог-германист, основал в Париже институт современного языка. (Проживи подольше Френсис Гальтон, он непременно включил бы пример Сартра в свой труд «Наследственный гений»).
Впоследствии Сартр вспоминал: «В детстве я жил с овдовевшей матерью у бабушки с дедушкой. Бабушка была католичка, а дедушка – протестант. За столом каждый из них посмеивался над религией другого. Все было беззлобно: семейная традиция. Но ребенок судит простодушно: из этого я сделал вывод, что оба вероисповедания ничего не стоят». Неудивительно, что выступив одним из создателей учения экзистенциализма, Сартр развивал его атеистическую ветвь.
Окончив Эколь Нормаль, Сартр несколько лет преподавал философию в одном из лицеев Гавра. В 1933–1934 гг. стажировался в Германии, по возвращении во Францию занимался в Париже преподавательской деятельностью.
В конце 30-х Сартр написал свои первые крупные произведения, в том числе четыре психологических по своему содержанию труда о природе явлений и работе сознания. Еще будучи преподавателем в Гавре, Сартр написал «Тошноту» – свой первый и наиболее удачный роман, опубликованный в 1938 г. В это же время в «Новом французском обозрении» печатается его новелла «Стена». Оба произведения становятся во Франции книгами года.
«Тошнота» представляет собой дневник Антуана Рокентена, который, работая над биографией деятеля ХVIII века, проникается абсурдностью существования. Будучи не в состоянии обрести веру, воздействовать на окружающую действительность, Рокентен испытывает чувство тошноты; в финале герой приходит к заключению, что если он хочет сделать свое существование осмысленным, то должен написать роман. Творчество – единственное занятие, имеющее, по мнению Сартра в ту пору, хоть какой-то смысл.
В годы второй мировой войны Сартр из-за дефекта зрения (он был практически слеп на один глаз) не попал в действующую армию, но служил в метеорологическом корпусе. После захвата Франции нацистами он проводит некоторое время в концлагере для военнопленных, но уже в 1941 году его отпускают (какую опасность может представлять полуслепой метеоролог?), и он возвращается к литературной и преподавательской деятельности. Основными произведениями этой поры стали пьеса «За запертой дверью» и объемный труд «Бытие и ничто», успех которых позволили Сартру оставить преподавание и целиком посвятить себя философствованию.
Пьеса «За запертой дверью» представляет собой беседу трех персонажей в преисподней; смысл этой беседы сводится к тому, что, выражаясь языком экзистенциализма, существование предшествует сущности, что характер человека формируется посредством совершения определенных действий: человек-герой по своей сути окажется трусом, если в решающий, «экзистенциальный» момент смалодушничает. Большинство людей, считал Сартр, воспринимают себя такими, какими воспринимают их окружающие. Как заметил один из действующих лиц пьесы: «Ад – это другие».
В главном труде Сартра «Бытие и ничто», ставшем библией молодых французских интеллектуалов, проводится мысль о том, что сознания как такового нет, ибо нет просто сознания, «чистого сознания», есть лишь осознание внешнего мира, вещей вокруг нас. Люди отвечают за свои действия только перед самими собой, ибо каждое действие обладает определенной ценностью – вне зависимости от того, отдают себе в этом люди отчет или нет.
В послевоенные годы Сартр становится признанным лидером экзистенциалистов, собиравшихся в «Кафе де Флер» возле площади Сен-Жермен-де-Пре. Широкая популярность экзистенциализма объяснялась тем, что эта философия придавала большое значение свободе. Поскольку, по Сартру, быть свободным значит быть самим собой, постольку «человек обречен быть свободным». В то же время свобода предстает как тяжелое бремя (небезынтересно, что «Бегство от свободы» написано Фроммом в ту же пору). Но человек должен нести это бремя, если он личность. Он может отказаться от своей свободы, перестать быть самим собой, стать «как все», но только ценой отказа от себя как личности.
В последующее десятилетие Сартр работает особенно плодотворно. Помимо рецензий и критических статей, он пишет шесть пьес, в том числе лучшую, по мнению многих, пьесу «Грязные руки» – драматическое исследование мучительного компромисса, необходимого в политической деятельности. В эти же годы он пишет исследования жизни и творчества Шарля Бодлера и Жана Жене – опыт применения экзистенциализма к биографическому жанру, а фактически попытку создания нового психологического направления – экзистенциального психоанализа.
К психоанализу в его традиционном понимании и его создателю Зигмунду Фрейду Сартр всегда испытывал огромный интерес (им даже написан киносценарий, посвященный жизни Фрейда). Однако еще в работах «Очерк теории эмоций» и «Бытие и ничто» он критически переосмыслил фрейдовское учение о внутрипсихической деятельности личности.
Сартр разделял психоаналитические идеи, согласно которым поведение человека требует расшифровки, раскрытия смысла поступков, выявления значения любого действия. Заслуга Фрейда состояла, по его мнению, в том, что основатель психоанализа обратил внимание на скрытую символику и создал специальный метод, позволяющий раскрывать суть этой символики в контексте отноешний врач-пациент.
В то же время Сартр критически отнесся к фрейдовским попыткам психоаналитического объяснения функционирования человеческой психики посредством бессознательных влечений и аффективных проявлений. Сартр постоянно подчеркивал, что человек всегда знает, чего он хочет и чего добивается, он в этом смысле вполне сознателен (поэтому нет ни одного «невинного» ребенка, и даже истерика, по Сартру, всегда закатывается сознательно). По этой причине он критически относился к фрейдовской идее бессознательного. В ней он видел очередную попытку списать свободное (и потому полностью вменяемое) поведение человека на нечто от человека не зависящее и тем самым снять с него всякую ответственность.
«Бурные шестидесятые» – апогей популярности Сартра. Пожалуй, никто из мыслителей не уделял так много внимания критике социальных институтов, как Сартр. Любое социальное установление, по Сартру, – это всегда посягательство на человека, любая норма – нивелировка личности, любой институт несет в себе косность и подавление. Если использовать здесь название пьесы Сартра, то можно выразить его отношение следующим образом: у социальных институтов всегда «грязные руки».
Подлинно человеческим может быть лишь спонтанный протест против всякой социальности, причем протест одноактный, разовый, не выливающийся ни в какое организованное движение, партию и не связанный никакой программой и уставом. Не случайно Сартр оказывается одним из кумиров студенческого движения, протестовавшего не только против «обуржуазившейся» культуры, но в значительной мере и против культуры вообще. Во всяком случае, бунтарские мотивы достаточно сильны в сартровском творчестве.
В 1964 г. он был удостоен Нобелевской премии по литературе «за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». Сославшись на то, что он «не желает, чтобы его превращали в общественный институт», и опасаясь, что статус нобелевского лауреата только помешает его радикальной политической деятельности, Сартр от премии отказался.
В мае 1968 г. в Париже разразились серьезные студенческие волнения, и 63-летний мыслитель решил, что настал час свержения диктатуры буржуазии. Особенно вдохновлял его лозунг бунтующих студентов – «Вся власть воображению!» Ведь воображение, по Сартру, – самая характерная и самая драгоценная особенность человеческой реальности. Он начал свои психологические изыскания с феноменологии воображения, набросок которой был опубликован еще в 1936 г., и ею же кончил, исследуя мир воображения Флобера.
В последние годы жизни Сартр почти ослеп из-за глаукомы; писать он больше не мог и вместо этого давал многочисленные интервью, обсуждал политические события с друзьями.
Сартр умер 15 апреля 1980 г.
Официальных похорон не было. Незадолго до смерти Сартр сам попросил об этом. Превыше всего он ценил искренность, и пафос парадных некрологов и эпитафий ему претил. Похоронную процессию составили лишь близкие покойного. Однако по мере того как процессия двигалась по левобережному Парижу, мимо любимых мест мыслителя, к ней стихийно присоединились 50 тысяч человек. Такого в истории наук о человеке не было ни до, ни после.
Некрологи, разумеется, все-таки появились. Так, газета «Монд» написала: «Ни один французский интеллектуал ХХ века, ни один лауреат Нобелевской премии не оказал такого глубокого, длительного и всеобъемлющего влияния на общественную мысль, как Сартр». И к этому нечего добавить.
В. Франкл (1905–1997)
Широко известно суждение Зигмунда Фрейда, которое он высказал в письме к своей последовательнице и поклоннице Марии Бонапарт: «Если человек задумался о смысле жизни, значит он серьезно болен». Не менее известно и другое его высказывание: «В своих исследованиях огромного здания человеческой психики я остановился в подвале». Попытки его последователей подняться на «верхние этажи» неизбежно приводили к критической переоценке классического наследия. Виктор Франкл, увлекшись психоанализом еще в юности, не удовольствовался блужданиями по «подвалу» и создал в итоге собственную теорию, собственную школу, диаметрально противостоящую фрейдистской. В отличие от скептической позиции венского патриарха, именно поиск смысла жизни Франкл назвал путем к душевному здоровью, а утрату смысла – главной причиной не только нездоровья, но и множества иных человеческих бед. Самая известная книга Франкла так и называется – «Человек в поисках смысла». Наверное, именно так можно было бы назвать и ее автора.
Виктор Эмиль Франкл родился 26 марта 1905 г. в Вене, где уже в ту пору на квартире доктора Фрейда собирался по средам психологический кружок – прообраз Венского психоаналитического общества. Членов кружка еще можно было пересчитать по пальцам, но в него уже входил ироничный скептик Альфред Адлер, который 6 лет спустя со скандалом покинет ряды фрейдистов, чтобы основать собственную школу. Уже было издано «Толкование сновидений», но почти половина первого тиража еще пылилась на прилавках невостребованной, а в адрес Фрейда и его последователей сыпались критические стрелы.
Впрочем, к тому времени, когда Франкл достиг юношеского возраста и перед ним остро встали проблемы профессионального и личностного самоопределения, психоанализ уже оформился во влиятельное течение и получил широкое признание. Еще школьником Франкл заинтересовался идеями Фрейда, вступил с ним в личную переписку. Фрейд благоволил к заинтересованному юноше, по его протекции статья 19-летнего Виктора Франкла была в 1924 г. опубликована в «Международном журнале психоанализа». Однако юношу в не меньшей мере интересовали идеи «отступника» Адлера, создавшего Вторую Венскую школу психотерапии (первой по праву считалось фрейдистская). Еще не получив законченного образования, Франкл примкнул к адлерианцам. Этот этап его научной биографии был отмечен публикацией в «Международном журнале индивидуальной психологии». Впрочем, сотрудничество длилось недолго. В 1927 г. на почве очевидных разногласий с коллегами Франкл покинул общество индивидуальной психологии. Однако эти годы не прошли бесследно. Они наложили отпечаток на все последующее творчество Франкла: практически во всех его трудах присутствуют и Фрейд, и Адлер как явные и неявные оппоненты.
Фрейд и Адлер уже принадлежат истории, последующее развитие оставило их далеко позади… Штекель удачно определил положение дел, когда заметил, поясняя свое отношение к Фрейду, что карлик, стоящий на плечах гиганта, может видеть дальше, чем сам гигант. В конце концов, хотя индивид может восхищаться Гиппократом и Парацельсом, нет никакой необходимости, чтобы он следовал их предписаниям или методам хирургии.
Психоанализ говорит о принципе удовольствия, индивидуальная психология – о стремлении к статусу. Принцип удовольствия может быть обозначен как воля к удовольствию; стремление к статусу эквивалентно воле к власти. Но где же то, что является наиболее глубоко духовным в человеке, где врожденное желание человека придать своей жизни так много смысла, как только возможно, актуализировать так много ценностей, сколь это возможно, – где то, что я назвал бы волей к смыслу?
Эта воля к смыслу – наиболее человеческий феномен, так как животное не бывает озабочено смыслом своего существования. Однако психотерапия превращает эту волю к смыслу в человеческую слабость, в невротический комплекс. Терапевт, который игнорирует духовную сторону человека и, следовательно, вынужден игнорировать волю к смыслу, отрицает одно из самых ценных его достоинств.
Пройдя Первую и Вторую Венские школы психотерапии, Франкл встал на путь создания собственной – третьей. Именно так впоследствии назовут созданное им учение. Но должны были пройти еще годы накопления опыта, годы тяжелейших жизненных испытаний, прежде чем юношеские идеи оформились в стройную концепцию.
О своем юношеском мироощущении Франкл писал: «Будучи молодым человеком, я прошел через ад отчаяния, преодолевая очевидную бессмысленность жизни, через крайний нигилизм. Со временем я сумел выработать у себя иммунитет против нигилизма. Таким образом я создал логотерапию».
Термин «логотерапия» Франкл предложил еще в 20-е годы, впоследствии в качестве равноценного использовал термин «экзистенциальный анализ». «Логос» для Франкла – это не просто «слово», как это обычно понимается в отечественной традиции.[16] Франкл опирается на более широкое понимание греческой основы: «логос» это «слово» не просто как вербальный акт, а как квинтэссенция идеи, смысла, то есть это и есть сам смысл. (Такая трактовка проясняет многие недоразумения при толковании библейского текста: «Вначале было слово…»).
Получив в 1930 г. степень доктора медицины, Франкл продолжил работать в области клинической психиатрии, и уже к концу 30-х гг. в статьях, опубликованных им в разных медицинских журналах, можно найти формулировки всех основных идей, на основе которых впоследствии выросло здание его теории – логотерапии и экзистенциального анализа. Еще в 1928 г. Франкл основал Центр консультирования молодежи в Вене и возглавлял его до 1938 г. С 1930 по 1938 г. он входил в штат Нейропсихиатрической университетской клиники. В практической сфере он с 1929 г. разрабатывал технику «парадоксальной интенции» – психотерапевтического инверсионного метода, ориентированного на подкрепление опасений пациента и достижение лечебного эффекта по принципу «от противного». В 1933 г. им было выполнено интересное исследование «невроза безработицы», имеющее (к сожалению!) непреходящее значение, однако упоминаемое ныне редко.
Присоединение Австрии к нацистскому Рейху для еврейской части населения страны (а к ней принадлежал и Франкл) означало верную гибель. Незадолго до «аншлюса» у него была возможность эмигрировать в США, однако он ее отверг: полученное из Америки приглашение не распространялось на его родных, а Франкл считать недопустимым их бросить. (Наверное, в науке о душе различия в мировоззрении сказываются во всех сферах: Зигмунд Фрейд, уехавший в эмиграцию с женой и дочерью, не проявил никакой заботы о своих родных сестрах, и все они сгинули в концлагерях). Фортуна дала ему несколько лет отсрочки. По счастливой случайности, гестаповец, оформлявший отправку Франкла в лагерь смерти, оказался его бывшим пациентом и вычеркнул его из списка. Но в 1942 году про доктора Франкла вспомнили снова. Да и как было не вспомнить про заведующего отделением Венской Ротшильдовской еврейской больницы! Печи Освенцима и Дахау требовали топлива, и Виктору Франклу предстояло стать одним из миллионов поленьев в их адском пламени.
Он, однако, выжил. Здесь сошлись и случайность, и закономерность. Случайность – что он не попал ни в одну из команд, направлявшихся на смерть, направлявшихся не по какой-то конкретной причине, а просто потому, что машину смерти нужно было кем-то питать. Закономерность – что он прошел через все это, сохранив себя, свою личность, свое «упрямство духа», как он называл способность человека не поддаваться, не ломаться под ударами, обрушивающимися на тело и душу. В концлагерях получил проверку и подтверждение его взгляд на человека, и вряд ли удастся найти хоть одну психологическую теорию личности, которая была бы в такой степени лично выстрадана и оплачена такой дорогой ценой.
Любая попытка восстановления внутренней силы узника предполагает в качестве важнейшего условия успеха отыскание некоторой цели в будущем. Слова Ницше: «Если есть Зачем жить, можно вынести почти любое Как», – могли бы стать девизом для любых психотерапевтических и психогигиенических усилий… Горе тому, кто не видел больше ни цели, ни смысла своего существования, а значит терял всякую точку опоры. Вскоре он погибал.
Опыт этих страшных лет и смысл, извлеченный из этого опыта, Франкл описал в книге «Психолог в концлагере», вышедшей вскоре после войны. Эта книга с 1942 по 1945 г. фактически «писалась» им в уме, и одним из стимулов к выживанию было стремление ее сохранить и в конце концов опубликовать. Хотя, как признавался автор, эту книгу он «писал с убеждением, что она не принесет, не может принести успех и славу», из всех его книг именно она получила наибольшую популярность. После того как эта книга вышла в 1959 г. на английском языке, она выдержала баснословное количество переизданий на десятках языков по всему миру и общий ее тираж уже перевалил за 2,5 миллиона (всего им написано 16 книг, их совокупный тираж уже не поддается подсчету; на этом фоне особенно огорчительно, в сколь узком кругу он популярен в нашей стране – многие практические психологи о нем даже не слышали).
Конец сороковых отмечен ярчайшим всплеском творческой активности Франкла. Его книги – философские, психологические медицинские – появляются одна за другой. Среди его наиболее значительных работ (помимо названных) – «Доктор и душа», «Психотерапия и экзистенциализм», «Воля к смыслу», «Время и ответственность», «Подсознательный бог», «Психотерапия на практике».
В 1946 г. Франкл становится директором Венской неврологической больницы, с 1947 г. начинает преподавать в Венском университете, в 1949 г. получает степень доктора философии, в 1950 г. возглавляет австрийское общество психотерапевтов. В 60-е годы издание его трудов на английском языке принесло ему всемирную славу, запоздало докатившуюся до наших берегов лишь к началу 90-х.
Франкл дважды объехал вокруг света с лекциями о логотерапии, побывал во многих странах, в том числе и в СССР (аудитория психологов в МГУ встречала его овацией). Он умер в глубокой старости в своей родной Вене.
В нашей стране его идеи еще ждут настоящего признания. Ведь логотерапия – это не столько «техника», сколько философия. В отличие от столь любимых многими манипуляторских ухваток, его концепция не содержит директивных рекомендаций и приемов. На вопрос, существуют ли таковые, Франкл любил отвечать: «Это все равно что спрашивать гроссмейстера, какой шахматный ход самый лучший». Ведь смысл своей жизни каждый человек открывает для себя сам.
Человек не должен спрашивать, в чем смысл его жизни, но скорее должен осознать, что он сам и есть тот, к кому обращен вопрос.
С.С. Стивенс (1906–1973)
4 ноября 1906 г. родился Стэнли Смит Стивенс, известный старшему поколению российских психологов как создатель капитального двухтомного руководства по экспериментальной психологии.
Большая часть научной деятельности Стивенса была посвящена приложению к психологии математических методов, причем не в области научения и тестирования, а в наиболее традиционных и фундаментальных сферах психофизики и проблем измерения. Мало что указывало на это призвание в начале его карьеры, разве что участие в полемике о высшем образовании, в которой проявился его интерес к тестированию интеллекта. После окончания школы он в течение трех лет был мормонским миссионером. Затем он поступил в Университет Юты и прослушал целый ряд курсов, среди которых, однако, математики не было. В результате знакомства с Дж. Уотсоном, с которым Стивенс вместе преподавал в воскресной школе, он открыл для себя психологию, в которой стремился в истинно бихевиористском духе узреть четкие закономерности. Завершал образование он уже в Стэнфорде и Гарварде, где наверстал упущения в математике. Физиологию Стивенс изучал под руководством В.Д. Крозье, известного сторонника доказуемых закономерностей в поведении как высшего выражения биологической науки. В лаборатории Крозье Стивенс работал с Б.Ф. Скиннером, который познакомил его с силовыми функциями в «кривых потребления пищи» у крыс. Во время этой знаменитой встречи Стивенс признался в своем полном математическом невежестве, на что пионер радикального бихевиоризма сказал: «Единственный способ избавиться от комплекса неполноценности а области математики – это заняться ею».
Первые научные статьи Стивенса были написаны во время его занятий на курсе Э.Г. Боринга на курсе экспериментальной психологии. Боринг предложил ему заняться загадкой смешения цветов; при смешении красного и зеленого в цветовом колесе наблюдатель на определенном расстоянии воспринимал серый. Это явление оказалось закономерным и поддающимся измерению, так как Стивенс выяснил, что необходимое расстояние варьирует в зависимости от пропорций смешиваемых цветов. На этом этапе карьеры ему было мало известно о восприятии (он пропустил соответствующий курс Боринга), но он был поражен закономерностями, которые ему удалось продемонстрировать в этих опытах. Он получил степень по экспериментальной психологии и защитился настолько хорошо, что Боринг предложил ему место ассистента. Он начал заниматься исследованиями тональной громкости, результаты которых составили его докторскую диссертацию, защищенную в 1933 г. К этому времени его познания в математике были уже вполне приличными. Он посещал в качестве вольнослушателя курсы математики и физики и в течение некоторого времени даже работал в области физики, пока в 1936 окончательно не отдал предпочтение психологии.
Стивенса никогда не удовлетворяла роль экспериментатора. Он всегда интересовался философией науки, которой приходилось заниматься, что привело его к проблеме логики методов измерения. Измерение являлось главной проблемой научной психологии, ибо наука начинается там, где есть возможность количественной оценки фактических данных – возможность, столь безусловно реализованная в физике. Для того, чтобы придать психологии научный статус, требовались достаточно широкие дефиниции измерения, которые могли бы включить в себя исследования мышления и поведения. Эйнштейн продемонстрировал, что даже рассмотрение, казалось бы, простых мер длины и времени может создавать парадоксы огромного теоретического значения, а физик Перси Бриджман развил на основе открытий Эйнштейна концепцию операционализма. Согласно Бриджману, достоверность измерений зависит не столько от основательности измеряемого явления, сколько от методов измерения и порождаемых ими закономерностей. Это было желанным новшеством для психологии, которая все еще пребывала в сомнениях относительно предмета своих исследований. Точно так же, как его коллега Скиннер, Стивенс ухватился за операционализм как за выход из тупика и принялся создавать психологию как истинную науку, основанную на измерении.
По убеждению Стивенса, психофизика является центральной дисциплиной в психологии, ибо именно она в наибольшей мере соответствует критериям подлинной научности. В области психофизики Стивенс прославился открытием так называемого закона силы, который был впервые представлен в публикации 1953 г. в ноябрьском номере журнала Science.
Однако шли годы, и психология все шире распространяла свои интересы, удаляясь от психофизики. В 1962 г. профессор психологии С.Стивенс обратился к администрации Гарвардского университета с просьбой переименовать его должность в «профессора психофизики». Его двухтомник, изрядно потрепанный прежними поколениями студентов-психологов, сегодняшние студенты редко спрашивают в библиотеке. А в библиотеках недавно открывшихся вузов его и вовсе нет. Трудно судить, прав ли был Стивенс, считая психофизику ядром психологии. Но реальность нынче такова, что психология и психофизика будто даже не пересекаются. Действительно, различение сенсорных стимулов и личностный рост – явления разного порядка. Вот только первое поддается объективному изучению…
М. Шериф (1906–1988)
Если бы в Голливуде додумались снять фильм об этом человеке (а фильм получился бы яркий – ведь иная творческая биография куда богаче вымышленных историй про Бэтмена или Терминатора), то прологом к нему могла бы послужить леденящая душу сцена. 1919 год. Вторжение греческих войск в турецкую провинцию Измир. Опьяненные ненавистью к вековечному врагу – туркам, греки не щадят ни старых, ни малых. Пылающий городок. На улицах трупы. На мушке у греческого солдата дрожащий 13-летний паренек. Томительно тянутся секунды перед смертельным выстрелом. Но что-то удерживает солдата от злодеяния. Он опускает винтовку и уходит прочь. Мальчишка остается стоять посреди руин, не веря в свое чудесное избавление.
Он проживет еще много лет и войдет в историю как один из основателей социальной психологии. Но круг его научных интересов, наверное, определился еще в юности, в тот ужасный день. «Смысл моей работы и всей моей жизни, – скажет он годы спустя, – понять природу враждебности между людьми и указать им путь к примирению».
Музафер Сериф Бесоглу родился 29 июля 1906 г. в городке Одемис на западе Турции. В зрелые годы перебравшись в США, он предпочтет именоваться Музафером Шерифом и под этим именем станет известен как выдающийся ученый.
Мировоззрение Шерифа во многом сложилось под влиянием той атмосферы, в которой протекало его детство. Острая взаимная неприязнь и нетерпимость между турками, армянами и греками, вылившаяся в начале века в массовое кровопролитие и геноцид. Первая мировая. Ожесточенное соперничество среди самих турок на почве политических и религиозных разногласий… Если кому-то и принято говорить спасибо за счастливое детство, то эту благодарность Музафер мог адресовать только своим родителям – людям весьма обеспеченным и культурным, которые постарались воспитать сына порядочным человеком и дать ему достойное образование.
Ученую степень бакалавра он получил в 1927 году по окончании Американского международного колледжа в Измире. Вероятно, уже здесь сложилась прозападная идейная ориентация молодого турка, не убавившая, однако, его патриотизма – к достижениям западной науки он стремился приобщиться ради блага своей родины. Побывав впоследствии в Новом Свете и в Западной Европе, он с радостью вернулся домой, чтобы жить и работать на родине, и вынужден был ее окончательно покинуть лишь под угрозой жестоких репрессий.
Магистерскую степень Музафер получил в Стамбульском университете в 1929 г. и в том же году стал лауреатом национального конкурса, наградой в котором была стипендия на продолжение образования за рубежом. Из всех предоставлявшихся возможностей юноша выбрал обучение в Гарварде, мотивируя свой выбор тем, что в стенах именно этого университета преподавал в свое время Уильям Джемс.
Америка конца 20-х поразила молодого турка блеском самоуверенного благополучия. «Казалось, я обрел рай на Земле», – вспоминал потом Шериф. Всего два месяца спустя рай оказался в одночасье утрачен – Америку поразил жесточайший финансовый кризис, ставший началом Великой Депрессии. Нью-йоркские банкиры, еще вчера лоснившиеся от спеси, посыпались из окон небоскребов на тротуары, словно перезрелые плоды в урожайный год. Миллионы американцев, враз лишившись работы и сбережений, превратились в бездомных нищих. «Тогда я понял, – запишет в своем дневнике Шериф, – что рай на Земле – это иллюзия, и дал себе зарок глядеть на мир трезвым взглядом реалиста». Несмотря на неодобрительное отношение гарвардского руководства, он обратился к изучения социальных проблем, дотоле психологами не охваченных. Первым его исследованием, получившим известность, стал опыт изучения мироощущения безработных. Одним из первых Шериф сумел наглядно показать, как утрата привычного трудового уклада деморализует людей и искажает их восприятие действительности. К примеру, обследованные им безработные оказались неспособны, подобно умалишенным, ответить на вопрос, какой сегодня день недели, – для них это просто перестало иметь значение.
Получив вторую магистерскую степень в Гарварде в 1932 г., Шериф ненадолго вернулся на родину, по пути остановившись в Германии, где он слушал лекции В. Кёлера в Берлинском университете. Судьба словно испытывала его, бросая в то или иное место накануне исторических потрясений. Пройдет всего несколько месяцев, и демократическое волеизъявление немецкого народа приведет к власти гитлеровскую клику. Со смешанным чувством недоумения и интереса молодой ученый наблюдал, как умело нацистские идеологи навязывают целому народу самоубийственные социальные установки. Громких речей о народах избранных и неполноценных, и т. д. и т. п., он наслушался с малолетства и прекрасно знал, какую горькую цену приходится платить поверившим в них. Психологии социальных установок впоследствии будут посвящены несколько его капитальных научных трудов.
После двух лет преподавательской деятельности в Анкаре, Шериф снова отправился в Америку – как рокфеллеровский стипендиат. В Колумбийском университете он защитил докторскую диссертацию «Исследование некоторых социальных факторов, влияющих на восприятие», ставшую основой его первой книги – «Психология социальных норм», которая вышла в 1936 г. и была впоследствии неоднократно переиздана.
На родину он возвратился – на сей раз с остановкой в Париже – в 1937 г., накануне Второй Мировой. Встреча его ожидала далеко не радушная. В Турции, чудом удержавшейся от союза с нацистами, прогерманские настроения были очень сильны, а откровенно антифашистская позиция Шерифа с ними явно диссонировала. «Приспешник американцев» сразу оказался на плохом счету, а в 1944 г. по обвинению в «пропаганде идей, противоречащих национальным интересам» попал под суд и был приговорен к 27-летнему (!) тюремному заключению. Если конец 20-х мог, хоть и недолго, ассоциироваться у него с раем, то турецкая тюрьма во все времена была гораздо ближе к аду. К счастью для Шерифа, его заключение продлилось всего 90 дней, после чего он был освобожден по ходатайству американцев (в 1944-ом турецким властям хватило сообразительности оценить, что угождать следует уже не Берлину, а стоящим у его ворот союзникам). Не желая далее искушать судьбу, ученый покинул нелюбезную родину. На сей раз – навсегда.
Окончательно перебравшись в США, Шериф женился и совместно с женой, Кэролайн Вуд, выполнил несколько социально-психологических исследований, ныне считающихся классическими. Одно из них, ныне вошедшее во все учебники социальной психологии, относится к 1954 г. и посвящено давно интересовавшей его теме враждебности. Суть его довольно проста, но важность результатов трудно переоценить.
В летнем лагере две группы мальчиков-подростков были поселены в двух хижинах на изрядном удалении друг от друга. В течение недели группы предавались играм и развлечениям, практически не взаимодействуя друг с другом. За это время группы сильно сплотились, выбрали себе названия, которые начертали на футболках, и даже водрузили над хижинами собственные знамена.
На следующем этапе мальчиком было предложено участвовать в соревнованиях. Все члены выигравшей команды получали довольно ценные по мальчишеским меркам призы. Это создало почву для напряженного соперничества. По ходу соревнований, длившихся не один день, напряжение нарастало. Сначала дело ограничивалось взаимными насмешками и бранью, но постепенно ребята перешли к прямым деструктивным действиям. Одна команда похитила и сожгла флаг другой. Обиженные в отместку совершили набег на хижину соперников и устроили там настоящий погром. Вполне поначалу благопристойное соревнование постепенно переросло в полномасштабный конфликт, породив глубокую взаимную неприязнь и предубеждение против соперников.
К счастью, эта история имела хороший конец. Дабы предотвратить более серьезные последствия, психологи вмешались и изменили условия существования ребят таким образом, что те просто вынуждены были сотрудничать. Когда перед обеими группами были поставлены общие достаточно серьезные цели, произошли разительные перемены. После того как мальчики поработали вместе, восстанавливая канал водоснабжения (намеренно испорченный исследователями), «скинулись» для того, чтобы взять напрокат киноустановку, и отремонтировали сломанный грузовик, напряжение между группами почти исчезло. Через несколько дней границы между группами фактически растворились, и был установлен мир.
Подобные опыты выдвинули Шерифа в первые ряды исследователей межгрупповых отношений. С 1949 по 1966 гг. он возглавлял Институт Групповых Отношений при Университете Оклахомы, где изучались различные факторы, как способствующие, так и препятствующие сплочению людей на самом разном уровне – от взаимоотношений школьников до межнациональных конфликтов. По мнению Шерифа, снижению напряженности между любыми группами должно способствовать информирование о противостоящей стороне в позитивном свете, поощрение неформальных, «человеческих» контактов между членами конфликтующих групп, конструктивные переговоры лидеров. Однако ни одно из этих условий не может быть эффективно само по себе. Позитивная информация о «враге» чаще всего не принимается во внимание, неформальные контакты легко оборачиваются тем же конфликтом, а взаимная уступчивость лидеров расценивается их сторонниками как проявление слабости. Самое главное – и это убедительно продемонстрировал еще эксперимент в летнем лагере – это обретение общих целей, в стремлении к которым забывается противоборство.
Если бы люди умели слушать психологов! Может, тогда мир и не узнал бы 11 сентября, боснийской резни и бесланского кошмара!
Правда, по-русски ни одна из книг Шерифа (а их он написал целых две дюжины) так и не напечатана. А, может быть, все-таки следовало бы?
Выйдя в отставку, Шериф не удалился на покой. Ведь он давно понял, что «рай на Земле – это иллюзия», зато ад слишком часто становится реальностью. Он продолжал писать, не уставал выступать перед разными аудиториями в Америке и за ее пределами. В октябре 1988-го сердечный приступ настиг его на Аляске. 16 октября Музафера Шерифа не стало.
Он мечтал сделать мир лучше и посвятил этому свою жизнь.
Б. Г. Ананьев (1907–1972)
В истории отечественной психологии не принято акцентировать различия концепций и школ, оформившихся в едином русле советской психологической науки. Действительно, полярных противоречий между ними не существовало, однако и определенной специфики, своеобразия крупных научных школ, сложившихся в разных регионах, нельзя не заметить. В силу особых причин, отнюдь не только научных, в отечественной психологии фактически возобладало направление, представленное московской школой, которая опирается на культурно-историческую концепцию формирования психики и теорию деятельности. Психологи Северной столицы относятся к такому положению ревниво, небезосновательно считая, что вклад их земляков в отечественную науку недооценен. К таким ученым по праву можно отнести Б.Г. Ананьева, с чьим именем питерские психологи связывают основание собственной научной школы, которая существовала и продолжает существовать если не как альтернативная московской, то, по крайней мере, как равновеликая ей.
Борис Герасимович Ананьев родился 1(14) августа 1907 г. во Владикавказе в обрусевшей армянской семье. О его детстве и ранней юности известно мало. То были годы революционных потрясений и войн. Время больших перемен увлекло в свой бурный поток мечтательного, одаренного юношу, полного творческих сил и энтузиазма. Первоначально он подумывал посвятить себя музыке, которую страстно любил. Он даже окончил музыкальное училище. Но вскоре его увлекла иная сфера деятельности.
В 1924 г. Борис Ананьев поступил в Горский педагогический институт. Там он встретился с доцентом педологии Р.И. Черановским, который приобщил его к научным занятиям в области детской психологии. В начале 1925 г. Черановский организовал кабинет педологии, вокруг которого сгруппировалась студенческая молодежь, интересовавшаяся психолого-педагогическими проблемами. В этот кружок вошел и Ананьев, который вскоре стал ассистентом Черановского.
В кабинете педологии проводились работы по изучению умственной одаренности, психологических особенностей юношеского возраста. Тему «Эволюция миропонимания и мироощущения в юношеском возрасте» Ананьев и избрал для своей дипломной работы. Работа была выполнена под руководством Черановского, который оказал на молодого исследователя большое влияние. Сам Черановский был последователем бехтеревской объективной психологии и сотрудничал с Институтом мозга, основанным Бехтеревым. Вероятно поэтому Ананьев и отправился на стажировку именно в Институт мозга в Ленинград. Он прибыл туда в сентябре 1927 года, за три месяца до внезапной смерти В.М. Бехтерева. Ананьев не оставил никаких воспоминаний о встречах с Бехтеревым, однако, судя по всему, успел испытать сильное впечатление от личности выдающегося ученого. Свое восхищение Бехтеревым он выразил в статье «Памяти большого человека», а позднее во многих научных докладах и статьях. Он глубоко впитал дух бехтеревской научной школы, принятые в ней принципы научного исследования и гражданского поведения.
В 1928 г. Ананьев закончил институт во Владикавказе и окончательно перебрался в Ленинград. На рубеже 20–30-х годов, по мнению многих, именно здесь находился главный научный центр страны. Здесь активно действовали всевозможные научные и просветительские общества, в том числе научно-музыкальное. Известно, что в феврале 1928 Борис Ананьев прочел в нем доклад «О социальной полезности музыканта (с психофизиологической точки зрения)», в котором говорил о власти музыки над сердцами слушателей и ответственности музыканта перед ними. При этом он опирался на экспериментальные данные, сравнивая воздействие музыки с гипнозом, которому, кстати, тоже отдал дань в научных занятиях.
Некоторое время Ананьев был вынужден искать работу, ходил на ленинградскую биржу труда. В марте 1929 г. его приняли в аспирантуру Института мозга. Здесь он окончательно сформировался как ученый, получил известность, обрел единомышленников и соратников на долгие годы. Борис Герасимович работал в Институте мозга непосредственно до 1942 г., позже руководил научными исследованиями в Отделе психологии по совместительству. Ряд сотрудников института затем перешли на вновь созданную кафедру психологии Ленинградского университета, которую возглавил Ананьев.
В начале 30-х годов психологи Института мозга начали коллективное исследование, посвященное развитию школьников. В частности, изучались технический кругозор учащихся, одаренность, формирование характера. В сентябре г. Б.Г. Ананьев стал заведовать лабораторией психологии воспитания и одним из первых в СССР организовал школьную психологическую службу на базе средней школы в Выборгском районе Ленинграда. Стержневой проблемой научно-исследовательской работы его лаборатории стала проблема характера школьников.
На основе эмпирического материала, полученного в психолого-педагогических исследованиях, Ананьев опубликовал свою первую монографию «Психология педагогической оценки» (1935). Как он сам характеризовал ее, «ведущей идеей данной монографии является воспитательное воздействие педагога посредством оценки… В наших исследованиях мы не просто «учитываем» школу и учителя при изучении школьника, как это делается в педологии и детской психологии, но мы включаем их в изучение школьника как важнейшие факторы формирования индивидуально-психологических особенностей ребенка и подростка». Переизданная в 1980 г. эта работа воспринимается как современная по мысли и может служить источником новых гипотез и исследований.
В 1936 г., после принятия печально известного постановления «О педологических извращениях…», был наложен запрет на любые исследования, хотя бы внешне напоминавшие педологию. Был арестован и осужден заведующий сектором психологии Института мозга профессор А.А. Таланкин. В сентябре 1937 г. Ананьев занял его пост.
В том же году он становится кандидатом педагогических наук (ученых степеней по психологии в нашей стране еще долгое время не существовало). Ученая степень была присуждена ему по совокупности научных работ, которых к тому времени уже вышло немало, причем на самые разные темы. Молодой Ананьев рассуждал над вопросами классификации наук и методах психологии, о происхождении психики. Он пытался определить принципы научной деятельности и при этом выступал против «школьного шовинизма» – нетерпимости к инакомыслию, нигилизма по отношению к иным научным школам. Он ратовал за здоровую, принципиальную и дружественную атмосферу в науке. Этим принципам он старался следовать неукоснительно.
Возглавив сектор психологии, Ананьев развернул два новых цикла исследований. Первый был посвящен истории отечественной психологии, второй – психологии чувственного отражения. Обращение к истории психологии, на первый взгляд, кажется вынужденным, принятым под давлением социальных обстоятельств в связи с разгромом педологии. Но Ананьев, как это свойственно творческим личностям, умел любое обстоятельство освоить так, чтобы выразить свою личную позицию. У Ананьева сложились собственные взгляды на историю науки, на роль тех или иных деятелей прошлого. Ананьев был убежден в необходимости опоры на опыт предшественников, уважая в них первопроходцев науки. Он обладал высокоразвитым чувством истории: чтобы идти вперед, надо внимательно взглянуть на прошлое, произвести его ревизию и извлечь уроки.
Истории психологии Ананьев посвятил свою докторскую диссертацию. Он успешно защитил ее в 1939 г., став самым молодым доктором наук среди психологов того времени. История психологии с тех пор постоянно входила в круг его интересов. В этом русле он написал более 20 работ, в том числе монографию «Очерки истории русской психологии ХVIII – ХIХ веков» (1947). Корифеи науки воспринимались Ананьевым как союзники в делах современности. Вместе с тем, для него весьма характерно было искренне уважение к простым труженикам науки – пусть они не сделали великих открытий, но они служили науке честно, добывали факты, необходимые как воздух. Ананьев не упускал случая сказать доброе слово о своих сотрудниках и коллегах. Чувство локтя он ценил и сам обладал им в полной мере.
В конце 30-х годов Ананьев написал несколько программных статей, в которых была выдвинута гипотеза о генезисе чувствительности. По мнению Ананьева, чувствительность с самого начала онтогенеза выступает как интегральная функция (отправление) целостного организма. Ананьев подчеркивал решающее значение сенсорных процессов в общем развитии человека и пришел к мысли о его неравномерности и гетерохронности.
Ананьеву было свойственно искать выход в практику для исследований, казалось бы, сугубо теоретических. В период работы над проблемами характера он установил контакты с учителями Ленинграда, вовлек их в общую работу, писал для учительства научно-популярные статьи, преподавал в институте усовершенствования учителей.
Война разом нарушила мирный ход событий. Ленинград с самого начала военных действий оказался прифронтовым городом, а 8 сентября 1941 г. вокруг города сомкнулось кольцо блокады. Ананьев вместе с небольшой группой сотрудников Института мозга оказался в эвакуации, сначала в Казани, затем на родине своей жены в Тбилиси, где начал работать в психопатологическом кабинете эвакогоспиталя. Здесь он занимался восстановлением речевых функций, утраченных в результате боевых ранений. Для своих пациентов он выступал не только наставником, но и другом. Он помогал им вновь обрести собственную личность, воспрянуть духом, и люди относились к нему с огромным уважением и любовью. Об этом свидетельствуют их безыскусные, но чрезвычайно искренние письма, хранимые в домашнем архиве Ананьева.
В середине ноября 1943 г. Ананьев вернулся в Ленинград. А в 1944 г. ректор Ленинградского университета А.А. Вознесенский предложил ему возглавить новую кафедру психологии. Выбор ректора был не случаен. Ананьев имел большой научный и личностный авторитет, был признанным лидером ленинградских психологов. С августа 1944 г. Борис Герасимович стал заведовать, а вернее, создавать кафедру психологии и психологическое отделение философского факультета ЛГУ. Осенью начались занятия, в аудитории пришли первые четверо студентов. Среди них были известные ныне ученые Е.В. Шорохова и Л.М. Веккер.
В военные и первые послевоенные годы появились такие работы Ананьева, как «Передовые традиции русской психологии», «К.Д. Ушинский – великий русский психолог», «Проблема формирования характера». В этих и других публикациях утверждалось высокое общественное предназначение психологической науки.
Впоследствии, вспоминая военную пору, Ананьев говорил: «Война определила мою жизнь. Это была уже не по книгам пройденная психология. Я увидел резервы, о которых мы обычно не подозреваем. Я понял: нет более великой проблемы, чем проблема человеческих возможностей. Я понял: человек может все…»
В сентябре 1945 г. Ананьев был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук РСФСР (действительным ее членом он стал в 1955 г.). Научная и организаторская деятельность Ананьева была на подъеме. В период 1945–1948 гг. он опубликовал свыше 25 работ. Ученый был буквально переполнен замыслами, выступал инициатором многих начинаний. Он вел исследования сразу по нескольким направлениям: изучение осязания и других видов чувствительности, психология речи, проблемы детской психологии. Продолжал заниматься историей психологии и психологией личности. В этот период Ананьев отчетливо сформулировал идею о связи формирования характера и познания человека человеком, о закономерностях формирования самосознания человека на ранних стадиях развития.
На рубеже 40–50-х годов оформляется новое направление исследований Ананьева, истоки которого лежат в довоенных работах Института мозга. Началось целенаправленное всестороннее изучение билатеральности мозга и его функций – проблемы, которая была тогда неизведанной и лишь в последние годы стала популярной, даже модной, хотя новаторская роль Ананьева при этом почти не упоминается.
В 1957 г. Ананьеву исполнилось 50 лет. Состоялось торжественное собрание, на котором юбиляр говорил о необходимости комплексных исследований, о синтезе всех знаний о человеке. Эти идеи волновали его, когда он писал статьи «Человек как общая проблема современной науки» (1957), «О системе возрастной психологии» (1957). Идеи Ананьева опередили свое время и в ту пору не были оценены коллегами. Лишь спустя годы ученые осознали ценность комплексного и системного подходов в сфере человекознания – по мере развития системных идей и самих наук о человеке. Приоритет Ананьева здесь неоспорим.
Стремительное движение ученого по высоким орбитам науки было прервано внезапной тяжелой болезнью. В ноябре 1959 г. с Борисом Герасимовичем случился инфаркт. Сказался непрестанный напряженный труд, а также неизбежные в жизни передового ученого конфликты с теми, кто не поспевал за мыслью и делом новатора.
Выйдя из смертельно опасного кризиса, Ананьев приступил к реализации замысла, который вызревал у него уже несколько лет. Это был замысел комплексных исследований человека в целях его психологического познания. Он был сформулирован в итоге многолетних размышлений ученого под влиянием опыта предшественников, и в первую очередь В.М. Бехтерева. В истории психологии комплексные исследования человека неразрывно связаны с именами этих двух отечественных ученых. Ананьев, как и Бехтерев, был их горячим сторонником, методологом и практиком. Методологи отмечают большую сложность комплексных исследований, которые требуют длительных коллективных усилий ученых разных специальностей. Тем дороже новаторский опыт Ананьева и его коллектива.
Замысел предусматривал два цикла комплексных исследований. В первом главное внимание уделялось возрастной динамике психофизиологических функций взрослых людей. В этом цикле преобладали сравнительно-генетические методы («поперечные срезы»), что позволяло определять нормы развития взрослых в каждом «микровозрасте».
Во втором цикле целостное развитие индивидуальности изучалось на одних и тех же людях в течение пяти лет. Здесь использовались лонгитюдные методы. Таким образом, два организационных метода – «поперечные срезы» и лонгитюд – дополняли друг друга, так что индивидуальные картины развития углубляли представления о вариативности возрастных статусов, о роли отдельных факторов в общем развитии личности. С другой стороны, обобщенные данные о возрастном развитии служили объективной психодиагностике индивидуальности, что особенно важно в практических целях.
В 1962–1966 гг. Ананьев написал серию статей, в которых всесторонне обосновывал комплексный подход в исследованиях человека. При этом он интегрировал все предыдущие разработки своей школы и предшественников. Пережитая во время тяжелой болезни опасность обострила чувство времени. Кажется, Ананьев спешит высказать самые выстраданные мысли и реализовать их в конкретных исследованиях. В начале шестидесятых он начинает работу над книгой «Человек как предмет познания», где подводит итоги своей многолетней работы и обозначает контуры синтетической науки о человеке.
Начало комплексных исследований в школе Ананьева совпало с общим подъемом психологической науки, оживлением в стране в период «оттепели». В 1959 г. в ЛГУ была создана первая в СССР лаборатория инженерной психологии, которую возглавил ученик и сотрудник Ананьева Б.Ф. Ломов. В 1962 г. организована лаборатория социальной психологии, опять-таки первая в стране (заведующий Е.С. Кузьмин – также ученик Ананьева). По инициативе Ананьева в ЛГУ открыли Институт комплексных социальных исследований и в его составе – лабораторию дифференциальной антропологии и психологии.
В 1966 г. психологическое отделение философского факультета ЛГУ было преобразовано в факультет психологии, включавший кафедры общей психологии, педагогики и педагогической психологии, эргономики и инженерной психологии. Первым его деканом был назначен Ломов, который, однако, вскоре переехал в Москву и возглавил впоследствии вновь организованный Институт психологии АН СССР. В 1967 г. Ананьев принял руководство факультетом психологии ЛГУ. На этом посту им сделано необычайно много для становления факультета и развития психологического образования. Он осуществил новые формы обучения студентов в виде творческих встреч с ведущими психологами страны. «Каждая такая встреча, – говорил Ананьев, – стоит целого семестра». Так, весной 1968 г. в ЛГУ на факультет психологии приезжали ученые из Института общей и педагогической психологии АПН СССР (ныне московский Психологический институт им. Щукиной) во главе с А.А. Смирновым. В другое время приезжали и выступали перед ленинградскими студентами психологи из МГУ, в том числе А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, грузинские психологи из института им. Узнадзе, ученые из Киева. Таким образом студенты имели возможность глубже понять иные научные школы, узнать о наиболее выдающихся достижениях науки от самих исследователей. Школа Ананьева была открыта для научного общения с учеными разной ориентации.
В начале 70-х годов Ананьев задумал большую коллективную книгу, но осуществить этот замысел не удалось. В красивом блокноте, приготовленном для задуманной рукописи «Человек как предмет воспитания», осталась заполненной лишь первая страница. 18 мая 1972 г. Борис Герасимович Ананьев скоропостижно скончался от инфаркта в возрасте 64 лет.
Он ушел из жизни, не завершив ни одной из четырех своих обширных научных программ. Исследование развития характера было свернуто после разгрома педологии; программа в Институте мозга по психологии чувственного отражения была прервана войной и возобновлена в другом коллективе. Исследования по педагогической психологии и проблеме психического развития школьников оборвались первым инфарктом. Смерть не дала завершить комплексные исследования человека. Она настигла внезапно в период блистательной зрелости ученого. Незавершенность его пути трагична. Однако Б.Г. Ананьев оставил богатое научное наследство. В нем аккумулирован огромный интеллектуальный и личностный потенциал, который питает психологическую науку по сей день.
А. Анастази (1908–2001)
В ХХ веке написано столько книг по психологии, что даже самый старательный студент, поставивший перед собой задачу изучить этот предмет как можно глубже и прочитать как можно больше, невольно теряется перед их обилием и многообразием. Наверное, поэтому таким успехом пользуются обзорные, обобщающие работы, позволяющие хотя бы в первом приближении рассмотреть некую обширную проблему и уже с опорой на знание основных терминов, понятий и закономерностей выбрать конкретные источники для углубленного изучения. Если к тому же такая работа написана интересно и внятно, то она просто обречена стать бестселлером и неизменной палочкой-выручалочкой для многих поколений студентов. В психологии таким всемирным бестселлером по праву считается «Психологическое тестирование» пера Анны Анастази. Эта книга была выпущена нью-йоркским издательством «Макмиллан» в 1954 г., выдержала несколько переизданий, всякий раз обновлявшихся (последнее вышло в 1996 г.) и была переведена на многие языки, в том числе и на русский (в 1982 г. в издательстве «Педагогика» вышел перевод с пятого американского издания, а в 2003 г. в «Питере» – седьмого). И несколько поколений психологов – американских, российских, и не только – могли бы заявить, перефразируя известные строки: «Мы говорим – Анастази, подразумеваем – тесты…»
Анна Анастази, один из самых известных американских психологов, прожила 92 года. Даже если бы за свою долгую жизнь она не создала ничего, кроме «Психологического тестирования», один этот капитальный труд увековечил бы ее имя. Правда, она и написала не так уж много: помимо названной, ее перу принадлежат еще две крупных монографии, а также около полутора сотен статей (нередко в соавторстве) в научных журналах (многие и за более короткий срок ухитряются напечатать в несколько раз больше). Иногда у неосведомленного отечественного читателя складывается мнение о ней как о талантливом компиляторе, сумевшем доступно рассказать о чужих достижениях (что само по себе тоже немалое искусство и заслуживает высокого признания). Но будь это так, то вряд ли американские коллеги удостоили бы ее национальной премии «Выдающемуся ученому» и избрали президентом своей профессиональной ассоциации (1971). Ее «Психологическое тестирование» – это не просто грамотный обзор, а настоящая энциклопедия, создать которую по силам только крупному специалисту в данной области. Таким специалистом – поистине одним из ведущих – и является Анна Анастази.
Она родилась 19 декабря 1908 г. в Нью-Йорке в семье сицилийских иммигрантов. Своего отца не знала – он умер, когда девочке едва исполнился год. С его семьей мать решила отношений не поддерживать, так что и со своими родственниками по отцовской линии Анна даже никогда не встречалась. Воспитанием девочки фактически занималась одна бабушка. Каковы бывают плоды такой педагогической ситуации, во все времена можно наблюдать на множестве печальных примеров. Но Анна, вероятно – в силу своих природных способностей и склонностей, сумела стать блестящим исключением из этой закономерности.
Бабушка Анны с большим недоверием относилась к школе. Окна их скромной квартиры выходили на школьный двор, и ежедневно наблюдаемое поведение учеников раздражало бабушку настолько, что она предпочла сама заняться обучением внучки, дабы оградить ее от дурного влияния сверстников. Под ее руководством Анна занималась до 9 лет, а когда наконец все-таки поступила в школу, то сразу в третий класс, а уже через пару месяцев была переведена в четвертый – домашнее обучение даром не прошло. Впоследствии Анна еще раз «перепрыгнула через ступеньку» и в итоге закончила школу в возрасте 15 лет.
В школе она была первой ученицей (в буквальном смысле этого слова – в американской школе принято четкое ранжирование), в 1924 г. поступила в престижный Барнард Колледж, намереваясь посвятить себя математике (именно в этой сфере она с детских лет демонстрировала высокую одаренность). Интерес к психологии возник у нее под влиянием работ Ч. Спирмена, посвященных факторному анализу. Приложение математических методов к тонким душевным материям увлекло ее настолько, что в значительной мере определило ее научные изыскания на долгие последующие годы. После окончания колледжа (степень бакалавра – в 19 лет!) она поступила в аспирантуру Колумбийского университета и в 1930 г. защитила докторскую диссертацию. В университете Анна познакомилась со своим будущим мужем – Джоном Питером Фоли, также в ту пору готовившим докторскую диссертацию по психологии (впоследствии он снискал некоторую известность в области индустриальной психологии). В 1933 г. они поженились и, как пишут в романах, всю жизнь прожили в любви и согласии. (Характерно, что в браке Анна сохранила девичью фамилию). Правда, уже через год после замужества у Анны был диагностирован рак. Облучение, назначенное ей в лечебных целях, помогло справиться с болезнью, однако его побочным эффектом стало бесплодие. Это испытание не сломило Анну. В своей автобиографии, написанной на склоне лет (1988), она скажет: «Отвечать на удары судьбы можно по-разному – унынием, депрессией, даже самоубийством, либо напряжением всех сил, дабы доказать судьбе, что ей тебя не одолеть». Лишенная радости материнства, она всю себя посвятила работе.
Первая крупная научная работа Анастази – монография «Дифференциальная психология» – увидела свет в 1937 г., и несмотря на огромное количество эмпирических фактов, накопленных с той поры, продолжает по сей день оставаться ценным источником в этой области науки.
По горькой иронии судьбы эта книга вышла в Америке почти одновременно с официальным запретом любых психометрических исследований в Советском Союзе. В свете печально известной партийной директивы сама постановка проблемы индивидуально-психологических различий была признана идеологически чуждой. Этот атавизм оказался удивительно живуч, и по сей день многие наши педагоги и психологи нервно вздрагивают при малейшем намеке на тот очевидный факт, что не все люди одинаково умны.
В США «Дифференциальная психология» сразу выдвинула ее автора в ряды крупнейших специалистов в данной области. Достаточно сказать, что через девять лет, в 1946 г., тридцативосьмилетняя Анна Анастази была избрана коллегами президентом Восточной психологической ассоциации. Фактически ее работа явилась первым крупным сочинением на данную тему с тех пор, как В. Штерном в 1911 г. было предложено само понятие «дифференциальная психология».
В нашей стране в силу названных причин об этой работе и ее авторе узнали нескоро, в конце шестидесятых. Б.М. Теплов (едва ли не единственный в ту пору советский психолог, осмеливавшийся разрабатывать проблематику индивидуальных различий) сумел ознакомиться в оригинале с третьим изданием этой книги (1958) и составил ее подробный комментированный конспект, который был опубликован в сборнике «Проблемы дифференциальной психофизиологии» (т. VI, М., 1969), а затем и во втором томе его избранных трудов (1985). Теплову в сочинении Анастази импонировал ее скепсис в отношении теории врожденных способностей, ее пристальное внимание к социальным детерминантам индивидуальных различий. Кое-где он находит даже прямую перекличку с теоретическими положениями советской психологии: «Анастази, не имеющая понятия о работах советских исследователей, утверждает, однако, то же самое».
В самом деле, одной из важных заслуг Анастази можно считать объективный анализ роли социальных факторов в формировании человеческих черт, открыто противоречивший господствовавшей в довоенной западной психологии установке на тестовую оценку врожденного и неизменного. Однако оценка возможностей психометрических методик была предпринята ею не только с этой целью. По мнению Анастази, «главная цель дифференциальной психологии, так же как и психологии вообще – понять поведение. Дифференциальная психология подходит к этой проблеме через сравнительный анализ поведения в изменяющихся условиях…» По прошествии полувека она напишет: «Если мы можем объяснить, почему одни индивиды реагируют отлично от других, то мы уже далеко продвинулись в понимании того, почему каждый человек реагирует так, а не иначе. данные дифференциальной психологии, таким образом, должны помогать выяснению основных механизмов поведения».
Этой проблематике в широком разнообразии ее аспектов и были посвящены многолетние исследования Анастази. Классическими стали ее работы по изучению гендерных различий в проявлениях интеллекта, влияния социо-культурных факторов (в частности, семейной атмосферы и школьного обучения) на формирование умственных способностей. В третьей из написанных ею монографий «Сферы прикладной психологии» (1964) она снова возвращается к вопросам собственно психологического содержания психометрических методов и их результатов, пытается преодолеть противопоставление экспериментальной и психометрической ориентации в психологии.
На фоне этих работ «Психологическое тестирование», пожалуй, действительно выступает скорее масштабным рефератом, нежели научным исследованием. Но и здесь (что становится ясно при внимательном ознакомлении) постоянно проводится ее мысль о том, что использование инструмента (каковым является всякий тест) с необходимостью требует осознания цели этой процедуры. Сортировка, ранжирование, навешивание ярлыков – цели абсолютно негодные. К тому же, любой специалист, манипулирующий психометрическими методиками, должен осознавать природу выявляемых различий, а не просто констатировать результат. Эти идеи еще долго будут оставаться актуальными, и мир, вероятно, увидит еще не одно переиздание классических работ Анастази. Может быть, и мы тоже.
Свыше полувека Анастази отдала преподавательской деятельности, преимущественно – в нью-йоркском Унивеситете Фордхэма, куда поступила на работу в 1947 году в должности доцента и откуда в 1979 г. ушла на пенсию в звании почетного профессора. За свою жизнь она удостоилась многих научных регалий, в частности получила в 1987 г. из рук президента Р. Рейгана медаль «За научные заслуги» (в том же году этой награды были удостоены Б.Ф. Скиннер и всемирно известный кардиохирург Майкл Дебейки). В 1971 г. она стала третьей женщиной за всю историю американской психологии – после Мэри Калкинс (1905) и Маргарет Уошборн (1921) – избранной президентом Американской Психологической Ассоциации и нарушившей тем самым полувековую мужскую монополию.
4 мая 2001 года Анна Анастази умерла в своем доме в Нью-Йорке. Некрологи появились по всему миру, даже на Сицилии, где ею гордятся как соотечественницей. Российские научные издания словно не заметили этой утраты. До сих пор об Анастази порой упоминают как о живущей. Впрочем, может быть это и есть настоящее признание?
Л.И. Божович (1908–1981)[17]
В недавно изданном вузовском учебнике «История детской психологии» (пока единственном в этой области) Лидии Ильиничне Божович посвящены скупые десять строк. Казалось бы, этого достаточно для автора единственной монографии, опубликованной свыше 30 лет назад. Однако по сей день студенты, получающие фундаментальное психологическое образование, штудируют эту монографию как непревзойденный научный труд, вошедший в золотой фонд отечественной психологии. И автор этой книги по праву принадлежит к плеяде выдающихся российских психологов, достойных гораздо большего, чем лаконичное упоминание в учебнике.
Лидия Ильинична Божович родилась в Курске, но практически всю жизнь провела в Москве, куда в конце 20-х годов приехала поступать во 2-й МГУ. Ее верный друг и коллега Лия Соломоновна Славина вспоминала: «Еще на вступительных экзаменах я увидела девушку, которая мне очень понравилась, и я узнала, что она не москвичка и ей негде жить. Я пришла домой и спросила у мамы: «Можно она будет жить у нас?» С тех пор мы не расставались.» (В стесненных бытовых условиях Божович прожила всю жизнь, ее последним домом была комната в коммунальной квартире на Преображенке.)
Именно во 2-м МГУ Божович повстречалась с Л.С. Выготским, который там преподавал. Эта встреча определила всю ее дальнейшую научную, а во многом и личную судьбу. Студенткой она слушала лекции Выготского вместе с А.В. Запорожцем, Р.Е. Левиной, Н.Г. Морозовой, Л.С. Славиной (все они стали впоследствии выдающимися психологами и своим тесным сотрудничеством заслужили в московском психологическом арго прозвание Пятерки).
Под руководством Выготского она выполнила дипломную работу, посвященную подражанию. О тех годах ностальгически вспоминал А.Р. Лурия в одном из своих выступлений: «Помню, поехали мы в Серебряный Бор. Взяли две лодки. Я сел с Лилей (Л.С. Славина), Леша (А.Н. Леонтьев) – с Лидой (Л.И. Божович). Мы поплыли и заспорили о культурно-исторической концепции…» Такие были времена, когда будущие светила звали друга по именам и даже часы досуга посвящали обсуждению дела своей жизни.
Выготский умер в 1934 году, а вскоре разразился педологический погром. Как верную ученицу Выготского Божович уволили из Института психологии. Тогдашний директор Григорьев швырнул ей в лицо план годовой работы и выкрикнул «страшное обвинение»: «Этот план пахнет Выготским!» Со словами: «Вы и понятия не имеете, как пахнет Выготский», – Божович забрала план и закрыла за собой дверь. В институт она вернулась только в 1948 году.
Божович всегда подчеркивала, что личность характеризует активная, а не реактивная форма поведения, устойчивость и внутренняя свобода. Такой личностью она и была сама.
Например, известно, что в пору репрессий ее однажды забрали на Лубянку прямо от новогодней елки, которую она наряжала с маленьким сыном. Правда, украшение елки – этот «старорежимный пережиток» – уже было милостиво дозволено народу властями. Теперь, чтобы кого-то уничтожить, требовался повод посерьезнее. Такой повод и искали «слуги народа», настойчиво склоняя Лидию Ильиничну к написанию доноса на коллег. Уговаривали сначала вкрадчиво, в чинном кабинете, потом грубо, в полутемном подвале. Несмотря на реальность угрозы никогда больше не увидеть сына, доносчицей она не стала.
Божович создала собственную оригинальную концепцию личности, основанную на культурно-исторической теории Выготского. Основу ее концепции составляют представления об активности и свободе личности.
Полное определение, которое дано ею в монографии «Личность и ее формирование в детском возрасте», поистине заслуживает того, чтобы его почаще вдумчиво перечитывать:
Личностью следует называть человека, достигшего определенного уровня психического развития. Этот уровень характеризуется тем. Что в процессе самопознания человек начинает воспринимать и переживать самого себя как единое целое, отличное от других людей и выражающееся в понятии «я». Такой уровень психического развития характеризуется также наличием у человека собственных взглядов и отношений, собственных моральных требований и оценок, делающих его относительно устойчивым и независимым от чуждых его собственным убеждениям воздействий среды. Необходимой характеристикой личности является ее активность. Человек на этом уровне своего развития способен сознательно воздействовать на окружающую действительность, изменять ее в своих целях, а также изменять в своих целях самого себя. Иначе говоря, человек, являющийся личностью, обладает, с нашей точки зрения, таким уровнем психического развития, который делает его способным управлять своим поведением и деятельностью, а в известной мере и своим психическим развитием.
Сама Божович, безусловно, являлась личностью, отвечающей всем тем критериям, которые выдвинула. Она, в полном соответствии со своей теорией, была свободна как от обстоятельств, так и от собственных привычек. Например, она была заядлой курильщицей, курила помногу с юных лет очень крепкие папиросы. Но когда ее мужу по состоянию здоровья надо было отказаться от курения, она бросила курить вместе с ним в один день и никогда больше не выкурила ни одной папиросы. (Это невольно наводит на мысль о причинах низкой эффективности разнообразных методов борьбы с курением. Не методы плохи, а личности редки!)
Божович не была кабинетным ученым. Она любила повторять: «Психология – наука конкретная». Хотя ее мировоззрение и представления о личности по существу противоречили тем, которые культивировались тоталитарным обществом, она, оставаясь беспартийной, не занимала диссидентскую позицию противостояния обществу, а стремилась по мере сил содействовать гуманизации этого общества.
Проводившиеся в ее лаборатории экспериментальные исследования (тридцать лет она руководила лабораторией психологии формирования личности в НИИ общей и педагогической психологии) находили практический выход в работе с воспитанниками суворовских училищ, школ-интернатов, школ для трудных подростков и др.
Ее интересовали живые реалии современной школы. В период хрущевской «оттепели» Божович совместно с Т.Е. Конниковой пыталась по-новому взглянуть на проблемы пионерской организации, воспитания коллективизма, внося в них гуманистическое содержание. Коллективизм в ее понимании выступал как альтруизм, проявление доброты, сочувствия, сопереживания (именно в ее лаборатории в лексикон отечественной психологии было введено понятие «эмпатия»).
Идеи манипулирования ребенком, даже во имя самых благородных целей, были глубоко чужды школе Божович. Так, она подвергла резкой критике книгу Б.Т. Лихачева «теория коммунистического воспитания», где ребенок выступал именно как объект психолого-педагогических манипуляций, включающих и воздействие на его подсознание (эта «несвоевременная» рецензия так и не была опубликована).
Сотрудниками лаборатории Божович под ее руководством за 30 лет выполнено большое число научных работ – это и исследования качеств и их формирования, и работы по проблемам мотивации: широкомасштабные исследования, связанные с мотивами учения советских школьников, доминированием мотивов и направленности личности. Новаторским было изучение самосознания и самооценки, аффекта неадекватности и эмпатии, конформизма и устойчивости личности. Особое внимание Божович придавала исследованию идеалов, высших чувств, произвольности, воли.
Спустя несколько лет после выхода ее монографии «Личность и ее формирование в детском возрасте» Лидия Ильинична получила письмо от известного литературоведа и критика Юрия Карякина, с которым она не была знакома, и вместе с письмом только что вышедшую его книгу «Самообман Раскольникова». В письме Карякин выражал свое восхищение работой Божович и писал, что, к сожалению, слишком поздно познакомился с ее книгой, в которой он нашел научное выражение собственных идей о личности, борьбе мотивов, роли идеалов и нравственности в жизни человека.
Однако позиция Божович далеко не всеми принималась и разделялась. Очень резкой критике подверглась сама идея экспериментального изучения личности, оценивавшаяся как уступка буржуазным влияниям. Характерно заявление В.А. Крутецкого, бывшего в ту пору заместителем директора института, на одном из ученых советов: «Я не позволю ставить советским детям зарубежные градусники!»
Психологу нового поколения требуется немалое воображение, чтобы представить обстановку, в которой на протяжении всей жизни трудилась Лидия Ильинична Божович, да еще в такой идеологизированной области, как психология личности. Все установки казенных идеологов, вся их нетерпимость к «чуждым» влияниям воплощались в этой сфере с наибольшей силой. Сейчас даже трудно вообразить, какой смелостью было включение в экспериментальные исследования и в научные тексты идей Фрейда, Роджерса, Хорни и др. Ей же казалось нормальным, что исследования могут вдохновляться разными теоретическими и методическими идеями, питаться из разных источников.
Так, работы по устойчивости личности имели два очевидных источника. С одной стороны, это был совместный проект с американским психологом У. Бронфенбреннером, в котором использовался предложенный им метод сравнительного изучения податливости детей влиянию взрослых и сверстников при решении моральных коллизий (сама Божович внесла в этот проект возрастной подход, что позволило дать совершенно новую трактовку всем полученным данным). С другой – это некоторые американские работы по конформизму. В работе аспиранта Божович Я.Л. Коломинского впервые в отечественной психологии были проведены впоследствии широко распространившиеся социометрические исследования с использованием методики Дж. Морено.
Но сколь бы разнообразными ни были по материалу, методам исследования и даже по стартовым теоретическим основаниям все эти работы, они никогда не являлись заимствованием или погоней за модой. Хороший экспериментальный прием брался как способ проверки и разработки собственных идей. И каждое эмпирическое исследование Божович и ее школы становилось шагом к созданию собственной теории личности. Вне сомнения, потенциал этой теории еще далеко не исчерпан.
А. Маслоу (1908–1970)
С легкой руки Абрахама Маслоу понятия самоактуализации и личностного роста стали одними из ключевых, даже культовых в современной психологии. Работы Маслоу у нас сегодня цитируют часто, хотя доступны они стали лишь в последние годы и, честно говоря, немного найдется тех, кто их внимательно прочитал. Известны они главным образом в реферативном изложении, и большинство студентов-психологов обычно ограничиваются тем, что зазубривают «пирамиду потребностей» по Маслоу в ночь перед экзаменом, чтобы больше о ней не вспоминать. На самом деле роль Маслоу в мировой психологии гораздо глубже и серьезнее, и этот поистине выдающийся психолог достоин того, чтобы коллеги знали о нем не понаслышке.
Абрахам Гарольд Маслоу родился 1 апреля 1908 г. Столь странно для американца звучащую фамилию нам, наверное, следовало бы произносить в привычной манере – Маслов. Эту фамилию носил отец будущего психолога, выходец из южных губерний Российской империи, который, подобно десяткам тысяч своих еврейских соплеменников, потрясенных безжалостными погромами начала века, перебрался в Новый Свет. Там он открыл мастерскую по изготовлению бочек, «встал на ноги» и выписал с родины свою невесту. Так что их первенец, который в иных обстоятельствах мог бы быть нашим соотечественником и зваться Абрамом Григорьевичем Масловым, родился уже в Бруклине, не самом респектабельном районе Нью-Йорка.
Детские годы Маслоу могли бы послужить замечательным сюжетом для психоаналитического очерка. Его отец оказался далеко не идеальным семьянином, точнее говоря – пьяницей и бабником. Он мог надолго исчезнуть из дома, так что его положительное влияние на детей (их в семье было трое) определялось главным образом его отсутствием. Остается только удивляться, что семейный бизнес довольно успешно развивался и позволял семье вполне благополучно существовать. А впоследствии и сам Абрахам, уже будучи дипломированным психологом, принимал участие в руководстве производством бочек.
Отношения Абрахама с матерью складывались скверно и были окрашены взаимной неприязнью. Миссис Маслоу была вздорной особой и жестоко наказывала детей за малейшую провинность. К тому же она откровенно отдавала предпочтение двум младшим детям, а первенца недолюбливала. В памяти мальчика на всю жизнь отпечаталась сцена: мать разбивает о стену головы двум котятам, которых сын принес с улицы.
Он ничего не забыл и не простил. Когда мать умерла, Маслоу даже не явился на ее похороны. В его записках можно найти такие слова: «Вся моя жизненная философия и мои исследования имеют один общий исток – они питаются ненавистью и отвращением к тому, что воплощала собой она [мать]».
Важно отметить, что Абрахам был совсем не красавцем. Щуплое телосложение и огромный нос делали его отталкивающе-комичным. Он настолько тяжело переживал недостатки своей внешности, что даже избегал ездить в метро, подолгу дожидаясь пустого вагона, где мог бы никому не попадаться на глаза. Можно даже сказать, что в детстве и юности он терзался тяжелейшим комплексом неполноценности в связи со своей внешностью. Может быть, именно поэтому его впоследствии так заинтересовала теория Альфреда Адлера, с которым он даже познакомился лично, когда тот переселился в Америку. Ибо сам Маслоу был живым воплощением этой теории. В полном соответствии с идеями Адлера (с которыми он, разумеется, в юности еще и не был знаком) он стремился компенсировать свое худосочие и неловкость интенсивными занятиями спортом. Когда на этом поприще реализовать себя не удалось, он с тем же рвением занялся наукой.
В возрасте 18 лет Абрахам Маслоу поступил в Нью-Йоркский Сити-Колледж. Отец хотел, чтобы сын стал адвокатом, однако юридическая карьера юношу абсолютно не привлекала. Когда отец спросил, чем же он все-таки намерен заниматься, Абрахам ответил, что хотел бы «изучать всё».
Интерес к психологии возник у него на предпоследнем курсе колледжа, и тема для курсовой работы была им выбрана сугубо психологическая. Это произошло под влиянием ярких выступлений отца американского бихевиоризма Джона Уотсона. Долгие годы Маслоу сохранял приверженность поведенческой психологии и убеждение, что только естественнонаучный подход к человеческому поведению открывает путь решения всех мировых проблем. Лишь со временем ограниченность механистической трактовки поведения, характерной для бихевиоризма, стала для него не только очевидна, но и неприемлема.
Небезынтересно, что в отличие от красавца-жизнелюба Уотсона, заслужившего немало упреков в распущенности, неказистый Маслоу отличался редким постоянством в интимных отношениях. В юности он страстно влюбился в свою кузину, но, терзаемый своими комплексами, долго не решался ей открыться, опасаясь быть отвергнутым. Когда же его робкое проявление чувств было неожиданно встречено взаимностью, он испытал первое в своей жизни пиковое переживание (это понятие впоследствии стало одним из краеугольных камней его системы). Взаимная любовь стала огромной поддержкой для его не устоявшегося самоуважения. Через год молодые люди поженились (ему было 20, ей – 19) и, как пишут в романах, жили долго и счастливо.
Систематические занятия психологией Маслоу начал, поступив в Корнелльский университет, и это едва не погасило его зарождавшийся интерес к этой науке. Дело в том, что первый прослушанный им в Корнелле курс психологии читал ученик Вундта структуралист Эдвард Титченер. На фоне неотразимого обаяния Уотсона и растущей популярности его бихевиористских идей, академические рассуждения Титченера звучали унылым анахронизмом. По словам Маслоу, это было нечто «невыразимо скучное и совершенно безжизненное, ничего общего не имеющее с реальным миром, и потому я с содроганием бежал оттуда». Он перевелся в университет штата Висконсин, где активно занялся экспериментальными исследованиями поведения животных. Здесь он в 1930 г. получил степень бакалавра, в 1931 г. – магистра, а в 1934 г., в возрасте 26 лет, степень доктора философии. Его научным руководителем выступал Гарри Харлоу, прославившийся своими уникальными экспериментами над детенышами обезьян. Под его руководством Маслоу выполнил исследовательскую работу по проблемам доминирования и сексуального поведения приматов.
В те годы проблема сексуальности, несмотря на бурный расцвет психоанализа, продолжала оставаться для общественности пугающе-пикантной, и немногие ученые решались к ней подступиться. В силу этого Маслоу оказался одним из немногих, кого можно было с известной натяжкой назвать специалистом по данной проблеме. Поэтому именно к нему впоследствии обратился Альфред Кинси, которому предстояло революционизировать американское общественное сознание обнародованием результатов своих социологических изысканий на сексуальные темы. Интересно, что Маслоу предложение о сотрудничестве отклонил. Впоследствии его неоднократно упрекали в пренебрежении научными методами и вообще критериями научности. А вот с Кинси он не сошелся как раз на той почве, что счел его исследования не соответствующими критериям научности. По мнению Маслоу, выборку респондентов Кинси нельзя считать репрезентативной, поскольку в опросах участвовали только те, кто на это добровольно согласился. Делать выводы по такому деликатному вопросу, как особенности сексуального поведения, по мнению Маслоу, допустимо было бы лишь с учетом мнения и тех, кто отвергает саму возможность обсуждения этой темы. Поскольку это невозможно, то и выводы вряд ли достоверны. Статья Маслоу по этому вопросу появилась в Journal of Abnormal and Social Psychology в 1951 г., но осталась практически незамеченной и сегодня никем не вспоминается. А зря! Идея-то верная. Мы ведь и сегодня горюем о сексуальной распущенности молодежи, наблюдая самых «отвязанных» ее представителей и забывая про тех, кто ведет себя деликатно и скромно.
Маслоу на самом деле научным экспериментированием отнюдь не пренебрегал и подходил к этому делу со всей серьезностью. Просто полученные результаты невольно затерялись на фоне его философских по своей сути рассуждений. Так, например, мало кому известна его замечательная работа, выполненная уже в середине шестидесятых и посвященная проблеме социальной перцепции. Маслоу предлагал своим испытуемым оценить предъявлявшиеся фотопортреты по параметру привлекательности (следует отметить, что лица для этой цели обычно выбираются самые заурядные). Проделать это требовалось в разных условиях, точнее – в по-разному оформленных помещениях – в комнате «красивой и уютной», «обычной» и «безобразной». Результат оказался легко предсказуем: чем приятнее для восприятия окружающая среда, тем более высокую оценку по параметру привлекательности заслуживают воспринимаемые лица. Интересный эксперимент, есть над чем задуматься. По крайней мере, иному психологу одного такого опыта хватило бы для прижизненной славы. Маслоу свою славу снискал в иной сфере.
Первая его научная публикация увидела свет в 1937 г. и представляла собой главу о кросс-культурных исследованиях в сборнике «Психология личности» под редакцией Росса Стагнера. В этой публикации нашел отражение опыт, приобретенные Маслоу в ходе исследовательской работы в индейской резервации. Даже при самом внимательном анализе никаких намеков на его последующие теоретические построения в этой работе усмотреть не удается, и о ней сегодня знают лишь немногие историки науки.
Во второй половине тридцатых Маслоу удалось лично познакомиться со многими выдающимися психологами, которых исторические катаклизмы вынудили перебраться в Америку из Европы. Из перечисления этих блестящих имен можно было бы составить достаточно представительное оглавление хрестоматии по истории психологии ХХ века – помимо уже упоминавшегося Адлера, это были Эрих Фромм, Карен Хорни, Курт Коффка, Курт Гольдштейн, Макс Вертгеймер. Последний оказал на Маслоу особенно большое влияние – не только как ученый, но и как человек. Именно под влиянием благоговейного восторга перед Вертгеймером Маслоу занялся изучением психически здоровых людей, которым удалось достичь в жизни самоактуализации. Именно Вертгеймер, а также еще одна знакомая Маслоу – известный американский антрополог Рут Бенедикт послужили для него примерами наиболее полного воплощения лучших качеств человеческой натуры. Приходится, однако, с сожалением признать, что таких примеров даже Маслоу, яркий гуманист и оптимист, насчитывал единицы.
Начала теории Маслоу, послужившей основанием целого направления научной мысли – гуманистической психологии, были сформулированы им в общем виде в двух небольших статьях, опубликованных в Psychological Review в 1943 г. (их содержание в расширенном виде позднее включено в его известную книгу «Мотивация и личность»). Уже тогда Маслоу предпринял попытку сформулировать новый подход к человеческой природе, кардинально отличающийся от традиционных психологических воззрений. По его мнению, психоанализ обедняет наше представление о человеке, сосредоточившись на больных людях и болезненных проявлениях личности. Бихевиоризм фактически сводит жизнедеятельность к манипуляциям и тем самым низводит человека до уровня стимульно-реактивного механизма. А где же собственно человеческое в человеке? Именно это и призывал изучать Маслоу.
В 1951 г. он получил приглашение во вновь открытый университет Брэндейса под Бостоном. Маслоу принял приглашение и проработал в этом университете до 1968 г., заведуя кафедрой психологии.
Следует отметить, что попытки Маслоу гуманизировать психологию с самого начала и на протяжении долгого времени встречали ожесточенное отвержение со стороны большинства коллег, придерживавшихся бихевиористской ориентации. Хотя студенты Маслоу едва ли не носили его на руках, редакции ведущих психологических журналов на протяжении ряда лет без рассмотрения отвергали любые его рукописи. По сути дела, студенты и внесли его на руках в кресло президента Американской Психологической Ассоциации. Но произошло это уже в другую эпоху, в конце 60-х – в эпоху Боба Дилана и Энди Уорхолла, Тимоти Лири и Кена Кизи. Наверное, когда говорят, что молодежь 60-х изменила лицо Америки, в этом есть доля правды. По крайней мере, для психологии это справедливо.
Первая по-настоящему значительная работа Маслоу, ныне по праву занимающее почетное место в Золотом фонде мировой психологической мысли, – «Мотивация и личность» – увидела свет в 1954 г. Именно в ней была сформулирована иерархическая теория потребностей, выстраивающая пирамиду с основанием из базовых нужд и с потребностью в самоактуализации на вершине. С точки зрения Маслоу, каждый человек обладает врожденным стремлением к самоактуализации, причем это стремление к максимальному раскрытию своих способностей и задатков выступает наивысшей человеческой потребностью. Правда, для того, чтобы эта потребность проявилась, человек должен удовлетворить всю иерархию нижележащих потребностей.
Высшая природа человека опирается на его низшую природу, нуждаясь в ней как в основании, и рушится без этого основания. Таким образом, большая часть человечества не может проявить свою высшую природу без удовлетворения базовой низшей природы.
Чрезвычайно интересным аспектом теории Маслоу представляется постулирование им так называемого комплекса Ионы, который даже профессионалам почему-то менее известен, чем, скажем, пресловутый комплекс кастрации, хотя в реальной жизни гораздо легче подметить первый, чем второй. Комплексом Ионы Маслоу называет нежелание человека реализовать свои природные способности. Подобно тому как библейский Иона пытался уклониться от ответственной роли пророка, многие люди также избегают ответственности, опасаясь в полной мере использовать свой потенциал. Они предпочитают ставить перед собой мелкие, незначительные цели, не стремятся к серьезным жизненным успехам. Такой «страх величия», возможно, является наиболее опасным барьером для самоактуализации. Насыщенная, полнокровная жизнь многим представляется невыносимо трудной. Корни комплекса Ионы можно усмотреть в том, что люди боятся изменить свое неинтересное, ограниченное, но налаженное существование, боятся оторваться от всего привычного, потерять контроль над тем, что уже есть. Невольно напрашивается параллель с идеями Фромма, которые он высказал в своей знаменитой книге «Бегство от свободы». Впрочем, о явном и неявном влиянии европейских коллег на становление идеологии Маслоу уже шла речь.
Кстати, говоря о термине «самоактуализация», нужно отметить, что он использовался еще К.Г. Юнгом, хотя это редко отмечается психологами-гуманистами. По Юнгу, самоактуализация означала конечную цель развития личности, достижение ею единства на базе наиболее полной дифференциации и интеграции различных ее сторон. Весьма близки по своему содержанию к идее самоактуализации также концепции «стремления к превосходству» и «творческого Я» А.Адлера.
В 50-е и особенно в 60-е годы, в эпоху радикальной переоценки многих ценностей, теория Маслоу снискала немалую популярность и признание. Хотя даже тогда в научных кругах продолжали раздаваться упреки в ее адрес. В самом деле с научной, точнее – с естественнонаучной точки зрения позиция Маслоу весьма уязвима для критики. Самые важные его теоретические суждения явились результатом житейских наблюдений и размышлений, никак не подкрепленных экспериментально. В работах Маслоу под словом subjects подразумеваются отнюдь не испытуемые, а просто люди, попавшие в поле зрения автора и привлекшие его внимание; при этом никаких статистических выкладок автор не приводит, напротив – постоянно оперирует расплывчатыми формулами «вероятно», «наверное», «судя по всему»… Впрочем, сам Маслоу, похоже, отдавал себе в этом отчет и подчеркивал, что считает свой подход не альтернативой механистическому, естественнонаучному, а дополнением к нему.
В своих поздних работах «К психологии бытия» (1962) и «Дальние пределы человеческой природы» (опубликована посмертно, в 1971 г.) Маслоу существенно модифицировал свою концепцию мотивации и личности, фактически отказавшись от той многоступенчатой пирамиды потребностей, которую продолжают усердно заучивать сегодняшние студенты. Все человеческие потребности он подразделил на низшие, «дефицитарные», продиктованные недостачей чего-либо и потому насыщаемые, и высшие, «бытийные», ориентированные на развитие и рост, а следовательно – ненасыщаемые. (Снова невольно вспоминается фроммовское «Иметь или быть»). Впрочем, и эти работы сам автор рассматривал как предварительные, надеясь, что в будущем они получат какое-то подтверждение. До осуществления своих надежд он не дожил – скоропостижно скончался от сердечного приступа 8 июня 1970 г. Правда, надо сказать, что доживи он хоть до ста лет, его чаяниям не суждено было сбыться. Ибо и сегодня справедливо звучит приговор, вынесенный авторами американской «Истории современной психологии» супругами Шульц: «теория самоактуализации поддается лабораторным исследованиям довольно слабо, а в большинстве случаев – и вовсе не подтверждается».
Тем не менее уже несколько десятилетий предпринимаются попытки ее практического использования, в частности – в практике управления. И что самое интересное – попытки по большей части довольно успешные. Как тут не вспомнить слова вышедшего из моды классика о самом надежном критерии истины!
Тридцать лет назад Абрахам Маслоу писал:
Если вы намеренно собираетесь стать менее значительной личностью, чем позволяют вам ваши способности, я предупреждаю, что вы будете глубоко несчастливы всю жизнь.
Сам он судя по всему был счастливым человеком.
Р. Мэй (1909–1994)
«С судьбой нельзя не считаться, мы не можем просто стереть ее или заменить чем-то другим. Но мы можем выбирать, как нам отвечать нашей судьбе, используя дарованные нам способности», – писал на склоне лет американский психотерапевт Ролло Мэй. Многоопытный клиницист и консультант, Мэй считал недопустимым сводить человеческую природу к реализации глубинных инстинктов или реакциям на стимулы среды. Он был убежден, что человек в значительной мере ответственен за то, каков он есть и как складывается его жизненный путь. Развитию этой идеи посвящены его многочисленные труды (большинство которых еще ждут перевода на русский язык), этому он на протяжении десятилетий учил своих клиентов. И жизненный путь самого Мэя может служить ярким примером реализации этой идеи.
Ролло Риз Мэй родился 21 апреля 1909 г. в городке Ада, штат Огайо. Он был старшим из шести сыновей Эрла Тайтла Мэя и Мэти Баутон Мэй. Всего детей в семье было семеро – самой старшей была сестра. Вскоре после рождения мальчика семья переехала в Марин-Сити, штат Мичиган, где он и провел свои детские годы.
Родители Ролло были людьми малообразованными и никак не поощряли интеллектуальное развитие детей. Даже наоборот – когда дочери был поставлен неутешительный диагноз «психоз», отец в обывательской манере приписал происхождение заболевания избыточным, на его взгляд, учебным занятиям. Сам он был функционером Ассоциации молодых христиан, много времени проводил в разъездах и в силу этого серьезного влияния на детей не оказывал. Мать также мало заботилась о детях, вела, как выразились бы гуманистические психологи, весьма спонтанный образ жизни. Неудивительно, что российские переводчики изрядно поломали голову, дабы мало-мальски деликатно перевести те нелестные характеристики, которыми Мэй наградил мать в своих воспоминаниях. Родители часто ссорились и в итоге разошлись. Можно сколько угодно дискутировать о судьбоносном значении детского опыта, но сам Мэй считал, что легкомысленное поведение матери, а также отчасти душевная патология сестры серьезно повлияли на то, что впоследствии его личная жизнь складывалась не самым удачным образом (два его брака распались). Так или иначе, отношения мальчика с родителями нельзя было назвать теплыми, а жизнь в родительском доме – радостной. Возможно, это и обусловило возникший у него впоследствии интерес к психологическому консультированию, помощи людям в решении их жизненных проблем.
Лишенный ощущения душевной близости в семейном кругу, мальчик находил упоение в единении с природой. Он часто уединялся и отдыхал от семейных ссор, играя на берегу реки Сен-Клер. Позднее он говорил, что игры на берегу реки дали ему намного больше, чем школьные занятия (тем более что в школе он имел заслуженную репутацию непоседы и возмутителя спокойствия).
Еще в юные годы Мэй увлекся искусством и литературой, и это увлечение не оставляло его на протяжении всей жизни (может быть, этим отчасти объясняется его писательская плодовитость и замечательный литературный слог). Он поступил в университет штата Мичиган, где специализировался в области языков. Бунтарская натура привела его в редакцию радикального студенческого журнала, которую он вскоре возглавил. Любая администрация поощряет лояльность и не одобряет диссидентства. Администрация Мичиганского университета не составляла исключения. Мэю указали на дверь. Он перевелся в Оберлин-Колледж в штате Огайо и здесь в 1930 г. получил степень бакалавра гуманитарных наук.
В течение последующих трех лет Мэй путешествовал по Европе. Формальным поводом послужило приглашение на должность преподавателя английского языка в колледже в греческом городе Салоники. Впрочем, молодой педагог не только преподавал, но и учился сам, тем более что работа оставляла для этого достаточно свободного времени. Мэй изучал античную историю, народное творчество, пробовал себя в живописи. В качестве свободного художника он побывал в Турции, Австрии, Польше и других странах. Но уже через год такой насыщенной жизни он вдруг почувствовал себя совершенно опустошенным и измученным. Свое состояние Мэй определял как нервный срыв. Его стало одолевать чувство одиночества. Пытаясь от него избавиться, Мэй с головой погрузился в преподавательскую работу. Однако это не только не помогло, но наоборот – привело к окончательному истощению душевных сил. По мнению самого Мэя, «это означало, что правила, принципы, ценности, которыми я обычно руководствовался в работе и в жизни, попросту больше не годятся. В колледже я получил достаточно психологических знаний, чтобы понять: эти симптомы означают, что есть нечто неправильное во всем моем образе жизни. Мне следовало найти какие-то новые цели и задачи в жизни и пересмотреть строгие моралистические принципы своего существования».
С этого момента Мэй стал прислушиваться к своему внутреннему голосу, который говорил о совсем непривычных для него вещах – о душе, о красоте…
Пересмотру жизненных установок способствовало еще одно важное событие. В 1932 г. Мэй принял участие в летнем семинаре Альфреда Адлера, проводившемся в горном курортном местечке близ Вены. Мэй был восхищен Адлером и испытал значительное влияние идей индивидуальной психологии.
Вернувшись в 1933 г. в Соединенные Штаты, Мэй поступил в семинарию Теологического общества. Этот его шаг был продиктован не столько намерением встать на пастырскую стезю, сколько стремлением найти ответы на основные вопросы о природе мироздания и человека – вопросы, в попытках ответа на которые именно религия накопила многовековую традицию. Во время учебы в семинарии Мэй познакомился с известным теологом и философом Паулем Тиллихом, бежавшим в Америку из нацистской Германии. Мэй подружился с Тиллихом, и эта дружба продлилась много лет. Не подлежит сомнению, что он испытал заметное влияние этого европейского мыслителя – многие мировоззренческие суждения Мэя перекликаются с идеями Тиллиха.
Хотя Мэй изначально не стремился посвятить себя духовному поприщу, в 1938 г., после получения степени магистра богословия, он был рукоположен в сан священника Конгреационной церкви. Два года он прослужил пастором, но затем разочаровался и, сочтя этот путь тупиковым, ушел из лона церкви и принялся искать ответы на мучившие его вопросы в науке.
Мэй изучал психоанализ в Институте психиатрии, психоанализа и психологии Уильяма Алансона Уайта, одновременно работая в Нью-Йоркском Сити-Колледже в качестве психолога консультанта. В эти годы он познакомился с Г.С. Салливеном, президентом и одним из основателей Института. Взгляд Салливена на психотерапевта как на соучаствующего наблюдателя и на терапевтический процесс как на увлекательное приключение, способное обогатить как пациента, так и врача, произвел на Мэя глубокое впечатление. Еще одним важным событием, определившим формирование его профессионального мировоззрения, стало знакомство с Э.Фроммом, который к тому времени уже прочно обосновался в США. Как видим, «референтному кругу» Мэя как психолога мог бы позавидовать любой специалист.
В 1946 г. Мэй открыл собственную частную практику, а через два года вошел в состав преподавателей Института Уильяма Алансона Уайта, где проработал до 1974 г. В 1949 г., будучи уже зрелым сорокалетним специалистом, он получил докторскую степень в области клинической психологии, присвоенную ему Колумбийским университетом.
Возможно, Мэй так и остался бы одним из тысяч рядовых психотерапевтов, если бы с ним не произошло судьбоносное событие – одно из тех, которые, по определению Сартра, способны перевернуть всю человеческую жизнь. Еще до получения докторской степени Мэй неожиданно заболел туберкулезом и вынужден был провести около двух лет в санатории в Сарнаке, в сельской местности на севере штата Нью-Йорк. Эффективных методов лечения туберкулеза в ту пору не существовало, и эти годы еще далеко не старый человек буквально провел на краю могилы. Сознание полной невозможности противостоять тяжелой болезни, страх смерти, томительное ожидание ежемесячного рентгеновского обследования, всякий раз означавшего либо приговор, либо отсрочку, – все это медленно подтачивало волю, усыпляло инстинкт борьбы за существование. Осознав, что все эти, казалось бы, вполне естественные переживания приносят страдания не меньшие, чем физический недуг, Мэй попытался сформировать у себя отношение к болезни как к части своего бытия в данный отрезок времени. Он понял, что беспомощная и пассивная позиция усугубляет течение болезни. У него на глазах больные, смирившиеся со своим положением, медленно угасали, тогда как боровшиеся за жизнь нередко выздоравливали. Именно на основании личного опыта борьбы с недугом, а по сути дела – с безжалостной и несправедливой судьбой, Мэй делает вывод о необходимости активного вмешательства личности в «порядок вещей», в свою собственную судьбу.
Заинтересовавшись во время болезни феноменами страха и тревоги, Мэй начал изучать труды классиков, посвященные этой теме, – в первую очередь Фрейда, а также Кьеркегора, датского философа и теолога, прямого предшественника экзистенциализма ХХ века. Мэй высоко ценил Фрейда, но предложенная Кьеркегором концепция тревоги как скрытой от сознания борьбы против небытия затронула его более глубоко.
Вскоре после возвращения из санатория Мэй оформил записи своих размышлений о тревоге в виде докторской диссертации и опубликовал ее под заглавием «Значение тревоги» (1950). За этой первой крупной публикацией последовало множество книг, которые принесли ему общенациональную, а потом и мировую известность. Наиболее известная его книга – «Любовь и воля» – вышла в 1969 г., стала бестселлером и в следующем году была удостоена премии Ральфа Улдо Эмерсона. А в 1972 г. Нью-Йоркское Общество клинических психологов присудило Мэю премию доктора Мартина Лютера Кинга-мл. за книгу «Власть и невинность».
Помимо этого Мэй вел активную педагогическую и клиническую работу. Он читал лекции в Гарварде и Принстоне, в разное время преподавал в Йельском и Колумбийском университетах, в колледжах Дартмут, Вассар и Оберлин, а также в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Он был внештатным профессором Нью-Йоркского университета, председателем Совета ассоциации экзистенциальной психологии и членом Попечительского совета Американского фонда душевного здоровья.
22 октября 1994 г. после продолжительной болезни Ролло Мэй умер в городе Тибуроне, штат Калифорния, где он жил с середины семидесятых.
В отличие от многих именитых психотерапевтов Мэй на основал собственной школы. Однако, сам испытавший влияние выдающихся психологов своей эпохи и разработавший собственный подход на основе критического переосмысления их идей, он и поныне продолжает оказывать влияние на множество независимо мыслящих психологов гуманистической ориентации во всем мире.
Мэй утверждал, что «цель психотерапии – сделать людей свободными». «Я считаю, – писал он, – что работа психотерапевта должна заключаться в том, чтобы помочь людям обрести свободу для осознания и осуществления своих возможностей». Мэй считал, что терапевт, который сосредоточивается на симптоматике, упускает из виду нечто более важное. Невротические симптомы являются лишь способами убежать от своей свободы (сквозная тема многих экзистенциально-гуманистических трудов) и показателями того, что человек не использует свои возможности. По мере обретения человеком внутренней свободы его невротические симптомы, как правило, исчезают. Однако это – побочный эффект, а не главная цель терапии. Мэй твердо придерживался убеждения, что психотерапия должна в первую очередь помогать людям прочувствовать свое существование.
Каким образом терапевт помогает пациентам стать свободными и ответственными людьми? Мэй не предлагал конкретных рецептов, следуя которым последователи могли бы решить эту задачу. У экзистенциальных психологов нет четко определенного набора техник и приемов, применимых ко всем клиническим случаям, – они апеллируют к личности пациента, ее уникальным свойствам и неповторимому опыту. По мнению Мэя, следует устанавливать доверительные человеческие отношения с пациентом и с их помощью привести пациента к лучшему пониманию себя и к более полному раскрытию его собственного мира. Это может означать, что пациента надо будет вызвать на поединок с собственной судьбой, что будет испытывать отчаяние, тревогу, чувство вины. Но это также означает, что должна состояться человеческая встреча один на один, в которой оба, терапевт и пациент, являются личностями, а не объектами.
Наша задача – быть проводниками, друзьями и толкователями для людей во время их путешествия по их внутреннему аду и чистилищу. Говоря более точно, наша задача – помочь пациенту дойти до той точки, где он сможет решить, продолжать ли ему оставаться жертвой или покинуть это положение жертвы и пробираться дальше через чистилище с надеждой достичь рая…
Э. Берн (1910–1970)
В нашей стране Эрик Берн – пожалуй, один из самых известных зарубежных психологов. Многие познакомились с его теорией более четверти века назад – в пересказе его верного последователя Томаса Харриса. Книга Харриса «Я – о’кей, ты – о’кей» была переведена в 1973 году в Новосибирске и приобрела огромную популярность в самиздате. Пятью годами позже идеи Берна в вольном пересказе советского психотерапевта Анатолия Добровича обрели еще более широкую аудиторию. Правда, в пересказах яркая фигура Берна невольно терялась, и у многих читателей его концепция ассоциировалась с именами Харриса и Добровича. В 1988 г. справедливость была восстановлена – в издательстве «Прогресс» огромным тиражом (которого все равно не хватило всем желающим) вышел бестселлер Берна «Игры, в которые играют люди». Наверное, можно даже сказать, что именно с этой публикации начался психологический бум в нашей стране: миллионы (без преувеличения) людей вдруг поняли, что психология может быть невероятно интересной, что с ее помощью действительно можно многое понять в себе и других. Затем последовало еще несколько переводов – к настоящему времени практически все книги Берна вышли в нашей стране и достаточно широко доступны. Во многом Берн оказался удивительно прав: одна из «игр, в которые играют люди», названная им «домашняя психиатрия», приобрела у нас огромную популярность и практикуется чаще всего именно в форме берновского трансактного анализа. (В написании самого этого термина существуют разные вариации. Состязаясь друг с другом в точности передачи смысла, переводчики и эксперты именуют берновский анализ то транзактным, то трансакционным, то трансакциональным. Впрочем, похоже, что это состязание не стоит выеденного яйца, поэтому в дальнейшим уклонимся от него и вслед за Берном примем устраивающее всех сокращение – ТА.)
В Америке книга «Игры, в которые играют люди» вышла в 1964 г. и сразу же стала мировым бестселлером. Однако ТА как научное и психотерапевтическое направление далеко не сразу получил признание. Это произошло уже в 70-е годы, после смерти его основателя. Почему же так случилось? Почему миллионные тиражи монографий Берна и бесспорная практическая эффективность его терапевтической системы долгие годы вызывали лишь раздражение у коллег – психологов и психиатров? Почему автор, читаемый во всем мире, до сего дня вызывает упреки специалистов – за «профанацию психоанализа», за «вульгаризацию научной терминологии», за «заигрывание с непосвященными» (одна из его книг так и называется – «Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных»)? Ответ, вероятно, кроется в самой личности, в личностной истории отца-основателя направления, которое как никакое другое следовало бы назвать авторским.
Эрик Леннард Бернстайн родился в Монреале в 1910 г. и первые свои двадцать лет прожил в Канаде.
Важнейшее значение для становления личности и профессиональных устремлений будущего психотерапевта имела возможность наблюдать за работой отца – широко практикующего врача. В своих детских играх Эрик воспроизводил работу врача, тщательно инсценируя всю процедуру. Причем мальчику приходилось придумывать разнообразные способы воздействия на детей, с которыми он играл, чтобы они согласились на роль пациентов. К этому детскому опыту, безусловно, восходят взгляды Берна на психотерапию и ряд его теоретических концепций.
В 1919 г. умер отец Эрика, что было для него, как отмечают все биографы, сильнейшей травмой. Теперь забота о семье – Эрике и его сестре – легла на плечи матери, зарабатывавшей на жизнь литературным и редакторским трудом. Но это было и воодушевляющим примером. К одиннадцатилетнему возрасту относятся первые литературные опусы самого Эрика, и с той поры он продолжает писать всю жизнь. Его перу принадлежат не только научные труды, но и научно-популярные и детские книжки.
Работавшие с Берном и продолжившие его дело ученики объясняют многие особенности его трудов тем, что в них отражены его «сценарные директивы» (по терминологии самого Берна), полученные от родителей – строгого и самоотверженного отца-врача и матери – профессионального литератора; эти основные директивы его жизненного сценария – литературное творчество и помощь людям.
В 1935 г. Эрик заканчивает медицинский факультет Университета МакГилла, который в свое время закончил и его отец. После этого он сокращает свою фамилию, отбрасывает второе имя и иммигрирует в США, принимая американское гражданство. Такой шаг во многом был продиктован процветавшим в те годы в Канаде антисемитизмом, проблема которого отразилась и в ТА, заложив основу так называемого культурного анализа.
В США Берн начал свою карьеру практикующего психиатра, одновременно продолжая обучение, специализируясь в области психоанализа. В 1941 г. он вступил в Армейский Медицинский Корпус в качестве психиатра. Армейский опыт Берна дал мощный толчок его развитию как психотерапевта, отточив природную наблюдательность и интуицию. От армейского психиатра требовалось за минимальное время принять решение о годности человека для действующей армии. С опорой на постулаты ортодоксального психоанализа сделать это было крайне затруднительно. Это подтолкнуло Берна к критическому переосмыслению многих теоретических принципов, казавшихся ранее незыблемыми. К бытности Берна в Армейском Медицинском Корпусе относится также первый – и весьма успешный – опыт групповой терапии. О нем он кратко упоминает в предисловии к своей книге «Трансактный анализ в группе» (1966; рус. пер. – 1994):
Автор начал практиковать лечение пациентов в группе, работая в армейском госпитале во время второй мировой войны. Выпивка была под запретом, и солдаты имели обыкновение закупать огромные количества лосьона для бриться и запрятывать в различных местах, чтобы выпить, когда появится возможность. Поэтому нужно было каждое утро проверять матрасы: два санитара перетряхивали все кровати в поисках припрятанного. Таким образом были обнаружены большие залежи бутылок с токсичными жидкостями. В отчаянии автор решил собрать пациентов в комнате отдыха, чтобы обсудить с ними фармакологические свойства лосьона для бритья. Пациентам так понравилась встреча. Что они предложили проводить ежедневные встречи для продолжения этих дискуссий. Очень скоро групповая терапия получила одобрение Военного Департамента; таким образом, у автора появилась возможность продолжить свою деятельность на официальных основаниях, и с тех пор он регулярно проводил встречи с пациентами.
После демобилизации в чине майора Берн начинает широкую практику, одновременно сам проходит анализ у выдающихся психоаналитиков. Правда, его собственный анализ не был успешно доведен до конца. Берн прервал его после того, как психоаналитик запретил ему вторую женитьбу до окончания анализа (заметим, что все четыре его брака были неудачными). Возможно, и этот личный опыт послужил одной из причин разрыва с традиционным психоанализом и подтолкнул Берна к развитию собственной системы.
С конца 40-х годов Берн начинает разрабатывать проблему интуиции. Результаты его экспериментов и теоретических построений отражены в цикле из шести статей, публикуемых им с 1949 по 1962 г. в журнале «Психиатрический ежеквартальник».
В 50-е годы складывается оригинальная психотерапевтическая система Берна, основу которой составляет теория эго-состояний – структурный анализ. В 1957 г. Берн впервые выносит ее на суд публики на конференции Американской ассоциации групповой психотерапии и публикует программную статью в «Американском журнале психотерапии». В 1961 г. выходит первая книга по ТА «Трансактный анализ в психотерапии», в которой изложены все основные идеи новой системы, развернутые в его последующих трудах, а также то, что он подробно разработать уже не успел. Поэтому данная книга остается важнейшим источником для специалистов. В 1963 г. выходит «Структура и динамика организаций и групп», в которой Берн развивает идеи ТА в приложении к групповой динамике и развитию организаций. В 1964 г. выходит книга, сделавшая имя Берна широко известным, – «Игры, в которые играют люди», а в 1966 г. – руководство для психотерапевтов «Принципы группового лечения». Последняя книга Берна «Что ты говоришь после того, как поздоровался» (у нас ее перевод обычно публикуется в паре с «Играми» под названием-перевертышем «Люди, которые играют в игры»), раскрывающая его взгляды на развитие личности – теорию сценарного анализа, публикуется посмертно в 1972 г. В год смерти Берна вышла в свет его научно-популярная книга «Секс в человеческой любви», широко изданная и в нашей стране в 90-х гг., но, к сожалению, затерявшаяся в потоке сексологической и псевдосексологической литературы. Вместе с тем, это не только оригинальное и яркое изложение взглядов автора на проблемы сексологии, но и дальнейшее развитие ТА в области сексуальных и семейных отношений. Примечательно, что книгу завершает собрание афоризмов Берна, сравнимых с самыми блестящими образцами этого жанра. Любому психологу в целях профессионального самоопределения небесполезно с ними ознакомиться и иногда при случае их вспоминать. Например, такой: «Если вы уберете громкие слова и торжественную мину, еще много всего останется, так что не пугайтесь»…
Берн задался целью разработать такую психотерапевтическую концепцию, применение которой обеспечивало бы «полное излечение за минимальное время». Он утверждал, что им осуществлена адаптация психоанализа с целью его более широкого и эффективного использования. Своей заслугой он также считал перевод изощренной психоаналитической терминологии на доступный житейский язык. Критикам его подхода это дало повод утверждать, что ТА, по существу, является лишь поп-версией психоанализа. Ряд положений ТА действительно перекликаются с психоаналитическими постулатами, но существуют и специфические черты ТА, позволяющие рассматривать его как самостоятельное направление психологической теории и практики.
Сам Берн отрицал отождествление своей трехчленной схемы анализа (Родитель – Взрослый – Дитя) с фрейдовскими концепциями Супер-Эго, Эго и Ид. Вместе с тем, всеми исследователями отмечаются корни его теории в трудах психоаналитиков, в первую очередь Эрика Эриксона и Пауля Федерна, у которых Берн сам проходил анализ, а сценарный анализ близок многим идеям Альфреда Адлера. Сам же Берн противопоставлял свою теорию фрейдовской или юнговской, поскольку она основана на «феноменологических реальностях, а не на умозрительных конструктах».
Что касается теории эго-состояний, тут уместно вспомнить случай с клиентом Берна, преуспевающим адвокатом, рассказавшим историю своего детства. Однажды он восьмилетним мальчиком, отдыхая на ранчо, одетый в ковбойский костюм. Помогал конюху расседлывать лошадь. Когда они закончили, конюх поблагодарил помощника, сказав «Спасибо, ковбой», на что тот возразил: «Я не ковбой, я просто маленький мальчик». Пациент заключил свой рассказ замечанием: «Именно таким я себя и ощущаю. Я в действительности не адвокат, а просто маленький мальчик». Далее в ходе терапии он порой спрашивал Берна: «К кому вы сейчас обращаетесь – к адвокату или к мальчику?» Эта история и положила начало берновской теории.
В основе ТА лежит представление о структуре личности как сочетании трех качественно своеобразных уровней организации человеческого Я. Этим трем уровням, или компонентам личности, Берн присвоил названия «Родитель», «Взрослый» и «Дитя» (последняя инстанция в некоторых переводах фигурирует как «Ребенок», что вносит в сокращенную схему – Р-В-Р – некоторую путаницу; «Дитя» – вероятно, перевод более удачный, и схема соответственно принимает недвусмысленную форму – Р-В-Д). Каждому соответствует собственный способ восприятия, анализа получаемой информации и реакции на действительность. Согласно Берну, каждый из этих компонентов несет в себе как позитивные, так и негативные стороны регуляции поведения.
Родитель (который в известном смысле аналогичен Супер-Эго в психоаналитической структуре личности) выступает носителем социальных норм и предписаний, которые человек некритически усваивает в детстве (главным образом под воздействием собственных реальных родителей), а также на протяжении всей жизни. Родитель обнаруживает себя в таких проявлениях, как контроль, запреты, идеальные требования и т. п. Им также регулируются сложившиеся автоматизированные формы поведения, избавляющие от необходимости сознательно рассчитывать каждый шаг. Негативный аспект функционирования Родителя определяется догматичностью, негибкостью диктуемых предписаний.
Дитя выступает носителем биологических потребностей и основных ощущений человека. Оно также содержит в себе аффективные комплексы, связанные с ранними детскими впечатлениями и переживаниями. Его позитивные качества – спонтанность, творчество, интуиция; негативные – отсутствие произвольной регуляции поведения, неконтролируемая активность.
Взрослый – наиболее рациональный компонент, функционирующий относительно независимо от прошлого, хотя и с использованием информации, которая заложена в Родителе и Дитя. Взрослый олицетворяет собой компетентность, независимость, реалистичную вероятностную оценку ситуаций.
Становление зрелой личности связано, по Берну, главным образом с оформлением полноценно функционирующего Взрослого. Отклонения в этом процессе определяются преобладанием одного из двух других эго-состояний, что приводит к неадекватному поведению и искажению мироощущения человека. Соответственно психотерапия должна быть направлена на установление баланса трех названных компонентов и усиление роли Взрослого.
В отличие от психоанализа, сконцентрированного на индивидуальной психике, ТА уделяет особое внимание межличностным отношениям. Согласно Берну, в общении друг другу противостоят все три компонента личности каждого из общающихся людей. Непосредственный акт межличностного взаимодействия (трансакция) может быть адресован любому из состояний партнера. Ответ может осуществляться в параллельном направлении (так называемая дополнительная трансакция). Например, один из партнеров выступает с позиций Родителя и ведет себя назидательно, директивно, адресуя свое обращение Ребенку другого; тот в свою очередь проявляет готовность принять такое обращение и реагирует с детской позиции, адресуя свой ответ Родителю. В этом случае общение протекает гармонично и удовлетворяет партнеров. Но возможна и так называемая перекрестная трансакция, когда ответ без учета источника и направления обращения осуществляется на ином уровне. Например, Взрослый одного из партнеров обращается к Взрослому другого с рациональным предложением, а тот избирает детскую реакцию, адресуемую Родителю партнера. При этом возникает дисгармония отношений, нарушается взаимопонимание, возрастает вероятность конфликта.
Исходя из этой модели, Берн разработал теорию «игр», под которыми понимаются неконструктивные формы общения. (Недопонимание этой идеи, а также поверхностная трактовка принципов сценарного анализа привели в нашей стране к издательскому курьезу. В аннотации к первому изданию «Игр» сказано: «В книге дано живое и доходчивое изложение деловых игр и сценариев, многие из которых близки каждому человеку».) Игры порождаются стремлением партнеров к достижению преимуществ за счет других участников общения. Берн и его сотрудники разработали обширную типологию игр, присвоив им броские, максимально доходчивые названия (есть, например, игра «Попался, сукин сын!»). В основе многих игр лежат «сценарии» – программы жизненного пути человека, заложенные в детстве под воздействием социальных факторов и воспитания. Эти сценарии содержатся в эго-состоянии Дитя, плохо осознаются и потому делают человека несвободным, психологически зависимым. В присущей ему афористичной манере Берн иллюстрирует эту идею таким примером: Крайняя степень послушания. Мать всегда учила ее беречься простуд и носить резиновые сапоги, чтобы не замочить ноги. Сердясь, мать часто приговаривала: «Чтоб ты провалилась». Будучи хорошей девочкой, она была в резиновых сапогах, когда упала с моста.
Психотерапия, разработанная Берном, призвана освободить человека от влияния сценариев, программирующих его жизнь, через их осознание, через противопоставление им непосредственности, спонтанности, близости и искренности в межличностных отношениях, через выработку разумного и независимого поведения. Конечной целью ТА является достижение гармонии личности через сбалансированные взаимоотношения между всеми эго-состояниями.
В отличие от психоанализа, проводимого индивидуально на протяжении длительного времени, ТА предусматривает сеансы групповой терапии, обеспечивающие довольно быстрый положительный эффект.
Одной из основных сфер приложения ТА является коррекция внутрисемейных отношений, как между супругами, так и между родителями и детьми.
Основные понятия ТА и технику их применения может освоить и ребенок, что дает возможность всей семьей познавать и понимать себя творчески и весело То есть основная задача помощи родителям в рамках ТА – научить членов семьи взаимным компромиссам и умению пользоваться ими в других социальных сферах.
Развивая идеи Берна, Т. Харрис в своих исследованиях подчеркивает необходимость отношения к ребенку как к части семейного сообщества. Дети не могут решать свои проблемы вне семьи. Поэтому ребенок, постигший язык ТА, легче решит свои проблемы, так как будет больше знать о себе самом и лучше разбираться в окружающем его мире. В модели воспитания, основанной на ТА, подчеркивается, что ключ к изменению поведения ребенка лежит в изменении взаимоотношений между ребенком и родителями.
Эрик Берн до самой смерти вел активную психотерапевтическую практику. Его жизнь оборвалась на взлете научной карьеры, когда наряду с массовым признанием стала таять настороженность коллег, когда началась активная и плодотворная деятельность основанной им Международной ассоциации ТА, появились его последователи во многих уголках мира. Он умер от сердечного приступа в 1970 году, не дожив полгода до своего шестидесятилетия.
«Искусство жизни состоит в том, чтобы идти по земле принцем, разбрасывая яблоки на своем пути. Искусство умирания состоит в том, чтобы доесть свое собственное яблоко и сказать: «Я доволен, остальное – вам, наслаждайтесь в мою честь.»
Г.Ю. Айзенк (1916–1997)
Однажды на пресс-конференции английскому психологу Гансу Айзенку был задан каверзный вопрос: «А каков ваш коэффициент интеллекта?» Айзенк быстро нашелся: «Должно быть, немаленький, раз уж я его придумал».
Справедливости ради надо заметить, что коэффициент интеллекта, сокращенно – Ай-Кью (Intelligence Quotient – IQ), – вовсе не изобретение Айзенка. Этот числовой показатель умственных способностей предложил немецкий психолог Вильям Штерн в 1912 году, когда Айзенка еще и на свете не было. А измерительные инструменты для оценки ума, ныне именуемые тестами, появились еще раньше (впервые слово «тест» мелькнуло в научной периодике в 1890 г.). Айзенк усовершенствовал эти инструменты, более того – сделал их широко доступными. С его легкой руки измерение IQ из академического таинства превратилось в популярную народную забаву, впрочем – небезопасную (не очень-то приятно узнать, что ты не слишком умен). Естественно, в Айзенка полетели камни (когда не блещешь умом, рука так и тянется к кирпичу), причем порой почти в буквальном смысле – тухлыми яйцами он был однажды закидан безжалостно. Однако народная мудрость учит не обижаться на определенную категорию публики. Айзенк и не обиделся, тем более что к общественному негодованию ему было не привыкать. Вся его карьера просто переполнена скандалами. Он их не провоцировал, просто говорил что думал. Этими своими мыслями и вошел в историю науки.
Ганс Юрген Айзенк родился в Берлине 4 марта 1916 года, в семье, интересы которой были максимально далеки от науки: его мать была киноактрисой, звездой немого кино, снявшейся в 40 фильмах, отец – популярным конферансье. Родители развелись, когда мальчику едва исполнилось два года, и воспитывала его бабушка, которая впоследствии погибла в нацистском концлагере. Сам Айзенк, вопреки всем теориям наследственности (в развитие которых он внес немалый вклад), никакой тяги к артистической карьере не испытывал. Всегда считавшийся талантливым, но не слишком прилежным учеником, он очень рано познакомился с работами Э.Резерфорда и решил, что делом его жизни может стать только физика. По окончании школы в 1934 г. он вознамерился поступать на физическое отделение Берлинского университета. Однако выбор профессионального пути в нацистской Германии был неразрывно связан с выбором политических взглядов. Поступление в университет на столь притягательное для него физическое отделение оказалось возможным лишь при условии вступления в национал-социалистическую партию. Это условие не было обязательным для всех, но от Айзенка, известного независимостью суждений и отличавшегося сильной неприязнью к фашизму, власти потребовали демонстрации лояльности.
В школьные годы Ганс отличался гораздо большей склонностью к спорту, чем к политике. Гитлера юноша впервые увидел на нацистском митинге, куда из любопытства отправился за компанию с одноклассниками. Гитлер ему не понравился, и он даже не счел нужным это скрывать. За что и был нещадно бит товарищами. «Разбираться» с Айзенком набежала целая толпа, ибо иначе справиться с первым спортсменом школы было не так-то просто. На следующий день Ганс, помятый, но не сломленный, по одиночке надавал сдачи своим обидчикам, так что на выпускном вечере почти весь класс сиял свежими синяками. Так еще в юные годы проявилось умение Айзенка держать удар и противостоять агрессивной толпе. Очень полезное умение – учитывая то, что впоследствии он бывал бит неоднократно. Последний раз – в Сорбонне сорок лет спустя, когда высказанные им на лекции идеи показались студентам-радикалам… фашистскими! В тот раз умудренный опытом ученый не стал давать сдачи, не выдвинул против студентов никаких обвинений. Сложившийся образ вольнодумца и скандалиста не предполагал игры по банальным правилам. О себе он без ложной скромности говорил: «Когда я только начал заниматься психологией, она была совершенно дефективной. Теперь ее репутация благодаря моим работам полностью восстановлена». Даже если не обращать внимания на характерную для Айзенка склонность к эпатажу, в этих словах содержится изрядная доля истины.
В психологию Айзенк пришел случайно. Покинув родину, становившуюся все более неуютной, он эмигрировал в Англию и весной 1935 г. блестяще сдал вступительные экзамены в Лондонский университет, намереваясь осуществить свою давнюю мечту – заняться углубленным изучением физики. Но этому намерению не суждено было осуществиться. Выбор факультетов в Лондонском университете жестко определялся тем, какие экзамены сдавались. Айзенк об этом не знал, в Германии правила были другими. Выяснилось, что для специализации по физике им сданы не все необходимые экзамены. Откладывать поступление на следующий год он не мог, так как был сильно стеснен в средствах. Оставалось выбирать из тех факультетов, которым «подходили» сданные экзамены. Таким факультетом оказался психологический. Именно по такой иронии судьбы психология приобрела одного из самых ярких и продуктивных исследователей.
Первые самостоятельные работы Айзенка были посвящены исследованию структуры личности. Еще в сороковые годы оформилась хорошо знакомая психологам триада личностных свойств Айзенка – экстраверсия-интроверсия, нейротизм и психотизм, исследование которой он прекращал до последних дней жизни. Сегодня понятия экстраверсии и интроверсии знакомы многим и даже стали элементами повседневной речи. Экстраверт – человек, преимущественно ориентированный на внешний мир, мир предметов и людей, тогда как интроверт ориентирован в основном на свой внутренний мир, мир своих переживаний и представлений. Экстраверты требуют постоянной стимуляции от внешней среды, они общительны, стремятся к новым впечатлениям, склонны к риску, любят перемены, готовы к быстрым реакциям. Для них характерна раскованность поведения, оптимизм, веселость, а также вспыльчивость, некоторая агрессивность, поверхностность в восприятии людей и явлений. Интроверты, наоборот, стимулы жизненной активности черпают изнутри, живут своим богатым внутренним миром. Они замкнуты, малообщительны, медлительны, серьезны, сдержанны, любят порядок, склонны к самосозерцанию, дружат преданно, но с немногими, избегают шумных компаний.
Другая характеристика подразделяет людей по параметру эмоциональной устойчивости на тревожных (нестабильных), то есть повышенно чувствительных к неудачам и ошибкам, склонных к самообвинениям, постоянно стремящихся к совершенствованию, – и эмоционально стабильных, то есть уравновешенных, стрессоустойчивых.
Строго говоря, и эти понятия были введены в научный обиход задолго до Айзенка, их еще в 20-е годы предложил Карл Густав Юнг в своей знаменитой работе «Психологические типы». Но именно благодаря Айзенку они получили широкую популярность, проникли в разговорную речь, так что многие именно Айзенка считают их изобретателем. Основная же заслуга Айзенка состоит в том, что им был создан практичный опросник для выявления этих личностных черт. Широко растиражированный множеством популярных изданий, этот опросник является ныне одним из самых известных психологических тестов.
Другим юношеским увлечением Айзенка, как это ни странно для ученого, стала астрология. Впрочем, это древнее учение не обошли вниманием многие психологи – тот же Юнг стремился найти в гороскопах рациональное зерно. Еще в тридцатые годы Айзенк составил гороскоп самому Гитлеру и всей нацистской верхушке. Однако отосланные им гороскопы остались без ответа. Еще бы – ведь в отличие от штатных астрологов рейха Айзенк предрекал нацистским бонзам ужасный конец.
В дальнейшем, вопреки скепсису коллег, Айзенк сохранил это увлечение и даже попытался подвести под него научную базу. Им была проведена серия экспериментов с помощью его собственного личностного опросника. В 1978 г. в «Журнале социальной психологии» Айзенк опубликовал статью о связи зодиакального знака с основными характеристиками личности. В результате масштабного исследования ему удалось установить совершенно определенную статистическую зависимость: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей являются преимущественно экстравертами, а Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы – интровертами. При этом Рак, Скорпион, Рыбы являются более эмоциональными, чем другие знаки Зодиака.
Совсем недавно отечественным психологом В.Н. Дружининым было проведено похожее исследование и также выявлена определенная зависимость, однако… совсем не та, что была установлена Айзенком. Возможно, новые исследования откроют нам новые точки соприкосновения психологического и астрологического знания о человеке. Но так или иначе, необходимо отдать должное смелости Айзенка, впервые отважившегося на эти поиски. В кругу ученых мужей эта попытка авторитета ему не прибавила, зато принесла широкую известность. Впрочем, на безвестность он и раньше не жаловался.
В начале пятидесятых, в пору безраздельного господства фрейдовского психоанализа, Айзенк выступил со статьей, в которой бросил вызов самому Фрейду. Внимательно проанализировав фрейдистскую теорию и результаты аналитической терапии, ученый пришел к сенсационным выводам. По его мнению, доктрина Фрейда принадлежит скорее к области мифологии, нежели науки, ибо ее достоверность невозможно проверить никакими научными методами – любые научно-психологические эксперименты над фрейдистскими конструкциями, в частности Эдиповым комплексом, кончаются полным фиаско. Нет никакого Эдипова комплекса, – считал Айзенк. А есть «художественный вымысел венского профессора – недаром ему вручили премию Гете, хороший был беллетрист». К тому же пациентами Фрейда были лишь венские буржуа, страдавшие неврозами. Выводы, полученные в наблюдениях над ними, Фрейд распространил на все человечество, а это Айзенк считал неоправданным и слишком смелым обобщением. Да и сама психоаналитическая терапия, по его мнению, крайне малоэффективна. Похожих результатов можно добиться с помощью простого вдумчивого самоанализа. Лечение у психоаналитика занимает долгие месяцы, порой годы, а за это время большинство неврозов проходят и вовсе без всякого вмешательства.
Характерно, что у самих психоаналитиков не находится никаких конструктивных возражений на критику в свой адрес. Зато ими изобретен беспроигрышный контраргумент: «Вы, видно, сами страдаете тяжелыми комплексами, раз так агрессивно от них защищаетесь». Этот довод особенно раздражал Айзенка, поскольку, по его мнению, являлся абсолютно некорректным в научной полемике.
Небезынтересно, что за прошедшие полвека в адрес психоанализа накопилось еще множество убийственных обвинений, а неуклюжая отповедь фрейдистов так и осталась их единственным оправданием. Об этом нелишне было бы знать нашим доморощенным фрейдистам, приобщившимся к психоанализу на волне запоздалой моды. По крайней мере, Айзенка почитать им следовало бы. Ведь в его рассуждениях куда больше здравого смысла и научной корректности, чем в фантазиях о детской сексуальности. Впрочем, психоанализ – очень доходная профессия (это и у нас уже многие уяснили). И неудивительно, что призывы Айзенка к научному здравомыслию только прибавили ему врагов.
Взамен долгосрочной, громоздкой, дорогостоящей и малоэффективной аналитической психотерапии Айзенк предлагал так называемую поведенческую терапию – нехитрый метод, основанный по поощрении желательного поведения и наказании нежелательного. Он прописывал пациентам электрошок и психотропные препараты, провоцировавшие удушье. От нежелания подвергаться пыткам больные сразу выздоравливали. Понятно, что и этот метод вызвал бурю общественного негодования. Айзенк в ответ спокойно ссылался на полученные впечатляющие результаты. Под страхом неприятностей человек воздерживается от нежелательного поведения и постепенно это входит у него в привычку. Чего и требовалось добиться! Может оно и негуманно, зато эффективно! Гораздо эффективнее, чем всякие душеспасительные разговоры…
Но самые острые дебаты вызвали работы Айзенка по психологии интеллекта и измерению умственных способностей. По его мнению, человеческий ум – качество врожденное и лишь в очень малой степени, процентов на двадцать, подверженное влиянию воспитания и среды. Вывод неутешителен: коли от природы ума недостает, то уже и вряд ли прибавится. Но Айзенк пошел еще дальше. В статье «Раса, интеллект и образование» черным по белому написал: коэффициент интеллекта чернокожих в среднем на 15 баллов ниже, чем у белых, и это объясняется особенностями генетического кода. Истерия политкорректности в ту пору еще не достигла своего пика, но столь откровенное суждение уже тогда пришлось по вкусу не всем. На его опровержение были брошены лучшие умы, которые заняты изобретением контраргументов по сей день. Мол, тесты для измерения IQ используются неправильные, да и сам IQ – не безупречный показатель ума. Вот только статистическая закономерность – вещь упрямая, ее так никому опровергнуть не удалось. Фактически Айзенк просто назвал вещи своими именами. И заслужил репутацию расиста! Наученные его опытом, политкорректные нынешние психологи предпочитают замалчивать щекотливую тему, а то и вовсе выдавать черное за белое. Результат – катастрофическое обесценивание интеллекта. Сегодня стало просто неловко быть умнее кого-то другого – вдруг этот другой обидится! Правда, в наших краях заморская эпидемия пока не распространилась, книга Айзенка «Узнайте ваш IQ» идет нарасхват, а некоторых по прочтении даже радует. Немногих, правда…
Айзенк словно намеренно подстегивал общественное негодование. Так, в середине семидесятых он написал статью, в которой доказывал, что курение безвредно для здоровья, по крайней мере – вовсе не провоцирует развитие рака (онкологи, как раз тогда, как им казалось, доказавшие эту фатальную связь, перестали с ним здороваться). «Курение и рак, – писал Айзенк, – связаны лишь тем, что одновременно выступают симптомами одного и того же личностного расстройства. Тип личности, склонной к курению, а также к заболеванию раком, характеризуется неспособностью адекватно выражать эмоции, беспомощностью и депрессивными настроениями, неправильной реакцией на стресс».
К этой теме он вернулся в начале девяностых, получив крупный грант от американского табачного короля Рейнольдса, кровно заинтересованного в подтверждении его гипотезы. Скептикам Айзенк предложил поставить эксперимент на себе самом: «Я не знаю, что такое ярость, депрессия и страх, вот и делайте выводы о моей предрасположенности». Тестирование в самом деле выявило его исключительную уравновешенность и стрессоустойчивость. Увы, курильщиков это вряд ли сможет утешить. Вопреки своей гипотезе Ганс Юрген Айзенк умер 4 сентября 1997 года от рака.
В. Сатир (1916–1988)
В большинстве русскоязычных текстов, в которых упоминается Вирджиния Сатир (а таких в последние годы появились десятки и сотни), ее называют выдающимся американским психологом и лишь потом, через запятую, семейным психотерапевтом. Такое определение следует признать не вполне точным. Заслужившая всемирную известность на ниве семейной терапии, Сатир может быть причислена к психологам, а тем более к выдающимся, весьма условно – по крайней мере, если судить по оценкам ее соотечественников, которыми ее имя не включено ни в рейтинг влиятельных психологов ХХ столетия, ни в именной справочник самых заметных представителей психологической науки, изданный на рубеже веков. Тем не менее ее вклад в мировую психологию, а также, как бы это ни казалось странным, в российскую, трудно переоценить. Посетив с кратким визитом СССР накануне его распада, Сатир способствовала коренной перестройке (этот вышедший из моды и отчасти даже дискредитированный термин тут вполне адекватен) мировоззрения многих ярких представителей отечественной психологии, чьими трудами российская психология за последние десятилетия и превратилось в то, чем она сегодня является. От оценок произошедшего пока лучше воздержаться – их более трезво дадут будущие историки науки. А вот фигуре Вирджинии Сатир и ее идеям следует уделить внимание. Хотя бы просто для того, чтобы лучше понять, кем и в каком направлении оказались переориентированы устремления многих советских психологов в их перерождении в психологов постсоветских. Ведь, по мнению Сатир, личностный рост становится возможен в результате критической переоценки жизненных установок, когда-то некритично воспринятых, а ныне отживших и неадекватных. По словам самой Сатир, на протяжении ее почти 45-летней профессиональной карьеры ей удалось встретиться с десятками тысяч людей и серьезно повлиять на их судьбу. А если принять во внимание дюжину ее книг, переведенных на многие языки и неоднократно переизданных во всем мире (в том числе, кстати, и шрифтом Брайля), то счет этих людей надо вести на миллионы. Что же это за человек, сумевший оказать такое влияние на стольких людей? И какого рода это влияние?
Вирджиния Сатир, урожденная Пагенкопф, родилась 26 июля 1916 г. на ферме близ поселка Нейлсвилл в штате Висконсин. Впоследствии она разработала особый подход к анализу личности своих клиентов, важное место в котором занимало составление «карты семьи» – фиксация и анализ значимых явлений семейной жизни на протяжении по крайней мере трех предшествующих поколений. Весьма интересной представляется и ее собственная карта. И по отцовской, и по материнской линии Вирджиния вела свой род от немецких эмигрантов, причем обе ее бабушки в свое время решились на очень смелый и рискованный шаг – вопреки воле своих буржуазных зажиточных семей вышли замуж за пролетариев. Точно так же поступила и ее мать, Минни Хаппе, вышедшая замуж за Оскара Альфреда Рейнхарда Пагенкопфа, хронического неудачника и алкоголика, которому судьбой было предначертано снискивать свой черствый хлеб фермерским трудом. Вирджиния была старшей из пятерых детей семейства Пагенкопф, и помощь родителям в заботе о братьях и сестрах с малолетства стала ее привычной обязанностью.
Отец, судя по воспоминаниям Вирджинии, был человеком добрым и порядочным. Однако его хроническое уныние, вызванное недовольством своей судьбой, и постоянное пьянство никак не способствовали эмоциональной близости с дочерью. Единственные добрые слова, которые впоследствии нашлись у нее в его адрес, – о том, что у него она научилась искренности. Что ж, открытость в изъявлении чувств всегда превозносилась идеологами того психотерапевтического направления, к которому примкнула и Сатир. Но приходится признать, что в данном случае это ценное качество не очень способствовало сплочению ее родительской семьи. Наверное, всё дело в том, каковы чувства…
Впрочем, роль отца в жизни Вирджинии нельзя недооценивать. Хотя бы потому, что ее жизнь он буквально спас. Однажды, когда у девочки сильно разболелся живот, мать, отличавшаяся фанатичной религиозностью, воспротивилась вызову доктора и предпочла положиться на волю Всевышнего. Когда же по настоянию отца Вирджинию всё же отвезли в больницу, выяснилось, что острый приступ аппендицита требует немедленной операции. Чудом избежав смерти, Вирджиния провела в больнице несколько недель и за это время успела глубоко прочувствовать истину: «Господь помогает тому, кто сам способен себе помочь».
У немецкого народа вообще немало таких пословиц. Например: «Бог дает нам орехи, но Он их не колет». Не тут ли кроются корни мировоззрения Сатир, считавшей человека ответственным за свою судьбу? Похоже, житейскую мудрость своих предков она впитала с детства. А ведь есть такие установки, которые не устаревают и не требуют критической переоценки! В отличие от многих нынешних апологетов личностного роста, призывающих всех и вся к обязательным переменам, Сатир справедливо считала, что есть зрелые личности, есть полноценные семьи, которым перемены не требуются. Менять нужно то, что мешает жить. То, что терапевтическая помощь нужна очень многим, еще не означает, что она необходима всем. Сатир охотно предоставляла ее тем, кто ее искал.
О детстве состоявшихся личностей принято слагать легенды – сколь рано проявились их познавательные и творческие способности. В «случае Сатир» для этого даже не приходится особо напрягать воображение. Самостоятельно научившись читать в трехлетнем возрасте, она уже к 9 годам полностью прочитала всю школьную библиотеку. Правда, ее биографы, упивающиеся этим фактом, редко упоминают о другом. Школа, которую Вирджиния посещала в течение 7 лет, была по российским меркам малокомплектной – размещалась в однокомнатном домике и состояла из 18 разновозрастных учеников. Так что не стоит преувеличивать ни масштабы местной библиотеки, ни уровень образования, полученного будущей звездой семейной терапии.
Не надо преувеличивать и академические высоты, которых она достигла на следующей ступени своего образования – в учительском колледже г. Милоуки, эдаком провинциальном педучилище, по окончании которого она некоторое время учительствовала в американской глубинке. Вероятно, уже здесь, в кругу учеников, начали формироваться ее будущие интересы, а именно подчеркнутое внимание к семейной атмосфере формирования личности. Ведь по убеждению Сатир, человека нельзя рассматривать как абсолютно автономного индивида, поскольку он включен в сложную систему семейных отношений, оказывающих на него сильное влияние. По собственному почину общаясь с родителями своих учеников, юная учительница и сама кое-чему училась, по крайней мере набиралась опыта, который так пригодился ей в дальнейшем.
Личная жизнь Вирджинии сложилась драматично. В годы II мировой войны она сочеталась браком с Гордоном Роджерсом. Это была романтичная история военной любви с первого взгляда – они повстречались на вокзале, когда молодой солдат приехал в отпуск, и стремительно поженились, чтобы провести вместе всего несколько месяцев – до его последующего отъезда на фронт. Наступившая в результате беременность окончилась неудачно, причем настолько, что потребовала операции, навсегда лишившей Вирджинию надежды на материнство. Пытаясь компенсировать эту беду, она впоследствии удочерила двух девушек далеко не юного возраста. Они всю жизнь и составляли ее семью, поскольку настоящая семья так и не сложилась.
По возвращении Роджерса с войны, супруги обнаружили, что от их романтической влюбленности не осталось и следа. За годы, проведенные врозь, оба настолько изменились, что уже не находили никаких оснований для близости. В 1949 г. брак распался.
Пару лет спустя Вирджиния предприняла вторую попытку – вышла замуж за Нормана Сатира, чью фамилию носила до конца жизни. Но и этот брак (естественно, бездетный) оказался неудачным – через 6 лет супруги расстались. Новых попыток устроить личную жизнь, несмотря на неоднократно представлявшиеся, по ее словам, возможности, Вирджиния не предпринимала.
Скептики тут непременно поднимут вопрос о «сапожнике без сапог»: как же так – человек, признанный специалистом по семейным отношениям, сам оказался в этих отношениях несостоятельным? В ответ на этот вопрос, который впоследствии не раз явно или неявно поднимался, Сатир писала:
Если б тогда я знала то, что знаю сегодня, многое могло сложиться по-другому. Но тогда я этого еще не знала. Мы всегда умны задним умом, по зрелому размышлению. Однако зрелое размышление помогает в написании диссертаций, но не в жизни.
Бесхитростно и честно! Оскар Пагенкопф был бы доволен.
И далее:
Я часто думала: смогла бы я делать то, что делаю, будь я замужем. И я поняла – нет! Такова, наверное, моя судьба – мотаться по свету, помогая людям. У других людей – другая судьба.
Доверимся этой версии. Тем более что не так уж она и плоха в качестве оправдания для тех экспертов по семейным отношениям, чья собственная «семейная карта» больше похожа на историю болезни, чем на аттестат зрелости. Почему-то таких немало среди тех, кто берется помогать людям в решении их проблем. Наверное, чужие проблемы решаются легче…
Завершила свое формальное образование Сатир в Чикагском университете, точнее в Школе Администрирования Социальной Службы (School of Social Services Administration) при этом университете. Современным российским авторам так хочется видеть своего кумира психологом, что в ряде отечественных справочных изданий, «бумажных» и сетевых, ей приписана магистерская степень по психологии, якобы полученная в Чикагском университете в начале 40-х. На самом деле ученая степень магистра (по значимости немного не дотягивающая до нашей кандидатской) была присвоена ей в области социальной работы, а не психологии, причем не по окончании курса, который Сатир с трудом одолела за 3 года (после полугодового перерыва вследствие отчисления за неуспеваемость ей пришлось восстанавливаться снова), а лишь спустя 5 лет, которые ей понадобились для подготовки магистерских тезисов (по-нашему – диссертации).
В наши дни тысячи студентов-психологов изнывают над скучными монографиями, силясь освоить разнообразные научные концепции и понятия. Как выясняется, для того, чтобы сделать себе имя в «помогающей профессии», этого даже и не требуется. Достаточно просто заручиться хоть каким-то дипломом. Остальное зависит от личного энтузиазма и обаяния, умения нащупать чувствительные струнки человеческой души и виртуозно на них сыграть. Судя по многочисленным отзывам восторженных почитателей, всеми этими способностями Сатир обладала в исключительной мере, что со временем превратило ее в личность поистине харизматическую.
Характерно, что именно Сатир, наряду с эксцентричным эклектиком Фрицем Перлзом и лукавым гипнотизером Милтоном Эриксоном, избрали своим ориентиром Бэндлер и Гриндер, изобретатели НЛП – модной манипулятивной техники, которую многие по недоразумению считают одним из направлений современной психологии. Скрупулезно проанализировав заснятые на пленку сеансы этих деятелей, Бэндлер и Гриндер сумели выделить некоторые приемы влияния на людей, которые каждый из троих интуитивно открыл и научился эффективно использовать. В случае Сатир это, в частности, оказались виртуозно исполняемые приемы невербальной коммуникации, с помощью которых у клиента создается иллюзия глубокой заинтересованности терапевта в его персоне и его проблемах. (Понятно, что речь тут следует вести именно об иллюзии – будь это участие подлинно искренним и прочувствованным, профессиональное выгорание было бы обеспечено терапевту в течение недели. Однако все мы так обделены интересом и добрым отношением к нашим персонам, что даже диплом психолога порой не спасает от того, чтобы принять их симуляцию за чистую монету.)
Начало карьеры Сатир как семейного терапевта было положено в 1951 г., когда она впервые взялась консультировать конфликтующую супружескую пару. С той поры таких пар перед нею прошли тысячи, что позволило ей отточить свои терапевтические приемы с сформулировать новаторскую концепцию терапии семейных отношений.
Переселившись в Калифорнию, Сатир совместно со своими последователями Доном Джексоном и Жюлем Рискином основала в г. Менло Парк Исследовательский Институт Душевного Здоровья (Mental Health Research Institute – MHRI), на базе которого в 1962 г. благодаря полученному крупному гранту была организована первая официальная программа подготовки семейных терапевтов. Большое влияние на развитие ее идей оказало участие в работе Эсаленского Института в Биг Суре (Калифорния), ставшего в бурные 60-е Меккой всех фантазеров и изобретателей на ниве личностного роста. Здесь нежились в общих горячих ваннах искатели телесного обновления, боролись со сном подвижники первых терапевтических марафонов, сюда в перерывах между запоями и наркотическими «полетами» захаживал будущий гуру НЛП Ричард Бэндлер. Раза Густайтис, сумевшая в те годы поучаствовать почти во всех Эсаленских начинаниях, так повествует об этом в своей книге «Turning On»: «Безумие, промискуитет, все формы эксцентричности… Богатые любители хорошо провести уик-энд стекаются сюда из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, чтобы дать выход своим эмоциям… Какая-то сумасшедшая сцена возникает передо мной. Полуобнаженные или покрытые с головы до пят одеждой всевозможных красок люди стремительно двигаются под музыку. Они корчатся, вращаются по кругу или вертятся на покрытой краской полу. Это люди из лаборатории Перлза».
В Эсалене Сатир становится директором по тренингам, в чьи обязанности входило руководство Программой развития человеческого потенциала. Впоследствии она занимала еще ряд столь же почетных должностей, перечисление которых однако меркнет перед списком ее бестселлеров, первым из которых стала «Совместная семейная терапия» (1964). Именно в ее книгах, ныне доступных и российскому читателю, нашли воплощение результаты ее поисков и терапевтической практики. Ее интересовало изучение подлинного и мнимого психологического контакта в семье между близкими людьми («Построение контакта», 1975), психологическая роль отношения к себе для развития личности, способы его позитивного формирования и изменения («Самоценность», 1975), психология семейных ролей и семейных коммуникаций («Множество ваших лиц», 1978).
Основные идеи Сатир можно обобщить в нескольких ключевых положениях:
1. Семья, в которой мы выросли, во многом определяет наше поведение и установки.
2. Семья – это система, а потому она стремится к равновесию, для поддержания которого порой в ход идет навязывание ролей членам семьи, система запретов или нереальные ожидания (в этом случае потребности членов семьи вступают в конфликт друг с другом, и нарушения обеспечены).
3. Нарушения в системе семьи порождают низкую самооценку и защитное поведение, так как человек все равно будет стремиться повысить самооценку и оберегать ее от нападок извне.
4. В каждом человеке достаточно сил для личностного роста и здоровой активной жизни.
5. Всегда есть возможности для личностного роста, но психотерапевтическую работу нужно проводить на уровне «процессов», а не «содержания».
6. Процесс изменений захватывает всего человека и включает несколько последовательных стадий.
Главная задача психотерапии Сатир – личностный рост, поскольку она сама нередко повторяла, что в каждом человеке заложен потенциал для этого роста, а психотерапия способна лишь стимулировать его. Сатир сравнивала человека с семечком, в сердцевине которого таится зародыш будущего растения, но для буйного роста ему сперва нужно накопить сил, чтобы суметь продраться сквозь заросли сорняка.
Чтобы избавиться от «сорняков» – дезадаптивных убеждений и форм поведения, – психотерапевт должен в первую очередь улавливать психические состояния человека, а не замыкаться на заявленной им проблеме. Как говорила Сатир, «проблема сама по себе не является проблемой; проблема в том, как человек справляется с нею».
В пропаганде своего подхода к семейной терапии Сатир не знала себе равных. Она объездила всю Америку и большую часть цивилизованного мира, повсюду встречая восторженный прием. Рукоплесканиями встретил ее и Советский Союз, где она давно мечтала оказаться, но куда приехать сумела только весной 1988 г. Благодаря ее неотразимому обаянию и подкупающей прелести гуманистических идей, столь контрастировавших со скучноватым обликом официальной советской науки, произошла успешная «калифорнизация» отечественной психологии и воцарение в ней эмпатийно-конгруэнтно-фасилитационных идеалов.
Вирджиния Сатир умерла от скоротечного рака в своем доме в Менло Парке 10 сентября 1988 г. вскоре после возвращения из Москвы. Но семена, политые ею на нашей почве, сумели прорасти и расцвести буйным цветом.
Правда, отчего-то по обе стороны океана всё реже можно встретить полноценную семью, в которой любящие друг друга супруги воспитывают своих родных детей. Видно, не до конца еще прижились гуманистические идеалы семейной гармонии. Перед семейными терапевтами непочатый край работы.
У. Бронфенбреннер (1917–2005)
25 сентября 2005 года ушел из жизни Ури Бронфенбреннер, всемирно известный специалист в области детской психологии, иностранный член Российской Академии Образования.
Американца Бронфенбреннера в русскоязычных публикациях иногда называют Юрием. И это не ошибка несведущих переводчиков, а один из допустимых вариантов произношения его имени (подобно тому, как Маслоу в принципе допустимо именовать Масловым). Так Бронфенбреннера нередко и называли его советские коллеги, с которыми он много и плодотворно общался и сотрудничал. Ведь в иных обстоятельствах урожденный москвич Бронфенбреннер вполне мог бы быть нашим соотечественником! Но судьба распорядилась иначе.
Ури Бронфенбреннер родился в Москве на рубеже исторических эпох – 29 апреля 1917 года. Его семья принадлежала, как сказали бы сегодня, к среднему классу – отец Ури, Александр Бронфенбреннер, был известным врачом-невропатологом. А среднему классу, в отличие от пролетариата, на революционном изломе было что терять. Нет, родители будущего психолога не были контрреволюционерами! Но после 17-го года их жизнь изменилась далеко не к лучшему. Не видя для себя обнадеживающих перспектив в Советской России, семья устремилась за океан в поисках лучшей доли. Так в шестилетнем возрасте Ури Бронфенбреннер стал американцем.
В Америке семья обосновалась в городке Личворт-Вилледж, штат Нью-Йорк, где Бронфенбреннер-старший сумел найти работу по специальности в интернате для умственно отсталых детей. Наблюдениями над своими подопечными он порой делился в кругу семьи. С юных лет Ури запомнил то недоумение, почти негодование, с которым отец рассказывал о зачислении в интернат новых воспитанников. Американская манера ставить диагноз «умственная отсталость» на основании тестирования IQ казалась ему абсурдной – причины неудач при тестировании, по его мнению, могли быть самые разные, и низкий тестовый балл не обязательно свидетельствовал о безнадежном умственном отставании, требовавшем помещения в специальное воспитательное учреждение. Уже в зрелом возрасте, будучи известным психологом, Ури Бронфенбреннер вспоминал, как эти соображения отца натолкнули его на мысль о необходимости всестороннего анализа интеллектуального отставания – в ряде случаев обратимого, что и следовало бы сделать своей целью настоящему специалисту. Так что, возможно, еще в юные годы будущий психолог начал вынашивать мысли, нашедшие впоследствии конкретное воплощение в общенациональной компенсационно-образовательной программе «Хэд Старт». Вообще влияние отца на становление мировоззрения Бронфенбреннера трудно переоценить. Будучи уже очень старым и тяжело больным, он регулярно писал сыну письма, делясь своими соображениями о жизни. Для Ури отношение к отцу всегда было не просто преклонением перед авторитетом, но подлинной любовью, взаимной и нерушимой. В одной из своих работ он написал: «Каждому ребенку для нормального развития жизненно необходим хотя бы один человек, который бы не чаял в нем души». Вне сомнения, таким человеком для самого Ури всегда оставался его отец, Александр Бронфенбреннер.
На интеллектуальном развитии будущего ученого, оформлении его склонностей не могла не сказаться и вся семейная атмосфера, проникнутая идеалами гуманизма и глубокими научными интересами. В доме нередко бывали «товарищи по изгнанию» – эмигранты из России, люди интеллигентные и высоко культурные. Разговоры часто заходили о новых тенденциях в медицине и гуманитарных науках, в частности – в психологии, так что для юного Ури, в отличие от большинства его сверстников, имена Вертгеймера и Левина, Пиаже и Выготского (о котором американцы вообще узнали лишь много лет спустя) не были пустым звуком. Психологию он избрал своей профессией и после окончания средней школы поступил на психологическое отделение Корнельского университета. Получив степень бакалавра в 1938 г., он продолжил образование в Гарвардском университете, где был удостоен степени магистра, и в Университете шт. Мичиган, где ему в 1942 г. была присвоена докторская ученая степень. Буквально на следующий день новоиспеченный доктор наук был призван в ряды вооруженных сил – шла Вторая Мировая война! Как и большинство его коллег, доктор Бронфенбреннер не был отправлен в действующую армию, но был командирован в командные структуры, где консультации профессиональных психологов высоко ценились. После демобилизации в 1946 г. он пару лет проработал в скромной должности доцента в Мичиганском университете, пока наконец в 1948 г. не перебрался в свою Alma Mater – Корнельский университет, в котором и проработал до конца жизни (официально уйдя в отставку в 1987 г., Бронфенбреннер в статусе почетного профессора продолжал активную научную деятельность до конца своих дней).
Крупнейшим практическим достижением ученого на протяжении всей его многолетней карьеры стала разработка и внедрение программы компенсаторного обучения «Хэд Старт», направленной на повышение академической успеваемости и развитие интеллектуальных способностей учащихся из малообеспеченных семей и национальных меньшинств. В середине 60-х годов активизировалось движение за предоставление всем детям равных возможностей получения полноценного образования. Одним из идеологов этого движения выступил Бронфенбреннер. В 1964 г., выступая в Конгрессе в качестве приглашенного эксперта, он заявил, что провозглашенный правительством курс на борьбу с бедностью и безработицей лишь тогда будет иметь смысл, когда основные усилия будут направлены на помощь детям в развитии их способностей и получении образования. В противном случае «социальные низы» навечно консервируются в своем незавидном положении. В 1965 г. по инициативе президента Л.Джонсона был принят закон о начальной и средней школе, послуживший основанием для многочисленных развивающих программ. В том же году была начата наиболее масштабная из них – «Хэд Старт». Она рассматривалась как одно из средств, «компенсирующих» жизнь в нищете, слабое здоровье, скудное питание, скученность, то есть все то, с чем сталкиваются и от чего страдают миллионы детей из малообеспеченных семей, принадлежащих преимущественно к национальным меньшинствам, в первую очередь – чернокожим. В 2500 округах было создано 13400 центров, охвативших свыше полумиллиона детей (хотя первоначально планировался охват лишь 100 тысяч наиболее нуждающихся). Курс развивающего обучения, разработанный Бронфенбреннером с коллегами, длился 8 недель. Занятия были направлены на устранение пробелов в знаниях детей и формирование у них интеллектуальных навыков. Кроме того, круглый год действовали другие широкомасштабные программы, предполагавшие, что дети из малообеспеченных семей нуждаются в дополнительном обучении, чтобы подготовиться к регулярным занятиям в школе. Уже в 1965 г. по окончании курса занятий были достигнуты положительные сдвиги в выполнении детьми тестов интеллекта.
Казалось бы, по требованию общественности ей была выкачена замечательная бочка меда для бесконечного вкушения. Но не обошлось и без ложки дегтя! 21 февраля 1969 г. престижный журнал Harvard Educational Review опубликовал на 123 страницах в качестве главного материала номера статью Артура Дженсена, профессора педагогической психологии и психолога-исследователя Калифорнийского университета. Статья называлась «Насколько мы можем повысить IQ и школьную успеваемость?». В этой длинной, изобилующей статистическими выкладками и техническими подробностями статье Дженсен дал простой ответ на этот вопрос. По его мнению, любые педагогические усилия, направленные на повышение уровня умственных способностей и академической успеваемости, крайне малоэффективны. Причина этого виделась автору в том, что интеллект генетически предопределен и не подвержен значительным изменениям в течение жизни. Более того, среди разных рас и социальных групп интеллект распределен в неравной степени. Проще говоря, одни классы и народы в целом глупее других, и любые попытки изменить эту генетическую закономерность практически бесполезны. С нею просто необходимо считаться, соответственно планируя социальную политику.
Дженсен начинал свою статью драматическим утверждением, что компенсаторное обучение потерпело крах. Основанием для этого послужил тот уже достаточно очевидный факт, что достигнутое с помощью компенсаторного обучения повышение IQ носило временный характер. Не впустую ли тратятся немалые деньги из кармана налогоплательшиков, – вопрошал Дженсен, – если эффект развивающих программ, и в первую очередь программы «Хэд Старт», весьма невелик, а по прошествии некоторого времени и вовсе сходит на нет?
Контраргументы Бронфенбреннера были по-своему логичны и убедительны. По его мнению, приведенные Дженсеном данные показывают лишь то, что существующие тесты интеллекта выявляют не сам интеллект, а знания и умения, соответствующие структуре этих тестов. Поэтому занятия по программе «Хэд Старт», направленные на усвоение детьми именно этих знаний и умений, способствовали росту IQ. Впоследствии, когда занятия были окончены и дети вернулись в привычную неблагоприятную социальную среду, новых стимулов для роста IQ больше не возникало. Тем не менее, по мнению Бронфенбреннера, опыт программы «Хэд Старт» свидетельствует о значительных возможностях педагогического воздействия на интеллектуальное развитие. Вопреки мнению сторонников теории врожденных способностей программа «Хэд Старт» убедительно показала зависимость школьной успеваемости и психического развития от социальных условий.
Нетрудно заметить, что эти взгляды Бронфенбреннера во многом созвучны постулатам советской психологии и педагогики. Не приходится удивляться, что ученый, едва ли не полмира объездивший в качестве исследователя и приглашенного лектора, именно в СССР предпринял обширное сравнительное исследование, давшее материал для одной из самых известных его книг – «Два мира детства: дети США и СССР». В Америке она вышла в 1970 г., в нашей стране – на 6 лет позже. Не один год понадобился нашим официальным идеологам, чтобы разобраться, в чью же пользу свидетельствуют результаты сравнительного исследования. А разобраться, действительно, было непросто – книга получилась на редкость объективная, ни антисоветская, ни антиамериканская, без явных и очевидных предпочтений. В итоге книгу решено было у нас издать. И недаром – цитируют ее по сей день. Жаль только, что по прошествии более 30 лет никому не придет в голову осуществить подобное исследование в наши дни. Его результаты наверняка были бы уже другими. Какими? Увы, об этом пока можно лишь строить догадки…
Самым значительным вкладом Ури Бронфенбреннера в психологию следует назвать разработку им междисциплинарного подхода к процессам социализации, названной им экологией человека. Грэйс Крайг, автор известного у нас учебника «Психология развития», называет созданную Бронфенбреннером модель «возможно, самой влиятельной на сегодняшний день моделью человеческого развития». Согласно этой экологической модели, развитие человека – это динамический процесс, идущий в двух направлениях. Растущий человек постоянно испытывает воздействие со стороны различных элементов окружающей его среды и в то же время сам активно реструктурирует свою многоуровневую жизненную среду. По Бронфенбреннеру, экологическая среда развития ребенка состоит из четырех словно вложенных одна в другую систем, которые обычно графически изображают в виде концентрических колец. Уровни этой среды Бронфенбреннер называет микросистемой, мезосистемой, экзосистемой и макросистемой. Характерной особенностью его модели являются гибкие прямые и обратные связи между этими четырьмя системами, через которые и осуществляется их взаимодействие.
Микросистему, или первый уровень модели, в любой период жизни составляют люди и объекты в непосредственном окружении ребенка. Именно этот уровень традиционно привлекает внимание психологов. Но Бронфенбреннер им не ограничивается. Он указывает, что взаимосвязями двух или более микросистем (например, семьи и детского сада) образуется второй уровень – мезосистема. Экзосистема имеет отношение к тем уровням социальной среды или общественным структурам, которые, находясь вне сферы непосредственного опыта человека, тем не менее влияют на него. Например, предприятие, где работает мать ребенка, может разрешить ей гибкий производственный график, что позволит ей больше внимания уделять воспитанию и косвенно повлияет на развитие ребенка. В то же время возможность свободнее распоряжаться своим временем и большую его часть уделять воспитанию будет способствовать душевному равновесию матери и косвенно скажется на повышении производительности ее труда.
В отличие от других уровней, макросистема не имеет отношения к определенному окружению, а включает в себя жизненные ценности, законы и традиции той культуры, в которой живет человек. Например, правила, согласно которым дети с задержками развития могут обучаться в массовой школе, вероятно, оказывают существенное влияние на уровень образования и социальное развитие как этих детей, так и их «нормальных» сверстников. В свою очередь, успех или провал этого педагогического начинания может содействовать или, напротив, помешать дальнейшим попыткам интегрировать отстающих детей в массовую школу.
Хотя вмешательства, поддерживающие и стимулирующие ход развития, могут осуществляться на всех четырех уровнях модели, Бронфенбреннер полагал, что наиболее значительную роль они играют на уровне макросистемы. Это происходит потому, что макросистема обладает способностью воздействовать на все другие уровни. Примером может служить та же программа «Хэд Старт», по мнению Бронфенбреннера, оказавшая огромное положительное влияние на развитие нескольких поколений американских детей. (Правда, мнение это до сего дня многими активно оспаривается.)
Свою последнюю книгу (всего их написано, в том числе в соавторстве, 14, не говоря уже о более чем 300 статьях) Бронфенбреннер издал за год до своей кончины, словно обобщая итоги пройденного пути. Название этой книги (Making Human Beings Human) можно было бы несколько неуклюже перевести как «Очеловечивание человека». Ведь именно к этому – помочь растущему ребенку стать настоящим человеком – ученый стремился всю свою жизнь. И успехи на этом пути еще при его жизни были высоко оценены. Несколько лет назад Американская Психологическая Ассоциация удостоила его награды «За выдающийся вклад в психологию развития», которая с той поры носит его имя. Именем Бронфенбреннера назван также Центр Экологии Развития при Корнельском университете. Почетный профессор многих американских и европейских университетов, Ури Бронфенбреннер в 1993 г. был избран иностранным членом Российской Академии Образования.
О кончине 88-летнего человека не скажешь «безвременная». Однако некрологи, которые поспешили опубликовать практически все американские общенациональные газеты, отметили, сколь тяжела эта утрата не только для близких ученого, но и для всей психологической науки.
Д. Маклелланд (1917–1998)
Среди исследователей человеческой мотивации американский психолог Д. Маклелланд[18] занимает одно из самых ярких и значительных мест. На протяжении полувека его труды оказывают заметное влияние на работы в этой области и неизменно удостаиваются высокого индекса цитирования. Англоязычный Интернет переполнен ссылками на его книги и статьи. Дошло до того, что актеру Д. Маклелланду пришлось назвать свой персональный сайт «Дэвид Маклелланд, не-психолог», а для заглянувших по ошибке создать отдельную страничку, посвященную знаменитому однофамильцу. Русскоязычный Интернет намного беднее – ведь в нем преимущественно размещаются материалы, заимствованные из печатных источников. А ни одна из книг Маклелланда, ставших на Западе бестселлерами, по странной прихоти (либо просто ввиду ограниченного кругозора) наших издателей так пока и не увидела свет в переводе на русский. Попробуем отчасти восполнить образовавшийся пробел и обозреть основные вехи жизненного пути и научной деятельности одного из ярких представителей мировой психологии ХХ века.
Обширный архив Маклелланда, включающий в том числе и разнообразные биографические материалы, хранится под спудом в Гарвардском университете и еще ждет своих исследователей. За исключением нескольких лаконичных некрологов, опубликованных в связи с недавней кончиной ученого, никаких работ, посвященных его личности и жизненному пути до сего дня не публиковалось. Так что широкой общественности о его личной жизни известно крайне немного. Рано женившись, он 42 года прожил в благополучном супружестве, имел семерых детей, а вскоре после смерти жены уже в далеко не юном возрасте женился снова. Движимый своими познавательными и научными интересами, объехал полмира, включая такие экзотические уголки, как Танзания, Индонезия, Тунис, Шри Ланка, повсюду стремясь найти подтверждение своим научным гипотезам и практическое применение своим открытиям… Для живописного биографического очерка материала набирается явно маловато! Однако любой ученый интересен не столько своими приключениями, сколько вкладом в науку. И в этом отношении Маклелланд, 57 лет своей жизни посвятивший научным изысканиям, дает исследователям предостаточно материала.
Дэвид Кларенс Маклелланд родился 20 мая 1917 г. в городе Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк. Для сына образованных, интеллигентных родителей перспектива получения хорошего образования подразумевалась сама собой, хотя в направлении своих интересов Дэвид не мог определиться довольно долго. По окончании средней школы он поступил в Макмюррей-Колледж в г. Джексонвилль, шт. Иллинойс, где занялся изучением языков, в первую очередь немецкого. Грамматические штудии не вызывали у юноши энтузиазма. Случайно, по совету одного из своих педагогов он обратился к чтению психологической литературы и заинтересовался этим предметом настолько, что именно в данном направлении и решил продолжить свое образование. Он поступил в Университет Уэсли и в 1938 г. успешно закончил его со степенью бакалавра психологии. Магистерскую степень он заработал год спустя в Университете штата Миссури, а докторскую – в 1941 г. в Йеле.
С научными руководителями молодому ученому повезло. Одним из них выступил Кларк Халл – один из самых авторитетных американских психологов в 30-е годы. Халл был крупнейшим представителем необихевиоризма и в своих исследованиях, в частности, уделял внимание проблеме побуждения к активности – иными словами, мотивации, но этот термин у бихевиористов был не в чести. Маклелланд в своих последующих изысканиях далеко отошел от бихевиоральной парадигмы, но на всю жизнь сохранил признательность Халлу за блестящие уроки научного экспериментирования.
Профессиональная карьера Маклелланда складывалась подобно карьере тысяч его коллег – странствие из одного учреждения в другое от контракта до контракта. Многие так и проводят всю жизнь, лишь мечтая о стабильности. Маклелланду повезло больше – после смены нескольких мест работы он в 1956 г. стал профессором в Гарварде, где проработал 30 лет. Лишь в 1987 г. семидесятилетний профессор ушел в отставку и принял предложение занять необременительную должность почетного профессора (что-то вроде нашего профессора-консультанта) в Бостонском университете, в которой и пребывал до конца своих дней.
Более чем за полвека научной деятельности ученый уделил внимание широкому кругу проблем, но в истории науки остался прежде всего как яркий исследователь мотивации, в частности – мотивации достижения. Само это понятие в основном и ассоциируется с его исследованиями. Справедливости ради следует признать, что приоритет тут принадлежит не ему, а его знаменитому соотечественнику Генри Мюррею, получившему всемирную известность как создатель ТАТа. Менее известна теория личности Мюррея – вероятно, в силу того, что она, по признанию многих, очень громоздка и сложна для понимания. Среди многих параметров личности Мюррей, в частности, и выделил мотив достижения, характеризуя его как потребность «справляться с физическими объектами, людьми или идеями, манипулировать ими или организовывать их, преодолевать препятствия и достигать высокого уровня, превосходить самого себя, соревноваться с другими и превосходить их, увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению своих способностей».
В 40-е гг. Маклелланд с группой коллег использовал тогдашнюю методическую новинку – ТАТ – с целью изучения человеческих побуждений. Результаты этих исследований привели его к выводу: среди основных мотивов, которые люди усваивают в ходе жизненного опыта, можно выделить три группы мотивов первостепенной важности. Это мотивация достижения (стремление добиться наилучшего решения сложных проблем), мотивация аффилиации (потребность налаживать хорошие отношения с окружающими) и мотивация власти (стремление влиять на поведение других). В каждом конкретном случае тот или иной мотив может быть более или менее выражен, и каждый человек отличается их своеобразным сочетанием. Но существуют оптимальные сочетания для той или иной деятельности, причем высокая мотивация достижения в большинстве случаев представляется весьма желательной, даже необходимой.
Свои рассуждения Маклелланд не ограничивал сферой научной психологии. В 1961 г. увидела свет его книга «Общество достижения», в которой он выдвинул интересную гипотезу: мотивация достижения служит важнейшим залогом экономического процветания. Оценив степень выраженности соответствующего мотива в обществе, можно с изрядной достоверностью предсказать тенденцию к экономическому росту. У советских психологов это вызвало единственно возможную в ту пору реакцию – вялые упреки в психологизации общественно-экономических явлений. По прошествии 40 лет эта идея у нас и вовсе забылась. А жаль! Сегодня на ее основе можно было бы предпринять интереснейшее исследование. Но, может, наши психологи потому за него не берутся, что чувствуют: результатами вряд ли можно будет похвастаться…
В 1973 г. Маклелланд выступил в журнале «Американский психолог» со статьей, в которой указал на невысокую прогностическую ценность тестирования IQ и призвал уделить больше внимания мотивационной стороне любой деятельности. Впоследствии эти его суждения цитировались тысячекратно, порой даже будучи доведены до абсурда: «Способности – ничто, мотивация – всё!» Сам автор вовсе не был так категоричен. Хотя вольную интерпретацию его суждений тоже можно понять: тем, кому нечем похвастаться в плане способностей, остается только уповать на свои амбиции, да при этом еще ссылаясь на научный авторитет.
Идеи Маклелланда революционизировали практику отбора во многих отраслях, прежде всего – профотбора. Исходя из представлений Маклелланда, наиболее рационально подбирать людей для соответствующей деятельности исходя из их мотивации и личностных характеристик, поскольку в случае необходимости нужным умениям их не так уж сложно обучить. Как образно выразился британский коллега Маклелланда Крис Дайсон: «Даже индюка можно научить лазить по деревьям, но лучше все-таки для этих целей нанять белку». Практическое приложение этих принципов поставила своей задачей корпорация МакБер, основанная в 1963 г. при активном участии Маклелланда и по сей день занимающаяся консультированием и тренингами менеджеров по персоналу.
В последние годы своих изысканий Маклелланд сосредоточил внимание на физиологических аспектах мотивации. Он обратил внимание на один примечательный физиологический факт: для ряда социальных мотивов были обнаружены специфические гормоны и нейромедиаторы, которые выделяются при актуализации соответствующего мотива и оказывают влияние как на поведение, так и на субъективные переживания. В поведении, направленном на удовлетворение мотива власти, такую роль играют адреналин и норадреналин, аффилиации – дофамин. Однако все попытки найти вещество, характерное для мотивации достижения, оказались бесплодными.
За долгие годы своей научной деятельности Маклелланд был удостоен многих почетных наград (в американском биографическом справочнике «Психология», в котором он фигурирует среди 500 выдающихся психологов всех времен, их список занимает полстраницы), в том числе престижную премию Американской Психологической Ассоциации «За выдающийся вклад в науку». 27 марта 1998 г. пришло известие о награждении его очередной регалией, ежегодно присуждаемой Обществом изучения личности. Но радостная весть уже на застала награжденного – в этот день Дэвид Маклелланд скончался от сердечного приступа в своем доме в Ленсингтоне. В десятках некрологов память ученого почтили многие выдающиеся современники. Это и не удивительно – для нескольких поколений исследователей мотивации и личности он выступал непререкаемым авторитетом.
Л. Фестингер (1919–1989)
Сын ремесленника и белошвейки, Леон Фестингер, подобно Абраму Маслову – пардон, Абрахаму Маслоу, а также Полу Экману, Роберту Стернбергу и многим другим выдающимся американским психологам, мог бы быть нашим соотечественником. Кто знает – стал бы он выдающимся советским психологом? И как по-русски звучало бы понятие «когнитивный диссонанс», прочно вошедшее не только в научный лексикон, но и в обиходную английскую речь, а нами заимствованное «под кальку»?
Но у истории нет сослагательного наклонения. В 1913 г. его родители Алексей Фестингер и Сара Соломон покинули Россию и в поисках лучшей доли отправились за океан. Так что будущий психолог появился на свет в Нью-Йорке. Произошло это 8 мая 1919 г.
В Нью-Йорке Леон закончил среднюю школу, потом Сити-Колледж, где он в 1939 г. получил степень бакалавра. Материальное положение семьи не позволяло продолжить образование в престижном университете вроде Гарварда или Йеля, и Леон остановил свой выбор на заведении поскромнее – Университете штата Айова. Для его научной карьеры это оказался неожиданно удачный выбор. В заштатном университете Среднего Запада (так называемого кукурузного пояса) в ту пору нашел пристанище эмигрировавший из Германии Курт Левин. Под его руководством Фестингер и выполнил свое диссертационное исследование, за которое в 1942 г. был удостоен докторской степени, а потом последовал за Левином в Массачусетский Технологический Институт (МТИ), в организованный им Центр Групповой Динамики.
Левина многие считают отцом американской социальной психологии. По крайней мере, его влияние на молодого аспиранта Фестингера несомненно. Главная заслуга Левина состояла, пожалуй, в том, что ему удалось спокойно, несуетливо, но убедительно противопоставить господствовавшей в американской психологии стимульно-реактивной парадигме новаторский исследовательский подход, проникнутый европейским вкусом и изяществом. (Где бы нынче была американская наука без европейских мозгов? Так бы и гоняла по лабиринтам подопытных крыс?)
Фестингер, до того занимавшийся разработкой частных аспектов левиновской теории поля, пришел к социальной психологии почти случайно. В МТИ ему было поручено провести опрос семейных студентов, касавшийся того, как ими решаются их жилищные проблемы. Опрос был инициирован для чисто прикладных нужд и не обещал никаких научных открытий. Опросник включал элементы социометрии, то есть предусматривал выявление взаимоотношений между студентами. В ходе обработки полученных данных выяснилась интересная закономерность: студенты, придерживавшиеся близких взглядов по жилищным вопросам, в целом составляли сплоченную группу, пронизанную взаимными притяжениями; те же, кто демонстрировал крайние взгляды, оказывались на периферии социометрических выборов. Факт сам по себе не слишком впечатляющий и, на чей-то взгляд, даже банальный, но у Фестингера он вызвал интерес и побудил разработать собственную исследовательскую программу, послужившей прообразом его дальнейших блестящих исследований, которые и легли в основу созданной им теории когнитивного диссонанса.
Фестингер в своих изысканиях опирался на принцип равновесия, используя его и при анализе мироощущения человека. Сам он начинает изложение своей теории с такого рассуждения: замечено, что люди стремятся к некоторой согласованности как желаемому внутреннему состоянию. Если возникает противоречие между тем, что человек знает, и тем, что он делает, то это противоречие стремятся как-то объяснить и, скорее всего, представить его как непротиворечие ради того, чтобы вновь достичь состояния внутренней когнитивной согласованности. Далее Фестингер предлагает заменить термин «противоречие» на «диссонанс», а согласованность» на «консонанс», поскольку эта последняя пара терминов кажется ему более нейтральной, и теперь сформулировать основные положения теории. Она может быть изложена в трех основных пунктах: а) между когнитивными элементами может возникнуть диссонанс; б) существование диссонанса вызывает стремление уменьшить его или воспрепятствовать его росту; в) проявление этого стремления включает: или изменение поведения, или изменение знаний, или осторожное, избирательное отношение к новой информации. В качестве иллюстрации приводится ставший уже нарицательным пример с курильщиком: человек курит, но вместе с тем знает, что курение вредно; у него возникает диссонанс, выйти из которого можно тремя путями: а) изменить поведение, то есть бросить курить; б) изменить знание, в данном случае – убедить себя, что все рассуждения о вреде курения как минимум преувеличивают опасность, а то и вовсе недостоверны; в) осторожно воспринимать новую информацию о вреде курения, то есть попросту игнорировать ее.
Главный практический вывод, вытекающий из теории Фестингера, состоит в том, что любой психологический элемент субъекта может быть изменен: подвергая сомнению то, что человек думает о самом себе, можно вызвать изменения в его поведении, а меняя поведение, человек изменяет и мнение о себе. Подвергая себя самоконтролю и самоанализу, работая над самооценкой, человек развивается, растет личностно. В противном случае он отдает свою душевную работу другим, становясь жертвой (или орудием) чужого влияния. Именно об этом говорят результаты великолепно выстроенных экспериментов и его коллег.
Один из первых экспериментов по проверке теории когнитивного диссонанса был проведен сотрудником Фестингера Дж. Бремом. Он предлагал испытуемым сначала оценить несколько бытовых электроприборов – тостер, фен и т. п. Затем Брем показывал испытуемым два предмета из тех, что они внимательно осмотрели, и говорил, что им разрешается взять любой из них на выбор. Позднее, когда от испытуемых требовалось дать повторную оценку тем же предметам, они с большей похвалой отзывались о выбранном ими изделии и с меньшей – об отклоненном. В свете теории Фестингера причина подобного поведения ясна. Осуществив трудный выбор, люди испытывают диссонанс: знание негативных характеристик выбранного предмета диссонирует в фактом его выбора; знание позитивных характеристик отвергнутого предмета диссонирует с тем, что предмет не был выбран. Для уменьшения диссонанса люди подчеркивают позитивные аспекты и преуменьшают значение негативных аспектов выбранных предметов и напротив – подчеркивают негативные стороны и преуменьшают значение позитивных сторон невыбранного предмета.
Теория Фестингера долгие годы доминировала в американской психологии, хотя впоследствии и была критически переоценена. За годы своей работы он был не раз удостоен почетных регалий, в том числе награды Американской Психологической Ассоциации «За выдающийся вклад в психологию». Член Американской Академии Наук и Искусств (1959) и Национальной Академии Наук США (1972), он втайне более всего дорожил тем признанием, которое еще в середине 50-х отметил журнал «Форчун», назвав его среди 10 самых ярких американских ученых. Заметим – не психологов, а ученых!
Тем не менее в конце 70-х годов Фестингер почувствовал, что его интерес к психологии исчерпан. Исследования, осуществлявшиеся под его руководством, по его мнению, сосредоточивались на «познании все большего и большего о все меньшем и меньшем». И если молодых ученых исследование частных фактов сильно воодушевляло, сам маэстро былого воодушевления уже не испытывал. Доверив разрабатывать частности молодым, он в итоге совсем отошел от психологии и переключился на совершенные иные области научного знания – археологию и историю религии. Причем и в этих сферах снискал признание – одна из недавних книг по истории папства имеет персональное посвящение Фестингеру, что особо примечательно в связи с тем, что профессиональным историком он все-таки не был.
В 1988 г. у Фестингера был диагностирован рак. Он принял это известие спокойно, стараясь полнокровно прожить оставшийся ему недолгий срок. Спокойно и тихо он и ушел из жизни. Это произошло 11 февраля 1989 г.
Созданная им теория оказалась далеко не бесспорной. Но много ли в психологии бесспорных теорий и идей? Наверное, правы те, кто считает психологию не столько наукой, сколько искусством. (Недаром самая интересная статья о Выготском называется «Моцарт в психологии»). В статьях, посвященных памяти Фестингера, Роберт Зайонц сравнил его с Пикассо, а Джеймс Цукиер – с Ван Гогом. Так или иначе, палитру мировой психологии он обогатил.
Т. Лири (1920–1996)
В галерею мэтров мировой психологии противоречивая фигура Тимоти Лири вписывается далеко не однозначно. Кое-кто, наверное, и вовсе усомнится, насколько справедливо причислять к выдающимся ученым человека столь сомнительной репутации, за которым американская Фемида охотилась по всему свету и которого много лет «перевоспитывала» (похоже, безуспешно) за тюремной решеткой. В то же время огромная популярность, которую Лири снискал при жизни и которая не убывает и после его смерти, бесспорно свидетельствует – в мировой психологии он сумел занять исключительное место. Многим психологам-практикам известен (и широко ими используется) личностный опросник Лири. Многим он известен как «отец психоделической революции», один из основоположников трансперсональной психологии. Правда, далеко не все даже отдают себе отчет, что создатель популярного опросника и проповедник расширения сознания – одно и то же лицо. Биографы Лири говорят, что в свою яркую и насыщенную жизнь он сумел вместить тысячи жизней, предстать во множестве ипостасей. Когда кто-то пытался допытываться, кто же он на самом деле, Лири обычно отвечал: «Каждый получает такого Тимоти Лири, какого заслуживает». Интересный проективный тест, не правда ли? Попробуем его пройти. А для этого познакомимся поближе с человеком, которого журнал Mondo в 2000 году назвал величайшим мыслителем столетия.
Тимоти Лири родился 22 октября 1920 г. в Спрингфилде, штат Массачусетс, в семье потомков ирландских иммигрантов. По настоянию матери, ревностной католички, юность будущий возмутитель нравов провел в Иезуитском колледже в Уорчестере, готовясь вступить на пастырскую стезю. По сути дела, проповедником он в итоге и стал, однако в совсем иной сфере. В истории (в частности, в истории психологии) известно немало примеров религиозного воспитания «от противного», когда потомки атеистов или даже беспутных гуляк становились ревностными святошами, а дети благочестивых родителей вырастали в еретиков и безбожников. Лири дополнил эту палитру. Материнских надежд он не оправдал – в девятнадцатилетнем возрасте покинул колледж, проникнувшись стойкой неприязнью к ортодоксальной религии. Следующий шаг был продиктован влиянием отца – Лири поступил в Военную академию в Вест-Пойнте. Но офицер из него оказался столь же никудышный, сколь и священник. Большую часть времени нерадивый курсант Лири проводил взаперти на гауптвахте, развлекаясь чтением книг по восточной философии. Восемнадцать месяцев, проведенных в Вест-Пойнте, он впоследствии сравнивал с послушничеством в буддистском монастыре. (Остается только позавидовать укомплектованности библиотечных фондов в американской «Суворовке».) Двойная неудача в выборе жизненного пути заставила его отказаться от родительских назиданий и искать собственную стезю. Ею стала психология.
В 1940 г. Лири поступил в университет Алабамы, где получил первую ученую степень бакалавра психологии. Затем следуют долгие годы продвижения по карьерной лестнице: степень доктора психологии в 1950 г., первая серьезная научная работа «Уровни измерения межличностного поведения» (1956), должность руководителя лаборатории психологических исследований в одной из больниц города Окленд, штат Калифорния. В те годы Лири олицетворял собой образ типичного американского ученого: капелька авантюризма плюс тонны усидчивости. Одна за другой выходили моногорафии – «Межперсональная диагностика личности: функциональная теория и методология личностного роста», «Прогноз межличностного поведения в психотерапевтических группах». Одни эти названия говорят сами за себя и о многом заставляют задуматься. Последующая скандальная слава Лири привела к замалчиванию его заслуг в тех областях психологии, которые позднее стали ассоциироваться совсем с другими именами. Так, его имя по праву должно было бы стоять в одном ряду с именами Роджерса, Баха, Перлза, Берна и других пионеров групповой терапии. Основы теории коммуникативных игр также изначально разрабатывались Лири, однако известность эта теория получила в модификации Эрика Берна. Новаторские идеи самоактуализации и личностного роста, пронизывающие ранние работы Лири, совпадают по времени публикации с новациями признанных лидеров гуманистической психологии – Маслоу, Роджерса, Шарлотты Бюлер, к числу которых, по крайней мере в качестве серьезного союзника, и Лири по справедливости следовало бы отнести. Связано это, вероятно, с тем, что Лири лишь намечал многие перспективные тенденции, а потом без всяких фрейдовских терзаний усмехался, наблюдая, как их подхватывают и разрабатывают другие. Причем – в самых разных областях. Так, мало кому известно, что знаменитую песню Come together написал именно Тимоти Лири, а прославившаяся на весь мир ее битловская версия представляет собой лишь вольный перепев его мелодии и слов.
Правда, созданную им психодиагностическую методику замолчать было невозможно – настолько она оказалась практична и полезна, да и авторство Лири тут бесспорно и зафиксировано его публикацией 1957 г. Парадоксально, но опросник Лири активно использовали и используют в своих целях ЦРУ и ФБР, организовавшие настоящую травлю его автора.
Этот опросник известен как Интерперсональный диагноз Лири (Leary Interpersonal Diagnosis). Он направлен на выявление свойств личности, значимых для взаимодействия с другими людьми. Задача испытуемого при работе с опросником состоит в соотнесении каждой из 128 лаконичных характеристик с оценкой своего Я. Каждая из эпитетов-характеристик имеет порядковый номер. Характеристики могут размещаться на карточках с последующей сортировкой либо в тестовой тетради с фиксацией ответа (да – нет) на отдельном бланке. Примеры характеристик:
1. Умеет нравиться.
2. Производит впечатление на других
3. Умеет распоряжаться, приказывать.
……………………………….
127. Заботится о других в ущерб себе.
128. Портит людей чрезмерной добротой.
Для проведения обследования обычно требуется не более 10–15 минут.
Согласно «ключу» определяются оценки по 16 характеристиками, формирующим 8 октантов так называемой дискограммы, которые отражают тот или иной вариант межличностных отношений:
1. Властно-лидирующий
2. Независимый-доминирующий
3. Прямолинейный-агрессивный
4. Недоверчивый-скептический
5. Покорный-застенчивый
6. Зависимый-послушный
7. Сотрудничающий-конвенциальный
8. Ответственный-великодушный
Количественные показатели (баллы, по числу совпадений с ключом) откладываются на соответствующей номеру октанта координате, каждая из которых размечена дугами. Расстояние между дугами кратно четырем. На уровнях, соответствующих полученным баллам, в каждом октанте проводится дуга. Отделенная внутренняя часть октанта заштриховывается. Полученные профильные оценки наглядно показывают преобладающий стиль межличностных отношений. Показатели, не выходящие за уровень 8 баллов, соответствуют «гармоническим личностям». Более высокие показатели соответствуют акцентуации определенных поведенческих стереотипов. Оценки, достигающие уровня 14–16 баллов, свидетельствуют о трудности социальной адаптации.
Практика использования опросника Лири выявила его очень высокую надежность. Проверка путем сопоставления с данными ММPI и шестнадцатифакторного опросника Р. Кеттелла подтвердила его высокую конструктную валидность. Опросник был переведен на многие языки и получил широкое распространение во всем мире. В нашей стране модификация опросника была проведена Л.Н. Собчик еще в начале 70-х, а в 1990 г. ею издано руководство к русскоязычной версии. Сегодня опросник Лири – одна из самых популярных методик в инструментарии практического психолога.
Если бы этими достижениями Лири ограничился, а тем более продолжал бы свои разработки в том же духе, то наверняка занял бы достойное место в когорте серьезных психологов-исследователей. Однако на определенном этапе своей карьеры он позволил себе такое, чем заслужил проклятия со стороны большинства коллег. Правда, удостоился и невероятных восторгов со стороны новых поклонников, уже из совсем другого лагеря.
В 1960 г., находясь в отпуске в Мексике, Лири по совету одного из местных коллег отведал ядовитых грибов. Индейцы, исконные жители тех краев, с древнейших времен практикуют эту небезопасную процедуру в ритуальных целях, вызывая у себя измененные состояния сознания. Привидившиеся в угаре галлюцинации они трактуют в мистическом духе. Важно отметить, что эта ритуальная практика никогда не выливается у индейцев в бытовую наркоманию – «сеансы» проводятся редко, исключительно ради мистических целей, а это исключает какие бы то ни было злоупотребления. У многих, в том числе и у Лири, это породило иллюзию, будто процедура самоотравления безвредна и не приводит к возникновению зависимости от галлюциногена. А раз так, то грех не воспользоваться такой исключительной возможностью «расширения сознания»! Тем более, что собственный опыт произвел на Лири неизгладимое впечатление. «Я вдруг ощутил, – писал он, – что красота и ужас, прошлое и будущее, бог и дьявол находятся за пределами моего сознания, но внутри меня. За четыре часа я больше узнал о работе человеческого разума, чем за пятнадцать лет профессиональной практики».
По возвращении в Гарвард, где Лири в то время работал, он провел несколько экспериментов по воздействию мескалина на сознание. Интерес к галлюциногенам закономерно привел его к самому мощному из психоактивных препаратов – ЛСД. Ничего особо предосудительного в этом еще никто не усматривал. Лири не был пионером в использовании ЛСД. Еще в 50-е годы этот препарат применялся в психотерапевтической практике, хотя его влияние на психику было не совсем ясно и активно изучалось.
Диэтиламид лизергиновой кислоты был почти случайно открыт в 1942 г. профессором Альбертом Хофманом, работавшим в швейцарской фармацевтической корпорации «Сандоз». Корпорация, до сих пор активно рекламирующая себя в московском метро, быстро наладила массовое производство препарата. До того, как ЛСД попал на улицу и стал называться «кислотой», с ним преимущественно работали специалисты-медики и его по рецепту можно было купить в любой аптеке, чем и пользовались до конца 60-х вошедшие во вкус наркоманы (похожая история 20 лет спустя повторилась в наших краях с эфедрином). После пропагандистской кампании, бескорыстно развернутой Тимоти Лири и автором знаменитых «Полетов над кукушкиным гнездом» Кеном Кизи, вещество приобрело бешеную популярность, попало под строгий запрет, и все исследования были свернуты. Но до запрета было достаточно времени, чтобы опытным путем, причем в широчайшем масштабе, выяснить многие его плюсы (крайне сомнительные) и минусы (удручающе очевидные).
По мнению Лири, глобальная ошибка западной психологии состоит в том. что она сосредоточила свое внимание на описании внешних феноменов, отвернувшись от неисчерпаемого источника знаний, скрытого внутри каждого человека. На Востоке издревле существовали методы исследования сознания и управления им. С появлением психоделиков аналогичные методы становятся доступны и западу.
В результате, согласно Лири, получается, что психоделические вещества являются чуть ли не единственным для западного человека средством просветления. При этом им осознанно или невольно игнорируются отрицательные последствия их воздействия на психику, не говоря уже о социальных последствиях их массового применения. Хотя, наверное, именно эти социальные последствия и были для Лири наиболее желательными. Он мечтал, что «лет через двадцать все общественные институты будут преобразованы в соответствии с прозрениями, почерпнутыми из опыта расширения сознания», что изменится вся система образования, и вместо книг будут молекулы определенных веществ, открывающие «внутреннюю библиотеку»; что изменится сам стиль жизни людей, и не менее двух часов в день они будут посвящать отдыху от «социальных игр» с помощью известного вещества. Этот выход из игр Лири считал наиболее важным последствием употребления психоделиков, связывая с ним обретение внутренней свободы.
Небезынтересно, что в начале шестидесятых с ЛСД активно экспериментировал перебравшийся в Штаты из не понявшей его Чехословакии Станислав Гроф. Впоследствии, после запрета ЛСД, он сумел продолжить свои «трансперсональные» изыскания с помощью изобретенного им безмедикаментозного метода – так называемого холотропного дыхания, которое по сути дела представляет собой противоестественное перенасыщение мозга кислородом с той же самой целью – достижения измененных состояний сознания. Этот метод по сей день находит приверженцев во всем мире, в том числе и в нашей стране, особенно богатой интеллигентствующими умниками, которые вечно недовольны существующей реальностью.
Эксперименты Лири с ЛСД с научной точки зрения большого интереса не представляли. Сам он называл этот препарат «мозговым витамином», утверждая, что с его помощью расширяет возможности сознания здорового человека и помогает в лечении шизофреников и алкоголиков. (Единственный урок истории состоит в том, что она ничему не учит. Помнится, еще Зигмунд Фрейд пытался избавить одного из своих друзей от болезненного пристрастия к морфию с помощью… кокаина!) Но общественный резонанс был огромен.
Молодые бунтари шестидесятых только дожидались своего пророка. И дождались! На этот престол был возведен «психоделический гуру» Тимоти Лири. (Из Гарварда его поспешили уволить под предлогом нарушений учебного расписания.) С его легкой руки поколение детей-цветов прочно «подсело на кислоту». Его благословил умирающий Олдос Хаксли. С ним подружились лидеры битников Аллен Гинзберг, Джек Керуак, Уильям Берроуз и Артур Кестлер. Культовые калифорнийские рок-группы Grateful Dead и Jefferson Airplane клялись ему в верности на своих концертах-бдениях. Сам Лири регулярно появлялся перед многотысячными сборищами хиппи – одетый в нечто наподобие хлопчатобумажной пижамы, обвешанный «фенечками», он провозглашал свою культовую фразу: «Включайтесь, настраивайтесь и отпадайте!» (Turn on, tune in and drop out!), превратившуюся в расхожий лозунг «поколения мира и любви».
Кумир молодежи
Триумфа не могли омрачить такие «мелочи», как иск, вчиненный Лири родителями одной из его последовательниц, которая покончила с собой под действием ЛСД. В своей обычной манере Лири тогда заявил, что виноваты сами родители, плохо воспитавшие дочь, а ЛСД тут ни при чем. Впрочем, такие случаи лишь прибавляли ему популярности. На ее гребне в 1969 году он даже выдвинул свою кандидатуру на губернаторских выборах в Калифорнии. Страшно подумать, во что в случае его успеха превратился бы штат, и без того угоравший в психоделической, пацифистской, сексуальной и прочих революциях тех лет!
Власти давно точили на Лири зуб и в феврале 1970 года предъявили ему обвинение в хранении и распространении наркотиков (к тому времени ЛСД уже три года был вне закона). В интервью журналу «Плэйбой» Лири заявил, что совершенно не боится тюрьмы, потому что «настоящая тюрьма – это тюрьма внутренняя». Более того, тюрьму он расценивал как профессиональный риск при его занятиях, которые он определял как «алхимия сознания» (с алхимиками власти никогда не церемонились).
В настоящей тюрьме, куда он был препровожден, ему видимо все-таки не понравилось. По прошествии трех месяцев он ухитрился бежать, каким-то чудом (а точнее – с помощью последователей) перемахнув через трехметровый тюремный забор. На несколько лет Лири исчез. О нем доносились лишь самые невероятные слухи. Поговаривали о связях с левой террористической группой Weathermen Underground (якобы и организовавшей его побег), о том, что его видели в Алжире с лидером экстремистской организации «Черные пантеры» Элдриджем Кливером, также находившимся в бегах. Как ни странно, эти слухи впоследствии подтвердились, хотя сам Лири распространяться об этом не любил. Агенты американских спецслужб настигли беглого профессора в Афганистане в 1973 году. В наручниках он был препровожден на родину, где ему прибавили новый срок за побег.
Фото из тюремного досье
Тут «революционный романтик» неожиданно проявил себя циничным прагматиком. По версии, достоверность которой совсем недавно была окончательно подтверждена, он пошел на сделку с властями, «сдал» организаторов своего побега, более того – обязался и впредь «стучать» на своих диссидентствующих приятелей. В награду – досрочное освобождение.
На свободу профессор вышел седобородым, присмиревшим и полузабытым. Бунты шестидесятых отгремели. Вчерашние последователи либо вымерли, не выдержав безграничного расширения сознания, либо взялись за ум, подлечились и постриглись.
Удалившись на покой в звании ветерана психоделической революции, Лири попытался предаться воспитанию троих внуков и прочим скромным житейским радостям. Его хватило на восемь лет. В 1984 году – после выхода технократической антиутопии Уильяма Гибсона «Неоромантик» – Лири присоединился к захватившему молодую Америку движению киберпанков, ухитрившись снова стать лидером еще одного недовольного реальностью поколения. Вместе с Гибсоном он пропагандировал движение «социального дарвинизма, пущенного на ускоренную перемотку» и «биомеханический синтез человека и компьютера». В новой книге (всего он их написал свыше двух дюжин) под названием «Инфопсихология» Лири писал: «Данная реальность пусть останется для школьников, мы же станем пионерами иных, неизведанных и моделируемых реальностей. Они не виртуальны, они есть на самом деле, нужно только найти к ним пароль. Садись за компьютер и начинай поиск».
Все последующее десятилетие дряхлеющий идол чутко прислушивался к шороху зеленых контркультурных ростков, не пропуская ни один из них. И, наверное, ехидно усмехался, слыша стенания о том, что, мол, компьютер – новый наркотик рубежа тысячелетий…
А постаревшие хиппи завели в виртуальном пространстве свой сайт с календарем знаменательных дат контркультурного движения. Не так давно в нем появилась запись, которая наверняка понравилась бы психоделическому гуру:
31 мая 1996 года умер Тимоти Лири. Или это почудилось…
С. Шехтер (1922–1997)
Стенли Шехтера в нашей стране знают мало. Те психологи, кому довелось прослушать в вузе полный курс общей психологии, наверняка слышали и упоминание о его теории эмоций. Но многое ли помнится из этого курса, когда экзамены давно позади? Во многих книгах по социальной психологии (преимущественно переводных) упоминаются эксперименты Шехтера, но также мимоходом, пристального внимания не привлекая. Ни одна из работ самого Шехтера на русский язык не переведена. Нет о нем упоминаний и в словарно-справочных изданиях. Лишь в переведенном (увы, из рук вон скверно) с английского био-библиографическом справочнике «Психология» есть о нем небольшая статья – составители сочли его одним из 500 ученых, внесших наиболее значительный вклад в развитие психологической науки. Из этой статьи, в частности, можно узнать, что Стенли Шехтер был удостоен награды Американской Психологической Ассоциации «За выдающийся вклад в науку» (1968), а присуждение такой регалии, как известно, требует действительно немалых заслуг. Помимо этого Шехтер явился одним из немногих психологов, удостоенных членства в Национальной Академии Наук США, что для американского психолога даже более престижно, чем для российского – членство в РАН. Это главные, но не единственные пункты в длинном списке почетных наград и званий Шехтера. За какие же заслуги он их удостоился? Следует, наверное, внимательнее присмотреться к идеям и достижениям этого ученого, в наших краях явно недооцененного.
Жизненный путь Стенли Шехтера небогат яркими событиями, из которых могло бы сложиться увлекательное биографическое сочинение. Рождение в заурядной семье среднего достатка, учеба, защита диссертаций, типичное для Запада кочевье по университетам, благополучно увенчавшееся штатной должностью в Колумбийском университете, откуда Шехтер и вышел на пенсию в звании почетного профессора; поздний, но удачный и счастливый брак, в котором он прожил до конца своих дней… Стандартный путь, которым проходят многие. Но немногим удается войти в историю своими яркими идеями и исследованиями. Шехтеру удалось. Именно этим он и знаменит, этим и интересен.
Стенли Шехтер родился 15 апреля 1922 г. в Флашинге, пригороде Нью-Йорка, в семье потомков еврейских иммигрантов из Восточной Европы (эта среда вообще оказалась на удивление плодовита на выдающихся американских психологов – от Соломона Аша и Абрахама Маслоу до Элиота Аронсона и Роберта Стернберга). После окончания школы в родном городе юноша отправился в Йелль изучать… историю искусств. В своих профессиональных склонностях он определился не сразу. По рекомендации известного литератора Дона Маркиза, который считал Шехтера подающим большие надежды и оказывал ему протекцию, юноша стал посещать занятия в Институте человеческих отношений, существовавшем при Йельском университете. На его выборе в пользу психологии сказался факультативно прослушанный курс блестящего экспериментатора Кларка Халла, который произвел на юного искусствоведа сильное впечатление своим сократическим методом преподавания довольно непростых постулатов поведенческой психологии.
Едва приступив к изучению психологии, Шехтер был призван на военную службу – шла Вторая мировая! – но не в действующую армию, а подобно большинству психологов (пускай и начинающих) в лабораторию под эгидой вооруженных сил. Здесь под руководством Уолтера Майлза он занимался исследованиями ночного зрения. Эта работа, имевшая немалое военно-прикладное значение, не слишком увлекала молодого исследователя – его интересы лежали в других сферах. После демобилизации он решил продолжить свое образование в избранном направлении. Для этого он отправился в Массачуссетский Технологический Институт (МТИ), где в ту пору начал свою работу основанный эмигрировавшим из Германии Куртом Левином Центр групповой динамики (Левин планировал создание целого института, но это намерение натолкнулось на формальное препятствие: не создавать же институт в рамках института! В итоге был создан Центр.) Здесь Шехтер познакомился с Леоном Фестингером, который, будучи всего на три года старше, формально выступал его научным руководителем, но на деле был скорее товарищем – помимо научных исследований их любимым занятием стали ежедневные состязания в карточной игре криббидж, за которой, впрочем, научные дискуссии не прекращались. Последующие экспериментальные работы Шехтера послужили одним из эмпирических оснований теории когнитивного диссонанса, сформулированной Фестингером.
В МТИ Фестингеру и Шехтеру было поручено провести опрос семейных студентов, касавшийся того, как ими решаются их жилищные проблемы. Опрос был инициирован для чисто прикладных нужд и не обещал никаких научных открытий. Опросник включал элементы социометрии, то есть предусматривал выявление взаимоотношений между студентами. В ходе обработки полученных данных выяснилась интересная закономерность: студенты, придерживавшиеся близких взглядов по жилищным вопросам, в целом составляли сплоченную группу, пронизанную взаимными притяжениями; те же, кто демонстрировал крайние взгляды, оказывались на периферии социометрических выборов. Факт сам по себе не слишком впечатляющий и, на чей-то взгляд, даже банальный, но у психологов он вызвал интерес и побудил разработать собственную исследовательскую программу, послужившей прообразом дальнейших блестящих исследований, которые и легли в основу теории когнитивного диссонанса.
Из опытов по изучению межличностной коммуникации родилась теория эмоций Шехтера, прославившая его на весь мир. В ходе остроумных экспериментов им было убедительно доказано: в основе разных эмоциональных переживаний могут лежать одни и те же физиологические проявления – смысл переживания зависит от содержания, которым его наполняет наша оценка окружающей обстановки и поведения других людей. То есть одно и то же физиологическое состояние может нами самими быть истолковано и как гнев, и как испуг, и даже как влюбленность – все зависит от того, как мы оцениваем обстановку, в которой это состояние возникло. Такой подход позволил критически пересмотреть популярную теорию Джемса-Ланге, непосредственно выводившую эмоциональные переживания из физиологических реакций.
Наибольшую известность Шехтеру принесла его книга «Когда не сбывается пророчество» (1956), основная идея которой во многом перекликается с концепцией Фестингера. Книга посвящена интересному социально-психологическому феномену – стремлению людей отстаивать свои установки вопреки очевидности. Отправной точкой повествования послужила история одной калифорнийской секты, члены которой были убеждены в близком и неминуемом конце света. Им якобы была известна даже точная его дата. Лишь им, избранным, отправляющим правильные ритуалы, должна была быть дарована жизнь после вселенской катастрофы. Когда же в назначенный срок (как это не раз бывало на протяжении истории) конец света не состоялся, это нисколько не поколебало веру сектантов. Напротив, их вера упрочилась за счет убеждения, что именно их подвижничество и предотвратило катастрофу. Если отбросить откровенно бредовый характер данной установки, не так ли и мы все ведем себя в иных, не столь экстремальных ситуациях? Даже информация, противоречащая нашим убеждениям, удивительным образом реорганизуется нами для их подтверждения!
Настоящий психолог, Шехтер умудрялся подвергнуть психологическому исследованию самый широкий спектр жизненных феноменов. Так, в 60-е годы он неожиданно обратился к проблеме… борьбы с лишним весом. В ходе остроумного эксперимента, когда испытуемые долгое время жили изолированно в помещении, где ход всех часов был вдвое замедлен, Шехтер наглядно продемонстрировал: люди нередко едят не потому, что они голодны, а лишь потому, что нечто извне подсказывает им: пора перекусить! (В «замедленном» времени испытуемые ели гораздо реже, чем обычно принято.) Фактически Шехтер выступил зачинателем психологии переедания и похудания – целой отрасли, которая сегодня сытно кормит легион специалистов.
В 80-е годы внимание Шехтера привлекли вопросы психологии финансов. Почти случайно он обратил внимание на результаты одного эмпирического исследования, по данным которого на следующий день после сообщения в СМИ о злодейском преступлении в каком-то районе, в этом районе заметно снижается количество покупателей в крупных магазинах. Можно предположить, что люди, напуганные ужасной новостью, хотя и не отдают себе отчета в этом чувстве, но опасаются лишний раз выходить из дома – даже за необходимыми покупками. Шехтер предположил: а не происходит ли нечто подобное на биржевых торгах? В результате пристальных наблюдений за поведением биржевых игроков и сопоставления их реакций с текущими событиями, он сделал вывод, что многие важные финансовые решения принимаются не столько из экономических соображений, сколько продиктованы эмоциями, источники которых могут лежать в любой сфере, сколь угодно далекой от финансов. Рассуждая на эту тему, Шехтер даже ввел в оборот понятие «бубба-психология» (от слова «бабуля» на языке идиш), имея в виду, что любая малограмотная бабуля, повидавшая людей на своем веку, может интуитивно предсказать динамику биржевых торгов не хуже финансового аналитика. В 1981 г. вестник американских финансовых кругов «Уолл Стрит Джорнал» посвятил «бубба-психологии» специальный номер. Фактически Шехтер выступил отцом нового, невероятно популярного ныне направления прикладной психологии – так называемых поведенческих финансов. Проживи он чуть дольше, может, ему, а не Даниэлю Каннеману была бы присуждена в этой области Нобелевская премия.
Но Шехтер лишь наметил эту перспективную линию исследований. Выйдя на пенсию в 1992 г., он отошел от дел. Лишь после его смерти из уст его сына Илайи стало известно, что последние 6 лет жизни Стенли Шехтер страдал раком, но старался ото всех это скрыть. Он умер в своем доме в Нью-Йорке 7 июня 1997 г. в возрасте 75 лет. В память о нем во множестве научных изданий было сказано немало добрых слов. И они им поистине заслужены!
М. Аргайл (1925–2002)
Майкл Аргайл – одна из самых ярких и примечательных фигур в британской психологии ХХ века. Пришедший в психологическую науку в те годы, когда на британских островах она еще оставалась предметом интереса лишь узкого круга кабинетных ученых, он стал одним из тех, кто сумел превратить ее в практически значимую и полезную сферу деятельности, повернуть психологию лицом к актуальным общественным проблемам, популяризировать ее в широких массах. Его книга «Психология межличностного общения», вышедшая в середине 60-х и с тех пор пятикратно переизданная, к настоящему времени распродана во всем мире тиражом свыше полумиллиона экземпляров, возглавив таким образом список британских психологических бестселлеров. В нашей стране лишь в последние годы вышли две книги Аргайла – «Психология счастья» и «Деньги», не вызвав впрочем большого интереса ни у психологического сообщества, ни у широких читательских масс. Увы, наши ученые мужи в последние годы всё больше замыкаются в своей башне из слоновой кости, предпочитая заниматься «искусством ради искусства», а интерес общественности к психологическим проблемам утоляется в основном писаниями вроде «Как стать счастливым за неделю» или «Богат по собственному желанию» – сколь примитивными, столь и бесполезными. Настоящий ученый, Аргайл, рассуждая о счастье и достатке, никого не соблазняет простенькими рецептами, а пытается проникнуть в суть человеческих склонностей и предпочтений, предоставляя каждому делать практические выводы самому. На заре нового века Майкл Аргайл ушел из жизни, оставив богатое научное наследие. Что же это был за человек, и чему мы сегодня можем у него поучиться?
Джон Майкл Аргайл (таково полное имя ученого, фигурирующее впрочем лишь в официальных документах, – миру он известен как Майкл Аргайл) родился 11 августа 1925 г. в Ноттингеме, в семье школьного учителя. По линии отца он принадлежал к древнему шотландскому роду – его предки из клана Аргайлов еще в средние века прославились как бесстрашные воины, борцы за независимость Горного Края. Сам Аргайл своей родовитостью никогда не кичился, тем более не был склонен к шотландскому национализму. О своих корнях он вспоминал лишь тогда, когда предавался одному из своих любимых увлечений – шотландским народным танцам. Кстати, наличие подобных увлечений психолог считал важным фактором душевного благополучия, а танцы в этом отношении – одним из наилучших хобби, поскольку они обеспечивают близкие (в том числе и в буквальном смысле) контакты с людьми, а также столь необходимую организму физическую активность.
В школе проявились разносторонние интересы Майкла – не отдавая предпочтения ни точным наукам, ни гуманитарным, он с равным успехом занимался и теми и другими. В качестве своей будущей профессии он всё же избрал математику и посвятил ей первые два года обучения в Кембриджском университете. Его планы расстроила война. Как и миллионы его сверстников, Майкл встал в ряды защитников отечества перед лицом угрозы нацистского вторжения. Демобилизовавшись после победы, он вернулся в Кембридж, но уже не ради математики. Подобно многим пережившим потрясения военной поры, он заинтересовался проблемами морали и этики и прослушал соответствующий учебный курс. После этого окончательно определились его научные интересы. Аргайл решил посвятить себя психологии. В 1950 г. он с отличием закончил факультет психологии Кембриджского университета и еще пару лет проработал там же в скромной должности младшего научного сотрудника. Его конкретные интересы лежали в сфере человеческих отношений – той, которая относится к социальной психологии. Но эта отрасль психологической науки по общему мнению в те годы еще пребывала в Англии в зачаточном состоянии. Аргайлу было суждено стимулировать ее подлинное рождение и расцвет.
В вековечном соперничестве Кембриджа и Оксфорда первому, Alma Mater Ньютона, традиционно принадлежит преимущество в сфере естественных и точных наук, тогда как второй всегда славился блестящими гуманитарными школами (даже оксфордский математик Доджсон более известен миру как сказочник Кэрролл). Не приходится удивляться, что научные интересы Аргайла вскоре привели его в Оксфорд, где в начале 50-х существовала одна их двух на всю Англию кафедр социальной психологии (вторая, заметно уступавшая оксфордской, работала при Лондонской школе экономики). Здесь Аргайл, ныне признанный одним из пионеров британской социальной психологии, и проработал до самой своей отставки в 1992 г. Оксфорд, на протяжении своей почти 900-летней истории постоянно прираставший новыми колледжами, сохранил эту тенденцию и в ХХ веке – так, в 1965 г. был открыт новый Вольфсон-колледж, одним из основателей которого выступил Аргайл. И это было не единственным его организационным начинанием. По его инициативе также было создано отделение социальной психологии Британского Психологического Общества, основан «Британский журнал социальной и клинической психологии». Заслужив ряд почетных степеней и званий во многих университетах англоязычного мира (характерно, что Университет Аделаиды присвоил ему звание почетного доктора литературы, тем самым отдавая дань не только ученому, но и блестящему мастеру пера), Аргайл после своей отставки отчего-то не удостоился традиционного в таких случаях звания почетного профессора в родном Оксфорде. Впрочем, это упущение было немедленно исправлено. У нас мало кто знает, что университет в Оксфорде не один, а целых два – второй, более молодой, известен как Университет Оксфорд Брукс. Именно Оксфорд Брукс поспешил присвоить мэтру звание почетного профессора. А сотрудники Вольфсон-колледжа по-своему выразили уважение мастеру – в его честь недавно высажен дуб редкого сорта, ныне известный всему Оксфорду как «дерево Аргайла».
За свою более чем полувековую карьеру Майкл Аргайл написал свыше 20 книг (некоторые – в соавторстве), еще столько же вышли под его редакцией. В научных изданиях им опубликовано 170 статей, широко цитируемых во всем мире. И это не говоря про сотни статей научно-популярных. Круг интересов Аргайла был чрезвычайно широк и включал множество общественно значимых тем. Об этом свидетельствуют хотя бы одни названия его научных произведений – «Психология и социальные проблемы» (1964), «Социальная психология труда» (1974) и естественным образом воспоследовавшая за нею «Психология досуга» (1992); «Социальные навыки и душевное здоровье» (1978); «Кооперация – основа социальности» (1990), «Социальная психология повседневной жизни» (1992) и др.
Будучи человеком глубоко верующим (Аргайл долгие годы был старостой прихода оксфордской церкви Непорочной Девы Марии) одно из первых своих научных изысканий он посвятил религии. Нет, Аргайл вовсе не пытался совместить несовместимое – науку и религию (как это со страстью, заслуживающей лучшего применения, наивно пытаются сделать иные российские психологи). В воспоминаниях о нем друзья и коллеги уважительно отмечают, что ученый никогда не позволял своим религиозным убеждениям повлиять на чистоту научных исследований, как не допускал и того, чтобы научные изыскания поколебали его веру. В книге под названием «Религиозное поведение» (Religious Behaviour, 1958) Аргайл рассматривает веру как одно из душевных состояний, которое вполне определенным образом влияет на весь душевный склад человека и направляет его поведение. Уже в этой ранней работе ученый отметил объективно зафиксированный им факт: подлинная религиозность (не путать с поверхностным благочестием и демонстративной набожностью, столь нередкими в наши дни!) способствует душевному равновесию и благополучию. И в этом с ним трудно не согласиться – наличие такого внутреннего стержня, как вера (пускай и уязвимого для критики с атеистических позиций), гораздо лучше, чем отсутствие какого бы то ни было стержня. Ведь построение безрелигиозной духовности и нравственности – дело хоть и вполне реальное, но мало кому посильное.
По-настоящему широкую известность принесли Аргайлу его новаторские исследования невербальной коммуникации. Именно благодаря ему словосочетание «язык тела» прочно вошло не только в научный лексикон, но и в обыденную речь. К сожалению, в нашей стране открытия Аргайла в этой области известны лишь в более или менее корректных пересказах популяризаторов вроде Алана Пиза, которые в большинстве случаев на первоисточник даже не ссылаются. А ведь именно Аргайлу принадлежит приоритет в открытии закономерностей контакта взглядов, влияния роста собеседников на дистанцию общения и др. Английский психолог в результате объективных наблюдений и остроумных экспериментов наглядно продемонстрировал, как язык тела сопутствует речевым высказываниям, то дополняя и уточняя их, то вызывающе с ними диссонируя, а то и вовсе подменяя словесную речь.
30 августа 1965 г. в авторитетном журнале «Социометрия» появилась оригинальная статья об особенностях невербального общения, написанная Аргайлом. Та давняя статья «Контакт взглядов, дистанция и взаимное принятие» сегодня по праву считается классической. Таковой, оценив частоту цитирования, ее еще в 1979 г. признал журнал Current Contents. Фактически она положила началу целому направлению научных исследований, которое активно разрабатывается по сей день. В статье описывались чрезвычайно простые, но очень показательные опыты. В чем же их суть?
В большой, почти пустой комнате стоит человек. Он знает, что за ним наблюдают, что он служит «приманкой» для другого человека, который сейчас войдет в дверь. Впрочем, ничего страшного не происходит – просто двое людей поговорят друг с другом на любую тему, а психологи, придумавшие этот эксперимент, измерят расстояние, на котором находились собеседники. Вот и все.
Но такой простейший эксперимент дал неожиданные результаты. Выяснилось, что существует четкая связь между «дистанцией разговора» и ростом собеседников. А именно: чем выше мужчина, тем ближе он подходит к «приманке» и наоборот, чем меньше его рост, тем дальше предпочитает он находиться от своего собеседника. А вот у женщин наблюдалась прямо противоположная зависимость.
Аргайл предложил вполне правдоподобное объяснение этому странному явлению. В нашем обществе сложилась своеобразная «культурная норма» – мужчина должен быть крупным, высокого роста, а женщина, напротив, миниатюрной. Обращение «коротышка» звучит оскорбительно, а «малышка» – скорее ласкательно. И хотя реальность далеко не всегда соответствует этой норме, все мы неосознанно стремимся подогнать жизнь под «теорию». Поэтому рослому мужчине приятно стоять рядом со своим собеседником, подчеркивая свое «достоинство», а высокая женщина, наоборот, стремится отойти подальше, чтобы скрыть свой «недостаток».
Отсюда следует, в частности, что не стоит во время разговора приближаться к высокой собеседнице или малорослому собеседнику – они будут чувствовать себя неловко. И точно так же не упускайте возможность сделать человеку приятное – подходите почти вплотную к миниатюрной женщине или к рослому мужчине: отсутствие или наличие лишних сантиметров роста может доставить им безотчетную радость.
Из экспериментов, проведенных группой Аргайла, можно сделать еще несколько небесполезных выводов. Психологи, в частности, заинтересовались, какова роль глаз во время разговора. Ведь именно взглядом мы даем понять, что кончили свою мысль и готовы выслушать противоположную сторону, что согласны или не согласны с собеседником, что удивлены, огорчены и т. п. Следовательно, если у одного из двух беседующих между собой людей закрыть верхнюю часть лица, другой должен как-то реагировать на это.
Оказалось, что говорить с «невидимкой» гораздо менее приятно. В то же время собственная невидимость смущает не так уж сильно. Аргайл полагает, что причина тут в обратной связи – мы привыкли постоянно на протяжении всего разговора получать подтверждение или отрицание своим словам. Но вот что любопытно. Женщины подвержены воздействию обратной связи намного больше, чем сильный пол. Выражается это своеобразно: мужчины с невидимым собеседником говорят активнее, а женщины, напротив, почти умолкают.
В последующие годы экспериментов такого рода проводились десятки и сотни. Возникла даже целая «наука» – проксемика – изучающая дистанцию общения. Сам Аргайл осуществил еще несколько ярких опытов и предложил ряд интересных гипотез, касающихся невербального общения, в частности контакта взглядов. Он выдвинул обоснованное предположение, что в любом общении взгляд выполняет функцию синхронизации. Говорящий обычно меньше смотрит на партнера, чем слушающий. Считается, что это дает ему возможность больше концентрироваться на содержании своих высказываний, не отвлекаясь. Но примерно за секунду до окончания длинной фразы или нескольких логически связанных фраз говорящий устремляет взгляд прямо в лицо слушателю, как бы давая сигнал: я заканчиваю, теперь ваша очередь. Партнер, берущий слово, в свою очередь отводит глаза.
Аргайл и его сотрудники продемонстрировали, как взгляды помогают поддерживать контакт при разговоре. Взглядом как бы компенсируется действие факторов, разделяющих собеседников. Например, если попросить беседующих сесть по разным сторонам широкого стола, окажется, что они чаще смотрят друг на друга, чем когда беседуют, сидя за узким столом. В данном случае увеличение расстояния между партнерами компенсируется увеличением частоты взглядов.
Частота прямых взглядов на собеседника зависит и от того, «выше» или «ниже» себя вы его считаете: старше ли он вас, занимает ли более высокое общественное положение. Группа психологов из Линфиод-колледжа, продолжая серию опытов Аргайла, провела эксперимент со студентками. Каждой из испытуемых экспериментатор представлял другую, незнакомую ей студентку и просил обсудить какую-то проблему. Но одним говорили, что их собеседница – аспирантка из другого колледжа, другим ее представляли как выпускницу школы, которая уже не первый год не может поступить в вуз. Если студентки полагали, что их положение выше, чем у партнерши, они смотрели на нее и когда сами говорили, и когда только слушали. Если же они считали, что их положение ниже, то количество взглядов оказывалось при слушании больше, чем при говорении.
Наблюдения в самых разных ситуациях показали, что положительные эмоции сопровождаются количеством взглядов, отрицательные ощущения характеризуется отказом смотреть на собеседника. Интересно, что женщины дольше смотрят на тех, кто им нравится, а мужчины – на тех, кому они нравятся.
Впоследствии было открыто еще множество интересных закономерностей, знание которых чрезвычайно обогащает профессиональный потенциал психолога и позволяет производить впечатление ясновидца и чудодея перед лицом неискушенных наблюдателей. А у истоков этого направления стояли простейшие опыты, доступные даже начинающему исследователю. Поучительный пример, есть над чем задуматься!
Результаты этих исследований Аргайл не замедлил перенести в практическую плоскость. Им было введено в научный обиход понятие социальных навыков, ныне ставшее настолько привычным, что о приоритете Аргайла тут часто забывают. До него под навыками понимались в основном некоторые моторные и умственные акты, которые могут быть усвоены и закреплены для достижения конкретных практических целей. Аргайл, поднаторевший в изучении невербальной коммуникации, указал на исключительную практическую ценность таких навыков, как адекватное выражение человеком собственных мыслей и душевных состояний, распознавание чужих и умение под них подстроиться. По убеждению Аргайла, эти навыки сродни любым другим и так же могут быть сформированы путем целенаправленного обучения. С этой целью пионер английской социальной психологии разработал целую систему специальных тренингов, которые так и назывались – тренинги социальных навыков. Их автор справедливо полагал, что осваивая умения и навыки межличностной коммуникации (в том числе и невербальной), человек способен решить многие свои психологические проблемы – избавиться от робости и застенчивости, обрести уверенность в себе, нормализовать самооценку. И это не говоря про огромную практическую ценность умения ладить с людьми как такового! В наши дни приобрели популярность всевозможные тренинги лидерства, ассертивности, жизненного успеха и пр., у многих здравомыслящих людей вызывающие оправданную настороженность своей спорной методологией, топорностью приемов и залихватской амбициозностью целей. Однако любой тренинг в той мере, в какой он согласуется с изначальными идеями Аргайла, практически неуязвим для критики. Ведь приобретая полезные социальные навыки, человек действительно совершенствуется, или, если угодно, личностно растет. «А что сверх того – то от лукавого!»
Идея человеческого благополучия красной нитью проходит сквозь всё научное творчество Аргайла и находит свое окончательное воплощение в его работах по психологии счастья. Книга «Психология счастья» увидела свет в 1987 г., была оперативно переведена на русский язык и в 1990 г. выпущена издательством «Прогресс». Увы, в ту переломную для нашей страны пору она фактически затерялась на фоне Карнеги и Берна, доходчиво поучавших, как влиять на людей, перестать беспокоиться и начать жить. Обыватель, рассчитывавший получить карнегианское чтиво, был разочарован обширными статистическими выкладками, схемами, ссылками на данные разных исследований. Да и список использованной литературы, состоявший из нескольких сотен англоязычных источников, сразу настраивал на серьезное чтение – занятие для обывателя непривычное и непосильное. В самом деле, книга Аргайла не содержала рецептов счастья. К тому же, вопреки броскому названию, автор с первых строк предупреждает: под счастьем он понимает не «пиковое переживание», а то, что по-английски называется subjective well-being — «субъективное благополучие». Понятно, что на верху блаженства невозможно пребывать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Аргайл ведет речь о том состоянии внутреннего комфорта, удовлетворенности и довольства жизнью, к которому стремимся мы все, но зачастую, увы, безуспешно. Используя богатый эмпирический материал, английский психолог показывает, как связано это ощущение с возрастом, состоянием здоровья, финансовым положением и множеством иных факторов. Причем выявляемые им закономерности отнюдь не очевидны, а порой и парадоксальны. Так, многие из нас, устав от безденежья, убеждены, что рост доходов мог бы подарить нам душевное благополучие. Оказывается, связь тут далеко не однозначна. Вы заинтригованы? А ведь этой теме посвящена лишь одна глава из многих.
Роли денег в душевной жизни человека Аргайлом посвящена еще одна книга, также переведенная на русский язык. Увы, и она не снискала читательского успеха, ибо рецептов обогащения не содержала. В ней автор с подлинно научных позиций попытался разобраться, как меняется душевное благополучие человека в зависимости от материального достатка. Очевидно, что бедняк обездолен в том числе и психологически, и его состоянию – как финансовому, так и душевному – не позавидуешь. Но могут ли деньги сделать человека счастливым? Если да, то сколько их для этого требуется? Человек, зарабатывающий две тысячи в месяц, вдвое счастливее того, кто получает одну? А миллионер тогда соответственно счастливее в тысячу раз? Вам в это не верится? И вы абсолютно правы! А аргументы ищите в замечательной книге Аргайла, благо она и нам доступна.
За 14 лет, прошедшие с момента первого издания «Психологии счастья», Аргайл успел написать еще три монографии, а параллельно продолжал работать над усовершенствованием книги, аккумулируя данные новых исследований этой проблемы, которые в последние годы лавинообразно множатся во всем мире. Второе английское издание увидело свет в 2001 г. и благодаря оперативности издательства «Питер» сегодня доступно и нам.
Это было последнее прижизненное издание Аргайла. 6 сентября 2002 г. ученый умер в своем доме в Оксфорде, откуда он много лет ежедневно отправлялся на велосипеде на лекции. Судя по тому, как жил этот человек, погруженный в любимое дело, окруженный любящими друзьями и близкими, он знал толк в том, что такое счастье!
Л. Кольберг (1927–1987)
Рассказывают, что более половины московских школьников, выполнявших тест на осведомленность, на вопрос: «Что такое мораль?» – дали бесхитростный ответ: «Это вывод из басни». Не поручусь за достоверность этого факта, так как почерпнул его не из научной публикации, а из публицистической статьи, автору которой он показался достойным поводом для упрека молодежи в аморализме. Упрек этот банален и с унылым постоянством повторяется из века в век, из поколения в поколение. На самом деле наивный ответ свидетельствует скорей о бедности лексикона большинства современных подростков, а вовсе не об отсутствии у них моральных норм. Мораль – в той или иной степени – присуща любому человеку, иначе он и не человек вовсе. Но в какой степени? И что это за мораль? Каким образом асоциальный младенец приобщается к человеческой морали?
Кому-то эти вопросы покажутся скорее этическими, нежели психологическими. Философов, поднимавших проблемы морали, любой мало-мальски образованный человек насчитает с десяток, а то и больше (в меру эрудиции). А вот психолога даже самые эрудированные назовут лишь одного – Л.Кольберга, о котором в лучшем случае краем уха услышали в студенческие годы. Ни одна его работа на русский язык не переведена. Оно и понятно – мораль нынче не в моде.
Такое упущение для психолога представляется непростительным. Лоуренс Кольберг – фигура мирового масштаба, и ни один серьезный учебник по детской психологии не обходится без упоминания о его теории морального развития. Познакомимся же подробнее с драматической историей этого выдающегося психолога и его идей. (В основу данного очерка положены материалы из сборника воспоминаний о Кольберге, который его друзья и близкие выпустили в Атланте через год после его смерти).
Лоуренс Кольберг родился 25 октября 1927 г. Он был младшим из четырех детей в семье бизнесмена средней руки. (Еще одно подтверждение оригинальной гипотезы о том, что именно младшие дети становятся новаторами в различных сферах науки и общественной жизни.) Некоторые его биографы всячески подчеркивают, что детство его было безбедным и беспроблемным, и перспективы перед ним открывались блестящие, однако юный бунтарь бросил вызов своему классу и фактически порвал с ним. Справедливости ради такое суждение следует признать несколько преувеличенным. Семья Кольберга не принадлежала к верхам общества, его родители за счет своего трудолюбия и упорства сумели войти в тот круг, который сегодня называют средним классом, более того – сумели в нем удержаться в пору Великой Депрессии. Так что, говоря о безбедном существовании, надо иметь в виду, что речь тут идет не о роскоши, а о скромном стабильном достатке, позволявшем семье Кольбергов в лихие годы не голодать в отличие от многих своих соотечественников.
Забавный русоволосый малыш с веселым нравом постепенно превратился в любознательного парнишку. Рано проявившаяся неординарность ребенка искала своего выхода. Но родителям, увы, было не до этого – свою задачу они в первую очередь видели в материальном обеспечении семьи. (Времена меняются, а человеческие проблемы, в частности семейные, родительские, – все те же!)
Мальчик был отдан в престижную частную школу, однако своим элитарным положением, похоже, ничуть не дорожил. На каникулах респектабельному отдыху он предпочитал авантюрные путешествия по стране. Он кочевал в товарных вагонах вместе с разорившимися фермерами, в придорожных ночлежках допоздна слушал песни бродячих менестрелей, ради пропитания удил рыбу в горных речушках. Уже тогда в окружавших его людях, которых экономический кризис лишил средств к существованию, а порой и крыши над головой, юный Лори сумел разглядеть доброту и человечность, парадоксальным образом уживавшиеся с попрошайничеством и мелким воровством. А как еще не умереть с голоду человеку, когда мир от него отвернулся? Совершает ли преступление вчерашний мастеровой, а сегодняшний бродяга, когда, мучимый голодом, крадет булку? Презрения он достоин или сочувствия? И по каким нравственным критериям его судить?
Уже тогда, в школьные годы, Кольберг задумался о проблемах справедливости и бесчестья. Именно тогда и начались его нравственные искания.
Один из школьных учителей, озадаченный поведением и нравом юноши, посоветовал ему прочитать роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Потрясенный образом Ивана и его стремлением к нравственному совершенствованию, Кольберг еще более утвердился в необходимости найти свое подлинное Я, причем в настоящем серьезном деле. Случай не замедлил представиться. По окончании школы юноша избрал неожиданный путь – вместо продолжения образования поступил матросом в американский флот.
Оказавшись в Европе, он нанялся механиком на небольшое частное судно, совершавшее нелегальные перевозки еврейских эмигрантов в Палестину. Занятие это было сопряжено с известной опасностью. Палестина в 40-е годы находилась под мандатом Великобритании, а английские власти, первоначально поощрявшие переселение евреев на историческую родину, с конца 30-х годов, вопреки насущной необходимости европейских евреев в эмиграции, стали ограничивать, а потом и вовсе запретили их въезд в Палестину. Такое решение было продиктовано корыстными политическими мотивами и никак не укладывалось в человеческие представления о милосердии и нравственности.
Кольберг решил для себя создавшуюся дилемму. Он сознательно пошел на противозаконные действия, будучи убежден, что тем самым помогает людям. Моральная дилемма – оправдание нарушения закона во имя блага реальных людей – впоследствии стала предметом почти всех его психологических исследований.
Но пограничные дозоры не дремали. Судно было захвачено британцами, и вся команда и пассажиры были препровождены в концентрационный лагерь на Кипре (по счастью, отличавшийся от немецкого своими целями, однако ж не условиями содержания). Отчаянному матросу чудом удалось оттуда бежать. Добравшись до «Земли обетованной», Кольберг нашел пристанище в кибуце – самоуправляемом еврейском поселении наподобие колхоза. Здесь, по его мнению, воплотились подлинные идеалы социальной справедливости, которые, правда, плохо сочетались с принципами американской демократии.
Обеспокоенные судьбой сына родители настойчиво призывали его вернуться домой. В конце концов сын решил, что покуролесил достаточно, и внял родительскому совету. Так что о бунтарстве тут следует говорить без особой патетики. Кольберг не изменил традициям своего класса. Напротив, завершив юношеские метания, вернулся в его лоно. Путь для Нового Света типичный – так, бизнесом и наукой в современной Америке успешно заправляют побрившиеся битники, постригшиеся хиппи, присмиревшие анархисты и т. п., так что иной раз просто диву даешься, когда босс иной корпорации насаждает ежедневное пение гимна, хотя в свое время гоготал в Вудстоке над его опошленной гитарной версией.
Возвратившись домой, Кольберг поступил в Чикагский университет. Здесь он серьезно увлекся философией, принялся штудировать труды великих мыслителей прошлого – начиная с Платона и кончая Кантом и Дьюи. Особенно привлекал Кольберга категорический императив немецкого философа, призыв относиться к человеку как к высшей ценности. Увлекала юношу и клиническая психология, в которой он усматривал реальное средство помощи людям. Проработав целое лето санитаром в психиатрической больнице, он принял решение: его стезя – психология (в Америке психология и психиатрия слиты настолько, что никого не удивляет психолог, прописывающий транквилизаторы, или психиатр, рассуждающий о самоактуализации.)
В те годы, дабы облегчить ветеранам войны доступ к высшему образованию, в американских университетах широко практиковался экстернат. Воспользовавшейся этим послаблением, Кольберг ухитрился освоить полный университетский курс за один год и в 1949 г. получил степень бакалавра. Однако настоящие научные исследования начались позже – в 1955 г., когда он приступил к изучению нравственных суждений группы чикагских подростков. Результаты этого исследования легли в основу его докторской диссертации, защищенной три года спустя.
Так появился и расправил плечи новый Кольберг – солидный ученый, доктор философии, к тому же обремененный семьей. Он даже изменил свое имя – вместо привычного, ласкающего слух Лори (Laurie) стал Лэрри (Larry). Впрочем, остепенился он скорее внешне. Внутренне Кольберг мало изменился – все тот же страстный порыв, то же стремление к высшей справедливости. Начиная с 60-х годов известность Кольберга как интересного теоретика и блестящего экспериментатора перешагнула границы США, индекс цитирования рос как на дрожжах. Но он не зазнался, не возомнил себя гуру. Полное отсутствие снобизма, простота и доступность – вот что позволяло ему по-прежнему оставаться незаменимым добрым дядюшкой для своих многочисленных племянников, нежным братом и любящим отцом, по-настоящему преданным другом.
Старинный товарищ Кольберга Э.Шоплер вспоминает: «Лэрри всегда был бесстрашным, как физически, так и интеллектуально, и этим нельзя было не восхищаться. Несмотря на постоянную занятость, он неизменно был готов прийти на помощь друзьям. Ни одна проблема не казалась ему банальной, если это имело отношение к его товарищу, и тогда он отдавал решению этой проблемы всю свою удивительную способность к сопереживанию и творческому анализу… Лэрри был живым воплощением модели высочайшего уровня интеллекта, предложенной Фицджеральдом: «Человек, который обладает даром удерживать в сознании две противоположные идеи и при этом сохранять способность к действию».
В своей работе Кольберг опирался на идеи Жана Пиаже в области изучения нравственных суждений детей. Вопреки распространенному убеждению, будто Пиаже интересовался только генезисом познавательных процессов, ему принадлежат также важные работы (выполненные, кстати, еще в 30-е гг.), касающиеся нравственного развития ребенка. Правда, мысли Пиаже по этому поводу тесно связаны с его представлениями о когнитивном развитии. Согласно Пиаже, нравственные чувства у детей возникают из взаимодействия между их развивающимися мыслительными структурами и постепенно расширяющимся социальным опытом. Становление морали, по Пиаже, проходит две стадии. Первоначально, примерно до пятилетнего возраста, ребенок не имеет никаких представлений о морали и руководствуется в своем поведении в основном спонтанными побуждениями. На стадии нравственного реализма (5–7 лет) дети думают, что необходимо соблюдать все установленные правила, поскольку они безусловны, неоспоримы и нерушимы. На этой стадии они судят о нравственности того или иного поступка исходя из его последствий и еще не способны принять во внимание намерения. Например, ребенок будет считать девочку, накрывавшую стол и нечаянно разбившую дюжину тарелок, более виноватой, чем девочку, намеренно разбившую пару тарелок в приступе гнева.
Позднее, примерно к 8-летнему возрасту, дети достигают стадии нравственного релятивизма. Теперь они понимают, что правила, нормы, законы создаются людьми на основе взаимного соглашения и что при необходимости их можно изменять. Это приводит к осознанию того, что в мире не существует ничего абсолютно правильного или неправильного и что нравственность поступка зависит не столько от его последствий, сколько от намерений человека, его совершающего. (Истоки таких представлений нетрудно отыскать еще в платоновский диалогах.)
В развитие этих идей Кольберг предпринял исследование, в ходе которого ставил своих испытуемых (детей, подростков, а впоследствии и взрослых) перед моральными дилеммами. Вернее, дилемма стояла перед героем истории, которая рассказывалась испытуемому. Специфика экспериментальной ситуации состояла в том, что ни одна дилемма не содержала абсолютно правильного, безупречного решения – любой вариант имел свои минусы. Кольберга интересовало не столько суждение, сколько рассуждение испытуемого по поводу решения героем его дилеммы. Вот одна из классических задач Кольберга.
В Европе одна женщина умирала от редкой разновидности рака. Существовало только одно лекарство, которое, по мнению врачей, могло ее спасти. Таким лекарством был препарат радия, открытый недавно местным фармацевтом. Изготовление лекарства стоило очень дорого, но фармацевт назначил цену, в 10 раз превосходившую его себестоимость. Он платил 200 долларов за радий и требовал 2000 долларов за небольшую дозу лекарства. Муж больной женщины, которого звали Хайнц, обошел всех знакомых, чтобы раздобыть денег, но сумел одолжить только 1000 долларов, то есть половину требуемой суммы. Он сказал фармацевту, что его жена умирает, и попросил снизить цену или отпустить лекарство в кредит, чтобы заплатить оставшуюся половину денег позже. Но фармацевт ответил: «Нет, я открыл это лекарство и хочу на нем заработать. У меня тоже есть семья, и я должен ее обеспечивать». Хайнц пришел в отчаяние. Ночью он сломал в аптеке замок и выкрал это лекарство для своей жены.
Испытуемому задавались вопросы: «Должен ли был Хайнц воровать лекарство? Почему?». «Был ли прав фармацевт, назначив цену, во много раз превосходившую реальную стоимость лекарства? Почему?», «Что хуже – позволить человеку умереть или украсть ради спасения жизни? Почему?»
То, как представители разных возрастных групп отвечали на подобные вопросы, подтолкнуло Кольберга к предположению, что в развитии моральных суждений можно выделить несколько стадий – больше, чем полагал Пиаже. По мнению Кольберга, нравственное развитие имеет три последовательных уровня, каждый из которых включает две четко выраженные стадии. На протяжении этих шести стадий происходит прогрессивное изменение оснований морального рассуждения. На ранних стадиях суждение выносится с опорой на некие внешние силы – ожидаемое вознаграждение или наказание. На самых последних, высших стадиях суждение уже основывается на личном, внутреннем моральном кодексе и практически не поддается влиянию других людей или общественным ожиданиям. Этот моральный кодекс стоит выше любого закона и общественного соглашения и может иногда, в силу исключительных обстоятельств, вступать с ними в конфликт. (Подробное изложение периодизации Кольберга можно найти во многих источниках по возрастной психологии, в частности: Кайл Р. Детская психология: Тайны психики ребенка. – СПб., 2002. – С.292–298; Крэйг Г. Психология развития. – СПб., 2000. – С.533–537; и др.).
Теория Кольберга нашла подтверждение в результатах ряда исследований, показавших, что мальчики (девочки остались за рамками его опытов), по крайней мере в западных странах, обычно проходят стадии морального развития именно так, как это описано Кольбергом. С целью уточнения своей теории Кольберг предпринял с первой обследованной им группой (48 мальчиков) двадцатилетнее лонгитюдное исследование, интервьюируя всех участников эксперимента каждые четыре года с единственной целью – определить уровень моральных суждений опрашиваемых. К концу 70-х это исследование практически исчерпало себя, полностью подтвердив гипотезы Кольберга.
Достигнув впечатляющих результатов, Кольберг мог бы провести оставшуюся жизнь, изучая разные аспекты своей теории. Однако уже в конце 60-х он обратился к проблеме применения своей теории к педагогической практике. К тому же война во Вьетнаме, студенческие волнения, всплеск активности неформальных молодежных движений, проповедовавших весьма противоречивые нравственные ценности, – все это подогревало постоянную озабоченность вопросом: как перенести теоретические представления о ступенях морального развития в практику реального образования?
Отсчет нового витка в исследованиях Кольберга начинается в 1967 г., а отправной точкой стали две идеи Дж. Дьюи: 1) о процессе воспитания как взаимодействии учителей, учащихся и ученых; 2) о демократии как единственном средстве, позволяющем превратить любое воспитательное учреждение в «справедливое сообщество» (термин Кольберга). Реализация этих идей в практике сначала, как ни странно, Коннектикутской женской тюрьмы, а затем в разных типах школ стала главной целью последних 20 лет жизни ученого.
Этот этап в карьере Кольберга в значительной мере связан с работами его аспиранта М.Блатта. Блатт выдвинул гипотезу: если детей систематически вводить в область суждений на моральные темы на ступень выше их собственной, они постепенно проникнуться привлекательностью этих суждений, и это послужит стимулом к развитию их следующей ступени (как видим, идеи о «зоне ближайшего развития» буквально носятся в воздухе). Для проверки этой гипотезы он провел эксперимент с шестиклассниками воскресной школы. Он справедливо рассудил, что наиболее эффективный и в то же время наименее искусственный путь «представления» детям таких рассуждений на ступень выше их собственной состоит во включении их в групповое обсуждение моральных дилемм. При этом участники группы всегда будут находиться на разных ступенях суждений, неизбежно в ходе обсуждения прислушиваясь к мнениям, которые отражают более высокую ступень. Пытаясь убедить друг друга в правильности собственных суждений, дети тем самым будут обнаруживать присущую им ступень морального развития.
Впоследствии Кольберг с коллегами, чтобы создать благоприятные условия для дискуссии и обеспечить непосредственное знакомство учеников с более развитыми моральными суждениями, основали несколько «справедливых сообществ» – особых групп из учеников и учителей в государственных средних школах. Учителя и ученики каждую неделю встречались и планировали школьную деятельность, а также обсуждали школьную политику. Решения принимались демократическим путем, при этом и учителя и ученики обладали равным правом голоса. Тем не менее во время дискуссии учителя действовали как помощники, поощряя учеников рассматривать нравственные последствия тех или иных действий. Как показал опыт, школьники из «справедливых сообществ» имели тенденцию к проявлению более развитого морального мышления.
Эти результаты наглядно свидетельствуют: зрелое моральное рассуждение появляется тогда, когда дети свободно выражают свое мнение по нравственным вопросам, выдвигаемым старшими, а старшие, в свою очередь, демонстрируют детям более высокий уровень морального рассуждения. Более того, высокий уровень морального рассуждения, по всей вероятности, должен побуждать нравственное поведение. Хотя этот момент представляется довольно спорным. По мнению многих критиков Кольберга, существует большая разница между моральным суждением и нравственным поведением. Как бы ни были высоки наши моральные принципы, мы не всегда оказываемся на их высоте, когда наступает время действовать в соответствии с ними. И этим критика в адрес Кольберга не исчерпывается. Он и сам сознавал, что выдвинутые им положения не безупречны, и старался вносить в свою теорию возможные коррективы.
Параллельно Кольберг вел эксперименты и замерял уровни нравственного развития подростков из глухих тайваньских деревушек, маленьких турецких поселков, израильских кибуцей. Эти путешествия с одной стороны поставляли ценный эмпирический материал, с другой – катастрофически подорвали здоровье ученого. В 1973 г. во время посещения Центральной Америки он заразился тяжелой тропической болезнью, которая медленно подтачивала его здоровье все последующие годы.
Кольберг продолжал упорно работать, однако подорванное здоровье, постоянное переутомление, невыносимые физические страдания резко состарили его. А 17 января 1987 г. он… исчез. Спустя несколько дней была найдена его машина на одной из тупиковых улиц неподалеку от Бостонской гавани. И только в начале апреля Гудзон выбросил на берег тело ученого. Судя по всему, Кольберг покончил с собой.
Почему 59-летний ученый в зените успеха принял такое решение? Близкие – при том что многие до конца не уверены в версии суицида – склонны объяснять это отчаянием изнуренного недугом человека. (Кстати, в похожей ситуации принял решение об уходе из жизни и Зигмунд Фрейд). Мотивы ученого несколько проясняет запись, сделанная в дневнике незадолго до смерти: «Если мы любим жизнь и природу, мы должны со спокойствием и хладнокровием относиться к собственной смерти, потому что жизнь вообще мы ценим гораздо больше, нежели собственную, имеющую естественный конец жизнь. Если мы знаем и любим вечное, мы в этом смысле сами становимся вечны…»
С. Милгрэм (1933–1984)
Американский психолог Стэнли Милгрэм прожил недолго и написал немного. Лишь недавно сборник его трудов был опубликован на русском языке (Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000). В предисловии к этой книге профессор В.Н. Дружинин писал: «Вряд ли С.Милграм нуждается в том, чтобы ему «воздавать должное». Его вклад в развитие социальной психологии, да и в общечеловеческое знание о природе человека давно признан, а сам он причислен к наиталантливейшим экспериментаторам в социальной психологии ХХ века». И эта оценка не грешит преувеличением. В историю науки Милгрэм вошел благодаря своим ярким экспериментам, заставившим психологов, да и просто мыслящих людей по-новому оценить скрытые от поверхностного взгляда особенности нашего внутреннего мира, наши безотчетные установки по отношению к себе и другим. Его «звезда» взошла в бурные шестидесятые, когда многие его коллеги на гребне общественных настроений добивались популярности приторным пустословием. В отличие от них, Милгрэм не фантазировал, а исследовал. И его открытия по праву вошли в золотой фонд психологической науки, выступая поучительным примером для новых поколений исследователей.
Стэнли Милгрэм родился 15 августа 1933 г. в Бронксе, малореспектабельном районе Нью-Йорка, где во множестве селились небогатые эмигранты из Восточной Европы (за четверть века до этого события на одной из соседних улиц появился на свет еще один эмигрантский сын, ставший известным психологом, – Абрахам Маслоу). Он был средним из троих детей Сэмюэла и Адели Милгрэм, перебравшихся в Америку в годы первой мировой войны. Среднее образование он получил в школе Джеймса Монро, где вместе с ним учился другой будущий психолог, сын итальянских эмигрантов Филип Зимбардо. В наши дни переводы книг Милгрэма и Зимбардо на русский язык вышли в одной серии («Мастера психологии»). Интересно, что и некоторые их опыты явно пересекаются как по форме, так и по содержанию – знаменитый «тюремный эксперимент» Зимбардо буквально звучит в унисон с опытами Милгрэма, посвященными подчинению авторитету.
После окончания школы Милгрэм поступил в знаменитый Куинз Колледж, где намеревался специализироваться в области политологии, однако быстро разочаровался в этой дисциплине, так как в ней, по его мнению, при анализе общественно-политических процессов не придавалось должного значения человеческим побуждениям. А именно этот предмет и вызывал его особый интерес. Поэтому в аспирантуру он вознамерился поступить в Гарварде и специализироваться там в области социальной психологии. Его, однако, не приняли, потому что никакой психологической подготовки он ранее не получил. Но Милгрэм проявил настойчивость и за лето освоил в трех Нью-Йоркских вузах целых шесть психологических курсов. В итоге осенью 1954 г. он был принят в аспирантуру в Гарвард.
Именно здесь он повстречал человека, который на всю жизнь стал для него крупнейшим научным авторитетом и образцом для подражания. Это был Соломон Аш, получивший известность своими исследованиями феномена конформности. В 1955–1956 гг. Аш преподавал в Гарварде в качестве приглашенного лектора, и Милгрэм был его ассистентом как в учебном процессе, так и в исследовательской деятельности. Среди его преподавателей были и другие ныне всемирно известные психологи – Г.Оллпорт и Дж. Брунер, также оказавшие на него большое влияние.
Диссертационным исследованием Милгрэма формально руководил Олпорт, однако фактически работа была выполнена под влиянием теории конформности С.Аша. Милгрэм осуществил сравнительный анализ степени конформности с привлечением двух национальных выборок – французской и норвежской. Им для этой цели была модифицирована методика Аша. Вместо оценки длины отрезков, предъявляемых, разумеется, визуально и в присутствии подставных участников эксперимента, Милгрэм воспользовался аудиотестом, в котором от испытуемых требовалось указать, какая из пар тонов в предъявлявшейся серии более продолжительна. Дезориентирующая реакция «соучастников» также поступала через наушники – испытуемый постоянно слышал единодушную реакцию заблуждающегося большинства и был принужден принимать решение, то ли присоединиться к большинству (проявить конформность), то настоять на своем варианте ответа. Методика в данной модификации была апробирована в Гарварде летом 1957 г. Затем в течение 1957/58 учебного года опыты проводились в Институте социальных исследований в Осло, а в 1958/59 учебном году в Сорбонне. В опытах на норвежской выборке был зафиксирован более высокий уровень конформности, что позволило выдвинуть гипотезу о взаимосвязи этой социально-психологической характеристики с национальными и культурными особенностями. Вероятно, в более компактном и гомогенном норвежском обществе тенденции к конформным реакциям более сильны, чем во французском с его традиционным разномыслием. (Характерно, что более или менее широкая апробация методики на российской выборке так и не была проведена. Интересно, какие бы тут выявились местные особенности? Догадаться, впрочем, нетрудно. Хотя в целях научной корректности надо бы проверить.) Так или иначе, это было очень важное исследование, поскольку в нем впервые вопрос о национальных различиях в поведении был перенесен из сферы житейских гипотез и побасенок в область систематических и контролируемых наблюдений за поведением.
После возвращения в США Милгрэм последовал за Ашем, который получил должность в Принстоне. Здесь он продолжал ассистировать мэтру и даже принимал участие в редактировании книги о проблемах конформности, которую Аш писал в те годы, но которая так и не была опубликована.
Несмотря на то, что Милгрэм всегда считал Аша своим интеллектуальным наставником, их личные отношения складывались довольно формально, без той доверительности и легкости, которой Милгрэму удавалось достигать в общении с другими коллегами, в том числе и старшими. Год в Принстоне он провел в одиночестве, предаваясь долгим размышлениям о перспективах своих исследованиях. В результате этих раздумий у него сложилась модель эксперимента, которая нашла блестящее воплощение годом позже, когда он перебрался в Йель и приступил к полностью самостоятельной работе.
В этих экспериментах была поставлена задача выяснить, до какой степени подчинения могут дойти обычные люди под давлением авторитета. Милгрэму удалось создать лабораторную ситуацию, которая оказалась очень эффективной для изучения способности к подчинению. В чем же состоял эксперимент? По официальной версии, он был посвящен исследованию процессов научения. От испытуемого требовалось решать задачи возраставшей трудности. Для участия в эксперименте были привлечены добровольные помощники. Им надлежало следить за успешностью решения задач и в случае неудачи наказывать испытуемого ударом электрического тока (изучению якобы и подлежало влияние наказания на научение). Строгость наказания постепенно возрастала. Для этого перед помощником была размещена приборная панель с 30 рубильниками, а над каждым из них – ярлычок с указанием силы разряда, начиная с минимального в 15 вольт и кончая максимальным в 450 вольт. Дабы помощник отдавал себе отчет в своих действиях, ему перед началом опыта давали возможность испытать на себе силу удара в 45 вольт. После инструктажа испытуемого привязывали к устройству, напоминавшему электрический стул, провода от которого вели к приборной панели. В ответ на высказанное испытуемым беспокойство по поводу его не совсем здорового сердца экспериментатор хладнокровно заверял: «Хотя сами удары током могут быть очень болезненными, устойчивого поражения тканей они не вызовут». И эксперимент начинался.
После нескольких успешных решений ученик начинал делать ошибки. Следуя полученным инструкциям, помощник экспериментатора с каждой новой ошибкой опускал новый рубильник. На пятом ударе – в 75 вольт – испытуемый начинал стонать от боли, а при 150 вольтах умолял остановить эксперимент. Когда напряжение достигало 180 вольт, он кричал, что больше не в силах терпеть боль. Если помощник испытывал колебания, присутствовавший тут же экспериментатор бесстрастно призывал его продолжать экзекуцию. По мере приближения силы разряда к максимуму можно было наблюдать, как испытуемый, уже даже не пытаясь решить задачу, бьется головой о стену и умоляет его отпустить. Поскольку такая реакция никак не может быть признана удовлетворительным решением, следует новое наказание.
Возникает невольный вопрос: кто позволили психологам творить такое бесчинство? На самом деле никто никого не мучил. Роль испытуемого исполнял профессиональный актер, который лишь разыгрывал страдание. А настоящим испытуемым выступал добровольный помощник экспериментатора. Именно его поведение подлежало изучению. Стенли Милгрэм хотел выяснить: до какой степени жестокости может дойти человек, если его действия санкционированы авторитетом.
Предварительно он попросил группу известных психиатров дать прогноз относительно возможных результатов эксперимента. Все сошлись во мнении, что от силы процентов двадцать испытуемых, видя явные страдания жертвы, перейдут рубеж в 150 вольт. Таких, кто доведет силу удара до максимума, по общему мнению, среди нормальных людей вообще не найдется. Ну, может быть, один процент.
Реальные результаты полностью опровергли этот прогноз. 65 % испытуемых Милгрэма назначили своей жертве максимальное наказание!
Комментируя свой эксперимент, Милгрэм с горечью заметил: «Если бы в Соединенных Штатах была создана система лагерей смерти по образцу нацистской Германии, подходящий персонал для этих лагерей легко можно было бы набрать в любом американском городке».
Аналогичные эксперименты, проведенные как в США, так и в других странах (Австралии, Иордании, Испании, Германии), позволили утверждать, что выявленная Милгрэмом закономерность носит универсальный характер.
В нашей стране эти результаты принято было комментировать в том аспекте, что, мол, загнивающее буржуазное общество способствует глубокой моральной деградации. Повторить эксперимент советские психологи не решались. Да и к чему, когда многие еще не очень старые люди помнят подобный глобальный опыт в масштабах всей страны? В любом уголке мира, когда власть предержащим приходит охота поучить кого-то методом кнута, недостатка в палачах не возникает. Если доходит дело до справедливой расплаты, оправдания одни и те же: «Время было такое», «Нас так учили», «Мы исполняли свой долг»… Впрочем, чаще всего и оправдываться не приходится.
Правда, одна из модификаций эксперимента оставляет какую-то надежду. Когда экспериментатору в помощь брали трех ассистентов, и двое из них – «подсадные» – отказывались следовать бесчеловечному приказу, то и третий – настоящий испытуемый – к ним присоединялся. Пример порядочного и гуманного поведения почти любого заставляет взяться за ум. И это обнадеживает.
Первые результаты этого исследования были опубликованы в 1963 г. в Journal of Аbnormal and Social Psychology и сразу вызвали оживленную полемику. В частности, оппонентами были высказаны претензии к этической стороне эксперимента. Тот факт, что экспериментальная ситуация была подтасована и реальный испытуемый был намеренно введен в заблуждение, особых возражений не вызывал – для социально-психологических экспериментов это обычная практика. Однако было очевидно, что эксперимент мог повлечь негативные последствия для самоуважения испытуемого, лишить его душевного спокойствия – кому приятно осознавать, что он оказался марионеткой в руках манипуляторов, да еще и выступил в неприглядной роли палача? По мнению Милгрэма, вся полемика по этическим вопросам была чрезмерно раздута. Он писал: «Суть в том, что с точки зрения влияния на самоуважение последствия для испытуемых в этом эксперименте даже меньше, чем для студентов, сдающих обычные экзамены. Почему-то при проверке знаний человека мы вполне готовы к проявлению напряжения, а также негативным последствиям для самооценки в случае провала и даже просто невысокой оценки. Но как же мы становимся нетерпимы, когда дело касается генерирования новых идей и знаний!» Тем не менее этическая неоднозначность эксперимента вызвала настороженное отношение к Милгрэму в официальных научных кругах, и его заявление о приеме в Американскую Психологическую Ассоциацию поначалу даже было в связи с этими соображениями отвергнуто (членом АПА он стал только в 1970 г.)
Научная карьера Милгрэма складывалась в обычной для западных ученых традиции – для большинства из них постоянная должность выступает пределом мечтаний, а в реальности приходится путешествовать по научным учреждениям от контракта до контракта. По истечении контракта в Йеле он возвратился в Гарвард, где ему был предложен новый трехгодичный контракт (его годовой оклад составлял 8600 долларов – даже по меркам шестидесятых довольно скромную сумму, так что рассказы о благоденствии заокеанских коллег и прежде и теперь относятся скорее к мифам).
В Гарварде Милгрэм сосредоточил свое внимание на двух направлениях исследований. Одно было продолжением проекта, начатого в Йеле, другое – абсолютно новым.
Еще работая в Йеле, Милгрэм вместе со своими аспирантами Леоном Манном и Сьюзен Хартер придумал «метод потерянного письма», чтобы иметь возможность ненавязчиво выяснить настроения местного сообщества. Подобно многим другим проектам Милгрэма, метод потерянного письма ставит человека перед дилеммой. Существует распространенное мнение – его можно назвать даже нормой, – что если вы случайно находите кем-то оброненное письмо, вам следует опустить его в почтовый ящик. А если письмо адресовано подрывной организации, преследующей антидемократические и антигуманные цели, которые ответственный гражданин не может разделять? Ведь если он отправит письмо, то тем самым окажет косвенную поддержку этой организации.
Во время первой апробации этого метода в Йеле на тротуарах, около телефонных будок, в магазинах и студенческих общежитиях было «потеряно» 400 писем. По сотне было адресовано своим сторонникам нацистской и коммунистической партиями, сотня якобы рассылалась научным работникам медицинского колледжа, сотня – неизвестному частному лицу, некоему мистеру Уолтеру Карнапу. Милгрэм установил, что из писем, адресованных красным и коричневым, оказалось отправлено менее четверти, тогда как свыше 70 % писем в адрес научных работников и частного лица были опущены в почтовый ящик. Впоследствии эта методика нашла широкое применение для анализа общественных настроений.
Гарвардский студенческий городок в архитектурном отношении сильно отличался от Йельского. Это натолкнуло Милгрэма на мысль сопоставить данные об отправке потерянного письма из общежитий разных типов. В одном городке здания были двух типов: 22-этажные башни, вмещавшие до 500 человек, и небольшие 4–5-этажные строения на 165 студентов. Другой студенческий городок состоял из 2–4-этажных общежитий, вмещавших в среднем по 58 студентов.
Исследователи под руководством Милгрэма хотели определить уровень взаимопомощи в жилищах разного типа. Для этого они воспользовались ранее опробованной методикой потерянного письма. По людным местам общежитий были разбросаны запечатанные конверты с обычным благодарственным письмом, на которых была марка и адрес получателя, но отсутствовали данные отправителя. Требовалось определить, какая доля «утерянных» конвертов будет отправлена по почте нашедшими их студентами разных общежитий.
Можно было бы ожидать, что чем больше людей будет проходить мимо письма, тем выше вероятность, что его заметят и опустят в почтовый ящик. На самом деле все оказалось наоборот. Выяснилось, что только 63 % писем, оставленных в общежитиях с высокой плотностью проживания, было отправлено по почте; в общежитиях со средней плотностью доля таких писем составляла 87 %, а в общежитиях с низкой плотностью – 100 %. Аналогичные опыты, проведенные впоследствии в других университетах, дали очень сходные результаты.
Для того, чтобы выяснить, чем обусловлено такое положение дел, студентам, проживавшим в разных общежитиях, рассылались опросники. Полученные ответы подтвердили, что у тех, кто жил в условиях «высокой плотности населения», чувство коллективной ответственности гораздо слабее. Это, в частности, могло объясняться более сильным чувством одиночества и «анонимности», которое испытывали большинство из них. Что же тогда говорить о самих учебных заведениях, где иногда между корпусами циркулируют тысячи студентов, переходя из одной переполненной аудитории в другую? Быть может, наблюдаемые в последние десятилетия сдвиги в поведении молодежи отчасти связаны с такими условиями существования…
В совершенно новом исследовании, которое Милгрэм начал в Гарварде, использовался метод «тесного мира», призванный ответить на вопрос: «Если взять наугад двух незнакомых людей, сколько понадобится промежуточных связей через общих знакомых, чтобы они встретились?» Вопрос, в самом деле, довольно интересен. «Как тесен мир!» – иной раз восклицаем мы, обнаружив, что имеем общих знакомых, скажем, со случайным попутчиком в поезде. Но насколько он тесен? Выяснить это и решил Стэнли Милгрэм.
Сам Милгрэм признавал, что проблема «тесного мира» занимала не только его – в ту пору ее активно обсуждали историки, политологи и даже специалисты по градостроительству. А идея эксперимента невольно была почерпнута им из записок некоей Джейн Джекобс, с которыми он ознакомился в начале 60-х. Вот что она писала.
Когда моя сестра и я прибыли в Нью-Йорк из маленького городка, мы часто развлекались игрой, которая у нас называлась Посланиями. Суть ее состояла в том, что нужно было выбрать двух совершенно разных людей (скажем, охотника за головами на Соломоновых островах и сапожника из Рок Айленда, штат Иллинойс) и представить, что один из них должен передать устное сообщение другому; затем каждая из нас должна была молча составить правдоподобную или, по крайней мере, вероятную цепочку посредников, через которых это послание могло проделать свой путь. Тот, кому удавалась придумать наиболее короткую и правдоподобную цепь, выигрывал. Так, охотник за головами мог бы поговорить с деревенским старостой, тот передал бы сообщение торговцу, прибывшему купить копру, торговец рассказал бы о нем австралийскому патрульному офицеру, проезжавшему через этот район, он, в свою очередь, передал бы услышанное человеку, собравшемуся провести отпуск в Мельбурне, и т. д. Если начать с другого конца цепи, то сапожник мог бы услышать сообщение от священника, который мог получить сообщение от мэра, который получил его от сенатора штата, а сенатор от губернатора и т. д. Вскоре поиски этих посредников стали для нас обычным занятием в отношении чуть ли не каждого человека, которого мы только могли вообразить себе.
Подобным образом Милгрэм и организовал свой эксперимент. Его интересовало, сколько посредников образуют цепочку, которая могла бы связать друг с другом двух незнакомых людей в разных концах огромной страны с многомиллионным населением. Предварительно он поинтересовался мнением экспертов. Ими были высказаны разные предположения, но все сходились на том, что звеньев в такой цепочке будет никак не меньше ста, а скорее всего и гораздо больше.
Для участия в эксперименте были наугад отобраны около полутора сотен добровольцев в двух небольших провинциальных городах – Вичита, штат Канзас, и Омаха, штат Небраска. Им предстояло переслать письмо незнакомым адресатам. В одном случае это была молодая женщина, жена одного из студентов Гарвардского университета (там в ту пору работал Милгрэм), в другом – биржевой маклер из Бостона. Отправители письма знали лишь имя адресата, его род занятий и город, в котором он проживает. Вероятность того, что отправитель лично знает адресата, составляла одну двухсоттысячную. В этом исключительном случае его просили вернуть письмо исследователям. В любом ином случае следовало переслать письмо кому-нибудь из своих знакомых, который мог бы знать такую личность. Если следующий в цепи адресат также не знал указанного человека, он должен был на тех же условиях передать письмо другому своему знакомому. Число таких передач и может служить показателем дистанции, разделяющей двух совершенно случайно выбранных людей в большой стране.
Исходя из математических расчетов вероятности, да и простого здравого смысла, можно было бы предположить, что отправленные письма до сих пор кочуют по просторам Америки. Произошло на самом деле совсем иное. Цепочка связи оказалась очень короткой. Подавляющее большинство связей лежало в интервале от 2 до 10 передач, а среднее значение составляло 5 с половиной, округленно – 6.
С легкой руки Милгрэма термин «шесть уровней разделения» прочно вошел в лексикон американцев (стоит отметить, что в Америке яркие психологические эксперименты оказывают весьма заметное влияние на общественное сознание). В 1990 году даже была поставлена пьеса Джона Гуара с таким названием. В 1998 году интерес научного сообщества к «шести уровням разделения» оживил Дункан Уоттс, предложивший математическое описание этого феномена.
А недавно исследовательская группа Уоттса предложила 61168 добровольцам из 166 стран воссоздать эксперимент Милгрэма с помощью электронной почты. На этот раз перед добровольцами поставили цель, пересылая письма знакомым, «добраться» до двух сотрудников одного известного американского университета. Эксперимент и на этот раз продемонстрировал существование пресловутых «шести уровней разделения»: каждое сообщение пересылалось от добровольца к адресату через пятерых-семерых посредников. Впрочем, нынешним добровольцам удалось найти адресата значительно скорее, нежели участникам эксперимента 1967 года, прежде всего, из-за разницы в скорости переправки сообщения по электронной почте и писем с помощью почты обычной. Так что в известном смысле технический прогресс делает мир еще теснее.
Много лет назад Стэнли Милгрэм так резюмировал итоги своего опыта: «В то время как многие исследования в области социальных наук показывают, насколько индивид отчужден и отрезан от общества, результаты нашей работы дают возможность взглянуть на проблему иначе: в некотором отношении мы все тесно связаны друг с другом и вплетены в плотную социальную связь». Правда, оговорка «в некотором отношении» выступает тут отнюдь не лишней. Милгрэм по этому поводу указывал: «Когда мы говорим, что существует только 5,5 промежуточных знакомых, это наводит на мысль о близости в положении инициатора поиска и искомого лица, что является огромным заблуждением, накладкой двух абсолютно независимых систем координат. Если два человека разделены 5,5 ступенями, они на самом деле очень далеки друг от друга. Почти каждого в Соединенных Штатах отделяет от президента или Нельсона Рокфеллера всего несколько ступеней, но это справедливо только с математической точки зрения и ни в коей мере не означает, что наши жизни соприкасаются с жизнью Нельсона Рокфеллера. Таким образом, когда мы говорим о пяти посредниках, мы говорим об огромном психологическом расстоянии между инициатором поиска и искомым лицом – расстоянии, которое только кажется небольшим, поскольку обычно мы воспринимаем 5 как небольшое, легко управляемое количество. Нам следует помнить, что две крайние точки коммуникативной цепочки отделены друг от друга не пятью индивидуумами, а «пятью кругами знакомств» – пятью самостоятельными структурами. Это позволяет увидеть их действительное соотношение».
Все мы в самом деле настолько связаны в причудливой сети социальных взаимоотношений, что каждый из нас, как недвусмысленно указывают опыты Милгрэма и Уоттса, за пять-шесть шагов может вплотную приблизиться к любому другому. Сие однако не означает, будто все мы близки друг другу в социальном и психологическом отношении. И исследования этих закономерностей вероятно подарят миру еще немало интересных открытий.
По мере того как Милгрэм и его деятельность в Гарварде становились все более известными академическим кругам и широкой общественности по его журнальным и газетным публикациям (исследователь никогда не брезговал популяризацией своих изысканий), вокруг его имени стали разгораться все более оживленные дискуссии и споры. Лавиной посыпались приглашения на семинары и коллоквиумы, его журнальные статьи перепечатывались в десятках антологий, а священники в своих проповедях приводили уроки морали, почерпнутые из его работ. В течение ряда лет самые разные люди писали ему, расспрашивая о деталях экспериментов, а порою и делясь, весьма откровенно, своим личным опытом. Например, один человек написал, что прочел об экспериментах по подчинению и нашел их интересными, но несколько искусственными. Сам автор письма в своей профессиональной деятельности имел дело с реальными жертвами: в его обязанности входило отключать электроэнергию у злостных неплательщиков, невзирая даже на лютую стужу за окном. Психолог охотно отвечал своим корреспондентам, однако эта личная переписка, разумеется, осталась неопубликованной. А жаль! Интересно, что он ответил на то письмо…
В Гарварде Милгрэм пережил одно из самых больших разочарований в своей жизни. Будучи уже именитым ученым, он рассчитывал наконец удостоиться постоянной должности, и такая возможность на самом деле рассматривалась университетской администрацией. Однако его кандидатура была отвергнута. Создавалось впечатление, что кое у кого образ Милгрэма напрямую ассоциировался с его экспериментами и его безотчетно считали полоумным ученым-садистом, от которого лучше держаться подальше. Оскорбленный таким отношением, Милгрэм покинул Гарвард. Новые контракты ему предлагали Корнельский университет и Калифорнийский университет в Беркли, однако он предпочел далеко не самый престижный вариант и заключил контракт с Нью-Йоркским городским университетом (CUNY). Этот выбор был продиктован рядом материальных и бытовых соображений, и сам Милгрэм считал его временным, надеясь впоследствии обосноваться в более солидном учреждении. В действительности же университет превзошел все его ожидания, и он проработал там 17 лет до самой смерти.
Его уже давно интересовали особенности психологии жителей больших городов. Еще в 1964 г. в соавторстве со своим другом, социологом Полом Холландером, он написал аналитическую статью, инициированную злодейским убийством на Нью-Йоркской улице молодой официантки Китти Дженовезе в присутствии десятков безучастных свидетелей.
Крылатыми стали слова американского поэта Ричарда Эберхарта: «Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить, не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».
Может быть, именно эти слова в последние минуты своей жизни смутно припомнила молодая американка Китти Дженовезе. Ее жизнь трагически оборвалась ранним утром 13 марта 1964 года на глазах у десятков свидетелей, ни один из которых не пришел ей на помощь. Этот инцидент получил освещение в десятках газет, но скоро забылся бы подобно тысячам других «маленьких трагедий большого города». Однако психологи по сей день продолжают обсуждать «случай Дженовезе» в безуспешных попытках понять темные стороны человеческой натуры (этот инцидент упоминается в широко известных у нас учебниках Жо Годфруа, Эллиота Аронсона и др.).
В ту ночь (шел четвертый час) молодая официантка возвращалась с ночной смены. Нью-Йорк – не самый спокойный город на Земле, и она, наверное, чувствовала себя не очень уютно, шагая в одиночестве по пустынным ночным улицам. Смутные опасения материализовались в кровавый кошмар у самого порога ее дома. Здесь на нее было совершено жестокое немотивированное нападение. Возможно, нападавший страдал психической болезнью или был одурманен наркотиками – выяснить его мотивы не удалось, потому что пойман он так и не был. Преступник принялся избивать беззащитную жертву, потом нанес ей несколько ударов ножом. Китти вырывалась и отчаянно звала на помощь. Ее душераздирающие крики разбудили всю округу: десятки жильцов многоквартирного дома, в котором она жила, прильнули к окнам и наблюдали происходящее. Но ни один при этом и пальцем не пошевелил, чтобы оказать ей помощь. Более того – никто не удосужился хотя бы поднять телефонную трубку и вызвать полицию. Запоздалый звонок последовал лишь тогда, когда спасти несчастную было уже невозможно.
Этот случай наводит на самые невеселые размышления о человеческой природе. Неужели принцип «Моя хата с краю» для большинства людей перевешивает естественное, казалось бы, сострадание к беззащитной жертве? По горячим следам психологи опросили 38 свидетелей ночного инцидента. Вразумительного ответа о мотивах их безучастного поведения получить так и не удалось.
Тогда было организовано несколько экспериментов (не очень-то этичных, ибо они носили откровенно провокационный характер): психологи инсценировали некий инцидент, в котором подставное лицо оказывалось в угрожающей ситуации, и наблюдали за реакцией свидетелей. Результаты оказались неутешительны – мало кто поспешил на выручку ближнему. Впрочем, не было даже нужды в особых экспериментах – в реальной жизни оказалось достаточно подобных коллизий, многие из которых описаны в прессе. Зафиксировано множество примеров того, как человек, пострадавший от нападения, несчастного случая или внезапного приступа, подолгу не мог получить необходимой помощи, хотя мимо него проходили десятки и даже сотни людей (одна американка, сломавшая ногу, почти час пролежала в шоке посреди самой многолюдной улицы Нью-Йорка – Пятой авеню).
Кое-какие выводы из провокационных экспериментов и простых житейских наблюдений все же удалось сделать. Оказалось, что само количество наблюдателей выступает не просто впечатляющей цифрой, вопиющим свидетельством массовой душевной черствости, но и сильным деморализующим фактором. Чем больше посторонних наблюдают беспомощность жертвы, тем меньше оказывается для нее вероятность получить помощь от кого-либо из них. И напротив, если свидетелей немного, то кем-то из них поддержка скорее всего будет оказана. Если свидетель и вовсе один, вероятность этого еще более возрастает. Характерно, что часто единственный свидетель невольно озирается по сторонам, словно желая сверить свое поведение с поведением окружающих (или найти кого-то, на кого можно было бы переложить свалившуюся вдруг ответственность?). Поскольку окружающих не оказывается, приходится действовать самому, в соответствии со своими нравственными представлениями. Разумеется и тут люди ведут себя по-разному, но, наверное, именно такая ситуация личной ответственности и выступает своеобразным нравственным тестом. «Если не я, то кто?»
Наоборот, при виде хотя бы нескольких человек, не реагирующих на происходящее, человек невольно задается вопросом: «Мне что – больше всех надо?»
Психологи отмечают: в подобных критических ситуациях крайнюю безучастность гораздо более склонны проявлять жители крупных перенаселенных мегаполисов, чем жители сельской местности и небольших городков. Наверное, прав был Гюго, заметивший: «Нигде не чувствуешь себя таким одиноким, как в толпе». Анонимность большого города, где все друг другу безразличны, все чужие, каждый сам за себя, приводит к тяжелым моральным деформациям. Горожанин постепенно обрастает скорлупой равнодушия, не отдавая себе отчета, что случись беда с ним, сотни прохожих перешагнут через него, не обращая внимания на его страдания. В такой бездушной атмосфере истощается душа, рано или поздно происходит эмоциональный и нравственный надлом. И человек спешит к психологу, чтобы спастись от духовной нищеты. Квалифицированных психологов сегодня много. Хороших – меньше. Потому что хороший психолог, по верному наблюдению Сиднея Джурарда, это в первую очередь хороший человек. По крайней мере, он не должен быть похож на тех, кто много лет назад мартовским утром глазел на мучительную смерть Китти Дженовезе.
Под влиянием наблюдений над менталитетом горожан Милгрэм начал регулярно проводить семинары по урбанологии и вместе со своими студентами предпринял ряд оригинальных исследований поведения жителей мегаполиса. Один из таких экспериментов был на удивление прост, но в то же время чрезвычайно показателен. Окно лаборатории Милгрэма выходило на многолюдную 42-ю улицу в Нью-Йорке. Опыт был организован следующим образом: различное количество пешеходов (это были участники эксперимента, проинструктированные Милгрэмом студенты) останавливались на улице и начинали смотреть на окно седьмого этажа. За окном Милгрэм снимал толпу на кинопленку. Он систематически изменял число участников и измерял размер толпы, которая собиралась, чтобы присоединиться к зевакам. Когда на окно глазел лишь один участник эксперимента, рядом с ним останавливались и тоже задирали головы 45 % прохожих, когда число участников достигало пятнадцати, останавливались уже 85 % пешеходов. Это был иной тип социального воздействия, чем изучавшийся ранее, – не повиновение, а скорее заражение. Так или иначе, эксперимент убедительно продемонстрировал: если возрастает количество источников влияния, то и сила их воздействия увеличивается. Подобные эксперименты были впоследствии повторены в разных модификациях многими исследователями с целью изучения механизмов социального влияния.
На ежегодном съезде АПА в 1969 г. Милгрэм сделал доклад «Опыт жизни в больших городах: психологический анализ». Стенограмма доклада год спустя появилась в популярном журнале Science (к началу восьмидесятых эта статья была признана классической по индексу цитирования и вошла более чем в 50 антологий). С ней случайно ознакомился режиссер-документалист Гарри Фром, который предложил Милгрэму создать на основе статьи кинофильм. В результате в 1972 г. появился документальный фильм «Город и личность», завоевавший несколько престижных кинематографических наград и даже имевший изрядный коммерческий успех, что с документальными фильмами случается нечасто. Кинопроизводство захватило Милгрэма, и он совместно с Фромом выпустил еще четыре фильма по проблемам социальной психологии. Вообще, следует отметить, что он был чрезвычайно одаренной и разносторонней личностью – не только планировал и осуществлял оригинальные эксперименты, но и писал песни (их с энтузиазмом распевали студенты шестидесятых вперемешку с песнями Дилана и Моррисона), изобретал настольные игры, а также пробовал себя в литературном творчестве.
В последние годы жизни он страдал от болезни сердца. Умер скоропостижно, в возрасте 51 года, от сердечного приступа. Написанные им песенки сегодня изредка вспоминают лишь его бывшие студенты. А его научные исследования вдохновляют на новые открытия психологов всего мира.
Примечания
1
Имена и фамилии зарубежных ученых пишутся по-русски в соответствии с определенной сложившейся традицией. При этом возникает противоречивая ситуация, когда относительно написания имен их известных родственников существует иная традиция. Так, в данном случае фамилия психолога традиционно пишется Джемс, тогда как его брат-писатель известен как Джеймс. (Впрочем, сегодня иные отечественные авторы и издатели, вероятно – не знакомые с вековой традицией, и психолога именуют Джеймсом, из-за чего порой возникает путаница.) И это не единственный подобный случай. В Большой Советской Энциклопедии мы можем прочесть о писателе О.Хаксли – внуке естествоиспытателя Д.Гексли (Huxley) и т. п. Вероятно, целесообразно придерживаться однажды принятого написания, даже если оно не представляет собой точной транскрипции (в конце концов, и Фрейда правильнее именовать Фройдом, однако подобные попытки иных современных психологов скорее производят впечатление наивного нонконформизма). Иначе возникают досадные разночтения. Так, в психологических изданиях последних лет мы встречаем фамилии Сакс, Шах, Сас (Sachs); Ганье, Ганэ, Гэгни (Gagne) и др.
(обратно)2
Именно такое написание английской фамилии Sully было принято в переводах работ ученого на русский язык, вышедших в конце 19 – начале 20 в. В наши дни знатоки транскрипции наверняка назвали бы его Салли – подобно тому, как Соломон Аш ныне именуется Эш, Джемс – Джеймс, да и Фрейда скоро повсеместно начнут звать Фройдом. Но про Селли сегодня вряд ли вспомнят, так что можно безбоязненно последовать вековой традиции.
(обратно)3
Еще один забавный пример традиционного написания иноязычных имен. Английский естествоиспытатель Huxley известен у нас как Гексли, хотя его внук-писатель, носящий ту же фамилию, получил известность уже как Хаксли.
(обратно)4
По версии Фрейда, родители Панкеева в присутствии больного сына занимались любовью, причем два раза подряд, когда однажды среди бела дня заглянули в его спальню, чтобы проведать лежавшего в жару мальчика. Признаться, чтобы представить себе такую сцену, требуется исключительно богатое, мягко скажем, воображение.
(обратно)5
При знакомстве с разными источниками выявляются необъяснимые разночтения: в некоторых публикациях отчего-то упоминаются иные имена – Маделина и Алиса. К сожалению, истину трудно установить, не имея возможности обратиться к французскому оригиналу труда Бине (русский перевод отсутствует).
(обратно)6
Именно такова вековая традиция написания имени Мюнстерберга по-русски. В нынешнюю пору презрения к традициям (или их незнания) некоторые переводчики используют иную транскрипцию – Хьюго. Автор предпочитает придерживаться традиции, отказ от которой привел бы к изрядной путанице и заставил бы, например, автора «Отверженных» именовать Виктором Хьюго.
(обратно)7
Достойно сожаление повсеместное стремление российских полиграфистов упростить свою работу за счет избавления от таких «малосущественных» деталей, как точки над буквой Ё. В результате многие психологи, знакомившиеся с идеями Кёлера по современным учебникам, зовут его Келером, что, конечно же, неправильно – немецкую фамилию Köhler по-русски следует писать через ё и соответственно произносить.
(обратно)8
Трудности транскрипции обусловили различное написание фамилии Szondi в отечественных источниках: Сонди, Зонди, Шонди и даже Жонди. Для данного очерка избран наиболее распространенный вариант.
(обратно)9
Очерк написан М.А. Степановой
(обратно)10
Авторы современных психологических трудов отчего-то озаботились соблюдением правил, согласно которым фамилия Александра Романовича якобы не должна склоняться. Мы, вопреки этому веянию, пускай и формально верному, станем придерживаться традиции, которой по сей день следуют психологии, учившиеся у Лурии, общавшиеся в Лурией (традиции, кстати, не нарушенной и автором блестящей биографии Лурии Карлом Левитиным).
(обратно)11
Уже в наши дни в посмертно изданном сборнике ранее не опубликованных работ Лурии увидел свет и этот юношеский опус. Признаться, это издательское начинание кажется очень спорным. Желал ли сам автор с высоты своей зрелой профессиональной позиции этой публикации?!
(обратно)12
Склонность к прямым заимствованиям иноязычных терминов привела к тому, что ныне в отечественной психологии этот метод повсеместно известен как «клиент-центрированная терапия». Увы, профессионалы стараются не замечать, насколько неуклюже такие заимствования звучат по-русски.
(обратно)13
Такое русское написание принято для редкого имени Burrhus.
(обратно)14
Опубликована в 5-м томе знаменитой «Истории психологии в автобиографиях» (1967)
(обратно)15
В отечественных переводах существуют разные варианты этих понятий, в том числе и навевающие странные ассоциации, – например, «жидкий» и «твердый» интеллект.
(обратно)16
Так, основоположником отечественной психотерапии К.И. Платоновым термин «логотерапия» использовался в значении «лечение словом» – в противовес медикаментозному и хирургическому лечению, то есть как синоним психотерапии; в этом значении термин распространения не получил. В некоторых отечественных работах по коррекционной педагогике термином «логотерапия» обозначается совокупность психотерапевтических методов и приемов, направленных на преодоление речевых нарушений.
(обратно)17
В подготовке материала использованы воспоминания А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, опубликованные в сборнике «Выдающиеся психологи Москвы»
(обратно)18
В отечественной литературе произвольно используются разные варианты написания фамилии McClelland – Макклелланд, Мак-Клелланд и др. В отсутствие сложившейся традиции в данном очерке принят наиболее легко читаемый вариант.
(обратно)
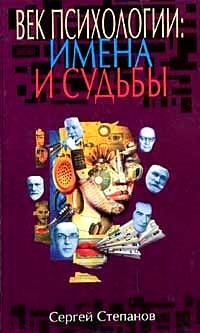
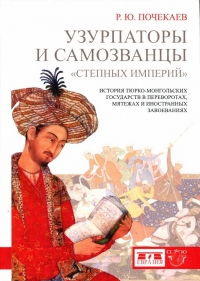




Комментарии к книге «Век психологии: имена и судьбы», Сергей Сергеевич Степанов
Всего 0 комментариев