Хеди Фрид Осколки одной жизни Дорога в Освенцим и обратно
«Эта книга — больше, чем личный документ, это показания свидетеля. Глубоко трогающие. Разрывающие сердце».
Эли ВизелПамяти моих родителей, Фриды Жмук-Клейн и Игнаца Жмука
Понадобилось сорок лет, чтобы я поняла, что являюсь свидетелем и обязана поведать о пережитом, хотя я и не писательница. Нас так мало, оставшихся в живых. Мы должны рассказать о том бесчеловечном деянии, которое было совершено в двадцатом столетии. Это не должно быть забыто и не должно никогда повториться.
Хэди ФридСигет
Солнце садится за зелеными холмами. Процессия усталых мужчин, женщин и детей следует вдоль медленно текущей реки. Не слышно ни звука, кроме шарканья ног и постукивания палок о камни. Люди одеты в лохмотья, за плечами у них узлы, они опираются на посохи. Женщины несут на руках маленьких детей, старшие дети — своих младших братьев и сестер, мужчины помогают старикам. Все, что нужно сказать, уже сказано.
Куда они идут? Найдут ли себе приют? Позволят ли им остаться? Они верят в это. Видение снова и снова проходит перед моими глазами — евреи с узлами и посохами. Я — одна из них, но в то же время наблюдаю происходящее со стороны.
Я теперь уже не знаю, кто из нас видел этот сон — я или моя мать. Или кто-то из моих предков, живших в далеком туманном прошлом.
Почему это видение встает перед моим взором сейчас, когда я собираюсь рассказать о своем детстве в Богом забытом городке, затерявшемся в Карпатах?
Я жила в Сигете. Это был маленький город в Трансильвании, расположенный у подножья горы, окруженный водой. Река Иза смешивала свою мутную воду с чистыми талыми водами Тиссы, которая текла двумя рукавами, омывающими остров и город на нем. Воздух был легок и прозрачен, и от этого все казалось близким. Темная зелень лесов, покрывающих склоны горы, была прорезана полями, на которых пасся скот. Фермеры в крестьянской одежде, пасущие овец, казалось, были на расстоянии вытянутой руки. Город окружали сады с яблонями и грецкими орехами, ветви которых осенью сгибались под тяжестью спелых плодов. Сердце города — парк с чудесными цветочными клумбами, которые зимой покрывались мягким белым снежным одеялом. Вокруг парка течет сонная жизнь провинциального города. Люди идут по улицам — кто в церковь, кто в кинотеатр, в аптеку, в банк, в школу, к мяснику, в кафе.
Парк был центром всего, и никто здесь никуда не спешил. По его посыпанным гравием дорожкам в Вербное Воскресенье шествовала процессия католиков, Дева Мария восседала под красным балдахином, маленькие мальчики в белых стихарях шли впереди и взмахивали кадилами, затем следовал священник в сиреневой рясе, люди шли за ними, размахивая пальмовыми ветками. Канун Крещения прихожане Греческой Ортодоксальной церкви, одетые в черное, встречали перед гигантским ледяным крестом. Здесь также по субботам и еврейским праздникам прохаживались евреи в длинных, до пят, кафтанах, белых чулках и отороченных мехом шапках. В эти дни большинство магазинов в округе стояли с закрытыми ставнями. Из 30 000 жителей города почти половину составляли евреи, многие из них были торговцами.
После полудня в маленьком павильоне играл военный оркестр. Вокруг него на белых скамейках сидели и слушали пожилые парочки. Молодые няньки катали коляски и знакомились с солдатами, одновременно присматривая за своими старшими подопечными. Мальчики в матросках носились с обручами, а маленькие девочки в белых чулочках и лакированных туфельках укладывали спать своих кукол.
Вечером нищий всегда уходил из парка как раз тогда, когда оркестр играл последний марш. Для торговцев с Центральной улицы это служило сигналом того, что скоро будет семь часов и они смогут закрыть на сегодня магазины. Некоторые уже начинали задвигать тяжелые ставни перед витринами и теперь ждали, когда пробьют часы на церкви.
Мы с мамой сидели в мануфактуре у дядя Сэмюэля и ждали отца, который должен был забрать нас оттуда после работы. По традиции мы должны были закончить день визитом к старшему брату моего отца. Всегда, когда мне разрешали ходить среди всех этих цветистых тканей, ярких и блестящих, мягких и шелковистых, я испытывала радостное волнение. Я знала, что мне дадут образцы, из которых мама потом смастерит одежду для кукол.
Начали бить часы на церкви. Сначала нас окружали звуки закрывающихся ставней, грохот экипажей на мостовой, шаги людей, идущих домой. Но вот мы миновали двухэтажные дома на Центральной и повернули на восток, по направлению к Профессорской улице. Здесь было тише, только звон часов сопровождал наши шаги. Мы прошли мимо школы и таких милых вилл с маленькими садиками перед ними и вышли на перекресток, где кончается Сигет. Каменная мостовая сворачивает направо, а затем назад, в город. Впереди простираются большие сады, пустые поля, а слева — больничный комплекс с каменным тротуаром вдоль ограды. Эта улица ведет к шоссе, соединяющему многочисленные деревушки, и называется Больничной.
Мы жили на Больничной улице, 33, напротив больничного парка. На нашей стороне улицы не было тротуара. Мы шли по узкой тропинке между серой оградой и грязной дорогой к красным воротам дома моего детства, моих воспоминаний.
Воспоминания. События, о которых я зачастую знаю только по рассказам других. Сами же происшествия потускнели в памяти. Я вижу себя стоящей в комнате родителей, ревущей и рассерженной. Год 1926, мне около двух лет. Утро, постели не застелены. Отец хочет, чтобы я чистила зубы. А я не хочу. Он стоит передо мною с зубной щеткой в руке. Я отказываюсь. Сталкиваются две воли. Я еще этого не знаю, но исход предрешен. Он сильнее. Он шлепает меня, я плачу, но все равно не подчиняюсь. Отец выходит из себя. Он сердится все больше и больше, я продолжаю упрямиться. Он все шлепает и шлепает, пока не приходит мама и не освобождает меня. Почистила я все-таки зубы или нет? Не помню. Но помню, что мне пришлось просить прощения и обещать, что никогда больше не буду упрямой.
Еще одно раннее воспоминание. Мне было три года, и я начала ходить в детский сад. Я была счастлива, потому что тогда у меня не было братьев или сестер, с которыми я могла бы играть дома. Мама отводила меня в детский сад и забирала потом, а я протестовала против этого. Большинство детей были старше меня, они приходили и уходили сами, а для меня было важно выглядеть такой же большой, как они. Я плакала и умоляла и в конце концов кое-чего добилась: мама провожала меня утром, но возвращаться домой мне разрешили одной.
Когда часы били двенадцать и нас отпускали, я уходила, счастливая, с другими детьми и шла вместе с ними, не думая о том, в каком направлении был мой дом. Увлекшись беседой, я едва замечала, как один за другим товарищи покидали меня — по мере того как мы доходили до их домов. И так вот однажды я осталась на улице одна. Я огляделась вокруг. Грязная улица, совсем как наша, та же серая ограда, но нет красных ворот. Дома были незнакомые, и я поняла, что заблудилась. Я заплакала.
Женщина остановилась и спросила:
— Почему ты плачешь, девочка?
— Я не могу найти свой дом.
— Где ты живешь?
— За красными воротами.
— Как тебя зовут?
— Хедике.
— Чья ты?
— Папина.
— Не плачь, Хедике. Я отведу тебя домой.
Я перестала плакать и взяла ее за руку, а она повернула в противоположную сторону. Через несколько минут я уже узнала свой район, и вскоре мы были на Больничной улице, где я увидела свою маму, стоявшую у окна. Оказалось, что женщина заметила мое сходство с отцом, а город был такой маленький, что она без труда поняла, где мы живем.
Идиллия? На первый взгляд, так. Ведь я еще не заглянула за то, что лежит на поверхности.
Говорили, что я серьезный ребенок. Это звучало лестно, и я решила, что должна быть достойна такого звания. Я думала, что серьезный — это тот, кто никогда не смеется. Поэтому я не решалась смеяться. Позже, когда (в 1929 году) родилась моя младшая сестра и все внимание было сосредоточено на ней, я старалась произвести впечатление своей серьезностью. Моя сестра была счастливым прелестным ребенком, а я — грустной некрасивой девочкой.
У нас было беззаботное детство и любящие родители. Детская психология была еще неизвестной наукой, и никто не понимал моей ревности. Я ушла в себя и жила в своих фантазиях. Каждое слово похвалы в адрес моей сестры звучало для меня как осуждение.
Жизнь в Сигете текла медленно, сегодня как вчера, завтра как сегодня. Утром мы отправлялись в школу, мать шла на рынок, а отец — на фабрику, где делали картонные коробки (он был ее совладельцем). Поначалу бизнес процветал. Мы были хорошо обеспечены, отец мог дать нам все необходимое. Мы не могли позволить себе большой роскоши, но книги и картины, хотя и недорогие, были предметами первой необходимости.
Немного событий происходило в моем маленьком мире. Главным была школа. А потом, начиная с тридцатых годов, еще и мальчики, которых можно было встретить по дороге. Иногда, когда было включено радио, я слышала странные тирады, сопровождаемые тревожными криками. Они приводили моих родителей в задумчивость, и я чувствовала их беспокойство. Если я задавала вопросы, они успокаивали меня: «Это всего лишь сумасшедший в Германии» или «Собака лает — ветер носит». Это звучало не вполне убедительно, но мы жили в Румынии, и Германия была еще далеко.
А близко был мой маленький мир, желтый дом на Больничной улице. Серая ограда защищала нас от любопытных глаз и непрошеных посетителей. Красные ворота были всегда заперты. Посетителю для того, чтобы войти, нужно было дергать за шнур звонка. Наша дворняга Бодри сидела на цепи и свирепо рычала, как только кто-нибудь приближался. Ворота вели на мощеный двор, через него можно было попасть в дом, в летнюю кухню и в сад. Продукты мы хранили в погребе, потому что холодильников в Сигете не было.
Сад был моим любимым местом и летом, и зимой. Вдоль ограды росли десять слив, плоды которых мы собирали осенью. В центре сада стояли качели. Мы с сестрой Ливи часто спорили, кому на них качаться. Овощные грядки были справа, цветы слева — высокие кусты роз, мамина гордость, разодетые в белые, розовые и желтые лепестки. Зима сменялась весной, за летом приходила осень, и с ними менялись запахи — роз, жимолости, жасмина, астр. Мама любила цветы и любила за ними ухаживать.
В нашем доме было четыре комнаты, одну из которых занимали мамины родители. Мама была младшей дочерью, и дедушка специально купил этот дом для нас, чтобы им с бабушкой было где прожить осень своей жизни. Дедушка сидел, листая свои пожелтевшие фолианты, и жевал длинный черенок своей трубки. Я любила влезать к нему на колени и играть с его длинной белой бородой. У него были смешные прозвища для нас, детей, и он рассказывал нам удивительные истории о необычных вещах. Бабушка была более сурова. Она вела хозяйство: несмотря на свой возраст, ходила на рынок и возвращалась тяжело нагруженная.
Они прожили с нами недолго. Дедушка умер, когда мне было пять лет. Его смерть потрясла меня, это была первая туча на моем безоблачном небосклоне. Мне было трудно понять, что он мертв, что он никогда больше не будет рассказывать нам свои истории или качать нас на коленях. Мне было очень грустно, и я старалась, чтобы никто не видел, как я плачу. Я была большая девочка, а большие храбрые девочки никогда не плачут.
— Мама, почему дедушка умер?
— Он был уже очень старый. Его сердце устало биться. Оно остановилось.
— А мое сердце тоже остановится?
— Не думай об этом. Ты еще ребенок.
Но тревога не проходила. Я все думала о дедушке, о смерти, о том, что сердце может перестать биться. Ночью я лежала в постели и прислушивалась к своему сердцу. Бьется? Я не могла заснуть от страха, что оно остановится во сне.
Едва я оправилась от смерти дедушки, как бабушка тоже умерла. Но жизнь продолжалась. Их комната стала кухней, так что нам не надо было больше пользоваться кухней во дворе. Там теперь спала наша горничная, и мы скоро привыкли к новому порядку. Но страх смерти еще не прошел, и мне было позволено спать на софе в комнате родителей. Обычно мы с Ливи спали в детской.
В четвертую комнату мы, дети, заходили редко. Это была столовая, запретная для нас территория. Нам разрешали входить туда, только когда приходили гости. Я мечтала попасть в столовую, когда там никого нет, полежать на мягких коврах, поиграть с изящной фарфоровой балериной. Я мечтала о том, чтобы балерина была моей, но с этим надо было подождать, пока я вырасту… Я не знала тогда, что можно копить на что-то. У меня не было карманных денег. Если мне хотелось купить мороженое или конфет, приходилось просить их у родителей.
В то же время мне внушали, что я никогда не должна принимать деньги от незнакомых людей. В городе было полно бродяг, и мы боялись этих страшных стариков. Поэтому я не знала, что делать, когда судья, которого я раньше никогда не встречала, хотел дать мне монету. Я играла с соседской девочкой, моей ровесницей Бебой, когда другая соседка, тетя Костенки (по румынскому обычаю мы звали старших «тетя» или «дядя») попросила нас сбегать в городской суд отнести письмо ее мужу, судье. Мы выполнили поручение и в награду получили по блестящей монетке в 20 лей. Беба приняла свою монету со счастливой улыбкой, я же, скрепя сердце, отказалась. Я слышала голос отца, шептавший: «Никогда не бери деньги у стариков, которых ты не знаешь». Судья настаивал, Беба уговаривала, а я только качала головой, но в конце концов сдалась и взяла деньги.
Очутившись на улице, я посмотрела на свое новоприобретенное богатство и задумалась, что с ним сделать. Я не смела рассказать о нем дома из страха, что меня накажут.
Я пошла в бакалейную лавку и спросила, могу ли я купить шоколаду на всю эту огромную сумму. Бакалейщик улыбнулся и кивнул, но я не смела поверить ему. Я думала, что он пытается меня разыграть. Я не могла себе представить такую большую шоколадку, которая могла бы стоить целых 20 лей. Я решила, что будет безопаснее купить какие-нибудь другие сладости и попросила дать мне монпансье. Бакалейщик посмотрел на меня с некоторым удивлением и взвесил мне большой пакет. Я никогда не видела такого количества конфет, и у меня слюнки потекли. Я быстро запихнула одну в рот и стала сосать. Вкус был изумительный. Сладкий, немного острый фруктовый сироп ласкал мое небо и стекал в желудок. Я вынула леденец изо рта, чтобы удостовериться, какого он цвета. Он был красный. Я сосала его, пока он не растаял, и принялась за другой, зеленый. Его вкус напоминал лес и лето. Следующий, желтый, на вкус был, как апельсин. Четвертый показался мне уже хуже, а пятый я еле осилила.
Я поняла, что больше не смогу съесть ни одной конфеты, и оставшееся придется спрятать. Но где? Это должно быть дома, в надежном месте, так, чтобы никто не нашел. Я пошла домой, надеясь, что смогу проскользнуть незаметно и спрятать пакет. «Господи, сделай так, чтобы ворота были открыты», — молила я всю дорогу. Бог был ко мне благосклонен. Ворота были открыты, я пробралась на цыпочках в столовую и спрятала пакет на дне буфета. И забыла о нем.
Несколько недель спустя дядя Фишман, отец Бебы, зашел навестить нас. Увидев меня, он спросил:
— А что ты сделала со своими деньгами?
Тут я вспомнила про леденцы, которые спрятала в буфете. Я покраснела и хотела убежать.
Но мать поймала меня за руку и спросила:
— Какие деньги?
— Те 20 лей, которые она получила от судьи Костенки, когда они с Бебой отнесли ему письмо, — ответил дядя Фишман.
Мама посмотрела на меня с сомнением:
— Ты получала деньги от судьи Костенки?
— Ты разве не говорила об этом матери? — спросил дядя Фишман.
— Что это ты от нас скрыла? — сказала мать настороженно и сурово на меня посмотрела.
Я была напугана, но понимала, что выхода нет. Пришлось рассказать. Я призналась, что получила 20 лей, но, к моему большому удивлению, буря не разразилась. Мать не сердилась. Она только хотела знать, куда я положила деньги. Когда я ей рассказала всю историю, она расстроилась, потому что я потратила деньги на сладости. Она захотела взглянуть на пакет. Мы пошли в гостиную гуськом — я первая, затем мать, замыкал шествие дядя Фишман. Когда я открыла дверцу буфета, то не поверила своим глазам. Я увидела липкий пакет, по которому ползали миллионы муравьев. Взглянув на него, мама, по-видимому, решила, что для меня достаточным наказанием будет то, что леденцы придется выбросить.
Наш дом был скромно меблирован, и ванной у нас не было. Лишь несколько лет спустя отец сумел купить современный дом с ванной и паркетом. До этого нам приходилось мыться в деревянном корыте. Каждый четверг вечером его ставили на кухне на стулья — получалось что-то вроде клетки. На плите грелась вода, стоял густой пар. Он смешивался с запахом коричневых бобов, приготовленных на обед, теста, квасившегося на печи в мягких плетеных корзинах (весь хлеб на неделю пекли в пятницу утром). Мы с Ливи спорили, кому сидеть на том конце корыта, где была затычка. Мы в конце концов договаривались, что та из нас, у кого на ногах больше царапин, будет сидеть на самом удобном месте. Мы считали свои раны и, когда приходили к согласию, нас мыли, вытирали и заворачивали в душистые, пахнущие мылом простыни.
Я лежала в ожидании сна, и ко мне подкрадывались страхи. Обычно они принимали вид крестьян из деревень, в праздничной одежде, с несколькими шляпами на голове. Почему я их так боялась? Я привыкла видеть крестьян в их цветастых народных костюмах, так как они каждый день приходили в город продавать свои товары на рынке. По пятницам, кончив работу, они шли в магазин, чтобы купить себе одежду и другие необходимые вещи. Они надевали свою новую одежду на себя поверх старой — это было легче, чем нести ее. Затем они шли в кабак, и когда я встречала их с несколькими шляпами на голове, они обычно были пьяны. Была ли это пьяная болтовня — все то, что они говорили, считая, что ребенок их не слышит? Все эти россказни о евреях, которых они таскали за бороды, о детях, которым не давали спокойно ходить в хедер — учить еврейский алфавит, о крестьянах, которые швыряли булыжники в молельные дома и переворачивали могильные камни на еврейских кладбищах?
Зима обычно была суровая. Я до сих пор помню, как мороз обжигал мне щеки, когда я возвращалась с уроков фортепьяно, и темно было, как ночью. Звезды мигали, в лунном свете все предметы отбрасывали длинные тени, снег хрустел под ногами, а я согревала руки горячими каштанами, которые держала в карманах. На углу улицы стоял человек, жаривший каштаны в ржавой красной жаровне, и невозможно было пройти мимо, не остановившись, как бы я ни спешила. Горящие глаза углей гипнотизировали меня и заставляли останавливаться, несмотря на холод. Если у меня была монетка, я покупала пакетик, если нет — просто стояла и вдыхала запах.
На площади, напротив театра, был каток, и я была счастлива, когда отец подарил мне коньки, и я могла кататься со всеми. Дядя Лаци присматривал за катком и поддерживал огонь под маленьким навесом, где мы надевали коньки и отдыхали время от времени. Он всегда охотно помогал нам покрепче привинтить коньки, а также заводил дребезжащий граммофон, под звуки которого снегурочки вальсировали на льду. Под «Вальс на льду», «Голубой Дунай» и другие медленные мелодии девочки в коротких, отороченных мехом бархатных юбочках порхали, как птицы. Я еще не научилась так кататься и завидовала этим девочкам. Спускалась ночь, зажигались лампочки, а они кружились и выводили на льду красивые фигуры. Обычно я играла в салки с мальчишками и часто прибегала к дяде Лаци — погреться и послушать его рассказы. Он продавал чай и горячий пунш и любил рассказывать о своих подвигах во время Первой мировой войны.
Но зима была короткая. Скоро уже загорались свечи конского каштана у нас за окнами. Дни становились дольше, и, когда я возвращалась с уроков фортепьяно, было еще светло. Майские жуки тучами роились в листве деревьев, их янтарные крылья сверкали в лучах заходящего солнца. Они шуршали и гудели, а маленькие дети насаживали несчастных насекомых на прутья, чтобы играть в аэропланы. Я спасала от мальчишек умирающих жуков, жертвуя своими самыми дорогими сокровищами — чудесными камушками, но безрезультатно, так как вскоре этим детям попадались новые жертвы, они клали их в спичечные коробки и убегали, чтобы продолжить игру где-нибудь в другом месте.
В больничном парке цвели вишни и пели пчелы. Серые фигуры в одинаковых пижамах бродили, мечтательно глядя на деревья. Мне особенно запомнился один мужчина с седыми волосами, которого я часто видела, когда он ходил, ссутулившись, тяжелыми шагами, с каким-то опустошенным выражением на лице и блуждающим взглядом. Он все время оглядывался, как будто за ним кто-то шел. Он ходил медленно, жестикулируя и разговаривая сам с собой. Неожиданно что-то приковывало его внимание, и его блуждающий взгляд останавливался на вершине дерева. На лице застывало одно выражение, и он мог часами стоять неподвижно, сгорбив плечи, с широко открытыми глазами, полуоткрытым ртом. Что он видел? Может быть, его очаровывала красота дерева, или вдруг что-то ужасное чудилось за его листвой? Будущее, от которого он бежал и которое все же могло его настигнуть?
Цветы вяли, становилось теплей, появились красные вишни. Однажды в субботу, проснувшись от ласкового прикосновения солнца к моему лицу, я увидела в окно, что сторож больницы собирает спелые ягоды. «Может, он и мне даст немного», — подумала я и выскочила из постели.
Я надела свой лучший наряд — новое белое шерстяное платье с вышитыми кошками и черные лакированные туфли. Я просила, чтобы мне разрешили надеть короткие носочки, но мама сказала, что еще холодно. Она также решила, что нужно надеть новое пальто в красную, белую и серую клетку, и мне казалось, что я выгляжу в нем очень элегантно. Я повязала вокруг шеи красный шарф, хорошо сочетавшийся с синей розочкой у меня в волосах. Идя по улице, довольная своим видом, я надеялась привлечь внимание сторожа. Я встала у ограды, взялась руками за колючую проволоку и стала смотреть на него с мольбой.
Очень скоро сторож повернулся ко мне и сказал:
— Хочешь вишен?
— Да, пожалуйста…
— Сбегай за корзиной, я тебе насыплю.
Я побежала к маме, возбужденно крича:
— Корзину, корзину! Мне дадут вишен!
Когда я прибежала обратно с корзиной, дядя Янци, больничный сторож, протянул за ней палку через забор. Он наполнил корзину вишнями и передал ее обратно тем же способом. Я поблагодарила его и принялась искать «сережки» — сдвоенные вишенки. Выбрав две пары, я повесила их на уши и побежала домой, чтобы дать такие же «сережки» своей маленькой сестре. Я вручила корзину матери, не попробовав ни одной ягодки.
С нетерпением ждала я, когда вернется из синагоги отец, мы пообедаем, и можно будет наконец есть вишни. Я бегала до угла улицы и обратно в надежде, что папа придет скорее, если я буду его встречать. Наконец я увидела его, когда он поворачивал на нашу улицу, большой, со светлыми волосами и улыбающимися голубыми глазами. Увидев, что я бегу ему навстречу, он протянул руки. У меня перехватило дыхание, когда отец поднял меня, закружил и подбросил в воздух.
— Еще! Еще! — кричала я со страхом и восторгом одновременно.
Но вот он уже опустил меня на землю, и мы идем домой, и папа держит мою маленькую ладошку в своей большой руке. Я смотрю на него снизу вверх и с гордостью думаю, что ни у кого нет такого чудесного отца, как у меня. Он был красивый и мудрый, сильный и добрый. Я любила своего отца больше всего на свете.
Став постарше, я часто думала о том, как несправедлива была в моей любви. За нами, детьми, смотрела мать, она была дома весь день, вела хозяйство и следила, чтобы все было в порядке. Когда отец приходил домой, были только веселье и игры, счастье и смех. Ему не приходилось быть строгим, так как все проблемы, возникшие в течение дня, были уже разрешены. Поэтому я обожала отца, а мать казалась мне чуть ли не мачехой.
Теперь папа был дома, и мне было весело, Я трещала без умолку, стараясь как можно быстрее рассказать обо всем, что произошло за день. Ведь скоро придет моя маленькая сестра и потребует своей доли отцовской любви.
Когда мы вошли в столовую, субботняя еда была уже на столе. Традиционный шолет[1] уже принесли из пекарни, и он стоял величественна на белой камчатной скатерти. Отец благословил нас и прочитал молитву над хлебом. Все сели за стол и приступили к паштету из печени, мать расспрашивала отца о том, как он провел день и кого он встретил. Я едва притронулась к еде, мысленно умоляя их поскорей закончить. Я не могла думать ни о чем, кроме вишен. Казалось, прошла целая вечность, и вот они наконец появились на столе, и я смогла насладиться ими. Мама и папа устали после плотного обеда и пошли в спальню прилечь.
— Вы не будете шуметь, дадите нам поспать? — спросила мама.
— Не будем, — ответили мы.
— Если вы будете хорошими девочками, мы можем пойти потом гулять, — сказал папа.
— Чур, я с тобой!
— А чья сегодня очередь?
— Моя, — сказали мы с Ливи одновременно.
По субботам папа обычно брал одну из нас немного прогуляться. Больше всего на свете я любила быть с папой наедине. Это было время, когда он рассказывал все свои интересные истории о детстве, об удивительных животных, о войне, о большом мире, который был где-то там, далеко. На этот раз Ливи не согласилась, что очередь моя, и мы заспорили. Папа сказал, что, по его мнению, очередь, действительно, моя, а Ливи он пообещал, что она тоже интересно проведет время. Она могла бы пойти с мамой в парк и показать всем свою новую игрушечную коляску.
Мама с папой ушли, а мы сидели тихо, как мыши, боясь лишиться предстоящего удовольствия. Потом пошли в сад и играли, пока родители не встали, и тогда мы оделись и отправились на прогулку.
— Папа, ты умрешь?
— Все должны умереть.
— Я не хочу, чтобы ты умер.
— Никто нас не спрашивает. Человек умирает, когда приходит его время.
— А когда придет время?
— Этого нельзя знать заранее. Обычно это происходит, когда человек становится старым. Посмотри, как сейчас все вокруг чудесно. Растет трава, повсюду цветы. Осенью все это состарится, увянет и умрет. Но скоро опять придет весна, и тогда вырастут новая трава и новые цветы, на деревьях появятся новые листья. То же и нами, смертными. Старые умирают, новые рождаются. Если бы старики не умирали, для новых детей не было бы места.
— Но я не хочу, чтобы дедушка был мертвый.
— Я думаю, что дедушка был готов к смерти. Он состарился и устал, и, мне кажется, ему хотелось заснуть и не просыпаться.
— Иногда он приходит и заглядывает в окно.
— Нет, когда человек умирает, он не может вернуться.
— Но если мы думаем о нем, он появляется.
— Да, возможно.
— Смотри, папа, жук!
— Да, погляди, какой он красивый.
— Какие у него большие рога!
— Это жук-олень, — объяснил папа и принялся рассказывать мне о разных жуках. Смерть была позабыта. Так много интересного происходило во время наших прогулок.
Летом меня отвозили в деревню к тете и дяде У них была маленькая ферма, и они трудились с утра до вечера. Как только они управлялись без всякой помощи, с примитивными инструментами?
Тем не менее они каким-то образом находили место и время для всех своих племянников и племянниц.
Мои мать и отец вышли из больших семей. Не считая умерших в детстве, у них было по шесть братьев и сестер, а у тех, у каждого, от двух до пяти детей. Семья была дружная, и мы все часто встречалась. Папины братья и сестры жили в Сигете, а мамины были рассеяны по разным городам Трансильвании. Только тетя Регина жила в деревне, и считалось, что городских детей неплохо отправлять на время за город. Тетя Регина стала для нас летней мамой и относилась к нам с большим терпением и любовью. Лапушель, где она жила, был маленький фермерский поселок, насчитывающий около тридцати семей. Многие семьи были еврейские, но они жили в мире и согласии со своими румынскими соседями. Пока не ввели всеобщее образование, в Лапушеле была еврейская школа, и ее посещали даже дети из некоторых местных просвещенных нееврейских семей.
До того, как началась дискриминация, у мужа тети Регины был маленький деревенский магазин и шинок. Я все еще помню, как он развешивал блестящие леденцы в кульки из коричневой оберточной бумаги, стоя под висячими парафиновыми лампами, среди благоухающих специй. В соседней комнате был шинок с деревянными полами и голубыми стенами, там на деревянных скамьях сидели фермеры, перед ними стояли бутылки шнапса. Винные пары смешивались с запахом леденцов и хлева, шум становился все громче и громче. Нестройный гомон голосов переходил в громкий спор, и кто-нибудь начинал петь. Меланхолические песни о любви сменялись ритмичными военными маршами, кто-нибудь доставал скрипку, все вскакивали с мест и весело пускались в пляс. Женщин не было, детей сюда не пускали. Когда я, получив свой кулек леденцов, хотела, бывало, войти в шинок, меня немедленно останавливали. Евреи никогда не ходили в шинок, а еврейские дети и подавно.
Весь год я мечтала поехать в деревню и была счастлива, когда наконец увидела голубые дома с соломенными крышами, амбар с резными дверями и грязный двор со знакомым колодцем. В деревне происходило мало событий. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, это время вспоминается мне, как один долгий летний день, солнечный и жаркий, с редкими ливнями, пахнущими старым деревом и семечками. Я играла с козлятами, пила парное коровье молоко и купалась в мутной реке вместе с черными буйволами. Велика была моя радость, когда я увидела друзей, которых приобрела в прошлом году, и мы могли поговорить обо всем, что случилось с тех пор, как мы расстались. Мы брали друг у друга книги, разыгрывали в амбаре спектакли, качались на качелях и предпринимали экспедиции вдоль реки. Я не скучала по дому, хотя было интересно ходить на почту — посмотреть, не пришло ли письмо.
Когда шел дождь, я могла спрятаться на чердаке, где лежали старые книги. Больше всего мне нравилось листать журналы с картинками из прошлого века, но я читала все что попадалось, даже если и не все понимала: Бальзака, «Одиссею», рассказы для детей — все вперемешку, — но это было чудесно. Ровный стук дождя по крыше убаюкивал меня, но когда начинал греметь гром, мне становилось страшно.
Скоро засверкает молния, и я бежала вниз, на кухню, где тетя закрывала все окна. Я сидела с тетей на кровати в самом темном углу комнаты и, хотя знала, что будет очень страшно, все же просила еще раз рассказать историю о том, как в окно влетел огненный шар.
Это случилось во время Первой мировой войны. Дядя служил в Австро-Венгерской армии, которая воевала в Боснии. Его часть квартировала в бараках в глубине леса, и он работал на аппарате Морзе, когда в открытом окне появился огненный шар, проплыл по комнате, вошел в телефон и исчез. Дядя не мог шелохнуться от страха. Он был уверен, что это явление дьявола. Этот страх оставался с ним всю жизнь, и он передал его своим ближайшим и даже более дальним родственникам.
Дядя научил меня двум молитвам: одну нужно произносить, когда гремит гром, а другую — когда вспыхивает молния, для защиты от огненного шара. Мне было очень страшно, я пряталась под подушками и механически повторяла эти молитвы еще и еще. Напрасно тетя говорила, что надо молиться только один раз, когда гром начинает греметь. Я не останавливалась, пока последний раскат не замирал вдали и не появлялось солнце.
Такие грозы превращали пыль на дворе в жидкую грязь. Когда мы выходили из дома, наши ботинки глубоко утопали в ней. Промытый воздух манил нас на прогулку, и меня не смущало, что потом придется долго чистить ботинки. Мы шли по шоссе, обходя самые большие лужи. Больше всего мы любили гулять до моста и обратно. Нам не приходилось остерегаться машин, так как их здесь было немного.
Лето пролетело быстро. Скоро дни становились короче и холоднее, приближалось начало учебного года. Пора было ехать домой. Я начинала собираться, складывая сокровища, которые собрала за лето: сосновые шишки, отполированные камушки, перья и яркие ожерелья из засушенных ягод. Ближе к вечеру, когда коровы возвращались, звеня колокольчиками, я бежала к амбару пить пенящееся молоко — в последний раз этим летом. Подоив коров, дядя запрягал Белоснежку и Розу в повозку и отвозил нас в ближайший город, откуда ходил автобус на Сигет. Повозка катилась медленно, и к моей кузине, где я должна была провести ночь, мы приезжали только поздно вечером.
Кузина снимала маленькую комнату напротив церкви, на верхнем этаже двухэтажного дома. Часы на церковной башне, мои старые друзья, были первое, что я видела, когда на рассвете меня будила кузина. Я слышала воркование голубей, когда они садились на подоконник, чтобы поприветствовать меня. У нас, в Сигете, не было голубей, и я не могла понять, зачем моя кузина их прогоняет. Я быстро одевалась, и мы шли в кафе на площади и пили горячий шоколад со свежими рогаликами, поджидая автобус. Но вот он пришел, меня перепоручают водителю, сказав, чтобы я не вставала с места, пока мы не приедем в Сигет.
Выехав на шоссе, автобус набирает скорость, чтобы подняться на гору Гутин. Пыхтя и кашляя, он ползет по извилистой дороге, вдоль которой растут деревья, сначала лиственные, потом сосны. Рессоры у автобуса были слишком слабые, и меня болтало и трясло, как бутылку с микстурой. То и дело кого-нибудь начинало тошнить, автобус останавливался, пассажир выходил, и все ждали, пока ему не полегчает. Мы поднимались все выше, и перед нами открывались все новые и новые дали. По мере того, как мы приближались к перевалу, дома казались все меньше и меньше и наконец стали совсем неразличимы. Извилистые дороги под нами напоминали змей, ползущих среди зелени. Как только мы достигали перевала, автобус останавливался, и мы могли выйти, размяться и попить родниковой воды. У родника стоял деревянный крест, на нем был вырезан распятый Христос. Многие пассажиры преклоняли колени, чтобы поблагодарить Бога за то, что автобус благополучно доставил нас на вершину, и помолиться за безопасный спуск. Облака обволакивали похожие на привидения фигуры на дороге, все звуки были приглушены, как будто ватой в ушах. Люди большей частью молчали. Воздух здесь, на высоте, был сырой, и всем хотелось поскорее спуститься вниз.
И вот все заняли свои места. Автобус тронулся, начал спускаться с перевала, его пыхтение и заикание сменилось ровным гудением. Чем ниже мы спускались в долину, тем более оживлялись пассажиры. Сначала они лишь осторожно обменивались отдельными словами, но вскоре автобус уже гудел разговором. Люди, которые до сих пор были молчаливы, теперь болтали и предлагали друг другу яблоки и бутерброды. Облака поднимались над нами все выше, показалось солнце. Сосен уже не было видно, автобус, возвращавшийся к родным местам, приветствовали лиственные рощи. Мы проезжали мимо маленькой караульной будки, навстречу нам шли фермеры в крестьянской одежде — они гнали стадо на пастбища.
Когда появились первые резные ворота, столь характерные для этих мест, я уже знала, что скоро будет Сигет. Я узнавала знакомые места, деревни, башню с часами, водопад — под его журчание мы ехали дальше, мимо фруктового сада дяди Михаэля, где росли грецкий орех и яблони. Мне не терпелось пойти туда как можно скорее — собирать спелые фрукты и пробовать мягкие очищенные ядра грецких орехов. Лучше всего их собирать, пока зеленая кожура еще не отвалилась, — ничего, что руки от нее становятся черными. Мне хотелось, чтобы водитель остановился, но я знала, что это невозможно. Надо потерпеть, скоро приедем.
Вот мы уже и на окраине города. Магазины открыты. День сегодня базарный, и улицы наводнили фермеры из деревень с мешками за спиной. Они продают овощи, яйца, цыплят, сыр и молоко, а покупают нарядную одежду и другие предметы роскоши, которые может предложить город. Женщины в полосатых передниках и ярких шалях выделяются среди одетых в белое мужчин. Какой-то фермер в повозке размахивает кнутом. Автобус проезжает мимо, и все скрывается за облаком пыли. Мы едем мимо ресторана моего дяди Пинхаса, мимо мануфактуры дяди Сэмюэля, и я уже вижу маму и Ливи — они машут приближающемуся автобусу. Он останавливается на площади, дверь открывается, и мы бросаемся друг к другу в объятья. Мне не терпится рассказать обо всем, что я делала, а Ливи хочет рассказать о том, как она провела лето. Мама, не может вставить слово, и, пока мы усаживаемся и едем домой, ей остается только слушать.
Мне особенно запомнилось одно такое возвращение. Той осенью меня встретили двумя грандиозными новостями: дядя Михаэль выдвинут кандидатом в парламент от Либеральной партии, а мы переезжаем в новый дом.
Был 1938 год. У власти стояла антисемитская Крестьянская партия, так что жизнь евреев в городах и селах была далеко не спокойная. Несправедливости, притеснения, драки, избиения стали обычными явлениями. Либералы, стремившиеся заручиться голосами евреев, обещали бороться против антисемитизма и, в знак доброй воли, включили еврея, моего дядю Михаэля, в списки своих кандидатов. Выборы должны были состояться через пару месяцев, и все евреи надеялись на победу либералов. Я гордилась своим дядей.
Но вторая новость затмила его выдвижение. Мы переезжали. Отец наконец-то купил дом, о котором мы так долго мечтали: дом на Вокзальной улице, похожий на спичечный коробок, с плоской крышей. Кто мог подумать, что когда-нибудь мы сможем его купить!
В последующие дни мы не могли говорить ни о чем, кроме предстоящего переезда. В доме было пять комнат и мансарда, на которую мы с Ливи немедленно заявили свои права. Туда был отдельный вход: прямо от входной двери наверх вела винтовая лестница. Мне особенно понравилось, что нам не надо будет проходить через комнату родителей, чтобы попасть к себе. Их спальня будет в комнате с окнами во двор, центральная комната будет столовой, комната с окнами на улицу — гостиной. Мы собирались купить новую мебель и снова и снова прикидывали, как ее расставить. Наконец у нас будет место для пианино. «Папа, ты обещаешь купить пианино? Ты, правда, обещаешь?» Мы также собирались купить красивый диван и шкаф для книг и посуды — столяр обещал его сделать в точности, как на картинке, которую я видела в рекламном журнале. Планы были грандиозные.
Мы с Ливи ходили в новый дом по меньшей мере раз в день, носились по комнатам, мешая рабочим, заканчивавшим ремонт. В течение недели все должно было быть готово для переезда. Меня особенно восхищала ванная комната со сверкающей ванной, вделанной в пол, с фаянсовой раковиной, с кранами, на которых написано «Горячая» и «Холодная», и с большим коричневым нагревателем для воды, стоявшим в углу, как будто для того, чтобы охранять все эти сокровища. Представляете себе: встаешь утром и принимаешь горячую ванну! Стоит только кран повернуть. На самом деле все было не так просто. Сначала нужно было полчаса стоять на кухне и качать воду, затем развести огонь под нагревателем, и тогда, наконец, ванна будет готова. Но какая роскошь после этого вытянуться во весь рост и нежиться в чудесной горячей воде!
В комнатах стояли кафельные печи. В столовой печь была облицована белым кафелем, в ней была ниша для вазы с цветами; в гостиной печь была желтовато-зеленого цвета, а в спальне бледно-розового. В мансарде не было кафельной печки, а только железная, но от этого она казалась еще более привлекательной. Мы выбрали обои светлых тонов и с мелким рисунком. Мне надоели темные тона и крупный рисунок обоев в доме на Больничной. Розовато-лиловые букеты сирени нравились мне в детстве, но теперь я была уже подростком, и мои вкусы изменились. Мне были по душе светлые тона и четкие линии. Функционализм проник в Сигет. Откуда? Как? Я не знаю. Должно быть, на меня повлияли журналы, но я воображала, что сама это открыла.
Мама планировала сад с помощью садовника. За домом должен был быть огород и фруктовые деревья. Перед домом, ближе к улице, они собирались устроить газон, клумбы и посадить японские вишни. Сад был окружен решеткой, так что мы не прятались, как раньше, за высокой стеной — возможно, потому что жили ближе к центру и менее опасались грабителей, а может быть, и потому, что хотели, чтобы все видели наш прелестный дом и красивый сад. На Вокзальной улице селились состоятельные люди, дома были большие и дорогие, и владельцы старались перещеголять друг друга своими цветами. Им не приходилось работать в саду самим: наемный труд был очень дешевый.
Самый красивый сад был у родителей Анны. Анна, моя кузина, стала моей лучшей подругой с тех пор, как мы переедали. У нее были черные, как смоль, косы до пояса, аристократическая внешность, красиво очерченный рот. Прямой нос придавал ее лицу несколько надменное выражение. Большие невинные голубые глаза под темными ресницами становились обольстительными, когда Анна улыбалась. Она взрослела, и мальчики начинали на нее заглядываться, а я надеялась, что ее обаяние, хотя бы отчасти, передастся мне. Я всегда выбирала подруг из самых красивых девочек.
В 1938 году мне было четырнадцать, Анне шестнадцать. Она настойчиво уговаривала меня пойти гулять на Центральную улицу. Но я не понимала, что в этом интересного. Школьные правила были очень строги, и для нас, учениц, все обычные развлечения маленького города, такие, как кино и прогулки с мальчиками, были запрещены. Единственное развлечение, остававшееся для девочек, — гулять друг с дружкой и строить мальчикам глазки. Для меня это было ново, но я не хотела показать свою неопытность и обещала Анне, что пойду с ней гулять, как только сделаю уроки. Я заглянула в книжки и решила, что на сегодня у меня немного работы. С историей было просто, французский я знала, только арифметика могла занять некоторое время. Но скоро я и с этим покончила, и, когда Анна позвонила, я схватила свой школьный берет и выбежала на улицу.
Когда закрывались магазины, Центральная улица от церкви до кинотеатра превращалась в место для променада. Девочки в школьной форме прогуливались под руку, поворачивая от церкви как раз тогда, когда мальчики подходили к кинотеатру, чтобы встретиться посередине. На девочках были черные платья с белыми воротничками, черные чулки, черные туфли и темно-синие береты. Мальчики носили куртки цвета хаки и зеленые фуражки с кокардой. Мы украдкой поглядывали друг на друга. Инициатива обычно принадлежала мальчикам. Девочки же делали вид, что не замечают их. Но в действительности они не пропускали ничего — каждый взгляд, каждое движение, каждое слово вспоминались и обсуждались потом часами.
Наши прогулки становились все более непринужденными, и однажды я встретила мальчика, который запал мне в душу. У него было красивое лицо с мягкой улыбкой, и когда я взглянула на него, то почувствовала что-то необычное.
Странное, приятное чувство, покой и тревога одновременно. Кто он? Я влюбилась, но даже не знала, как его зовут.
Теперь и для меня прогулки стали важны. Я прогуливалась по Центральной улице в надежде увидеть его, в надежде, что он, быть может, меня заметит. Я уже знала, где он живет, где учится, какие у него привычки, и вся моя энергия уходила на то, чтобы вычислить, где и когда я могла бы его встретить. Неважно, что мы не знали друг друга. Я была на седьмом небе, когда мне удавалось увидеть его, а когда он первый раз взглянул на меня, я чуть не лишилась чувств. Дома я сидела часами, не прикасаясь к учебникам, погрузившись в мечты о любви и бесконечном счастье.
Мечты. Еще когда я была маленькая, я рассказывала сама себе истории. Каждый вечер перед сном я придумывала истории о живых куклах, за которыми можно было ухаживать. Позже, став постарше, я мечтала о путешествиях по разным странам, об открытиях и свершениях.
Я стану врачом и буду путешествовать по свету. Мне хотелось увидеть дальние страны, подниматься в горы, плавать в море, побывать у туземцев в Африке и повсюду помогать людям. Но путешествовать опасно — а если мне придется рисковать жизнью? Не испугают ли меня трудности? Да, я мечтала о приключениях и хотела заключить с Богом договор: «Я согласна на любые испытания, пока мне будет дозволено жить». Каждый вечер я думала о предстоящих испытаниях и даже начала готовиться к ним. Я хотела быть сильной и выносливой в любом климате. Зимой я спала с открытым окном и укрывалась самым тонким одеялом, а летом закрывала все окна и парилась под периной. Я старалась приучить себя обходиться без пищи и под всякими предлогами отказывалась есть, так что мама стала тревожиться за меня.
По-видимому, каким-то шестым чувством я угадывала, что ждет меня впереди. Политическая ситуация была крайне не стабильная, мысль о войне так пугала меня, что я гнала ее. Инстинкт самосохранения защищал меня от реальности.
Анна по утрам всегда была в хорошем настроении и приходила ко мне, когда я еще не вставала. В воскресенье я любила почитать в постели. Если бы мама позволила, я бы пролежала так весь день.
Однажды утром, когда Анна зашла за мной по дороге к зубному врачу, я так была увлечена романом Дюма «Граф Монте-Кристо», что отказалась идти с ней. Вместо этого мы договорились встретиться в городе в одиннадцать часов. Анна ушла, а я продолжала страдать вместе с графом на его острове. Я взяла ручку и бумагу и стала тренироваться писать левой рукой на случай, если я когда-нибудь окажусь в его положении. Время шло, и когда уже было почти одиннадцать, я выскочила из постели и быстро оделась. Я еще не успела выйти за ворота, как вдруг увидела, что Анна идет мне навстречу. Я удивилась, что она не ждет меня в городе, и хотела было извиниться, но прежде, чем я успела открыть рот, Анна выпалила:
— Война объявлена!
— Не может быть!
— Я только что была у зубного. У них есть репродуктор, и я слышала новости.
— Не верю. Ты это выдумала.
— Нет, честно.
— Боже мой, как страшно!
— Наших отцов призовут.
— Здесь будут стрелять на улицах.
— Мы все можем умереть.
— Нет, на войне не все умирают. С нами будет все в порядке.
— Я боюсь.
— Я тоже.
— Давай вырежем сегодняшнее число на воротах и поклянемся: что бы ни случилось, мы встретимся здесь, когда кончится война, и вырежем эту дату тоже.
— Давай.
Я побежала в дом, нашла карманный нож и вырезала на деревянных воротах: 1 сентября 1939 года.
Когда кончилась война, ни меня, ни Анны не было в Сигете. Не было и тех ворот, на которых мы собирались вырезать дату встречи. Позднее я слышала, что их сожгли во время войны: не хватало дров.
Осенью 1940 года мне было всего шестнадцать, но большой мир уже начал надвигаться на нас. До 1918 года Трансильвания была частью Австро-Венгерской империи. По условиям Версальского мира она отошла к Румынии; теперь она должна была быть возвращена Венгрии. Румынские венгры ликовали, радовались и евреи старшего поколения, считавшие себя венграми. Наши родители так никогда и не примирились с переходом в Румынию. По-венгерски говорили в каждой еврейской семье, многие евреи ассимилировали венгерскую культуру.
Были проблемы и со школами. Румын среди учеников было очень мало, но никому не разрешалось говорить по-венгерски. Нас штрафовали за каждое произнесенное венгерское слово. Так продолжалось довольно долго, но в конце концов нашим учителям удалось сделать из нас, еврейских детей, румынских патриотов, которые смотрели на своих родителей-«венгров» сверху вниз. Поэтому в то время, как наши родители ликовали, мы, дети, горевали и надеялись, что венгерское владычество будет только временным.
В Сигете многое изменилось. Румынская знать покидала город, и венгры, которых раньше презирали, почувствовали, что их час настал. В магазинах не хватало красных, белых и зеленых тканей, так как все шили флаги и готовились к великому событию. Был объявлен праздник, все магазины должны были закрыться, у всех должен был быть выходной. Занятия в школе еще не начинались, хотя был уже сентябрь. Я должна была идти в шестой класс к новым, венгерским, учителям. Мне будет не хватать моих старых учителей и одноклассников-румын, которые уезжали из города.
Меня разбудили чьи-то шаги на лестнице, я открыла глаза и увидела, что Ливи еще спит. Сентябрьское солнце, заглянувшее в открытое окно, отчаянно пыталось согреть холодный утренний воздух. Я встала, надела халат и открыла дверь. Жужа, наша служанка-венгерка, только что закрыла за собой дверь на нашу мансарду и спускалась вниз.
— Доброе утро, Жужа. Что ты здесь делаешь так рано?
— Я сейчас вывесила флаг из окна. Вся улица во флагах, они так красиво развеваются. Скорее одевайся. Мы должны выйти и встретить их в десять часов. Я вам тоже сделала маленькие флажки — мы будем махать ими солдатам.
— Нет, я не пойду.
Жужа была поражена моим равнодушием. Она уже надела свой лучший наряд и светилась от радости. Ее день настал. Теперь кончатся все невзгоды и она заживет счастливой жизнью. Ей и в голову не приходило, что, кто бы ни были ее хозяева — румыны или венгры, — все равно она останется бедной служанкой.
Я пошла на кухню, там сидели за завтраком родители. Они разделяли радость Жужи и пытались убедить меня в преимуществах венгерской власти. Венгры будут защищать евреев; они знают, что евреи всегда храбро стояли на их стороне, и отблагодарят евреев за их лояльность. Я молча пила свой кофе и не могла понять их энтузиазма.
Жуже не сиделось на месте от нетерпения. Она бегала по всему дому — здесь застелит постель, там вытрет пыль с буфета, наконец попросила разрешения срезать цветы в саду. Она набрала полное ведро астр и георгинов, чтобы бросать солдатам. Снова и снова она пыталась уговорить меня пойти с ней, но я отказывалась.
Все ушли, и я осталась дома одна. Однако в конце концов любопытство победило, и я решила выйти на улицу посмотреть. Я оделась и пошла за Анной. Мы вышли на угол Больничной улицы, чтобы там ждать венгров, которые должны были войти в город по шоссе. Было десять часов утра, на тротуарах толпились возбужденные люди с флагами и цветами. Венгерский флаг свешивался из каждого окна, и воздух был наполнен предвкушением счастья. Официальная встреча должна была состояться в городском парке, но люди хотели приветствовать войска, как только они подойдут к окраине города. В ожидании своих освободителей они кричали «ура» и пели патриотические песни.
Прошло немного времени, и вдали показалась туча пыли, извещая о приближении солдат. Вскоре я могла различить переднюю колонну и знамя над ней. Возгласы «Ура!» встретили солдат, распевавших марш Ракоци. Взрослые и дети, венгры и румыны махали, кричали и пели, бросали цветы и посылали поцелуи. Девушки бросались на шею солдатам, обнимали и целовали их. Все последовали за ними в парк, где ждал официальный комитет по организации торжественной встречи. Венгерская знать расположилась на трибуне, возведенной по этому случаю, а Биро Анталь, сам себя назначивший бургомистром, ходил взад-вперед с листком бумаги в руках, повторяя свою речь. На лбу у него выступил пот. Учитель пения призывал своих учеников петь как можно лучше, угрожая расправой за непослушание. Он с трудом справлялся с ними. Когда, наконец, послышался марш Ракоци, все вздохнули с облегчением. Учитель заиграл народную мелодию, и, как только показались солдаты, дети запели. Войска выстроились перед трибуной, и бургомистр начал свою приветственную речь. Мы с Анной пошли гулять в Милл-парк.
Эйфория продолжалась несколько дней, но вскоре снова установился старый распорядок. Начались занятия в школе, я постепенно осваивалась с новой программой, новыми учителями и новыми товарищами. Тем временем голос сумасшедшего в репродукторе (мы купили новый) становился все более назойливым. Австрия, Чехословакия и Польша были оккупированы, и до нас доходили слухи о зверских расправах над инакомыслящими и евреями. Знали ли мы тогда о концлагерях? Я не помню.
Но я помню еврея-беженца из Польши, он пришел в наш город, и его спрятала тетя Лотти задолго до того, как пришли венгры. Он сидел в затемненной комнате, и вскакивал каждый раз, когда кто-то стучал в дверь. Нам, детям, разрешали носить ему пищу, но я боялась его бегающих глаз, в которых отражались робость, страх, боль. Я так много хотела бы спросить у него, рассказать ему. Мне хотелось утешить его, но я не знала его языка. Родители отвечали на мои вопросы уклончиво, а друг другу рассказывали шепотом об ужасах, которых ему удалось избежать, но, по-моему, никто не верил тогда, что это может коснуться нас. Все это происходило в Германии, Австрии, Чехословакии, Польше, но не в Венгрии. Мы были венгерскими гражданами, наши родители воевали в венгерской армии во время Первой мировой войны. Ребенком я играла с отцовскими медалями за храбрость. С нами ничего не могло случиться.
Я жила, как и раньше: делала уроки, писала дневник, встречалась с друзьями, мечтала о любви. Мечтала о Нем с большой буквы, о том, кого я встречала каждый день по пути в школу. Мечтала и надеялась, что в один прекрасный день он, быть может, заметит меня и ответит взаимностью на мои чувства. Он был высок и строен, и каждое утро я молилась, чтобы его голубые глаза встретились с моими. Я проходила мимо него, затаив дыхание, но он всегда был увлечен беседой с другим мальчиком. И вот однажды, когда я возвращалась из школы, это случилось. Наконец-то он был один. Увидев его, я замедлила шаг. Сердце билось, подгибались колени. Сейчас, сейчас он меня увидит, быть может, поздоровается со мной, а может, даже пройдет со мной хоть чуть-чуть. Он шел, насвистывая, и, когда мы поравнялись, — плюнул. Не украдкой, как иногда сплевывают при простуде, и не случайно, мимоходом, на землю. Умышленно, с отвращением он плюнул мне в лицо.
Мир рухнул. Я — шваль, грязная еврейка. То, что происходило с другими людьми в других странах, теперь случилось со мной.
Я прибежала домой в слезах. Мама испугалась.
— Что случилось? Ты провалилась на арифметике?
— Он плюнул в меня!
— Кто?
— Тот красивый парень, которого я встречала по дороге в школу.
— Не стоит из-за этого реветь, — сказала она равнодушно.
— Мама, как ты не понимаешь?!
— Я понимаю, но бывает и хуже.
— Нет, мама, хуже этого не бывает.
— Ты знаешь, они нас не любят. Такое случается. Ты не должна принимать это близко к сердцу.
— С тобой когда-нибудь происходило подобное?
— Пожалуй, нет, но случалось другое. Ко всему привыкаешь.
— Я не желаю к этому привыкать.
Отец, который только что зашел пообедать, услышал, как я плачу, и поднялся в мою комнату.
— Что случилось? — спросил он.
— Какой-то проклятый парень-антисемит плюнул в нее, — сказала мать. — С ней, видно, никогда раньше такого не случалось.
— Бедный ребенок! Ей все же придется привыкать к тому, что мы живем в антисемитском мире.
— Нет, папа, я не хочу к этому привыкать. Я не хочу жить в стране, где плюют в людей. Почему мы ничего не предпринимаем? Почему мы здесь сидим? Почему мы не уехали еще раньше? Папа, милый, обещай мне, что мы уедем отсюда.
— Это не так просто, — сказал он. — Когда мы могли это сделать, мы не решались оставить надежный заработок, хороший дом, семью и друзей. А сейчас сотни тысяч людей хотят выехать из страны. Это очень трудно.
Я была безутешна. Я не хотела быть как мои родители, я не хотела мириться со всем этим. Мне хотелось что-то сделать, убежать, уехать из страны. В конце концов мне пришлось убедиться, что это невозможно. Можно было только сделать то же, что и остальные, — зарыть голову в песок и жить как ни в чем не бывало. Но и это становилось все труднее. Каждый день выходили новые декреты, которые делали жизнь для нас, евреев, все более трудной, а в некоторых случаях — просто невыносимой. Прокламации оглашались на углах улиц, и когда мы слышали эти объявления, мы знали, что на наши и так уже сгорбленные плечи ляжет еще одно бремя. Один за другим объявлялись следующие приказы:
1. Евреям запрещается иметь радиоприемники. Все они должны быть сданы властям в двадцать четыре часа.
2. Евреи обязаны сдать все драгоценности и ценные вещи. Неповиновение будет караться.
3. Все транспортные средства, принадлежащие евреям, должны быть немедленно переданы для нужд армии.
4. Евреям запрещается посещать рестораны, кинотеатры, теннисные корты и бани.
5. Евреям запрещается работать в государственных учреждениях.
6. Евреи не могут нанимать для работы неевреев. Девушки-христианки, работающие горничными в еврейских домах, должны немедленно уволиться.
7. Арийцы могут пользоваться только арийскими магазинами, не рекомендуется иметь какие-либо дела с евреями.
8. Еврейские дети не имеют права получать высшее образование.
9. Все евреи должны представить властям документы, подтверждающие, что они были рождены в Венгрии. Евреи, рожденные не в Венгрии, будут депортированы в страну, где они родились. (Это обычно означало Польшу.)
Ариизация началась.
Восьмой приказ затронул меня больше всего. Школа, в которой я проучилась семь лет, теперь для меня закрылась, за год до окончания. Я была глубоко несчастна и умоляла, чтобы мне разрешили поехать в какой-нибудь другой город, где есть еврейская школа.
Родители одобряли мое желание и старались устроить так, чтобы я могла поехать в Клуж, столицу Трансильвании. Я знала, что на это потребуется много денег. Плата за обучение, книги, проезд и жилье обойдутся в значительную сумму. Я знала, что евреям становится все труднее зарабатывать деньги. Но я решила найти дешевое жилье, и, став лучшей ученицей в классе, отблагодарить родителей за щедрость.
За несколько дней до начала учебного года я отправилась в Клуж, чтобы подыскать жилье. Мне было грустно покидать семью, хоть я и радовалась, что смогу продолжать учебу. В первый раз я уезжала одна, чтобы жить самостоятельно. Первые несколько дней мне пришлось ночевать у родственников. Они приняли меня довольно холодно, и, хотя у них была большая квартира, не желали, чтобы я оставалась у них надолго. Я скучала по дому, но не хотела это никому показывать. Хотя я и обещала отцу написать по прибытии, но решила не делать этого, пока не подыщу дешевую квартиру.
Сигет, 2 сентября 1941 г.
Милая маленькая проказница!
Едва ты уехала, как стала непослушной. Ты знаешь, как мы беспокоимся, если тебя нет дома в восемь часов, и можешь себе представить, что мы испытываем сейчас. Может быть, ты послала телеграмму, и она не дошла до нас? Я вкладываю справку о том, что ты сменила место жительства; тебе она понадобится. Правда, я не хотел посылать ее, пока ты не дашь о себе знать, Напиши и расскажи нам обо всем. Бежи уже написала своим родителям. Она платит за обучение только 20 пенге. Ты не должна платить больше.
Целую, твой папа.
Моя любимая девочка!
Мы с таким нетерпением ждем от тебя известия, что ты добралась благополучно, но до сих пор ничего не получили. Мы не знаем, где ты живешь, что ты ешь. Мы очень беспокоимся. Тебе было грустно покидать нас, и нам было грустно расставаться с тобой, но придется привыкать, если это то, чего ты хочешь. Да поможет тебе Бог.
Пиши чаще. Я надеюсь получить от тебя известие завтра.
Целую и обнимаю, твоя мама.
Наконец я поселилась у Янки, сморщенной старушки, которая жила в маленькой комнате с печкой в углу за дверью. В комнате были также кровать, софа, буфет, маленький стол и четыре стула. У нее уже жила одна девушка, студентка университета, и мне пришлось спать на раскладушке, которая днем складывалась и убиралась под ее кровать. Вечером стол и стулья сдвигали, чтобы освободить место для раскладушки. Было тесно, но дешево, и Янка очень хорошо готовила. Я была молода, и эта скромная обстановка соответствовала моим романтическим представлениям о студенческой жизни, основанным на прочитанном когда-то романе о Париже fin-de siecle[2].
Теперь одно из условий, которые я сама себе поставила, — дешевое жилье — было выполнено. Другое: стать лучшей в классе — оказалось труднее. Было не просто выдержать соревнование в классе, где, как мне казалось, учились одни гении. К тому же, я не сразу была принята в их круг. Большинство из них учились вместе уже двенадцать лет, и они холодно встретили новенькую.
Мой первый день в школе начался чудесным сентябрьским утром, и я шла со смешанным чувством радости и беспокойства. Как все это будет? Как меня примут? Я узнала, как пройти в класс, и вошла. Окна были открыты, девочки стояли группами и болтали. Никто меня не заметил. Я набралась храбрости и сказала:
— Привет, меня зовут Хеди. Я из Сигета, буду с вами учиться этот год.
— Привет, — безразлично ответили несколько голосов.
Я огляделась вокруг в поисках свободной парты. Найдя одну, я села.
— Сюда нельзя. Это место Марианны.
— Но здесь никто не сидит.
— Она сегодня больна.
— Где мне сесть? — Я робко огляделась вокруг.
Голос девочки сзади произнес:
— Можешь сесть со мной.
Я подошла и с благодарностью протянула ей руку.
— Меня зовут Хеди. А тебя как?
— Маниш. Ты хорошо знаешь немецкий? Это для меня самый трудный предмет.
— Я совсем не знаю немецкого. Но мы можем помогать друг другу.
— Где ты живешь?
— На улице Деак. А ты где?
— Тоже на Деак.
— Какая удача! Мы можем вместе делать домашнюю работу.
— Маниш! — Ледяной голос неожиданно прервал нас. — Не забудь про вечер у Питера в воскресенье. Будут танцы.
— А Хеди тоже может придти?
— Нет, — твердо сказал голос. Это, как я потом узнала, была Ева.
Я проглотила обиду и решила не обращать внимание на Еву и остальных. Я буду работать и ни о чем другом не думать. Дружба с Маниш помогала. Хорошо, что был кто-то, с кем можно поговорить.
Я упорно работала. Приходилось трудно, так как учителя были требовательные. Особенно много проблем было с латынью и математикой. Но я трудилась усердно и настойчиво, и справилась. Я стала одной из лучших учениц в классе, и другие девочки стали меня принимать в свою компанию. Они даже приглашали меня на свои вечеринки.
Миновала суровая зима, и учебный год подходил к концу. Мы все очень нервничали из-за предстоящих выпускных экзаменов. Это была далеко не простая формальность. Предстояли письменные экзамены по венгерскому, математике и латыни и устные по остальным предметам. Устные экзамены принимала комиссия из пяти человек во главе с директором. Наши шансы на высшее образование зависели от результатов этих экзаменов. О том, что университеты для нас закрыты, никто не хотел даже и думать.
Планировалось устроить большой прощальный вечер. Все должны были одеться, как дети. Я не могла понять всеобщего веселья. Чувствовала только ужасную опустошенность и не видела никакого повода для ликования. День последнего экзамена должен был отметить конец моего детства, и мне трудно было представить, что за этим последует. Я видела только черную зияющую дыру, пустоту, которая меня поглотит; могло ли там что-нибудь существовать? Однако, как ни старалась, я не могла разглядеть будущее. Поеду домой в Сигет. Но что потом? Казалось, жизнь на этом и кончится.
Мне не хотелось идти на вечер. Мои подруги казались мне слишком инфантильными, и я смотрела на них сверху вниз. Теперь я понимаю, что это было предчувствие беды, но тогда никто не хотел и не мог этого понять. Меня звали брюзгой; учителя, да и родители тоже пытались убедить меня, что я ошибаюсь.
В каком-то смысле они были правы. Жизнь не кончилась после экзамена. Я вернулась домой в Сигет. И, как обычно, начались летние каникулы. Но я не хотела сидеть дома и наслаждаться длинными каникулами, которые кончатся, только когда я выйду замуж. Я умоляла родителей позволить мне снова уехать учиться на преподавателя начальных классов. В Мишкольце была еврейская семинария, предлагавшая годичный курс. В конце концов они согласились. Я могла начать учиться в семинарии осенью.
Но оставалось еще лето, и теперь, когда мое будущее было устроено, я позволила себе наслаждаться заслуженными каникулами. Поздно вставала по утрам и каждый день ходила купаться на речку.
Однажды, встав немного раньше обычного, я случайно увидела отца, произносившего утренние молитвы в своей спальне. На нем был талес и шапка, и лицо его было мокро от слез. Я не верила своим глазам. Мой отец плачет? Я никогда не видела плачущего мужчину и не думала, что мужчина может плакать. Что-то случилось? Может, у него было дурное предчувствие? Может быть, у него то же чувство, что и у меня после выпуска, — что жизнь кончилась? Но экзамены позади, жизнь не кончилась. Она будет продолжаться в семинарии. Почему отец плачет? Я не решилась спросить. Я не решилась показать, что видела его. Счастливое лето подошло к концу, наступила осень, и я уехала в Мишкольц. К тому времени я уже привыкла к разлукам. Тем не менее, мне было тяжело уезжать. Хотя политическая ситуация была неспокойна, я чувствовала себя относительно безопасно в маленьком Сигете. Немцы начинали терпеть поражения в Советском Союзе, и мы надеялись, что война скоро кончится. Зима выдалась суровая, и многие евреи постились по многу дней, призывая Бога. Я усердно училась в семинарии и мечтала о возвращении домой. В письмах, которые я часто получала от родителей, говорилось о неприятностях.
Сигет, 3 марта 1943 г.
Моя дорогая девочка!
Я должен был написать вчера, но ты простишь мне задержку. Весь день бегал по городу, нужно было сделать миллион дел. Как ты знаешь, мы должны достать все эти свидетельства о рождении для каждого члена семьи, живого или мертвого, включая дедушек и бабушек с каждой стороны, и нам, можно считать, повезло, что все мы родились в Венгрии. Дяде Джошлису, отец которого родился в Польше, пришлось много заплатить за фальшивое свидетельство. Ему повезло: его бумаги приняли. Розенбауму, его соседу, не было удачи. Его подлог раскрыли, и он был депортирован со всеми своими семью детьми. Кто знает, что с ними станет? Говорят, поляки тоже не хотят их.
Всего хорошего, папа.
Дорогая девочка!
Получили результаты твоих экзаменов. Не могу описать, как они нас обрадовали. Ты боялась, что получишь плохие оценки, поэтому мы были совершенно не подготовлены. Это выше всех наших ожиданий. Мы очень гордимся тобой — даст Бог, ты будешь вознаграждена за все.
Дела у нас так себе. Друзья и родственники, которым нужно получить доказательство гражданства, приезжают в город, и, конечно, им приходится останавливаться у нас. Но из-за того, что две комнаты реквизировали военные, у нас мало места. Наши гости довольно требовательны, большой дом трудно содержать в чистоте, и, хотя Ливи помогает, я не справляюсь. Но что все это в сравнении с проблемами, которые у других людей? Все обойдется, было бы здоровье.
Целую тебя и обнимаю, твоя мама.
Я вернулась в Сигет с дипломом преподавателя. Мне больше не казалось, что я хуже других. У меня была профессия, и я всегда могла преподавать в еврейской школе. По прибытии домой я узнала, что в городе открылись еврейские ясли, и что я могу получить место заведующей. Большинство мужчин-евреев были мобилизованы, и женщины, оставшись одни с детьми и без средств к существованию, были вынуждены искать работу на стороне. Чтобы помочь им, были открыты ясли, где за детьми присматривали бесплатно.
Я была счастлива: я получила свою первую работу, зарабатываю деньги. Даже если судьба предрешена заранее, все же можно было помечтать о будущем. Я могу начать копить деньги на книги, строить планы на жизнь после войны, когда университеты будут опять открыты для нас, и я смогу учиться медицине.
Ясли открылись в августе 1943 года. В марте 1944 Венгрия была оккупирована немцами, и через несколько дней евреям было приказано носить желтую звезду. В апреле нас собрали в гетто, а в мае увезли.
Гетто
Апрель 1944 года.
Путешествие первое. Путешествие, которое длилось не так уж долго, но, казалось, никогда не кончится. Путь, пройденный пешком. Это было не путешествие, а движение между двумя пунктами, отделенными световыми годами. От привычного — к неизвестности. От человеческого тепла — к холоду, туда, где таились опасности.
Через четыре недели после германского вторжения в 1944 году мы праздновали Песах в память об освобождении евреев от египетского рабства. Мы собрались в спальне, так как столовая и гостиная были заняты немецким офицером. Мы уже привыкли к тесноте, так как венгры реквизировали комнаты за год до того. Просто после прихода немцев венгерский барон уехал, а его место занял немецкий офицер. Это был высокий красивый мужчина с наружностью джентльмена, дружелюбный. Он учтиво приветствовал нас всякий раз, как мы встречались. На тревожные вопросы моего отца он отвечал: «Вы должны понять, что мы, немцы, не хотим вас обижать. Мы цивилизованные люди». Нам очень хотелось ему верить, но нас заставляли пришивать и носить на одежде желтую «звезду Давида», повсюду распространялись тревожные слухи. Однако мы праздновали Песах и старались больше ни о чем не думать.
В воскресенье, 9 апреля, в последнюю ночь праздника, был дан приказ: «Собрать вещи, столько, сколько вы сможете унести, и подготовиться к дороге. После семи утра никому не позволено оставаться на улицах, и когда придут полицейские, все должны следовать за ними в помещение, отведенное каждому в недавно основанном гетто».
Предчувствие, что близится конец света, с которым мне удавалось до сих пор справляться настолько, чтобы сохранять спокойствие, теперь овладело мною вновь. У нас не было времени для расспросов: мы начали собираться. Нужно было взять свои личные вещи, сколько сможем; каждый должен был взять свою постель, еду и кухонную посуду. Если кто-то мог достать тележку, то поклажу грузили на нее; иначе приходилось тащить все на себе. Отец пошел на поиски тележки, мама начала собирать еду, я укладывала свои книги, а Ливи играла с кошкой.
— У нас нет хлеба, — переживала мама.
— Придется обойтись без него, — ответил отец.
— Нет, я сбегаю до семи часов, — сказала я. — Я успею. Кира печет рано. — Я знала, что ее пекари начинают работать раньше остальных.
— Что же с нами будет?! — восклицала мать.
— Справимся как-нибудь, — успокаивал ее отец. — Мы ведь всегда как-то справлялись.
Но мама не могла успокоиться:
— Как же мы оставим наш дом, вещи?
— Это не страшно; мы все запрем, когда будем уходить. Может быть, это ненадолго, — говорил отец.
— Но как мы будем жить в одной маленькой комнате?
— Где мы будем готовить?
— Где будем умываться?
— Как-нибудь устроимся, — сказал отец.
— Будем надеяться, что это будет большая, светлая комната.
— Посмотрим.
Мы начали укладываться; ходили по комнатам, прощались с нашими бабушками и дедушками. Мама заплакала.
— Почему ты плачешь?
— Потому что мы все оставляем. Наш дом, нашу красивую мебель, ковры, картины. Это так тяжело.
— Но ведь все это — только вещи. Самое главное, что мы вместе. Пока мы все вместе, остальное не имеет никакого значения, даже если нам придется жить в пустом бараке.
— Ты прав.
— Тогда почему же ты плачешь? — спросила я.
— Все здесь хранит воспоминания. Ты знаешь, сколько твоему отцу приходилось работать, чтобы купить мебель для гостиной? Он подарил нам ее в годовщину нашей свадьбы. И тогда же он подарил мне ту красивую картину, что висит в столовой. Как мы были счастливы!
Я вспомнила. Это было в тот год, когда я приготовила им сюрприз — небольшой вышитый коврик в цыганском стиле. Он и теперь висел в столовой. И его нам тоже придется оставить. И украшения, и маленькую балерину, и голубую вазу с двумя русалками, и дедушкины настенные часы. Мы не были богаты, но мои родители любили красивые вещи. И этот дом, который они так мечтали купить и ради которого они стольким пожертвовали, первый в городе дом в функциональном стиле с плоской крышей. И нашу ванную, и современный туалет — такую редкость, — и водопровод. И эту столовую, хранившую столько воспоминаний о наших простых семейных ужинах, годовщинах свадьбы родителей и именинах, где мы принимали гостей издалека и слушали захватывающие рассказы о большом мире. Здесь мы собирались и веселились по разным поводам.
Я тоже обошла дом и попрощалась с любимыми вещами. Я не была так же сильно привязана к ним, как моя мама, но все-таки с грустью смотрела на изразцовую печь, которая зимой излучала мягкое тепло, на мягкий диван, где я любила лежать, свернувшись клубком, с книгой; на буфет, где всегда можно было найти вкусные вещи: шоколад с орехами, конфеты, цукаты. Мой взгляд проскользнул по стенам и остановился на картине, где был изображен стог сена. Мне всегда хотелось в него спрятаться, когда у меня были неприятности. Вот и сейчас тоже.
Я подошла к пианино и взяла несколько аккордов, потом — к книжной полке и вынула несколько книг. Рембо, Вийон, Джеральди — я не смогу взять вас с собой. И моих любимых венгерских поэтов тоже — Отило и Арани. В ту минуту я дала себе клятву: никогда не буду жалеть о вещах, ни о чем, что можно купить за деньги. Но я не могла не пожалеть куст жасмина в саду, который тянулся, беззащитный, к голубому весеннему небу. Там я, бывало, пряталась, когда хотела побыть одна; эти цветы утешали меня, когда мне было грустно.
Луч весеннего солнца заглянул в просвет между шторами, и я проснулась с острой болью в груди. Наступило утро понедельника, и мне нужно было поторопиться, чтобы купить хлеб. Скоро за нами придет полиция в своих украшенных петушиными перьями шапках.
Я накинула одежду, побежала в пекарню, купила хлеба и помчалась домой. По дороге я встречала людей, спешивших по таким же делам. Мы лишь обменивались приветствиями. У нас было слишком много забот.
Когда я пришла, мы сели завтракать. Каждому хотелось поддержать остальных. Мама была безутешна, папа старался говорить только о делах, а моя четырнадцатилетняя сестра была еще слишком мала, чтобы до конца понять, что происходит. Она радовалась — ей все это казалось увлекательным приключением. Я старалась не терять голову, но сердце мое болело от тяжелых предчувствий. Было ли наше переселение самым страшным, что могло с нами случиться, или это только начало чего-то еще более ужасного?
Я спрятала свои дневники на чердаке вместе с любимыми книгами и надеялась, что скоро смогу вернуться и забрать их. Мы уже отдали все ценности соседке, госпоже Фекете, которая взялась их спрятать. Однажды, в марте, она пришла к нам и рассказала, что ее муж, офицер венгерской армии, слышал, что нас выселяют. Она подумала, что нам будет трудно спрятать свои ценности, их давно следовало сдать властям. Когда семья выселялась, дом обыскивали, и если находили что-нибудь ценное, наказание было суровым. Она предложила помочь нам сохранить наши ценности, пока мы не вернемся. Я оставила себе только тоненькую цепочку с сердечком и клевером и маленькое оловянное колечко, которое мне подарил мой друг Пую.
Я поднялась в свою комнату и огляделась. В этой комнате я жила, в ней выросла из ребенка в девушку, и вот теперь должна ее покинуть, может быть, навсегда. Даже если я вернусь, то уже буду другим человеком. Когда я закрою дверь этой комнаты, это будет навсегда.
Комната находилась в мансарде, маленькая, с двумя оконцами. Я посмотрела в одно из них на наш сад с моими любимыми жасминовыми кустами, абрикосовыми и ореховыми деревьями и конурой старого верного Бодри. Мы не сможем взять его с собой. Другое окно выходило на соседний двор, где в такой же мансарде жил Гева, моя первая большая любовь. Сколько раз просиживала я у окна до глубокой ночи и шептала слова любви, обращаясь к его силуэту! Или смотрела на луну и вздыхала в тоске.
В моей комнате было не много мебели. Две узкие кровати, стол, четыре стула и книжная полка, картинки на стенах и зеркало, а из угла смотрела пустая железная печка. Больше здесь ничего бы не поместилось, но благодаря теплым тонам комната совсем не выглядела спартанской. Это была часть меня, но я горевала не столько о комнате, сколько о своих книгах.
Медленно тянулись часы. Завтрак был окончен; посуда вымыта. Я то и дело подбегала к окну посмотреть, не приближаются ли развевающиеся петушиные перья. Эвакуация должна была начаться с городской площади, а мы жили почти у самой железнодорожной станции, так что пройдет несколько часов, прежде чем очередь дойдет до нас. Из 30 000 жителей города половина были евреи. Эвакуация займет несколько дней. Вот пришла последняя газета и последняя почта. Я подошла к Бодри и в последний раз погладила его. Я все время сознавала, что все это я делаю в последний раз. Будет ли у нас время пообедать? Так как полиция еще не показалась на нашей улице, мама позвала меня накрывать на стол. Мы решили приготовить что-нибудь на скорую руку. Мама попросила меня принести из кладовой гусиное сало. Оно хранилось в больших банках; осенью мама обычно покупала несколько гусей и топила сало, чтобы его хватило на всю зиму. Она всегда следила, чтобы мы расходовали его экономно. Гусиное сало было дорогое.
Но на этот раз, когда я принесла маленькую ложечку сала, мама взглянула и сказала:
— Иди и возьми побольше. Сегодня нам не нужно экономить сало. Нам придется его все оставить здесь.
Я сходила и принесла еще. Мама сделала яичницу-болтунью, которая получилась вкуснее, чем обычно.
— Насколько вкуснее получается, если не скупиться на сало, — заметила я.
Мы ели яичницу со свежим хлебом и пили чай. Обедали в полном молчании, но все думали об одном и том же. Это наш последний обед. Когда полиция вошла в нашу калитку, я пошла в туалет и последний раз спустила воду. Шум воды сопровождал меня, когда я шла на кухню навстречу «петушиным перьям». Им не пришлось ничего говорить. Молча мы собрали свои вещи и покинули дом. Было неприятно идти через весь город в сопровождении «петушиных перьев». Любопытные соседи выглядывали из-за занавесок, не решаясь выйти наружу. Ни один человек не выразил нам сочувствия, хотя мы жили бок о бок все эти годы, делили радости и горе.
Через полчаса мы достигли гетто. Это была бедная часть города, которую обнесли стеной, выселив жителей-христиан. Нам отвели маленькую комнату в бедном домишке, состоявшем из двух комнат и кухни. Вторую комнату занимала хозяйка, бедная вдова, и ее семеро детей.
Мы вошли во двор, и нас встретила женщина, она громко причитала. Я узнала ее — это была тетя Мария, которая помогала нам по дому, стирала белье.
— Кто бы мог подумать, что такие приличные люди, как вы, будут вынуждены ютиться в моей каморке. О, Господи! — причитала она, ломая руки. — Этого Гитлера надо заживо сжечь. Что с нами будет? Что он еще придумает? Сжечь его надо живьем.
— Успокойтесь, Мария, дорогая, — сказал отец. — Все образуется. Мы не будет вам сильно мешать. Будем сидеть в своей комнате. Я счастлив, что мы можем жить здесь с вами.
— Вы меня не стесните. Можете пользоваться кухней, и я вам буду во всем помогать.
— Но у нас нет денег, чтобы платить вам, — сказала мама.
— Это неважно. Я не прошу денег. Вы всегда были добры ко мне.
Пока они разговаривали, мы с Ливи разглядывали хныкающих детей, которые то и дело бегали в дом и обратно. Мы знали, что у Марии много детей, но до сих пор ни разу их не видели.
— Можешь играть с моей куклой, — сказала девочка примерно Ливиного возраста. Она с обожанием смотрела на Ливи и не сразу решилась обратиться к ней.
— Я больше не играю в куклы, — сказала Ливи.
Девочка разочарованно посмотрела на нас и вошла в дом. За окном я увидела другое лицо, недоверчивое и пренебрежительное. Ясно было, что не вся семья так же хорошо расположена к нам, как тетя Мария.
Тетя Мария провела нас по двору. В середине мощеного двора был колодец. Воду поднимали ведром на веревке. Несколько поодаль был навес. Вонь, исходившая оттуда, говорила о том, что это уборная. Я содрогнулась от мысли, что придется ею пользоваться. Со двора был вход прямо на кухню. Из кухни, маленькой, грязной, темной и задымленной, две двери вели в комнаты, одну из которых нам предстояло занять. Она тоже была темная, грязная и сырая. В этой маленькой комнате помещались две кровати, диван, маленький столик, два стула и шкаф. Это была вся мебель. Из угла мрачно смотрела маленькая железная печурка, а со стены криво ухмылялось зеркало. Больше ничего здесь и не поместилось бы.
— Где я буду спать? — спросила Ливи.
— Вы с Хеди будете спать на диване, — сказала мама.
Я закричала:
— Не буду с ней спать, она всю ночь ворочается и храпит. Я же не смогу уснуть!
— Ничего не поделаешь. Завтра постараюсь найти еще кровать, а сегодня придется устроиться так. Теперь необходимо заняться уборкой. Мы не можем так жить. Надо вымыть пол и стены. Здесь, конечно, есть вши.
Мы убирали, мыли. Запах мыла проникал в легкие. Мы больше ни о чем не думали. Мы выбивали постели, скребли, обдавали кипятком, мыли окна и чистили печурку. К вечеру так устали, что едва хватило сил съесть бутерброды, которые принесли из дома. Поев, мы повалились на кровати, довольные проделанной работой и наслаждаясь запахом чистых простыней. Я даже забыла, что со мной спит Ливи, уснула, не успев подумать об этом.
На следующий день мы отправились на разведку.
Гетто состояло из нескольких блоков, окруженных забором. Окна, выходящие на главную улицу, которая находилась за ним, были заколочены и закрашены. На единственной улице внутри гетто толпились люди, молча, лишь взглядом приветствуя друг друга. Все было и так понятно. Я увидела своих друзей Дору и Сюзи, которые разговаривали с Анной. С другой стороны подошла Баба. Мы были рады, что встретились, и сознание того, что мы будем вместе, придавало нам силы. Мы осмотрелись кругом и обнаружили позади домов ручеек. Тут же решили, что здесь и будем встречаться. Хорошо было иметь свое уединенное место.
Не ожидая, пока все расселятся, люди сами начали организовывать жизнь гетто, например, полицию, общественную уборку и уход за больными. Дело в том, что в гетто из госпиталей прислали больных евреев. Им нужна была немедленная помощь. Жизнь в гетто закипела.
Единственное свободное здание — синагогу превратили в госпиталь. Достали кровать и матрацы. На том самом месте, где несколько дней назад люди молились и благословляли Всемогущего Бога за освобождение наших предков из Египта, сейчас лежали больные и среди них умирающие от туберкулеза.
Больные женщины лежали на галерее. Не было лекарств и перевязочного материала. Приходилось разрезать простыни и занавески. Их употребляли многократно. После каждого употребления стирали и гладили. Единственным болеутоляющим средством был аспирин, но и его необходимо было экономить. Зато было много врачей — квалифицированных и даже знаменитых. Мы, девушки, были добровольными сестрами и сиделками. Так что дел у нас было невпроворот.
В течение нескольких дней в гетто было собрано все еврейское население города. Во многих домах поселилось по девять-десять семей, по две-три в каждой комнате.
Вход в гетто был закрыт и охранялся полицейскими с перьями на шапках. Никто не имел права войти или выйти, за исключением венгерского коменданта. Он каждое утро принимал рапорт от еврейского старшины, ответственного за выполнение приказов.
Медленно проходили дни. Мы начали привыкать к тесноте, но атмосфера была напряженной. Опять началось соперничество между мной и Ливи.
Мы отталкивали друг друга от маленького зеркала в нашей комнате. Каждая хотела причесаться и считала, что имеет право на зеркало. Ни одна не хотела уступить. Чтобы доказать права старшей, я могла ударить сестру. Ливи отвечала тем же, и завязывалась настоящая драка. Мы дрались и вырывали друг у друга волосы. Мы ненавидели друг друга, не понимая того, что наша ненависть должна быть направлена совсем на другое.
Наступала весна. Когда мы встречались у ручья, то видели как зеленеет трава и набухают почки на кустах сирени. Маленькие крокусы распространяли дурманящий аромат. Наблюдая все это, мы почти забывали, что находимся здесь не по своей воле. Но это длилось недолго: мы вспоминали своих мальчиков, и все становилось на свои места. Дора прочитала нам письмо от своего друга, арестованного за коммунистические убеждения и ожидавшего суда, хотя приговор был заранее предрешен. Баба рассказала, что кто-то получил письмо с Украины. В письме сообщалось, что сгорел госпиталь, в котором находились евреи, и все они погибли. Неизвестно, был ли это поджог или несчастный случай.
Население гетто составляли в основном женщины, старики и дети. Все работоспособные мужчины были отосланы на фронт, где находились венгерские войска. Их заставляли идти босиком по минным полям впереди наступающих частей и пальцами ног нащупывать мины. Многие при этом погибали. Письма приходили редко. Их всегда ждали с нетерпением и тревогой. Каждый беспокоился за кого-нибудь. Как только приходило письмо, собирались люди, чтобы разделить радость и горе.
После рассказа Бабы наступило молчание, каждый погрузился в свои мысли. И мысли эти были печальны. Я думала о Пую, о нем я давно ничего не знала. Может быть, он тоже находился в том сожженном госпитале. В то же время я радовалась, что отец дома и что у меня нет братьев, за которых я бы беспокоилась.
Однако меня тревожило, что у нас кончаются деньги и еда. Как быть? Мы оставили свои сбережения у госпожи Фекете, нашей прежней соседки. Значит, нужно выйти отсюда и взять их у нее.
Я обсудила это с девушками, и выяснилось, что у Доры та же проблема. Единственная возможность выйти отсюда — это добровольная работа вне лагеря. Каждое утро комендант лагеря приглашал добровольцев, которых под охраной отправляли в город на работу. Наши дома и квартиры, которое мы так тщательно запирали, когда уходили, недолго оставались закрытыми. Как только нас выселили в гетто, они были экспроприированы и переданы немецким и венгерским офицерам. Но прежде чем вселяться, новые владельцы считали необходимым очистить их от «ненужного мусора».
В этот день мм с Дорой попросились на работу. Нас приняли и велели быть у входа в гетто к восьми часам на следующее утро. Я рассказала родителям о своем плане. Я собиралась улизнуть с работы и зайти к госпоже Фекете, чтобы взять часть денег, которые она вызвалась сохранить вместе с другими нашими ценностями. Мама забеспокоилась и пыталась меня отговорить. Мы знали, что попытка встретиться с кем-либо вне гетто карается расстрелом, но не было другого выхода. Отец тоже беспокоился, но в конце концов они сдались и только просили меня быть осторожной.
Я легла, но не могла уснуть. Попытка разработать план действий ни к чему не привела, так как я не знала, в какой части города мы будем работать. Я надеялась, что мы окажемся близко от нашего дома. Поскольку положение с едой в гетто было критическим, я была уверена, что госпожа Фекете сжалится и что-нибудь нам даст. В свое время она нас предупредила о выселении, несмотря на то, что ее муж был венгерским офицером. Воображение рисовало мне груды еды. Поэтому я приготовила большое пальто с внутренними карманами, чтобы спрятать то, что даст нам госпожа Фекете. Или, может быть, подкупить охрану? Мука, сахар, масло, яйца… Она может нам дать даже бутылку молока для ребенка нашей кузины, если ее попросить, — ведь в маленькой лавке гетто кончались продукты, а те, что оставались, дорожали с каждым днем. Мы давно уже не видели молока. Но те, у кого еще были деньги, все же могли кое-что купить благодаря акулам черного рынка. Мне бы только выбраться за пределы гетто… Завтра.
Как только забрезжил рассвет следующего дня, я вскочила с постели, оделась, выпила чашку чая и побежала за Дорой. Она встретила меня у дверей, и мы вместе отправились к воротам, где нас уже ждали еще три девушки. После проверки документов ворота открыли и нас под охраной трех полицейских вывели. Странно было видеть такими тихими знакомые улицы, где раньше кипела жизнь. Мы прошли вниз к центру. Было открыто только несколько магазинов. Раньше большинство из них принадлежало евреям. Теперь эти магазины стояли с закрытыми ставнями.
Не было видно мальчика-рассыльного Писты, раньше подметавшего и поливавшего водой тротуар перед лавкой дяди Сэмюэля. Струей из шланга он рисовал восьмерки, и мы называли его «водяная восьмерка». Теперь Листа тоже в гетто.
Не открывал свою книжную лавку дядя Кауфман. Не было тети Люси в лавке, торговавшей сладостями, — она всегда давала нам конфеты. Исчез запах лаванды у парфюмерного магазина Дарваса. Все эти магазины были закрыты.
Весеннее солнце освещало только парикмахера — венгра Котсиса, стоявшего в ожидании клиентов перед парикмахерской, которая раньше принадлежала еврею. Но клиентов не было. Не видно было ни мужчин, спешащих на работу, ни женщин с корзинками в руках, идущих на базар. Изредка пробегали дети или бездомные собаки. Не было и конных экипажей, ранее тоже принадлежавших евреям. Полицейский на углу улицы тупо смотрел в пространство, томясь от безделья. Я старалась угадать, о чем он думает.
Город был погружен в сон, как сказочная принцесса. Появится ли когда-нибудь принц, который пробудит его к жизни? Мне хотелось надеяться на это. С главной улицы мы свернули к вокзалу. В одном из окон я увидела женщину, вытряхивающую постельное белье. Для нее это было началом еще одного обычного дня. Ее муж был на работе, дети в школе. К их приходу она приготовит хороший обед, никто из них не вспомнит о нас, своих бывших соседях. Но в большей части домов окна были зашторены. То были дома, владельцы которых, как и мы, находились в гетто.
Мы остановились у небольшой виллы, неподалеку от того места, где жили Фекеты. Нам приказали рассортировать домашние вещи и провести инвентаризацию: отдельно мебель, посуду, одежду и украшения. Мы не знали, куда пойдут эти вещи, но предполагали, что в Германию, — туда отправлялось все, что имело хоть какую-нибудь ценность.
Было ужасно неприятно копаться в чужих вещах, выбрасывать в мусорные корзины фотографии, которые значили так много для их владельцев. Мне стало дурно, и я была рада, что не знала людей, которые здесь жили. Тяжело было представить, что то же самое происходит в нашем доме, что кто-то копается в наших вещах. В то же время мы были довольны, что находимся вне гетто и делаем хоть какую-то работу.
Все это время я искала возможность сбегать к госпоже Фекете. Проходили часы. Вот уже час дня, скоро нам возвращаться в гетто. Я собираю все свое мужество, обращаюсь к охраннику, говорю ему, что оставила дома любимый сувенир и хочу пойти за ним. Мне повезло. Охранник сочувствует мне и обещает не заметить моего ухода, если я быстро вернусь. Я бегу и через несколько минут стою у дома госпожи Фекете. Прежде чем позвонить в дверь, я бросаю взгляд на соседний дом, где не так давно жили мы. Открыто окно в гостиной, где теперь живет немецкий офицер. Остальные окна зашторены. По-видимому, там еще никто не поселился.
Позвонила к госпоже Фекете. Она открыла дверь. Увидев меня, замерла на пороге.
— Что ты здесь делаешь?
— Мне нужно немного денег.
— У меня нет денег. Почему я должна давать тебе деньги?
— Но мы оставили вам перед уходом много денег.
— Какие деньги? Я у вас ничего не брала. Лучше уходи, пока не вернулся муж. Если он застанет тебя здесь, тебе несдобровать.
Ничего не оставалось, как уйти. Я побежала обратно. Я была в отчаянии. Этого я не ожидала. Теперь я поняла, почему жена венгерского офицера была так «добра» к нам, когда она нас тайно предупредила. Я должна была догадаться, какие цели она преследовала. Почему бы не урвать что-нибудь у евреев, если все так делают? Мы все еще были наивными. Сколько времени еще пройдет, прежде чем мы научимся смотреть правде в глаза.
Мне было стыдно, когда я входила в ворота гетто. Мой план провалился, но новости, которыми меня встретили, заставили почти забыть об этом. Вернулись мужчины, кроме тех, которые погибли на Украине. Все были очень возбуждены и рады их возвращению. Однако мысль о том, что это может означать, вызывала неуверенность и тревогу. Хороший это признак или плохой? Мы встречались с молодыми людьми у ручья и пытались вместе разобраться в этой загадке. В конце концов мы решили, что это хороший признак, во всяком случае не слишком плохой. Пронесся слух, что нас пошлют на сельскохозяйственные работы, ну, а раз так, то естественно, что в первую очередь нужны будут мужчины. Придя к такому решению, мы радовались, что с нами наши молодые друзья. Разговоры у ручья оживились с их появлением. Нам хотелось знать все, что они пережили, а они интересовались нашей жизнью. Было так много, о чем рассказать друг другу, что мы собирались у ручья и по утрам, и в полдень, и вечером. Мы не обращали внимания на то, что было запрещено выходить после шести часов — мы возвращались домой тайными ходами.
О чем мы говорили? Главным образом обсуждали ситуацию в гетто, наши повседневные проблемы, безнадежность положения и возможные пути выхода из него, которые мы тут же отвергали, как несбыточные. Но фронт приближался, и все обычно сходились на том, что «им уже не удастся много сделать. Скоро здесь будут советские войска». И мы переходили к обсуждению книг, пели песни и предавались мечтам о любви. Даже немцы не могли лишить наши юные сердца этой радости.
Только один человек всегда оставался серьезным и большей частью молчал, стоя немного в стороне. Он редко принимал участие в разговорах, держался особняком. Его звали Михаил. У него были большие печальные глаза. Он сильно отличался от всех остальных. После возвращения мужчин я встречала его несколько раз. Он был гораздо старше меня и не интересовался молодыми девушками, которые смотрели на него с обожанием. В то время мы оба не предполагали, что когда-нибудь он станет моим мужем.
Михаил был одним из тех немногих, которые не боялись видеть все в истинном свете. Он знал, что слухи верны, и не собирался сидеть сложа руки. Он не хотел ждать, пока нас повезут «на работу в поле», даже если это будет в глубине Венгрии. Он хотел бежать в горы и ждать там прихода советских войск. Он хорошо знал леса и был уверен, что сумеет спрятаться от полиции. Михаил собирался взять с собой еду и, даже если советские войска в ста километрах от нас, предпочитал рисковать, чем быть увезенным неизвестно куда.
Все это я узнала позднее от его матери, которая со слезами на глазах рассказывала о решении своего сына. Моя мама тщетно пыталась ее утешить. Отец Михаила умер незадолго до того, как нас выселили в гетто, и теперь его мать оставалась совсем одна. Она рыдала, и вместе с ней рыдала моя мать. Рыдающие женщины были обычным явлением. Это по крайней мере давало им некоторое облегчение. Мы, молодые, с презрением смотрели на их слабости. Мы чувствовали себя сильными. Эту силу придавала нам дружба и наивность. Мы ободряли друг друга и пытались ободрять родителей. Несмотря на все это, у меня стоял ком в горле в предчувствии чего-то ужасного. Умом я могла понять, что «все будет хорошо, так как скоро придут советские войска», но сердце не верило этому.
Наконец четырнадцатого мая пришел приказ: завтра будут вывозить всех из гетто, начнут с нашей улицы. Куда? В глубь Венгрии на сельскохозяйственные работы. Мы смотрели друг на друга. Все были напуганы. Начали распространяться слухи о лагерях, о зверствах. Но мне стало легче. Мы целый месяц жили в неизвестности. Просыпаясь по утрам, мы с тревогой думали, что ждет нас в этот день, ночь не приносила забвения. Теперь, наконец, мы знали, что нам предстоит. Я почувствовала облегчение, почти радость. Самое тяжелое — это неизвестность.
Я обняла маму и сказала:
— Не беспокойся, я чувствую, что все будет хорошо.
— Ты так думаешь? — спросила мама, и в ее печальных глазах появилась искра надежды.
— Я уверена в этом. Им надоело, что мы здесь все время ничего не делаем, не приносим им никакой пользы. Весна, все мужчины на фронте, и им нужна помощь на полях. Нам дадут еду, и, может быть, немного денег.
— Будем надеяться, что ты права, — сказала мама и ушла к соседям обсудить положение.
Естественно, никто не хотел думать иначе. Мама рассказала соседям о моих предположениях. Большинство со мной соглашались, лишь немногие сомневались:
— Нас никуда не увезут. Советская армия всего в десяти километрах отсюда, она будет здесь до рассвета, — сказала госпожа Вейс, которая всегда была хорошо осведомлена.
— Тогда мы сможем вернуться домой, — сказала госпожа Грюн и поспешила сообщить эту новость своей семье.
— А почему вы так уверены? — с сомнением спросила третья собеседница.
— Даже если нас увезут раньше, чем придет советская армия, — это тоже не так страшно. Почему всегда надо думать о худшем? Хеди права, им нужна рабочая сила. Они отвезут нас на поля.
— А что, если они хотят нас прикончить? — спросил Мойше, который всегда видел все в мрачном свете.
— Не будь таким пессимистом, — ответила Эли. — Мы живем не в каменном веке, а в цивилизованном мире. Почему они должны нас прикончить? Ведь мы никого не обидели.
Это было логично. Но кто-то повернулся к госпоже Вейс и спросил:
— Откуда вы знаете, что советская армия так близко?
— Я об этом слышала от госпожи Каган, а она от своего мужа, который дружит с полицейским Иштваном.
— Как вы думаете, откуда тот узнал?
— Полиция должна знать, они получают сведения от своих офицеров.
— Тогда наши испытания окончены, завтра мы отправимся домой. Я всегда знала, что нас спасут Советы. Этот Сталин — хороший человек.
Как легко убаюкать себя ложными надеждами. Мы охотно хватались за любую соломинку.
В эту ночь я не спала, дежурила во временном госпитале. На шатких кроватях в тесноте лежали стонущие мужчины и женщины, еще не знавшие о предстоящей эвакуации. Не стоило посвящать их в это, лучше промолчать. Я надела свой белый халат, который сохранился еще со школьных времен, и вошла в зал. Измеряла температуру, смотрела, все ли в порядке. Дядя Залман, добрый старик, которого я знала с детства, стонал и ворочался в постели:
— Можно мне немножко воды? У меня такие сильные боли.
У него была последняя стадия рака, и он знал, что у нас нет болеутоляющих средств. Единственное, что мы могли ему дать, — это немного воды. Я принесла ему воду, смочила лоб и села возле него. Он с благодарностью посмотрел на меня и попытался улыбнуться. Мне было стыдно, что я больше ничего не могла для него сделать. Я гладила его костлявую руку и смотрела на его бледное изможденное лицо. Сквозь прозрачную кожу видны были набухшие кровеносные сосуды. То было лицо человека, уходящего на тот свет. Я помнила его в расцвете сил, когда он приезжал в своем конном экипаже и весело шутил. Летом он отвозил нас купаться к реке, зимой просто катал по городу. Колокольчики под дугой весело позванивали, и мы, дети, укутанные в шубы, затаив дыхание, слушали его рассказы. У него всегда были в запасе для нас рассказы, шутки, и я все еще слышу его громкий смех. Теперь он не смеялся. Что станет с ним и со всеми стариками в этом госпитале? Оставят ли их здесь, и кто будет за ними ухаживать? Может быть, нам придется взять их с собой, но как перенесут они дорогу? А выживут ли они в этом госпитале в гетто? Нет, даже если останутся люди для ухода за ними.
Мы уже испытывали большие трудности: не было лекарств, перевязочных материалов, болеутоляющих средств. Было очень мало еды. Старшины гетто просили командование обеспечить людей самым необходимым, но заплатить они были не в состоянии. Кончались деньги. Приходилось менять на еду то немногое, что еще оставалось. Но оставалось очень мало, так как полиция регулярно проводила обыски и забирала все припрятанное.
Пока я сидела в раздумье, Залман уснул. Я тихо погладила его руку, встала и подошла к кровати маленького Джонаса. Ему было восемь лет. У него была сломана нога.
— Как ты себя чувствуешь, Джонас?
— Хорошо!
— Больше не болит?
— Только немножко.
— Завтра мы снимем гипс, и ты сможешь опять бегать, но смотри не вздумай опять состязаться с Бенди в прыжках с крыши погреба. Ведь ты не хочешь вернуться сюда?
— Нет. Обещаю, что больше не буду.
Хорошо, что он вернется к своей матери до того, как нас увезут. Не забыть сказать Вере, чтобы она пораньше сняла гипс, и по дороге домой предупредить мать Джонаса, чтобы она забрала его завтра до семи часов.
Я подоткнула ребенку одеяло, и он уснул с улыбкой на лице в счастливой уверенности, что завтра уже ничего болеть у него не будет.
Я осмотрелась вокруг. Большинство больных спали. Выключив свет, я пошла в «контору» — маленький чулан, предназначавшийся раньше для хлама. Там сидели мои расстроенные коллеги по работе, все еще обсуждавшие последний приказ. Я сказала то, что думала: сельскохозяйственные работы в глубине страны. Большинство охотно поверили в это.
Наш разговор был прерван приходом Петера — мужа Магды. Магда была моей школьной подругой. Она вышла замуж в прошлом году. Когда ей не разрешили посещать шестой класс, родители нашли подходящего молодого человека и выдали ее замуж. Я давно знала, что она беременна, поэтому не удивилась, когда Петер сказал, что начались роды. Я вышла, чтобы принять ее и отвести на галерею. Ей придется рожать среди больных женщин. Мне удалось найти ширму, чтобы немного изолировать Магду. Она была одновременно и счастлива, и встревожена. Я пыталась ее успокоить. Помогла ей помыться и села возле нее. Петер ушел домой. Он ничем не мог помочь. Я обещала ему сказать, когда родится ребенок.
Магду беспокоила предстоящая поездка. Как она сумеет ухаживать в дороге за ребенком? Я не осмелилась с ней об этом говорить. Я волновалась за нее. Но, когда у нее начались схватки, мы обе забыли о том, что ждет нас завтра. Я побежала за акушеркой. Та осмотрела Магду, сказала, что все в порядке, и ушла. Вскоре схватки повторились и Магда закричала. Я не знала, что делать, и опять побежала за акушеркой.
— Скорее, сделайте что-нибудь, помогите ей!
— Я ничего не могу поделать, — сказала акушерка. — Все идет как положено. Рожать детей больно, но не опасно.
Я впервые присутствовала при рождении ребенка. Она умрет? Я вспомнила рассказы, как женщины умирают во время родов. Кажется, я никогда не захочу иметь детей, раз это так трудно. Но неожиданно послышался крик, и темный комок вывалился между ног Магды. Акушерка перерезала пуповину и несколько раз пошлепала ребенка. Раздался слабый писк.
— Мальчик, Магда! У тебя родился мальчик. Он темный. Смотри, Магда, смотри!
Со слабой улыбкой она посмотрела на ребенка и продолжала безразлично лежать, пока мы делали все необходимое. Скоро она уснула. Сердце мое пело. Жизнь еще не кончилась. Завтра нас увезут, но с нами будет новая жизнь, которая будет продолжаться после нас.
Акушерка обмыла ребенка, завернула его в чистые тряпки и положила возле Магды. Я села на стул около кровати и не могла отвести взгляд от новорожденного. Рассвело. Внезапно я вспомнила про Петера, Джонаса и обо всем остальном. Я сняла свой белый халат и отправилась к Петеру. Мне не пришлось будить его. Он сидел и нервно курил. Перед ним стояли пустая чашка из под кофе и пепельница, полная окурков. Услышав новость, он завопил от радости, поднял меня на руки и несколько раз подбросил.
— Мы назовем его Натаниел — «данный Богом»!
Затем Петер отпустил меня и побежал в госпиталь.
Когда я зашла к родителям Джонаса, они уже встали и собирались идти в больницу. Они решили забрать мальчика и обрадовались, когда узнали, что гипс будет снят до их прихода. После этого я ушла домой.
Мама и папа были заняты упаковкой вещей. Мы должны были стоять у ворот в семь часов. Каждому разрешалось иметь при себе не больше двадцати килограммов клади. Все остальное надо было оставить в гетто. Теперь пригодился мой рюкзак, который я приготовила до того, как нас выселили из дома. Я упаковала несколько платьев, нижнее белье, запасную обувь и чулки, джемпер, две книги, письменные принадлежности. Кроме того, в отдельную сумку я уложила смену белья, чулки и свой дневник, на случай, если рюкзак окажется слишком тяжелым и его придется оставить.
Теперь я вспомнила свой сон, тот кошмар, из-за которого я, наверное, и смастерила себе рюкзак. То была бесконечная процессия мужчин и женщин с мешками за спиной и посохами в руках. Они шли по большой дороге, иногда по лесным тропам, иногда вдоль канав и рек.
Был это мой сон или сон моей матери? Можно ли наследовать сны? Что это — коллективное подсознание? Будут ли мои внуки видеть этот же сон?
Когда я вышла на улицу, было еще тихо, но около семи часов люди уже начали выходить из своих домов. Вдруг я увидела Михаила.
— Вы здесь? Что случилось? Ведь вы собирались прятаться в горах, — вырвалось у меня. Я забыла, что мы раньше не обмолвились и словом.
— Я пытался. Мы с Фери поднялись к Пиетросул, ты ведь знаешь, куда раньше ходили на экскурсии. Мы думали, что будем там в безопасности: леса там густые, и мы знали каждый уголок. Но нам не повезло. Нас увидел пастух, искавший отбившуюся от стада овцу. Пока мы думали о том, заметил ли он нас, появились друзья с петушиными перьями — рютенские фермеры никогда не любили евреев.
— А что сделала полиция?
— Самое ужасное, что ничего не сделала. Они только надели на нас наручники и велели следовать за собой. Мы думали, что нас отведут в тюрьму, но они привели нас обратно в гетто. Это значит, что судьба, которая нас ожидает здесь, не лучше, чем наказание, которое полагается за побег.
— Как ты думаешь, что нас ожидает?
— Да уж верно, ничего хорошего. Во всяком случае не работа на полях Венгрии.
Пока мы разговаривали, вокруг нас собралось несколько человек. Кто-то зарыдал. Но было уже не до утешений. Время шло, и шум на улице все усиливался. Еще не вышедшие из домов кричали-тем, кто был на улице, и наоборот. Люди приходили с мешками, сумками, котомками, рюкзаками, с пакетами, завернутыми в оберточную бумагу, и элегантными чемоданами. Некоторые надели на себя самую лучшую одежду, кое-кто даже по два комплекта. Наша семья решила одеться в легкую спортивную одежду. Я надела брюки, блузку, джемпер, куртку и ботинки. С удивлением смотрела на женщину в туфлях на высоких каблуках. Люди вбегали и выбегали из домов, что-то забыто, что-то еще хочется взять. Кому-то нужна помощь. И вся улица вдруг превратилась в гудящий улей. Маленькие дети плакали, собаки лаяли.
Явились «петушиные перья» и приказали всем построиться перед своими домами, семьями по пять человек в ряд. Вначале они пытались организовать все мирным путем, но было трудно заставить нас подчиниться, так как все мы были сильно напуганы и растеряны. Они начали на нас орать и угрожать ружьями, но люди не могли успокоиться, крики и рыдания перемежались лаем собак и грубыми ругательствами полиции. Внезапно прогремел выстрел, и тогда наступила тишина. Была зачитана прокламация:
1. Гетто эвакуируется. Все евреи должны быть переселены в глубь Венгрии.
2. Никому не дозволяется брать более двадцати килограммов клади.
3. Все ценности немедленно сдать полиции.
4. Того, у кого будут обнаружены ценности, немедленно расстреляют.
5. При попытке к бегству — расстрел.
Прослушав все это, люди зашумели и заметались. «Петушиные перья» безуспешно пытались навести какой-либо порядок на нашей улице, где находились три тысячи человек. Я покорно стояла у нашего дома и была довольна, что эвакуация начинается с нашей стороны. Нас увозили, и это было лучше, чем бесконечные домыслы: скоро мы будем знать, что нас ожидает в конце путешествия, и, по крайней мере, будет покончено с неизвестностью. Постепенно люди начали успокаиваться, построились в ряды и ждали отправки.
Мы стояли на улице много часов. Трудно было удерживать детей. Взрослые нервничали. Кому-то хотелось пить, кому-то необходимо было пойти в туалет, но нам не разрешали двигаться. Толпа людей с желтыми звездами, которые блестели на груди у каждого, все больше и больше волновалась. Когда шум толпы стал угрожающим, прогремело несколько выстрелов в воздух. На какое-то время это возымело действие.
Чего мы ждем? Никто не знал. Солнце было уже высоко, когда был дан сигнал к отправке и мы вышли из гетто.
Нас отвели в главную синагогу города. Здесь семьи разделили. Мужчин втолкнули в большой зал, а женщин и детей на галерею. Мы привыкли в синагоге сидеть отдельно от мужчин. Поэтому это нас не очень обеспокоило, но все мы страдали от тесноты и жажды. «Петушиные перья» стали проверять наш багаж в поисках ценностей. Они вызывали всех по очереди, и женщины из охраны обыскивали нас: не припрятано ли что-нибудь на теле.
Мы сидели на скамейках. Мужчины молились, завернувшись в молитвенные покрывала. Многие женщины 01 крыли свои молитвенники, тогда как другие старались утешить друг друга оптимистическими прогнозами:
— Советская армия всего лишь в десяти километрах отсюда, — повторяла госпожа Вейс, которая была всегда хорошо информирована. — Прислушайтесь! И вы услышите орудийные залпы.
— Вы говорили это несколько недель тому назад, — заметил кто-то.
— Да, но теперь это правда. Они очень близко.
— Но кто может подтвердить, что они будут здесь к утру?
— Да, они будут. Бог простирает над нами свою защищающую длань.
— Разве мы не молимся в синагоге? Вы думаете, Бог не слышит?
— Счастье для вас, что вы верите этому.
— Вот увидите! Советская армия будет здесь до восхода солнца, и мы сможем вернуться домой.
— Домой в гетто?
— Нет, домой в наши дома. Мы будем уже завтракать дома.
Даже сомневавшиеся дали себя успокоить. Так нам хотелось верить в это!
Этот слух проник с галереи к мужчинам, находящимся внизу. К тому времени, когда он вернулся к нам, расстояние советской армии от нас уменьшилось на несколько километров. С течением времени люди стали говорить, что стрельба слышна уже на окраине города. Это придавало мужество усталым и продрогшим людям.
Нам не разрешалось выходить из синагоги даже в туалет. Вонь и жажда стали непереносимы. Дети плакали, женщины падали в обморок. Я решила во что бы то ни стало достать немного воды и подошла к двери. Как хорошо воспитанная девушка я вежливо попросила у полицейского разрешения принести воды. Презрительный взгляд и резкое «нет» были мне ответом. Я побоялась, что полицейский ударит меня, и отошла в сторону.
Вскоре к двери подошла Анна и завела разговор с тем же полицейским. Она посочувствовала, что ему приходится стоять в карауле в такой прекрасный вечер, и болтала до тех пор, пока не вовлекла его в оживленный разговор. Они шутили и смеялись. Затем Анна бросила на него чарующий взгляд и тоном, не терпящим возражения, сказала: «Я только пойду попью». И вышла.
Я ничего не «могла понять. Получается, что хорошее воспитание ни к чему. Если ты унижаешься и просишь — тебе просто дают пинка. Чтобы добиться уважения, нужно быть смелым, самоуверенным. Я внезапно поняла, что наставление времен детства: «если будешь хорошо себя вести, ты это получишь», — было только уловкой взрослых для того, чтобы добиться послушания детей. А мы-то уверились, что нас не накажут, если мы будем хорошими и будем выполнять требования взрослых.
Стемнело, день постепенно сменился ночью. А мы все сидели, испытывая то страх, то надежду. Рассвело, но советская армия не пришла. Нас опять построили и повели на станцию.
15 мая 1944 года
Светало. Розовые облака — предвестники солнца обещали хороший день. Мы еле тащились. Наш багаж с каждым шагом казался все тяжелее. Если кто-нибудь выходил из строя, сразу следовал удар палкой по голове. Семьи шли вместе и держали друг друга за руки. Один за другим люди бросали свои пожитки и помогали тем, кто был не в состоянии больше идти. Между тем солнце поднималось над крышами домов. К тому времени, когда мы подошли к парку, оно осветило молодые листочки, раскрывавшиеся тюльпаны и небольшой ковер из крокусов. Было тихо. Маленький городок спал, часы на церкви пробили шесть. Все было хорошо рассчитано. Никто не увидит, как нас уводят.
Когда люди проснутся и раздвинут шторы, они скажут: «Какой чудесный день!»
Я оглянулась вокруг, прощаясь с моим городком. Вот парк с маленьким павильоном, в котором по воскресеньям играл военный оркестр. Здесь я гуляла в надежде встретить того, в кого я в то время была влюблена. Здесь я сиживала со своими друзьями и философствовала о жизни, человечестве и любви. Моя школа, «Домница Ильяна», где я училась семь лет, радуясь познанию нового и страдая от неудач. Текстильная лавка дяди Сэмюэля, где мы встречались перед закрытием, чтобы договориться о скромных вечеринках. Кино, которое запрещалось посещать ученикам, но куда мы проникали по воскресеньям, прячась под креслами во время перерывов. Кафе, где были самые вкусные в мире сдобы и где влюбленные скрывались в нишах, расположенных вдоль стен. Мне нравилось их «фру-фру» — мусс с орехами и взбитыми сливками. Отведаю ли я его еще когда-нибудь?
На углу улицы стояла тощая собака. Она повернула голову в нашу сторону, как бы желая с нами попрощаться. Мне стало еще тяжелей, когда я увидела ее грустные глаза, которые запомнила надолго.
Станция. Мы пришли. Теперь я больше не помню солнца. Возможно, оно ушло за тучи. Перед нами товарные вагоны. Окна вагонов забиты. В каждый вагон загнали по сто человек. Обычно там помещали по восемь лошадей. Мы были усталые, голодные, страдали от жажды, и нами овладела полная апатия. Мы позволили втолкнуть себя в вагоны, услышали, как полицейские закрыли двери на засовы. Было совсем темно. Только откуда-то пробивался слабый луч солнца. Мы уселись, как могли, и тихо разговаривали.
Теперь я впервые оглянулась, чтобы посмотреть, кто попал в наш вагон. Большинство были знакомые мне люди, но никого из близких друзей. Все сидели молча. Те, у кого была еда, пытались есть. Начали распределять воду, которую нам дали, прежде чем запереть двери. Поставили парашу, и кто-то пытался завесить ее одеялом. Под стук колес мы стали обсуждать, что бы все это значило. Мы все еще надеялись, что нас везут вглубь Венгрии.
Папа спросил:
— Как вы думаете, какой мне лучше указать возраст? Мне исполнится пятьдесят в июле. Может, если я скажу, что мне больше пятидесяти, не заставят работать?
Интуиция подсказала мне, что такая тактика не годится.
— Я думаю, что лучше было бы сказать, что ты моложе. Лучше, если мы все будем работать. Ты справишься, мама молодая, а Ливи почти взрослая.
— А что, если нас увезут в другое место?
— Мы должны работать, куда бы нас ни везли. Иначе зачем они нас переселяют?
Постепенно возникали подозрения. А может, люди просто стали выражать их словами? Теперь, когда уже не было пути назад. Может быть, они намерены убить нас. Может, нас везут в пустынное место, чтобы там расстрелять? Может быть, они накачают отравляющий газ в вагоны? Мама напомнила, что, по рассказам польских беженцев, таким путем умерщвляли целые вагоны людей. Я прислушалась к разговорам и взвешивала различные возможности. Во мне звучали голоса. Поэт Йожеф Отило писал в одном из своих лучших произведений: «Я жил, а человек может умереть от жизни». Я тоже жила, но что-то во мне вопрошало, действительно ли я жила? Другой мой любимый поэт Арани отвечал: «Люди не должны умирать, пока они не испытают счастья». Была ли я счастлива? Я была счастливым ребенком, но еще не изведала «взрослого» счастья. Я не должна умереть. Может быть, мне удастся избежать смерти? Может, нас действительно увезут в глубь Венгрии? Как только мы подъезжали к станции, я через щели пыталась разглядеть ее название. Пока были венгерские надписи, я чувствовала себя в относительной безопасности.
Я посмотрела на окружающих. Семьи образовали плотные группы, как бы защищая свою территорию. Было важно оградить захваченное пространство от тех, кто хотел прилечь или просто вытянуть ноги. Возникли невидимые стены. Семьи вели себя так, как будто вокруг никого не было. Кто-то ел, не проявляя обычной вежливости и не предлагая свою еду соседу. В одной семье обнаружили, что что-то забыли дома, и начали в этом обвинять друг друга. Молодые люди ласкались, никого не стесняясь. А кто-то в это время пользовался парашей.
Грюны ели ветчину, которую они взяли с собой. Они не были ортодоксами. Только старая бабушка соблюдала кошерную пищу. В обычное время они ели бы свою ветчину тайком, но сейчас им было не до этого. Бабушка сидела молча, погруженная в свои мысли. Из глаз ее непрерывными струйками текли слезы. Вдруг она сказала:
— Дайте мне немного ветчины. За семьдесят шесть лет своей жизни я никогда не ела некошерной пищи, а теперь буду. Если Бог смог так поступить с нами, я перестану выполнять его заповеди.
Все были в смятении, глядя, как она отрезает кусок ветчины и начинает его в раздумье жевать, словно ожидая ответа от Бога. Она не перестала верить в Него, она послала Ему вызов. Может быть, она надеялась, что грянет гром и положит конец ее страданиям.
Несколько поодаль сидели Шиарцы: мать, отец, бабушка и трое детей. Самому младшему не больше пяти лет. Он сидел на коленях у бабушки и просил рассказать ему сказку. Бабушка начала рассказывать сказку про Гензеля и Гретель, но ей явно мешала семейная ссора соседей. Она прервала свой рассказ, посмотрела вокруг и сказала:
— Пойдем, малыш, в другую комнату. Здесь слишком много людей.
Ребенок взглянул на нее:
— Бабушка, мы же в поезде, разве ты не видишь?
— Да, но пойдем в другую комнату, — сказала она и попыталась двинуться с места.
— Бабушка, бабушка, разве ты не видишь, что мы не дома? Разве ты не помнишь, что они заперли нас в поезде? Здесь нет комнат.
— Мы можем пойти на кухню, — ответила бабушка, глядя в пространство мертвыми глазами.
— Нет здесь никакой кухни, — сказал ребенок и потянул ее за кофту, чтобы она села.
Несколько человек из тех, кто сидел рядом, старались втолковать старой женщине, где она находится, но она смотрела на них в недоумении. Только когда дочь обняла ее, она немного успокоилась и согласилась сесть. Ребенок не отводил от бабушки испуганного взгляда. Он не осмелился больше просить ее продолжать рассказ. Мысли бабушки были далеко отсюда, и она, медленно раскачиваясь, как бы укачивая ребенка, пела старые еврейские колыбельные песни. Быть может, ей казалось, что она у себя дома качает своего брата или сестренку, а может быть, и дочь.
Освенцим
День сменялся ночью, а ночь — днем. Мы пытались спать сидя: не было места для всех, чтобы вытянуться. Ночью мы по очереди ненадолго ложились. Параша в углу переполнилась, стоял тошнотворный запах пота, мочи и экскрементов. Кончилась вода, и жажда стала непереносимой. Люди просили пить, молились, стенали, кричали. Когда поезд останавливался, я пыталась просить у охранников немного воздуха и воды, но напрасно. Одного из маленьких детей мы подняли к окну и научили его сказать: «Битте шон, вассер» — «Пожалуйста, воды», но его голосок не был услышан. Охранники только кричали на нас, чтобы мы молчали, и грозили нам своими винтовками.
Названия станций были уже не венгерские. Изменилось направление поезда, он уже шел не на запад, названия были польские. Куда нас везли? Теперь мы были готовы к худшему, но так устали и измучились от жажды, что мечтали лишь об одном: поскорее бы все это кончилось. Если нам суждено умереть, то пусть это свершится быстрее: хуже нам уже не будет. Дети плакали. Одна девушка упала в обморок. Ее мать стала кричать, просить о помощи, отец пытался поднять девушку. Воды! Воды! Неужели никто над нами не сжалится?
Раздался свисток, поезд снова тронулся, нас везли дальше. Прошло несколько часов. Стемнело. Поезд остановился на запасном пути. Кругом была темная ночь. Где мы? Те, кто теснились ближе к оконным щелям, сумели распознать неподалеку указатель: «Освенцим». Это не говорило нам ни о чем. Люди стонали, плакали, молились. Большинством овладела апатия. Каждый думал прежде всего о ВОДЕ.
Мама вдохнула ночной воздух, и ей показалось, что пахнет чем-то странным.
— Я чувствую газ. Вот теперь это произойдет. Они накачают газ в вагоны, — она говорила с трудом, из последних сил.
— Нет, мама, это невозможно. Вагоны не запечатаны. Через щели будет проходить воздух.
— Разве вы не чувствуете этот всюду проникающий запах?
— Может быть, это с фабрики, где мы будем работать, — сказал отец.
— Не плачь, мама, — сказала Ливи, — я буду помогать тебе стирать каждый день.
Мама погладила Ливи и пыталась улыбнуться.
Сквозь щели в вагон просочился свет прожекторов, и через несколько часов двери открылись. Мрачные мужчины в полосатой одежде выгоняли нас из вагонов.
— Raus, raus! Schnell, schnell! (Вон, вон! Быстро, быстро!) — Они кричали и ругались.
Все спешили к выходу, но мы с отцом задержались и спросили одного из мужчин:
— Где мы находимся?
Человек в тюремной одежде беспокойно оглянулся и, убедившись, что никто не услышит, ответил тихо:
— Лагерь истребления.
Так мы наконец узнали. Мы посмотрели друг на друга, но не успели ничего сказать.
Эсэсовцы, наблюдавшие вместе со своими собаками за этой сценой с платформы, заорали на нас. Они то и дело щелкали хлыстами, целясь по отстающим.
Из громкоговорителя скомандовали: «Мужчины налево, женщины направо». Дубинки обеспечивали выполнение приказа. Я быстро поцеловала отца и сказала, чтобы он поторопился, пока его не ударили. Сделав несколько шагов, я услышала щелканье хлыста и крик. Может быть, это били моего отца? Никогда мне не узнать ответа.
Я догнала мать и сестру и встала в строй. Женщины длинной вереницей медленно двигались к столу, где эсэсовец, стоя рядом со своей ищейкой, помахивал палкой, как дирижер на помосте: «направо, налево, налево, налево». Это был сам Вотан, распоряжающийся жизнью и смертью.
— Мы родственники. Мы хотим быть вместе, — протестовал кто-то.
Он безучастно смотрел перед собой и механически повторял:
— Вы встретитесь позже. Старики и дети поедут в фургоне. Вы все направляетесь в одно место.
Матери неохотно отпускали своих дочерей. Сестры отделялись от сестер.
Моя мама была безутешна. Пока мы продвигались в длинной очереди, Ливи и я держали ее за руки и пытались придумать что-нибудь, чтобы она перестала плакать.
— Мама, ведь ты прожила хорошую жизнь?
— Да, но вы обе еще не жили. Почему вы должны умереть?
— Не думай об этом. Не думай о нас. Я не жалею, что умру.
Я примирилась с тем, что нас ведут на смерть. Я воспринимала это спокойно, не протестуя, даже не думая о сопротивлении. Может быть, потому, что в глубине души я в это еще не могла поверить.
Мы стояли перед высоким блондином в новенькой, с иголочки, форме СС. Позднее я узнала, что его звали доктор Менгеле. Он остановил на нас свой пронзительный взгляд и указал палкой на маму:
— Вы направо, вы обе налево.
Мама в своем темно-синем платке на голове, с покрасневшими глазами тесно прижималась к нам.
— Эго мои дети.
— Вы увидите их завтра.
— Можно мне немного воды?
— Вы получите кофе, когда прибудете на место.
Бедная мама. Она не получила кофе, когда прибыла туда. Когда она стояла там, подняв свои иссохшие губы, из крана потек газ.
Я быстро отступила от нее. Может быть, слишком быстро. За долю секунды в моей голове промелькнула мысль: «Она умрет, а мы будем жить. Я не хочу идти с ней. Я хочу жить».
Как только мы расстались, у меня хлынули слезы. Меня охватило чувство вины. Неожиданно я увидела свою молодую мать глазами эсэсовца. Она выглядела старой в темном платке, с покрасневшими глазами. Почему я не заставила ее перестать плакать? Почему я не сняла с нее платок? Почему? Почему?
Ливи не могла понять, почему я плачу. Не знаю, что она чувствовала, но она считала, что у меня нет причины плакать.
— Мама, мама, что случится с мамой? — повторяла я снова и снова.
— Ты слышала, что она поедет в фургоне? Она будет там ждать нас.
— Боюсь, что ее там не будет. — Я не стала говорить Ливи, что я услышала от человека в поезде: «Лагерь истребления».
— Тогда мы встретимся завтра, — сказала Ливи.
Но я знала, что этого не будет. И совесть не давала мне покоя: это я виновата в том, что она умрет. Я предала ее. А сама буду жить.
Плетясь в колонне, я не могла думать ни о чем другом. Нас построили в ряды по пять человек. Мы шли в лагерь и наконец пришли на место, где стояло несколько бараков. Нам сказали, что это бани. Было еще темно, но здесь также светили прожектора. Эсэсовец отдавал приказы:
— Сложите все ваши вещи в одну кучу. Бели у вас есть деньги или ценности, отдайте их женщине у конторки. Тот, у кого будут обнаружены ценности, будет сурово наказан. Затем разденьтесь. Аккуратно сложите свои вещи. Свяжите ботинки и положите их отдельно.
Я не могла понять, как мне удастся найти свои вещи в такой большой куче, но поступила, как было приказано. Послушание прежде всего. У меня все еще было то маленькое оловянное колечко, память о Пую. И еще у меня была тонкая золотая цепочка с сердечком, и я ни за что не хотела с ней расставаться. Я подошла к женщине, показала ей грошовое колечко и спросила:
— Можно оставить это?
Женщина содрала с меня кольцо и бросила в кучу барахла. Я посмотрела на него и подумала: «Если я не могу сохранить на память грошовое колечко, то нет смысла хранить и цепочку», и бросила ее в ту же кучу.
Мы сняли с себя все и выстроились перед мужчиной, который стриг всех наголо. Мы пытались прикрыть свою наготу руками, но надсмотрщики из СС ходили вокруг и избивали тех, кто не стоял прямо. Подошла моя очередь. Я проглотила комок в горле, попыталась забыть, где я нахожусь, и встала по стойке смирно перед «парикмахером». Он стоял на табурете, быстро работая ножницами. Он состриг все мои волосы, совершенно наголо. Сперва ножницами, а затем машинкой. Покончив с головой, он остриг волосы подмышками и, наконец, между ног. Мои брови его не интересовали.
После стрижки нам выдали маленькие, вонючие кусочки мыла и приказали помыться. После душа нам пришлось надеть серую тюремную одежду прямо на мокрое тело. Было неприятно, но мы были вынуждены покориться. Нам разрешили надеть свою обувь, пришлось разыскивать ее в куче. Мне было хорошо в моих удобных черных ботинках и было жалко девушек, которые ковыляли в элегантных туфлях-лодочках.
Процедура закончилась. Мы не могли узнать друг друга. В сером рассвете колыхалось море серых биллиардных шаров. Я взяла Ливи за руку, я боялась потерять ее, боялась, что не узнаю сестру, если выпущу руку. Я смотрела на нее. Без своих чудесных кос, черных, как вороново крыло, моя маленькая сестра была похожа на мальчика. Я смотрела на других, стараясь встретиться с ними взглядом, чтобы узнать старых друзей. Какая-то греческая богиня вдруг подняла свои глаза, и я узнала Дору. Я всегда любовалась ее профилем, но теперь, без волос, с прямым носом и правильными чертами лица, она была похожа на статую, изваянную Фидием. Ее глаза искали мои, и я увидела в них сомнение, затем настороженное узнавание.
— Хеди, это ты?
— Ты меня не узнаешь?
— Да. Но все мы выглядим немного странно.
— Только не ты. Ты прекрасна даже без волос, — сказала я, подумав о том, как я сама выгляжу. Как, должно быть, торчит мой большой нос, теперь, когда волосы не прикрывают лицо. Я ощупала свой лысый череп и задрожала. Ощущение было ужасное.
Незаметно ночь сменилась восходом, а восход утром. Толпа дрожащих девушек, больше похожих на мальчиков, боязливо теснилась у бани. Опять нам велели построиться, и началась первая перекличка. Я была последней в строю и слышала, как эсэсовец тщательно пересчитал нас — 421. Итак, это все, что осталось от нас, 421 — женщины и девушки. А сколько мужчин? Возможно, столько же. Менее трети из трех тысяч человек, покинувших гетто утром 15 мая.
Что-то мокрое упало на мой голый череп, выведя меня из задумчивости. Я потрогала — это была капля дождя. Вскоре последовали другие. Я чувствовала, как они скатываются по моей голове, задерживаются в бровях, стекают струйками по шее. Я дрожала, но, посмотрев на других, рассмеялась. Мои несчастные промокшие подруги были похожи на новорожденных телочек: серые, лысые, они еле держались на ногах, но поблизости не было коров, к которым можно было бы прижаться. Наша охрана ушла в свое помещение, а мы остались стоять под дождем. Мы ждали на улице, не зная, чего мы ждем. Дождь хлестал по нашим спинам. Время тянулось медленно. Наконец появился комендант — эсэсовец, который должен был принять 421 заключенную. Он еще раз пересчитал нас и велел идти.
По дороге, за изгородью, мы увидели группу женщин, которые выглядели старше нас. Девушки стали кричать, спрашивать о матерях, но им приказали замолчать и сказали, что запрещено разговаривать с другими заключенными. Женщины смотрели на нас удивленно, не отвечая, но у девушек появился проблеск надежды, что среди них могут быть наши матери. Почему бы и нет? Был лагерь для женщин, лагерь для мужчин, почему не могло быть лагеря для стариков и детей? Но мне было трудно поверить этому, как ни старались убедить меня другие.
Мы подошли к месту, где стояло много низких бараков. Их можно было бы принять за фабрику, если бы не высокие ограждения из колючей проволоки, на которой висели таблички, предупреждавшие: ограждение под током. Все что можно было охватить взглядом, было холодное и стерильное. Нигде никакой зелени. Ни травинки. Даже небо было серое. Набухающие тучи дыма все время застилали синеву неба, которая, мы знали, была там, выше.
Нас ввели в один из бараков. Из дневного света — в кромешную тьму. Понадобилось время, чтобы глаза начали различать что-то в слабом свете, который пробивался через два маленьких оконца в конце барака. Потолок низко нависал, и около двери находилась небольшая ниша — помещение для охраны, как мы узнали позже, для «блоковой» — женщины, старшей по блоку. Отсюда влево шел узкий коридор, по обе стороны которого тянулись нары в три этажа, размером примерно три на два метра, так что на них можно было сидеть. На этих нарах мы должны были жить, есть и спать — по десять девушек в каждом отсеке.
С теми девятью девушками, что были ближе ко мне, мы заняли один из верхних отсеков. Было очень тесно. Когда наступила ночь, стало ясно, что мы можем расположиться только валетом. Если кому-то надо было повернуться, то все десять человек должны были сделать это одновременно. Если кто-нибудь пытался лечь на спину, то это немедленно вызывало громкий протест. Сколько ночей лежала я на боку и мечтала растянуться на спине! Или свернуться калачиком — удовольствие, которое мы не могли себе позволить.
Мы спали на голых досках, подушкой нам служила обувь. Девушки в нижнем ряду лежали на полу, их могли толкать все проходящие. Тех, кто был в середине, постоянно беспокоили спускавшиеся и поднимавшиеся с верхнего ряда, так что мне повезло, что я была наверху.
Мы держались впятером с тех пор, как нам было приказано строиться по пять в ряд. Мы с Дорой, прекрасной талантливой Дорой, на которую все смотрели снизу вверх, мы вдвоем взяли на себя ответственность за детей — Сюзи, Ливи и Илу. Сюзи, моей кузине, было пятнадцать, Ливи четырнадцать, а Иле, кузине Сюзи, было Двенадцать. Ила выглядела старше своих лет, но на самом деле была совсем ребенком. Она была самой младшей в Освенциме, и это было заметно. Молчаливой, замкнутой, ей было очень трудно научиться жить без родителей; она была апатична, в отличие от Ливи и Сюзи, которые большую часть времени болтали. Сюзи и Ливи давно были друзьями, как и мы с Дорой. Более того, Дора была помолвлена с Цали, братом Сюзи, который находился в румынской тюрьме. Все эти нити тесно связывали нас, и мы чувствовали особую ответственность друг за друга.
Когда мы расположились на нарах, мне пришлось поделиться тем, что я слышала в поезде. Мне не поверили. Дора слушала меня задумчиво, но Сюзи и Ливи надеялись на лучшее и болтали о том, как хорошо будет опять увидеть своих матерей. Измученные, мы наконец уснули.
Горьким было пробуждение на следующее утро. Мы вспомнили наших матерей. Я рыдала, мама так и стояла у меня перед глазами. Я думала и об отце, но не так печалилась о нем — я считала, что он жив и находится где-нибудь в Освенциме. Я не чувствовала ни голода, ни жажды, и когда нам первый раз дали еду, я отдала свой хлеб Ливи. Я не могла есть, хотя мы ничего не ели весь предыдущий день.
Девочки подбежали к охранницам и спросили:
— Когда придут наши мамы?
Охранницы, польские девушки, очерствевшие за несколько лет заключения, указали на дымящиеся трубы.
— Там ваши мамы, дурочки. Как вы думаете, куда вы попали, это что — дом отдыха? Это лагерь уничтожения. Посмотрите на трубы. Разве вы не видите пламя? Там горят ваши мамы, ваши отцы превратятся в пепел, ваши маленькие братья и сестры попадут на небо.
— Какие они жестокие, — сказали мои подруги. — Эти годы страданий сделали их мстительными садистками. Они хотят, чтобы нам было так же больно, как им от потери близких. Им хочется мучить нас, так долго не знавших нацизма. Они завидуют нам, что мы жили еще нормально своими семьями, когда они уже страдали в лагерях.
Труба извергала черные клубы дыма с пронзительной вонью. Она стояла на фоне неба, как восклицательный знак, подтверждая сказанное польскими девушками.
— Это сжигают мусор, — сказали мои подруги и перестали слушать польских девушек. — Они нас не обманут. — И продолжали мечтать о встрече с родными. Только я плакала.
Ливи старалась успокоить меня:
— Не плачь, мама скоро придет. Вот увидишь.
Я не отвечала. Я не могла лишать ее надежды.
Нам пришлось затвердить распорядок дня.
Подъем на рассвете, потом перекличка. Мы спали в одежде, так что не тратили время на одевание.
После подъема все спешили в уборную: нужно было управиться до переклички. Уборной служил большой барак с возвышением в середине. По обе стороны «трона» было большое количество дыр, так что одновременно могло сидеть на корточках 20 человек. Перед каждой дырой быстро образовывалась длинная очередь, и каждая девушка следила за тем, чтобы ее предшественница не сидела ни минуты больше, чем абсолютно необходимо. Иногда заходили охранники и начинали жестоко избивать всех подряд — им казалось, что мы сидим слишком долго. Тогда мы стали садиться на корточки по двое одновременно, зад к заду, над одной дырой, чтобы ускорить дело. Пользоваться дырой в одиночку было почти роскошью.
Уборная находилась в соседнем здании, и мы все должны были оправляться — под охраной — в одно и то же время. Если кому-то нужно было выйти раньше, приходилось ждать. Хуже всего было ночью, когда уборная заперта. Тогда приходилось пользоваться большими бочками за углом. Это следовало делать очень осторожно, так как бочки легко опрокидывались.
Помыться было почти невозможно. Был кран, под которым можно было ополоснуть руки и лицо после уборной, но обычно он бывал перекрыт. Изредка нам разрешалось ополоснуться в бане, и тогда выдавалась чистая одежда. Она состояла из пары больших серых подштанников, грубой рубашки и платья из той же грубой серой материи. Платья были только двух размеров, и как бы мы ни старались, нам никогда не удавалось получить нужный размер. На одних платья висели, как плащ-палатки, а другие бегали в мини-юбках, из под которых висели штаны, подвязанные веревкой. Мы ходили в своей собственной обуви, и я опять пожалела девушек, у которых были туфли на высоких каблуках, которые скоро сломались. Чулок у нас не было, но каждой был выдан синий мужской носовой платок с серыми краями, чтобы покрыть лысую голову.
После утренней оправки следовало быстро ополоснуться под краном и бежать на перекличку. Помыться было особенно важно, поскольку у нас не было бумаги. Проблема была очень серьезная и требовала изобретательности. Иногда удавалось найти кусок жесткого картона от коробки, иногда мы отрывали кусок от своих штанов или рубашки. Хотя это могло обнаружиться при смене одежды и повлечь за собой наказание, ничто не могло нас остановить. Мы продолжали это делать, так что наше нижнее белье становилось все короче и короче.
Самым важным повседневным событием в лагере была перекличка. Это был почти религиозный ритуал. Нас выгоняли из блоков три раза в день. Все должны были выстраиваться по пять человек в ряд, исключения не делались ни для больных, ни даже для умирающих. Нас считали и пересчитывали, сперва считала «блоковая», затем охранник из СС, затем другой, и, наконец, начальник СС. Цифры должны были сходиться. Я не помню, чтобы они когда-нибудь не сошлись, «блоковая» не решалась передать группу охране СС, пока не убеждалась в том, что числа сходятся. Нам приходилось стоять часами, пока они нас считали и пересчитывали. Если девушка падала в обморок или ей становилось плохо, она должна была лежать тут же. Никому не позволялось нарушить строй. Мы должны были стоять смирно и в ветер, и в дождь, в полуденный зной и в мороз. В нашей пятерке Дора всегда стояла первая, а я последняя. Мы прижимались к стоящим впереди девушкам, согреваясь сами и согревая их таким образом.
После переклички выдавали завтрак. Мы быстро бежали назад в барак, чтобы никто не украл наш скудный паек. Мы получали маленький кусочек хлеба и крошку маргарина, иногда чайную ложечку повидла и «кофе» — черную жидкость, которая напоминала кофе только по названию. Но она была горячей и немного восстанавливала жизнь в онемевших членах. Завтрак продолжался недолго, и проблеск благополучия быстро исчезал.
Затем мы продолжали сидеть в своем бараке, апатично ожидая следующую перекличку. Девушки еще надеялись увидеться со своими родителями, но все меньше говорили об этом. По мере того, как проходили дни, они начинали понимать, что не было лагерей для пожилых людей. Прекратились былые оживленные разговоры, апатия овладела всеми.
После дневной переклички нам выдавали обед. Он состоял из жидкого супа, каких-нибудь овощей, изредка даже с крошкой мяса. Мы ждали обеда, но после него никогда не были сыты. Вечером была еще одна перекличка, длившаяся час. Кружка так называемого кофе, — и у нас оставалось время сбегать в уборную до отбоя, когда тушили свет на ночь.
По мере того, как проходило время, начали высыхать мои слезы. Тело предъявляло свои требования, и я ощутила голод. Я больше не отдавала свой паек: съедала все, что мне выдавали. Я стала замечать окружающее, которое до сих пор состояло, казалось, только из трубы, окутанной серым дымом. Я увидела, как хорошо выглядят польские девушки-охранницы, с длинными волосами, в аккуратной одежде, в шелковых чулках и хороших ботинках. Я подумала, что в Освенциме можно выжить, и пыталась сообразить, как они этого добились. Я пробовала заговорить с ними, но они были необщительны. Как только я задавала вопрос, они отворачивались. И я прекратила свои попытки.
Однажды эсэсовец выдал нам открытки и велел написать домой нашим семьям. У нас не оставалось семей, мы теперь уже знали, как тщательно «петушиные перья» очистили город. К этому времени Венгрия была свободна от евреев. Поэтому приказ нас насторожил, и мы обсудили его между собой. Это, должно быть, ловушка.
— Они хотят узнать, не прячутся ли где-нибудь евреи. Они хотят, чтобы мы написали и выдали их адреса, — сказала Дора.
— Ты права, мы не будем писать.
— Так оно лучше. Тот, кому мы напишем, попадет в беду. Беда еврею, если его друг находится в Освенциме.
— Но тогда мы можем отомстить кому-нибудь, кто плохо поступил с нами, — предложила Сюзи.
— Как насчет госпожи Фекете? Она добилась, чтобы мы отдали ей свои деньги и драгоценности, а потом отрицала, что получила их, — сказала я.
Мы вспоминали то одного, то другого венгра, который донес на нас или плохо с нами обращался, и решили написать им всем. Было приятно думать, что и у них теперь возникнут проблемы. Только много времени спустя, после окончания войны я узнала цель этих открыток: показать внешнему миру, что мы живы и о нас заботятся. Но это не значит, что мы не были в чем-то правы. Однажды мы неожиданно услышали, как кто-то мурлычет бетховенскую «К Элизе».
— Что это? — спросила я. — Кто поет?
— Элла, — сказала Ливи.
Элла была девушка моего возраста, крепкая и артистичная. Она прекрасно играла на фортепьяно и любила рисовать. Теперь она ходила между рядами нар, напевая. Мурлыкание перешло в тихое проникновенное пение, а вскоре она уже пела полным голосом.
— Она сошла с ума, — сказал кто-то.
Я подошла к ней и увидела, что глаза у нее горят.
— Что случилось, Элла? — спросила я.
— Я жду маму. Я обещала ей сыграть. Я должна практиковаться, чтобы быть в хорошей форме. Она любит «К Элизе». Знаешь, ее зовут Элиза. Она будет так счастлива. Теперь у меня это хорошо получается. Вот послушай.
— Но, Элла, здесь нет пианино, и твоя мать не сможет придти.
— Мама придет, я знаю. Ты будешь переворачивать мне ноты? Пойдем к пианино. И она показала в конец коридора.
Элла повернулась к «пианино» и опять начала петь. Все смотрели на нее с ужасом. Что будет? Никто не пытался остановить ее. Она продолжала петь. Через час явились двое эсэсовцев и забрали ее.
— Они поведут ее в газовую камеру, — сказала охранница блока Аня.
Я подождала, пока другие успокоятся, и отправилась в комнату охраны, чтобы узнать что-нибудь от Ани. Комната охраны была для нас запретной территорией, и когда кому-нибудь из нас удавалось заглянуть туда, мы приходили в изумление от того, что мы видели. Целые тарелки супа, кучи одежды, губная помада, зеркальца, гребни и тысячи других вещей, которые, мы помнили, когда-то существовали в другой жизни. Как могли они оказаться здесь? Мы не могли себе этого представить, и прошло много времени, прежде чем у меня установились хорошие отношения с одной из охранниц, и я осмелилась спросить ее.
Но единственное, что я хотела узнать сейчас, — это об Элле и газовой камере. Мне повезло.
Аня была в хорошем настроении и не выгнала меня. То, что я узнала от нее, не укладывалось в голове. Теперь я поняла, что самое главное — попытаться выбраться из Освенцима, как только представится возможность. Рано или поздно все, кто останется здесь, закончат в трубе.
Возможность выбраться отсюда существовала всегда, так как Германия нуждалась в рабочей силе. Аня не знала, какая там работа, но уверяла меня, что все лучше, чем сидеть в Освенциме, бок о бок с крематорием. Она сама надеялась когда-нибудь выбраться, когда снова потребуются люди для работы. Когда это произойдет, выстроят весь блок и эсэсовцы выберут, сколько им надо. После этого оставшихся отправят в газовую камеру. Аня также рассказала мне, что коменданту иногда нужны были добровольцы для работы вне лагеря, и таких выбирают из различных блоков по утрам. Девушки-добровольцы получали лишнюю тарелку супа в качестве вознаграждения. Я поблагодарила Аню за эту информацию и ушла от нее, довольная, что узнала так много.
Вернувшись на нары, я рассказала Доре все, что узнала. Затем мы пошли к «блоковой» предложить себя для работы на следующий день, если понадобится.
На следующий день, когда эсэсовцы явились, чтобы отобрать несколько девушек для уборки помещения охраны, нам с Дорой удалось попасть в их число. Вместе с несколькими другими нас вывели из бараков и долго вели, пока мы не подошли к воротам с большим плакатом «Арбайт махт фрай» («Работа дает свободу»). Я подумала, что это, может быть, правда: я шла работать и чувствовала себя свободной, было легко на сердце, несмотря на то, что нас сопровождали эсэсовцы. Уже одно то, что не надо без дела целый день лежать на нарах, значило много, и мне уже представлялась дополнительная тарелка супа.
Сразу за воротами находилось помещение СС. Нам выдали ведра и тряпки и велели мыть полы и мебель. Ни щеток, ни мыла. Я принесла воду и начала тереть грязные доски, но как я ни старалась, они не отмывались. Гвозди впивались в руки, и я попросила разрешения поискать обломки прутьев. Это тоже не помогло. Грязь не отмывалась. Я сидела в отчаянии, разглядывая доски, когда вошел эсэсовец. Он посмотрел и стал ругать меня и «всех избалованных еврейских свиней, которые не хотят работать». Бесполезно было доказывать, что невозможно избавиться от въевшейся грязи без щеток и мыла. Он кричал и ругался, и не было другого выхода, кроме как начать все сначала.
Около полудня у нас был небольшой перерыв, пока выдавали дополнительный суп. Затем ничего не оставалось, как продолжать наш сизифов труд. Я работала, пока громкоговоритель не объявил: «Фрайер абенд», конец рабочего дня. Давно исчезло чувство свободы, которое я испытывала, идя утром на работу. Плакат над воротами, казалось, издевался над нами, когда охрана из СС повела нас обратно в лагерь.
По дороге мы проходили мимо берез. Казалось нереальным, что мы видим деревья после того, как долго прожили там, где не было никакой зелени. Возможно, что мы пробыли в Освенциме не так долго, хотя мне казалось — вечность. Листья березы были еще нежными и зелеными.
Я отломила маленькую веточку и стала гладить похожие на сердечки листья. Они говорили со мной, успокаивали и вселяли надежду. Казалось, они говорят: «Смотри на нас. Мы родились заново. Мы свободны. Кончилась длинная зима. Жизнь начинается снова. Впереди прекрасное лето». Может быть, может быть, я тоже смею надеяться? Я не могла бросить веточку, я чувствовала необходимость принести ее в лагерь. Мне хотелось сохранить листочки и показать другим, чтобы их зелень заговорила со всеми, принесла всем надежду. Но как это сделать? Я знала, что нас будут обыскивать при входе и что не разрешалось ничего проносить снаружи. Я была уверена, что мне не разрешат пронести даже один листочек. Я спрятала крошечную веточку в подкладке своего пальто и для верности положила еще листочек в рот. Мы подошли к входу в лагерь. Охранник из СС подошел, чтобы обыскать меня, он обшарил мою одежду, провел руками по телу. Я затаила дыхание. Веточка не была обнаружена. Я прошла за ворота и перевела дух. Удалось! Стоя в строю на перекличке, я не могла удержаться и прошептала ближайшей ко мне девушке, что могу показать что-то потрясающее. К тому времени, когда окончилась перекличка и мы вернулись на свои нары, сработал устный телеграф и десятки девушек собрались вокруг меня посмотреть, что я покажу.
— Смотрите, зеленые листья, — сказала я и вынула веточку.
Они смотрели с сомнением, как бы не веря своим глазам. Все хотели дотронуться до листьев.
— Настоящие листья!
— Какая прелесть!
— Можно мне подержать веточку?
— Неужели там действительно есть деревья?
— Как ты ее достала?
— Можно мне листочек?
— Ты можешь достать еще?
— Дай мне погладить листок.
— Там много деревьев?
— Какие там деревья?
Вопрос следовал за вопросом. Девушки не дожидались, ответа. Они поочередно держали веточку, гладили листья, прижимали их к лицу, чтобы ощутить их ласковое прикосновение. Когда каждая потрогала веточку, я положила ее под свой матрац. Я хотела засушить ее, чтобы сохранить как можно дольше. Я буду вынимать ее каждый вечер и вспоминать о том, что за пределами лагеря существует жизнь. Ложась спать, я впервые с радостью предвкушала следующий день. Я думала о том, что опять увижу дерево, и уснула почти счастливая.
На следующее утро я проснулась с тем же ощущением счастья и поспешила на перекличку. Но в этот день не потребовалось дополнительной рабочей силы.
Только через два дня пришли эсэсовцы и потребовали двух добровольцев. Мы с Ольгой вызвались, но, к сожалению, нас повели в другом направлении.
Мы пришли в другой лагерь. Он был пуст. Повсюду чудились привидения. Людей нигде не видно, только пустые бараки. Перед одним из бараков лежали окоченевшие женские трупы. Нам было приказано погрузить их на телегу и отвезти за несколько сот метров к другому бараку. Там мы должны были разгрузить телегу и уложить трупы на стол. Мы с Ольгой поднимали трупы, она за руки, а я за ноги. Поднимая, мы смотрели на них, но ничего не чувствовали.
Иногда мы говорили: «какая молодая»… или «эта не такая молодая» или «эта совсем старая». Когда мы закончили свою работу, нам выдали по тарелке супа и отвели обратно в блок.
Девушки, ожидавшие, что мы опять принесем березовые листья, были разочарованы, увидев наши усталые и пустые лица. Нам нечего было рассказывать и хотелось только поскорее лечь. Как всегда, мы быстро уснули.
Каждую ночь сразу после переклички мы старались уснуть. Мы сидели на нарах в каком-то оцепенении и все больше теряли способность разговаривать друг с другом.
Однажды я проснулась со странным ощущением, которое не могла понять. В горле стояли слезы, но что-то мешало им пролиться. Какое-то новое чувство. Может быть, радость? Нет, грустное событие. Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось двадцать лет. Рубеж, к которому я так стремилась. Но теперь этот день меня не радовал, а только вызывал слезы. Я вспомнила прежние дни рождения, когда, проснувшись, я получала горячий шоколад в постель, и цветы, и подарки. Вместо песни я теперь услышала грубый голос женщины из СС. «Раус, раус, вставайте поживее, свиньи. Марш на перекличку». Я выбежала, боясь удара резиновой дубинкой.
Ливи уже встала. Она подошла и обняла меня.
— Желаю тебе много счастливых лет. Поздравляю, — сказала она.
— Спасибо. — Не так я себе представляла свой двадцатый день рождения.
— Мы дважды отпразднуем твой день рождения дома, когда тебе исполнится двадцать один, чтобы компенсировать этот день. Может быть, папа наконец подарит тебе велосипед. А вот подарок от меня. — Она отдала мне свое самое дорогое достояние — свою зубную щетку, которую ей удалось пронести в лагерь. — Она твоя, — добавила Ливи, видя мое изумление.
Я была тронута. Ливи так гордилась своими зубами — она, бывало, часами чистила зубы, чтобы они были белыми. Сестра рисковала жестоким наказанием за то, что спрятала зубную щетку, а теперь отдавала ее мне. Со слезами на глазах я обняла ее.
— Почему ты опять плачешь? Разве ты не счастлива?
— Конечно, я счастлива. Я плачу от счастья. Я так благодарна, что могу быть с тобой.
Мы направились к уборной. К нам присоединилась Магда.
— С днем рождения, — сказала она и протянула мне кусок коричневой оберточной бумаги, размером не больше половины ее ладони.
— Бумага, — проговорила я. — Это мне? Правда? — Я смотрела на клочок бумаги и гадала, где она могла ее достать. Такой роскоши просто не существовало в лагере. Бумага для уборной. Какое имело значение, что она жесткая и крохотная. Это все же была бумага.
— Это лучший подарок ко дню рождения, который я когда-либо получала. Никогда не забуду. — Неожиданно стало радостно, что у меня день рождения. С подарками. Обо мне все же вспомнили.
Ночью у меня начался понос. Было совершенно темно, и я разбудила Дору. Я боялась идти одна к параше. Осторожно, чтобы не разбудить других, мы спустились с нар и на цыпочках прошли к двери. Она была заперта, а охранница спала в будке рядом. Мы разбудили ее, она нас выпустила, выругавшись спросонья. Снаружи было также темно. Мы ощупью добрались до навеса, и я присела на край бочки. У меня были колики, и это продолжалось долго. Дора ждала меня, дрожа от ночного холода. Мы не решались разговаривать. Внезапно тишину нарушил пронзительный вой сирены. Я знала, что во время воздушной тревоги никому не разрешалось выходить из помещения и что нужно поскорее вернуться, чтобы избежать наказания, но неосторожное движение привело к тому, что я очутилась наполовину в бочке. Дора давилась смехом, помогая мне выбраться.
— Ты помнишь сказку про девочку, которая упала в навоз, а он потом превратился в золото? Возможно, завтра ты будешь покрыта золотом.
У меня не было желания смеяться. Что делать? У меня не было смены одежды, и ночь была холодная. Мы вернулись в блок, и охранница зажала нос, когда мы открыли дверь. В эту ночь дежурила Аня, одна из немногих, кто проявлял иногда человеческие чувства. Мне не пришлось объясняться. Она зашла в свою комнату и вынесла мне рубашку, чтобы переодеться, и тряпку, чтобы вытереться. Вонь не исчезла и после того, как я сняла свою одежду, и я не посмела лечь со всеми. Я улеглась на полу и скорчилась в ожидании подъема.
Я пробовала вести счет дням, но это было нелегко. Каждый день походил на другой. Однажды я с удивлением заметила, что у меня начались месячные. Я отправилась к «блоковой» и попросила у нее гигиеническую салфетку. Давая салфетку, «блоковая» успокоила меня, что с этой проблемой я сталкиваюсь последний раз. В лагере ни у кого не бывает менструаций.
— Почему так?
— Кто знает? Может быть, потому, что мы перестали быть женщинами?
— Как же это возможно? Они вам делали уколы?
— Нет, но я думаю, что они кладут что-то в хлеб или в суп — что прекращает менструации.
— Но тогда мы станем бесплодными. У нас никогда не будет детей?
— Детка, кому нужны дети в этом месте? Если они обнаружат, что ты забеременела, они сразу отправят тебя в крематорий.
— Но потом, когда мы будем свободны?
— Не будь так наивна. Неужели ты думаешь, что мы когда-нибудь будем свободны? Неужели ты думаешь, что они отпустят нас?
— Но война должна когда-нибудь кончиться.
— Не для нас. Они постараются, чтобы никто из нас не выжил. Им не нужны свидетели. Они покончат с нами, когда кончится война, если не раньше.
Роза, наша «блоковая», была из Польши. Никто не знал, через сколько лагерей она прошла до Освенцима. Она была небольшого роста, но хорошо сложена, с хорошим цветом лица, длинными темными волосами и теплыми карими глазами. Она была красива, всегда хорошо одета, волосы волнами падали на плечи. Сегодня на ней были серая юбка, белая шерстяная кофта и высокие черные ботинки. Я часто удивлялась, как этим девушкам удавалось так хорошо одеваться и, наконец, спросила:
— Откуда у вас такая хорошая одежда? Где вы ее достаете?
Роза была в хорошем настроении. Она ответила:
— Это нам платят за выполнение их поручений.
— Что вы имеете в виду?
— Мы следим за вашим поведением, чтобы вы выполняли все, что положено, за это они дают нам приличную одежду и немного лучше кормят.
— Поэтому Люба бьет нас?
— Она немного сурова, но вы должны прощать ее.
— Девушки говорят, что она садистка. Считают, что вы все злые. Вы говорите, что наши родители в крематории, это только для того, чтобы мы страдали.
— Ты же знаешь, что это правда.
— Я знаю. Но другие не хотят этому верить.
— Им пора привыкнуть к этой мысли. Они должны примириться с реальностью. Выжить можно, только примирившись с тем, что происходит. Если закрыть глаза, это не поможет.
— Но Люба не должна бить нас дубинкой.
— Она сама прошла через многое, и ее били много раз. Такие вещи делают людей черствыми. Но она не злая.
— Вы одна добрая.
— Мы не должны быть добрыми. Чтобы выжить, надо быть твердой. Возможно я сама рою себе яму.
— Но, Роза! Я обещаю. Мы всегда будем слушаться вас. Вы должны остаться с нами. Вы должны оставаться такой же.
Я отправилась обратно на нары. Меня встретила встревоженная Ципи. Она сказала, что у нее прекратились месячные. Она недоумевала, так как не спала ни с кем после последней менструации. Я успокоила ее, рассказала то, что только что узнала. Еще несколько девушек приняли участие в разговоре. Этот вопрос касался всех нас, и у каждой нашлось что сказать.
— Как хорошо, что мы избавились от этой неприятности, — сказала одна.
— Но что, если мы останемся бесплодными на всю жизнь? — спросила я.
— Значит, так оно и будет. Мы ничего не можем изменить, — сказала практичная Дора. — Мы не знаем, каким образом они вводят в нас это, что бы оно ни было.
— Мы можем перестать пить кофе.
— Или есть суп.
— А что, если это в хлебе?
— Не говорите глупости. Мы не можем ни от чего отказываться. Мы получаем так мало пищи, что не выживем, если откажемся от чего-нибудь.
— Во всяком случае, неприятно кровоточить и терпеть боли.
— Странно, — сказала Магда, — у меня всегда бывали головные боли, но с тех пор, как я здесь, голова ни разу не болела. Возможно, то, что они дают нам, помогает от головной боли.
— А у меня прекратились боли в животе, хотя у меня язва и мне должны были делать операцию как раз перед тем, как нас забрали в гетто, — сказала женщина, которая выглядела достаточно молодо, и поэтому доктор Менгеле не послал ее налево.
— Меня больше не беспокоят камни в желчном пузыре, — сказала другая.
— Может быть, они кладут лекарства в нашу пищу.
— Не будь ребенком!
— Тогда почему же?
— Не знаю. Каким-то образом мы все выздоровели. Может быть, это перемена воздуха.
— Знаете, что я слышала? — сказала Ольга. — Они кладут бром в нашу пищу, чтобы мы вели себя тихо. Как вы думаете, это правда?
— От кого ты это слышала?
— Бежи подслушала где-то во время одной из своих вылазок.
Бежи, старшая сестра Ольги, вечно куда-то исчезала. Когда раздавался свисток на перекличку, ее обычно не было на месте, и Ольге приходилось все время следить за ней. Она боялась, что Бежи накажут, и все время бегала ее искать. Когда Бежи появлялась, у нее всегда было что порассказать — подслушала разговор там, подхватила слово тут. Все больше и больше раскрывались секреты лагеря для тех, кому это было интересно; но большинство девушек не верили этим рассказам, считая их ложью.
Так было и на этот раз. «Ты это придумываешь», — говорили большинство девушек, а тем из нас, которые верили, все равно не оставалось ничего другого, кроме как мириться со всем, что происходило. Но если действительно в хлебе был бром, то это объясняло многое. Нашу пассивность, благодаря которой мы с Ольгой могли складывать трупы в пирамиды и не кричать при этом. И то, что девушки предпочитали не верить своим глазам и не видеть дым, который шел из трубы крематория.
Я только надеюсь, что в один прекрасный день они не положат в хлеб яд. Они могут.
Однажды Люба с дубинкой в руках выгоняла нас на перекличку. В блоке нас была тысяча человек, и мы должны были выйти все одновременно. Это было невозможно, так как проход в дверях был узкий. Но охрана не хотела с этим считаться. Они кричали и осыпали нас ударами.
Мы начали привыкать к этому и только старались прикрыть голову. Наконец все вышли наружу и построились пятерками, как обычно. Я с удивлением увидела, что среди нас находится Роза, в серой тюремной одежде, с синим платком на голове, с покрасневшими от слез глазами. Мы смотрели друг на друга. Что случилось? И опять именно Бежи знала, в чем дело.
У Розы был друг, парень из заключенных, один из мужчин в полосатой уремной одежде, которых мы видели в первую ночь в Освенциме. Иногда Розе удавалось урвать несколько минут для него. Вчера их обнаружил эсэсовец. Обоих высекли. Что случилось потом с ним, неизвестно. Но Розу прогнали из «блоковых», ее прекрасные волосы остригли. Ее место заняла Люба, злая Люба, которой доставляло удовольствие размахивать дубинкой. Нам было жаль Розу, но еще больше мы жалели себя, когда думали о том, какую власть над нами получила Люба. Мы только надеялись, что со временем Любу постигнет такая же судьба; мы подозревали, что у нее тоже есть мужчина, с которым она тайно встречается. Бежи могла рассказать нам больше, но надо было ждать, пока кончится перекличка.
Когда мы вернулись на нары, она рассказала нам о мужчинах в полосатой одежде. Они работали на прибывающих поездах, освобождая вагоны и следя за тем, чтобы новые заключенные выполняли инструкции немцев. Они помогали эсэсовцам отводить отобранных к газовым камерам, затем загружали трупы в печи крематория. За это им разрешалось брать из багажа заключенных продукты и вещи. Многие находили драгоценности, зашитые в одежду, и становились капиталистами в лагере. Их называли «канадцами», ибо там, где они работали, текли молочные реки с кисельными берегами, как в земле обетованной для евреев из Восточной Европы — Канаде. Находясь в гуще событий, они знали слишком много и потому были потенциально опасными, так что им не позволяли долго жить и заменяли каждые три месяца. Их жизнь оканчивалась на их же рабочем месте — в газовых камерах. Те, кого посылали в «Канаду», знали, что дни их сочтены, и им оставалось только наилучшим образом использовать оставшееся короткое время. Они были богаты, они могли купить все, что было в лагере, даже девушек, которые им приглянулись. Ходить на свидания было очень рискованно, но поскольку их самое сильное желание — голод — было удовлетворено, то следующее сильное желание — жажда любви — предъявляло свои права. Короткие свидания могли происходить за ограждением, в уборной или, если повезет, в постели «блоковой».
Несмотря на старания немцев держать все группы отдельно, иногда случайно мы встречались с кем-нибудь из прибывших позднее. Однажды Ливи вбежала в блок, задыхаясь от радости.
— Хеди! Хеди! Я встретила тетю Елену и кузину Джуси! Я с трудом узнала их остриженных.
— Где?
— Когда шла из уборной. Ты знаешь блок за уборной? Так вот, у них была перекличка, и я побежала к ним. Хотя знала, что охрана изобьет меня. Мне удалось обнять тетю Елену и спросить, знает ли она, где мама, но потом «блоковая» ударила меня. Было не слишком больно, и я рада, что сумела обнять тетю.
— Что она сказала о маме?
— Она ничего не знает. Но если она жива, то и мама, наверное, тоже. Она, должно быть, в другом лагере. Здесь их так много. Пойдем в уборную. Может, увидим ее опять.
Но в тот день нам это не удалось. А на следующий день блок был пуст. Мы узнали, что их отправили в лагерь С.
Освенцим был огромным лагерем — мы даже не представляли, насколько он большой. Мы знали, что имелось несколько лагерей: А, В, С и т. д., но не знали, сколько их. Мы жили в лагере А, большом, около пятидесяти блоков. По другую сторону колючей проволоки можно было мельком увидеть людей в лагере В. Над входом в каждый лагерь висел девиз «Arbeit macht frei»[3], выведенный витиеватыми готическими буквами. Я все пыталась понять, что это означает.
Через несколько дней, когда мы стояли на перекличке, появились эсэсовцы. Мы поняли, что будет отбор. Им нужно было несколько сот девушек для сельскохозяйственных работ, и я надеялась, что меня возьмут тоже. Наша пятерка — Дора, Ливи, Сюзи, Ила и я — всегда стояли в одном ряду. Мы думали, что нас никто не может разлучить.
Эсэсовец начал справа. Мы стояли, а он оценивал нас своим критическим взглядом: выберет или нет? Он смотрел главным образом на икры ног, и я вдруг почувствовала себя, как на скотном рынке в какой-нибудь карпатской деревне. Я даже подумала, что он будет заглядывать нам в рот и рассматривать зубы. Этого он не стал делать, но выбрал девушек с крепкими ногами и толстыми икрами. Очевидно, ему нужны были волы для работы в поле. Он подошел к нашему ряду, посмотрел на Дору, на ее икры и вызвал ее вперед. На трех других он посмотрел с презрением. Затем его глаза остановились на моих ногах. Я со страхом подумала, не дрожат ли у меня колени.
— Ты тоже, — сказал он, указав на меня хлыстом.
Я сделала неуверенный шаг, думая: «Я не могу идти без сестры. Не могу ее оставить. Она должна идти со мной, но как это сделать?» Когда эсэсовец прошел дальше, я сделала ей знак, чтобы она выскочила вперед, но один из охранников увидел, оттолкнул ее и несколько раз ударил. Вскоре все кончилось. Было отобрано нужное количество, остальным разрешили вернуться в блок. Нас, отобранных, увели в другой лагерь, туда, где находилась баня. Каждая из нас должна было получить номер, который татуировался на внутренней стороне предплечья. Я с горечью думала о скотине в Лапушеле, гам у животных были имена, а мы лишены своих. Мы должны были стать номерами, массой безличных, ничего не значащих единиц.
Я думала о том, как они добились того, что я стала ничтожеством, которое мирится со всем, что со мною делают, что я даже готова умереть, чтобы выполнить их требования. Как это могло случиться? Неужели в хлебе действительно был бром? Или есть какая-то иная причина?
Но на этот раз я не намеревалась подчиняться. Я знала, что сделанный отбор означал безопасность для меня и Доры и смерть для Ливи и всех остальных, кто остался в бараке. После каждого отбора оставшихся вели в крематорий.
Мусор сжигали. Многих разлучили с их сестрами. Я стала спрашивать, хочет ли кто-нибудь поменяться местами с Ливи. Девушки смеялись в ответ.
— Ты что, сошла с ума? Разве ты не знаешь, что будет с теми, кто уйдет обратно?
Да, я знала.
Затем началась знакомая рутина. Нам дали скверно пахнущий кусочек мыла, мы разделись и стали под душ. После душа нам разрешили надеть чистую одежду. Не серую, тюремную, а гражданскую, которую женщины сняли по прибытии в Освенцим и на которой был большой желтый крест, чтобы можно было видеть издалека, что мы заключенные. Меня обрадовало, что выдали также рубашку, которую я немедленно использовала как полотенце.
Перед тем, как мы оделись, нас опять остригли. Щетину, выросшую за последние недели, сбрили. Наши головы опять стали бильярдными шарами. На этот раз атмосфера была не такая напряженная, как тогда, когда нас стригли впервые, хотя мы опять стояли голые перед парикмахером, — отчасти потому, что мы начали привыкать ко всему, а также из-за того, что мои друзья были рады возможности уйти из Освенцима. Я не могла радоваться, я думала о Ливи.
Началось клеймение. Девушкам было приказано построиться в алфавитном порядке перед эсэсовцем, который сидел за столом с большой регистрационной книгой. Он тщательно проверял имя каждой девушки и ставил номер. Этот номер татуировали на предплечье. Дора, чья фамилия начиналась на А, была среди первых. Она показала мне свою руку, навек заклейменную номером А-7603. Я спросила ее:
— Ты переживаешь?
— Я? Из-за того, что меня заклеймили? Нет. Это они должны переживать, не я.
Дорогая Дора, мудрая, как всегда. Она считала, что позор всегда ложится на тех, кто поступает плохо.
— Конечно, я горюю о своих родителях, если правда, что их убили, но я не горюю о том, что они делают со мной. Я сохраню себя как личность. Этого они у меня не отнимут, как бы ни старались. Я знаю, что останусь личностью, независимо от того, назовут ли они меня А-7603 или еще как-нибудь.
— Возможно, ты права, но у меня беда. Помоги мне. Я не хочу оставлять Ливи. Что мне делать?
Она тоже не знала. Я решила выйти из очереди, присесть где-нибудь и обдумать решение. Моя фамилия начиналась на S, так что у меня было достаточно времени. Я отошла от своей группы, села как можно дальше у изгороди и заплакала. Я смотрела на трубу и думала о родителях. Я так погрузилась в эти мысли, что почти слышала голос матери: «Заботься о своей сестре». «Я хочу заботиться, но помоги мне», — думала я в отчаянии. Я чувствовала, что второй раз не оправдала ее надежды. Ведь это были ее последние слова: «Заботься о своей сестре». Вот так я забочусь о ней? Спасаю себя и оставляю ее на смерть? Нет, так не должно быть. Если она должна умереть, то и я вместе с ней. Неожиданно я получила ответ, такой простой, что удивительно, как я не додумалась до этого раньше. Солнце уже стояло высоко, когда, облегченно вздохнув, я присоединилась к группе. Теперь я знала, что делать. Если я не могу вытащить ее, то я должна вернуться в блок и быть с нею, разделить ее участь, какой бы она ни была. Но как мне попасть туда? За нами все время следили, нас окружала колючая проволока под током, сторожили эсэсовцы со своими ищейками. Передвигаться без разрешения было запрещено.
Когда я увидела четырех из своих подруг по блоку, которые несли котлы с супом, я поняла, что должна сделать. Я подошла и спросила, не хочет ли кто-нибудь поменяться со мной местами. Нина, чья сестра была отобрана для сельскохозяйственных работ, обрадовалась. Она даже не взяла зубную щетку, которую я ей предложила. Мы быстро составили план. Как только они кончили разливать суп, мы попросили других девушек окружить нас, чтобы мы могли обменяться одеждой. Я сняла красное цветастое шерстяное платье и надела Нинину серую тюремную одежду. Она оделась в мое платье и пошла искать свою сестру. Я взяла пустой котел и ушла с тремя другими девушками через ворота лагеря, и мне еще раз глумливо усмехнулась надпись:. «Arbeit macht frei». Котел был тяжелый, но у меня было хорошо на душе. Я знала, что сделала правильный выбор.
Атмосфера внутри блока была гнетущая. Там всегда было темно, но сегодня мрак казался еще гуще. Царила мертвая тишина. Только изредка можно было услышать хныканье. Божи первая заметила меня. Она посмотрела на меня так, как будто увидела привидение.
— Хеди, что ты здесь делаешь?
— Я вернулась. Где Ливи?
— Ты с ума — сошла. Ты знаешь, что они сделают с нами?
— Конечно, знаю. Но я не хочу спасаться без моей сестры.
— Ты, наверное, сошла с ума. Твоя сестра? Мы должны думать о себе. У меня тоже есть сестра, но если бы меня отобрали, я не стала бы думать о том, что сестра остается.
— Где Ливи? — спросила я.
— Наверное, в уборной. Пойду приведу ее, — сказала она с раздражением.
Но Ливи прибежала сама. Кто-то уже сказал ей. Рыдая, она бросилась мне на шею.
— Хеди, Хеди, ты вернулась! Слава Богу!
Мы обе рыдали, обнявшись, думая о том, что пока мы вместе, неважно, что случится.
Жизнь продолжалась в этом преддверии смерти. Настала ночь. На наших нарах стало просторнее: Дора и еще одна девушка ушли. Нам не хватало Доры, но было приятно, что можно повернуться, не будя всех остальных. Наступило утро, и с ним обычный распорядок: побудка, беготня в уборную и на перекличку. Магда заняла место Доры во главе нашего ряда. Магда тоже была моей подругой и соученицей, невысокая бледная девушка с горящими черными глазами, очень сообразительная.
Ожидая, пока нас пересчитают, мы думали, что скоро придет комендант из СС, и нас пошлют в газовую камеру. Но ничего не произошло. Ни в этот день, ни на следующий. После переклички нас опять отправили в блок, и мы опять сидели на нарах, как испуганные воробьи, ожидая своего конца. Тянулись дни. Сидя без дела, мы все думали об одном, и когда наступал вечер, чувствовали облегчение, что нам дали возможность прожить еще день. Зачем? Имела ли значение наша жизнь? Не лучше ли было, если бы нам позволили умереть быстро, чтобы избавить от страданий, причиняемых скорбью об умерших близких и бесконечной тревогой о будущем? Но мы хотели жить.
Мы продолжали ожидать смерти. Через несколько дней, к моему удивлению, нас послали на работу в другой лагерь, где были построены новые бараки. Мы должны были убрать строительный мусор, уложить оставшиеся доски и навести порядок. После нескольких недель бездействия работа была облегчением.
Проработали мы недолго, — раздался свисток, сзывающий на перекличку. У меня упало сердце. Теперь, подумала я, пробил час. Сейчас нас отправят в газовую камеру. Не может быть другого объяснения для переклички в такое неурочное время. Мы построились в ожидании своей судьбы. Капо — руководитель работ — объявил, что рабочая группа из блока 35 (нашего блока) должна немедленно вернуться. Мы, взявшись за руки, отправились навстречу предполагаемой смерти.
Вернувшись в лагерь, я увидела, как к блоку подошли два эсэсовца. Они зашли к «блоковой». Я подошла на цыпочках к ее окну и пыталась подслушать. Я хотела знать, что происходит. Эсэсовцы интересовались, все ли девушки в блоке прошли осмотр для привлечения к работе. Узнав, что около сотни эту процедуру не проходили, они приказали нам построиться и заявили, что им нужны еще рабочие.
Когда охранник блока дал сигнал строиться, так, чтобы сотня не прошедших осмотр оказалась впереди, я побежала обратно, чтобы успокоить друзей и рассказать, что я услышала. У меня созрел план. Я попыталась стать со своей пятеркой среди первой сотни, но это мне не удалось. Они знали друг друга и понимали, что если кто-то со стороны сумеет втереться к ним, то они могут остаться в лагере. Поэтому я решила, что наша пятерка станет сразу после этой сотни.
Я посмотрела на своих детей, и зрелище было нерадостное. Четыре девочки с тонкими ножками, истощенные и жалкие, непригодные для работы. Ила, самая меньшая, и другие трое, немного постарше, стояли бледные, со впалыми щеками. Я поняла, что надо что-то предпринять. Я вынула сбереженный кусочек хлеба, и, разломив пополам, сунула его Ливи за щеки, чтобы она выглядела здоровее. Несколько раз я била ее по щекам, чтобы они порозовели, и велела ей выпрямиться, чтобы создать впечатление здоровья и решительности. То же я сделала с тремя другими. Теперь оставалось только ждать и надеяться. Эсэсовец прошелся медленно вдоль строя из ста девушек, выбирая по человеку то тут, то там. На этот раз он не смотрел на ноги, а руководствовался только общим впечатлением. Чем ближе он подходил, тем больше я нервничала, мысленно молясь про себя и скрестив пальцы.
Вот он подошел к последней пятерке из первой сотни, и я затаила дыхание, когда он выбрал двух и перешел к моей группе. Сработало: он не обратил внимания на то, что прошел сотню. Он указал на Ливи, Сюзи, Магду и меня. Я перевела дух. Спасены. Я повела своих цыплят, чтобы присоединиться к тем, кого он отобрал, но почувствовала боль в сердце, когда обернулась на Илу, которая осталась одна и безучастно смотрела в пространство. Я видела ее в последний раз.
Когда отбор закончился, нас повели в баню для дезинфекции и переодевания. Нам выдали гражданскую одежду с желтыми крестами на спине и датские башмаки на деревянной подошве для тех, у кого обувь совсем износилась. Ольга жаловалась, что они очень твердые. Как и все мы, она никогда раньше не видела таких башмаков, пришлось учиться ходить в них. Когда нас выстроили перед регистратором, я подумала было, что последует та же процедура, что и раньше, но вместо того, чтобы поставить клеймо, нам выдали целую кучу знаков, которые надо было носить на шее.
Все это заняло несколько часов. Затем нас отправили пешком на станцию, где ожидал поезд. Мы сидели на деревянных скамейках, оживленно болтая и гадая, куда мы едем. Но вопросы оставались без ответа. Охранники из СС грозились побить нас, если мы не замолчим. Мы постарались успокоиться и замолчали. Я с нетерпением ждала, когда тронется поезд. Пока мы здесь, все может случиться. Медленно текли минуты. Я пыталась усилием воли заставить поезд тронуться, но ничего не получалось.
Не знаю, сколько мы прождали, когда вдруг, как будто сквозь сон, я услышала свое имя. Я подошла к окну и увидела девушку, бежавшую от вагона к вагону, выкрикивая мою фамилию. Когда я отозвалась, она сказала, что работала на кухне, и что мужчина из пекарни умолял ее узнать, нет ли в поезде кого-нибудь из его семьи. Неужели отец? Мы с Ливи расспросили ее, и хотя она не смогла много рассказать, мы решили, что это он. Мы очень обрадовались и в то же время огорчились, что уезжаем как раз тогда, когда удалось найти отца. Радость, что он жив, пересилила, и когда через минуту поезд тронулся, нам хотелось петь. Мы ушли из лагеря смерти. Отец жив. Какое значение имело то, что мы не знали, куда едем? Теперь все должно быть хорошо. Когда человек теряет всякую надежду, любая перемена может быть только к лучшему.
Девушки пели старые венгерские песни, и я присоединилась к ним. Мой голос звучал хрипло, не в лад. Прошло некоторое время, пока я справилась с ним, и вскоре я вовсю распевала одну за другой сентиментальные песенки.
Гамбург
Наше радостное возбуждение гасло по мере того, как монотонный стук колес поезда навевал дремоту. Мы перестали петь. Одна за другой засыпали. Я думала: как долго мы пробыли в Освенциме? Казалось, целую жизнь, но, глядя на пейзаж за окном, я поняла, что прошло не более нескольких месяцев. Мы прибыли в Освенцим в ночь на 17 мая — 27 ияра по еврейскому календарю. Эту дату я никогда не забуду. В этот день до конца своей жизни я буду читать Кадиш, молитву по усопшим родителям.
Поезд пересекал какое-то темно-зеленое пространство. Это было прекрасно после мерзости запустения Освенцима. Что это? Луга или пастбища? Не помню, но, должно быть, это была трава, посевы выглядели бы бледнее. Тишина стояла полная, и невозможно было представить себе, что кругом бушует война. Временами мне казалось, что все это страшный сон, а я еду к тете Регине на ферму. Но, бросив взгляд на своих соседей, я убеждалась, что этот страшный сон — реальность. Они спали, и с их лиц сошла напряженность, но на всех были следы прошедших месяцев. Истощенные тела, зарождающиеся морщины, лысые черепа. Все это напоминало о реальности.
По окну ползла муха, и я подумала, не чувствует ли она облегчение от того, что освободилась из Освенцима. Пожалуй, нет. Муха не была узницей, она могла летать, где и когда хотела. Теперь она захотела ехать с нами, посмотреть, куда нас везут. В отличие от собаки, которая следила за нами в парке, когда мы оставляли Сигет, муха могла следовать за нами куда угодно. Я смотрела на нее с нежностью: вот живое существо, которому мы не безразличны (по крайней мере, так я воображала).
Сколько времени мы ехали? Этого я также не помню. Только когда мы проснулись, оказалось, что стоим на большой станции — Гамбург. Здесь собралось много поездов. Наш поезд проехал мимо станции в порт, где остановился перед огромными пакгаузами. На вывеске значилось: «Вильгельмсхафен». Так вот место нашего назначения. Здесь должна начаться наша новая жизнь, и на нас больше не будет падать тень от трубы.
Сияло солнце и блестела вода, когда нам приказали выйти из поезда и идти в пакгауз, который должен был теперь служить нам домом. Мы поднялись по ступеням и вошли в большой зал с огромными окнами, выходящими на реку Эльбу. Там были нары в два этажа, и мы побежали, чтобы занять место. Только мы с Ливи устроились наверху у окна, как появился эсэсовец и стал кричать, что нельзя спать вдвоем. Тогда Ливи спустилась вниз, а я растянулась, довольная, что могу спать одна, могу лечь на спину и вытянуть руки, могу поворачиваться, как хочу, и никто не будет кричать, чтобы я лежала спокойно.
Последние лучи вечернего солнца освещали пакгауз. На стенах дрожало отражение волн.
Светлый зал резко отличался от нашего темного барака. Из ада мы попали в рай. Нам дали хлеба и кофе. Затем я уснула, и мне снилось, что я играю с золотыми рыбками, которые гоняются друг за другом, не боясь щуки, притаившейся за скалой.
Меня разбудил свисток, за ним последовал приказ построиться на перекличку. Первое утро в нашей новой тюрьме сулило надежды, хотя новый распорядок мало чем отличался от старого. Нам пришлось научиться заправлять постель особым способом, подворачивать одеяло так, чтобы поверхность была совершенно гладкой, как стол. Затем мы насладились почти забытой роскошью: умывались из тазов, стоявших в конце пакгауза. Мы построились на перекличку, затем нас разделили на небольшие группы по тридцать человек и повели к гавани. Здесь нас посадили на корабль, прогудел гудок, и мы отправились вверх по Эльбе. Если бы не руины вдоль берега, можно было бы предположить, что у нас летние каникулы. Никто из нас раньше не плавал на корабле. Вода брызгала на одежду, ветер обдувал лицо, мы стояли у борта, держась за руки.
Через полчаса прибыли к месту назначения, верфи Шиндлера. Сойдя на сушу, мы построились под деревом и ждали, пока комендант выберет капо — бригадира. Он пристально разглядывал тридцать девушек и наконец остановился на мне. Осмотрел меня с головы до ног.
— Умеешь говорить по-немецки?
Я вспомнила Розу, маленькую датчанку, с которой встретилась в Освенциме, сколько труда ей стоило научить меня немецкому. Я смело сказала:
— Да.
— Тогда ты будешь капо и будешь следить за тем, чтобы все работали прилежно. Я не хочу получать жалобы. Работайте хорошо, и с вами будут хорошо обращаться. Кто не будет работать, не получит еды. Поняла?
Я не знала, радоваться мне или огорчаться. Я не хотела выполнять роль надзирателя, но в то же время мое назначение давало преимущества. Капо всегда получала первый половник супа, а это означало больше овощей, а иногда даже и кусочек мяса.
Я была так поглощена своими мыслями, что едва слышала, как начальник давал всем задания. Мы должны были очищать завалы после бомбежек, копать рвы, подносить мешки с цементом и передавать кирпичи по длинной цепочке. Целые кирпичи складывались в одну кучу, разбитые — в другую. Я встала по стойке «смирно», когда ко мне обратился охранник, пожилой солдат. У него была приятная наружность. Он хотел все знать про меня — сколько мне лет, откуда я и как очутилась здесь. Впервые за много месяцев со мной разговаривали, как с человеком. Выяснилось, что у этого солдата, Германа, были дочери моего возраста, и его очень огорчила моя история. Он старался утешить меня, сказал, что теперь, когда нам разрешили работать, наше положение улучшится.
Так оно и было. Герман был добр и не требовал, чтобы я заставляла девушек работать слишком много. Я сказала им, чтобы они создавали видимость усердия и не попадались. Мы выделили девушку-часовую, а сами болтали, опершись на лопаты вокруг траншеи, которую должны были рыть. Увидев, что кто-то подходит, часовая должна была сказать пароль — «восемнадцать», и тогда мы брались за работу. Я начинала понукать: «Копайте лучше! Арбайтен! Шнель, шнель!» — но при этом тихо говорила по-венгерски: «Не перестарайтесь». Эсэсовец уходил, и мы опять отдыхали. Герман не обращал на нас внимания.
Мы не заметили, как солнце поднялось высоко в небе и прозвучал свисток на обед. Нас отвели в большое светлое помещение, где другие рабочие, военнопленные из Прибалтики и Франции, уже сидели за накрытыми столами. Мы не верили своим глазам, глядя на белые скатерти, тарелки, ложки, стаканы и графины с чистой водой. В центре стола стояла большая корзина с кусками черного хлеба. Мы смотрели, не отрываясь, боясь, что все это может исчезнуть до того, как попадет к нам в рот. Когда мы уселись, девушка в белой куртке внесла котел дымящегося супа. Она обслуживала нас. Суп был густой, в нем были овощи, мясо и макароны. Когда я осторожно протянула руку к хлебу, Герман сказал, что мы можем есть, сколько хотим. Когда хлеб был съеден, принесли еще корзину. Мы ели суп медленно, чтобы продлить удовольствие, но когда опорожнили тарелки, нам предложили добавку. Мы ели и ели, пока не наполнились даже наши пустые желудки.
На следующее утро мы с трудом верили тому, что было вчера и предвкушали такой же обед. Впервые за много недель мы могли спать, не страдая от голода. Жизнь стала терпимой, но ненадолго.
Через несколько дней комендант лагеря объявил, что нам не положено пользоваться привилегиями рабочих Шиндлера. Мы не военнопленные и даже не прибалты, мы — евреи. Мы больше не ездили на катере к верфи. Германа перевели в другое место, и на работу к развалинам нас повел неприятный эсэсовец — пешком, несколько километров. Здесь нам дали задание; оно было таким же, как и раньше, но обращались с нами совсем иначе. Когда наступил перерыв на обед, мы построились в очередь к котлу, и охранник выдавал нам суп — не тот изумительный суп, который мы ели у Шиндлера, а нечто похожее на водянистые помои, напоминавшие нам обед в Освенциме. Но, по крайней мере, это было что-то горячее. Мы сидели на земле со своими жестянками и мечтали вернуться к Шиндлеру.
Вечером, после работы, мы мылись, съедали свой скудный ужин и наслаждались коротким часом отдыха до отбоя. Световой день был длинный, и мы использовали эти минуты для стирки, отдыха и мечтаний. Лежа на своей койке, я могла беседовать с рекой, которая катила свои тяжелые темные волны. Она несла мне привет из лесов Чехословакии, откуда вытекала, — ее исток был недалеко от дома моего детства. Я чувствовала, что мы с ней старые приятели. Я нашла также новых друзей. Этажом выше жили военнопленные итальянцы, которые Пытались разговаривать с нами через окно. Когда они узнали, кто мы, они придумали, как посылать нам подарки. Они привязывали пакеты к веревке и спускали ее из своего окна до нашего. Мы принимали пакеты и отсылали им письма. Они присылали нам сигареты, шоколад и джем, все это было для нас не только реальной ценностью, но и знаком того, что кто-то нами интересуется.
Таким образом, мы сравнительно неплохо жили в Вильгельмсхафене и были благодарны за это нашим новым друзьям. Немногие из нас знали иностранные языки, поэтому возрос мой авторитет среди девушек, хотевших писать благодарственные письма. Я была рада выполнять роль общего корреспондента и с таким же нетерпением ждала «ответа на ответ», который всегда означал новую посылку. В пакгаузе были военнопленные и из Советского Союза. Они с интересом смотрели на нас, но не входили в контакт, как пленные итальянцы, а затем и французы. Возможно, причиной была проблема языка — никто из нас не знал русского, или, может быть, то, что им нечем было поделиться с нами. Однажды мы узнали, что среди них находится сын Сталина. Это создало почву для фантазий о том, что однажды ночью советские войска придут, чтобы освободить его, и освободят заодно и нас. Мы не знали о том, что Сталин не заботился о своем сыне, а также, что «освобождение» Советами означало бы новое заключение.
Одновременно с нами в Гамбург прибыла группа женщин из Терезиенштадта, семейного лагеря в Чехословакии. Она состояла главным образом из чешек, но были среди них и немки.
История их страданий длиннее нашей, ибо их интернировали в начале войны. Но им не остригали волосы, чему мы завидовали. Одна из этих девушек, Урсула, родилась в Гамбурге. Она уехала потому, что вышла замуж за чеха. У нее был маленький сын, о котором она часто рассказывала. Она надеялась, что сын и муж все еще в безопасности в Терезиенштадте. Мы просили ее рассказать о Гамбурге. Мы видели только пакгауз и небольшую часть Эльбы, она же нарисовала перед нашим взором широкие аллеи города, красивые здания, Старый Город и церковь Святого Николая, парки и музеи, многие из которых теперь были в руинах.
Урсула обдумывала возможность побега. Она говорила о том, по какой улице и куда пойдет, но все упиралось в то, решится ли кто-нибудь спрятать ее. Она не была достаточно уверена в своих прежних друзьях, чтобы осуществить этот план. Во всяком случае, пока я находилась в Вильгельмсхафене, она еще не решилась. Надеюсь, что впоследствии она нашла в себе мужество и добилась успеха.
Нашу группу из Венгрии и нескольких девушек из Чехословакии переместили в окрестности Алтоны. Наш новый лагерь состоял из пяти деревянных бараков, окруженных колючей проволокой. Это было намного хуже пакгауза, мы лишились посылок и вида на Эльбу. Мы больше не жили под одной крышей. В каждом бараке была своя «блоковая», которую комендант выбирал среди нас, за нами также следили надзирательницы из охраны СС, ауфзегериннен, в помещении, и эсэсовцы снаружи. Комендантом был высокий светловолосый эсэсовец — унтер-шаренфюрер, или командир группы, которого мы называли Шара. Мы старались не показываться, когда он появлялся, он мог ударить без всякой причины. Элегантный, как все эсэсовцы, в безукоризненном мундире и блестящих сапогах, он прохаживался по двору, выпучив холодные глаза в поисках жертвы.
Скоро такой жертвой стала я. Одна из девушек по имени Цили рассказала ему, как я подстрекала их поменьше работать. В первый же вечер в лагере он подошел ко мне и дважды наотмашь ударил по лицу. Прежде, чем я могла догадаться о причине, он сказал:
— Ты больше не капо. Завтра доложишь новой капо и получишь от нее распоряжения. — Новая капо была Цили…
Я не очень сожалела, так как не подходила к роли капо.
Итальянцы, которые посылали нам подарки в Вильгельмсхафене, ушли, и на их место пришли новые военнопленные — французы. Французы были намного богаче или щедрее. Мы стали получать посылки большего размера и чаще. Почти каждая из нас обзавелась «посылочным другом». Им строго запрещалось общаться с нами, если бы это обнаружили, то расстреляли бы. Но это их не пугало. Они продолжали находить возможности передавать нам небольшие пакеты и слова ободрения. Трудно сказать, что значило для нас больше — посылки или слово.
Наше школьное воспитание приучило нас любить все французское — Францию, французский язык, французских поэтов, французских писателей, просто французов. И вот теперь здесь были эти добрые люди, говорящие по-французски и делающие нам подарки. Достаточно было одного взгляда на них, и мы все влюбились. Ко мне приходили девушки, одна за другой, признавались в своих в своих чувствах и просили помочь написать любовное письмо.
Я тоже влюбилась.
Мою группу назначили на новое место работы, на строительство. Строили небольшие дома для тех, кого разбомбили, и мы должны были выполнять всякую подсобную работу. Самой трудной работой, которой, однако, все добивались, была переноска пятидесятикилограммовых мешков с цементом от лагеря до фундаментов домов. Здесь было то преимущество, что представлялась возможность пройти в одиночку целых сто метров.
Мы с Ольгой вдвоем несли мешок, когда я встретила Поля.
Меня привлекло не лицо и, конечно, не ощущение внутренней красоты. Об этом я ничего не знала. Дело в том, что, проходя мимо, он, как бы нечаянно, уронил к моим ногам пакет, как средневековая дама уронила бы свой платочек. Когда то же самое произошло на следующий день, я поняла, что влюблена. Я написала благодарственное письмо и еще через день, когда мы встретились, протянула его Полю. Мы обменялись несколькими словами.
— Как тебя зовут?
— Эдвига. А тебя?
— Поль.
На этом мы расстались. Поль не был особенно красив: среднего роста, с темными волосами и темными глазами. Но он говорил по-французски. Мое сердце трепетало, и неожиданно стало легче переносить все. Солнце светило, мешки стали легче, все вокруг казалось более дружественным. Я выполняла все необходимое механически, оживляясь только в минуты, когда наши глаза встречались. По вечерам я писала письма и предавалась мечтам.
Так проходили дни, и лето сменилось осенью. Начались дожди, и стало темнее, когда мы выстраивались на перекличку. Мы шли на работу в непогоду все еще в летней одежде. К концу дня хорошо было оказаться в помещении. Хотя бараки не отапливались, мы были защищены от ветра и могли забраться под одеяла. Прошла острота новизны отношений с французскими друзьями, мы сникли. Хуже всего был голод.
Чтобы отвлечься, мы организовали учебные группы. Каждая девушка должна была записать стихи, которые она помнила, и по вечерам мы читали их вслух. Венгерских и румынских поэтов и, конечно, французских, которых мы больше всего любили: Вийон, Бодлер, Верлен, Жеральди. Но где достать бумагу и карандаши? Мы выпрашивали их у старого дружелюбного охранника, у французских пленных, обыскивали свалки и наконец сумели достать немного писчих материалов. Через несколько дней мы сидели в кружок и писали, а еще через несколько дней состоялось наше первое чтение. Мы пригласили гостей из других блоков и устроили грандиозный концерт. Мы повторяли его каждый вечер и со временем решились сами сочинять небольшие стихи и рассказы. Наше настроение поднималось. Обнаружились скрытые таланты: одна девушка умела рисовать, у другой были актерские данные. Мы развлекали друг друга и на время забывали о голоде.
Интересней всего было, когда Грета изображала нас. Она была вредная «блоковая», лет около сорока, которую мы ненавидели и боялись, но она оказалась недюжинной актрисой. Не возникало сомнения в том, кого она изображает. Когда Грета подходила к зеркалу и делала вид, что локтями отпихивает кого-то, это была в точности наша тщеславная Гиза. Только тогда мы увидели, как послушно уступаем Гизе место, когда она хочет посмотреть на себя.
Когда мы до устали насмеялись, Грета опять подошла к зеркалу, посмотрела на себя и поморщилась, теперь все смеялись надо мной, ибо каждое утро я показывала язык своему изображению. Я сразу же решила, что больше никогда не буду этого делать, хотя все еще считала, что похожа на обезьяну: волосы начали отрастать и торчат, как иглы дикобраза, лицо серое, кожа шелушится, а одежда велика на несколько номеров. Мне не нравилось то, что я видела в осколке зеркала, и я завидовала тем девушкам, у которых были волосы, или которые выглядели красиво даже без волос и в тряпье.
Затем Грета садилась на корточки в углу, ссутулившись, повесив голову, как взъерошенная ворона. Чулки на ней висели гармошкой, лицо испуганное, глаза смотрят хитро. Это была Лада, которая имела привычку забиваться в угол, чтобы не таскать самые тяжелые мешки с цементом.
Роман с Полем продолжался, во всяком случае посылки продолжали приходить. Я думала, что он влюблен в меня. Откуда было мне знать, что эти посылки и теплое отношение были только выражением жалости? Мы были похожи на скелеты, затерявшиеся в своих тряпках; у французов была собственная одежда, приличная пища, с ними лучше обращались. Ежемесячно они получали посылки от Красного Креста, имели другие привилегии.
Мы виделись ежедневно, крадучись обменивались словами, писали друг другу. Я мобилизовала все свое знание французского и писала самые красивые любовные письма, на которые только была способна. Когда я думала о Поле по вечерам, сердце мое наполнялось чувствами, которые я давно не испытывала. Детская влюбленность? Счастье? Я не боялась самого сурового наказания.
На рассвете меня разбудил резкий свисток. Первым делом я нащупала под матрацем хлеб. Накануне вечером я припрятала корку хлеба, его могли украсть. Нет, вот он. Хорошо, что можно хоть чуть-чуть утолить голод. Я съела хлеб, еще не успев открыть глаза. В это время я услышала крики и приближающийся звук ударов: это эсэсовка, жирная Мария.
— Вон! Вон! Долго вы будете валяться и бездельничать? Вставать и убрать постели! Немедленно вставайте на перекличку.
Лучше встать, пока она не подойдет к нашим нарам со своей резиновой дубинкой. Я соскочила с верхних нар, быстро заправила постель и удостоверилась, что бумажка с записанными стихами хорошо спрятана под матрацем. Побежала к умывальнику, чтобы быстро ополоснуть руки, вернулась выпить немного коричневой жидкости, которую нам выдавали. По крайней мере, она была горячая. Сделав несколько глотков, я вышла наружу на перекличку. Как и в Освенциме, нас пересчитывали, когда мы вставали, когда направлялись на работу, когда возвращались и перед отбоем. Должно быть, мы были им очень дороги, если они нас так часто пересчитывали. Было еще темно, и мы должны были стоять снаружи и ждать, пока придет комендант лагеря. Но в этот день ожидание не казалось долгим. Я думала только о том, что скоро увижу Поля. Он писал в последнем письме, что мы встретимся в пустой хибарке, там, где мы работаем, и сможем поговорить наедине.
Я сомневалась, что нам удастся встретиться незаметно, но все же решила попробовать, невзирая на опасность. Внезапно меня вернули к реальности. Ольга, стоявшая впереди меня, упала навзничь на землю. У нее было низкое кровяное давление, и ей было трудно долго стоять неподвижно. Я пыталась помочь ей встать, но она была в обмороке. Я попросила разрешения принести немного воды. Через несколько минут она пришла в сознание. Мы продолжали стоять. Уже рассвело, когда пришел комендант, пересчитал нас и дал команду к отправке. Открылись ворота лагеря, и мы вышли на работу под дождем и порывистым ветром. Я замерзла в своем легком платье, ботинки хлюпали в лужах, но все это не имело значения — ведь я иду на встречу с Полем.
Я как раз сбросила десятый мешок с цементом, когда показался он. Проходя мимо меня, он шепнул: «Сейчас». Я оглянулась и, убедившись, что охранник далеко и поблизости нет немцев, ускользнула, чтобы встретиться с ним. В хибарке мы бросились друг другу в объятья. Он прошептал мое имя по французски «Эдвидж». Я ждала слов о любви, но Поль не был романтичным юнцом. Он был мужчиной в расцвете сил, которому нужна была женщина. Этого я не ожидала, не была к этому готова.
— Эдвига, знаешь — ты уже не ребенок. Я хотел бы — ты знаешь — с тобой…
Правой рукой он шарил у меня под платьем, а левой щупал мои груди. У меня было такое чувство, как будто он меня ударил. Я посмотрела на него и испугалась. Его глаза горели. Что ему нужно? Я высвободилась и убежала. Сердце мое билось от страха, а не от любви. Конечно, я знала, чего он хотел. Но так не поступают. Я не могла так. Немного позже, когда я возвращалась с мешком цемента, комендант уже делал обычную проверку, в том числе и в хибарке. Мое старомодное воспитание спасло нас обоих.
Вернувшись в лагерь, я обнаружила, что пропали мои стихи. Пока мы работали, эсэсовцы обыскали постели. Достоевский, которого так любила Магда, крошки хлеба, которые собирала Тереза, Ольгин карандаш — каждый чего-то не досчитался. С каждой койки доносились жалобы и проклятья. Мы больше всего жалели о потере своих стихов, рассказов и письменных принадлежностей. Придется заново создавать наши литературные произведения.
Но у нас не было времени предаваться горю. Надо было развести огонь под большим котлом с водой, чтобы успеть помыться, пока не погасили свет. В одной воде приходилось мыться десяти девушкам, поэтому было очень важно, чтобы первыми мылись те, кому удалось уберечься от насекомых. Клопы и вши были обычным явлением среди нас, и у большинства девушек были струпья. Пять девушек были еще «чистыми», и мы бросали жребий, так же, как и пять следующих.
От огня под котлом распространялся приятный жар, мы с удовольствием следили за колеблющимся пламенем, предвкушая предстоящую баню. Огонь вызывал много воспоминаний, и мы обменивались ими.
— Ты помнишь, как варили сливовый джем дома в саду? Всю ночь под большими котлами горел огонь, и кто-нибудь все время помешивал, пока не образовывалась черная сочная масса. Иногда на это уходило несколько дней и ночей. Нам, детям, разрешалось присутствовать и слушать рассказы взрослых.
— Когда мы вернемся домой, нам будет что порассказать.
— Если мы вернемся домой.
— Не будь дурой. Кому ты будешь рассказывать? Кто захочет слушать? Все наши семьи здесь. Не найдется человека, который не прошел бы через это.
— Вода согрелась. Кто первый сегодня?
Посчастливилось мне. Я быстро разделась и влезла в котел. Я наслаждалась теплой водой, но долго это не могло продолжаться — другие следили за тем, чтобы я быстро помылась. Я была счастливой обладательницей кусочка мыла и с удовольствием намылилась.
— Если ты одолжишь мне свое мыло, можешь почистить зубы моей щеткой, — сказала Ольга. Вполне справедливый обмен.
После бани мне пришлось надеть старую грязную одежду. Я вытрясла ее, чтобы немного освежить, пошла обратно в барак, где выдавали вечерний суп. Не хотелось оставаться в бане, пока другие купались в воде, которая становилась все темнее. После супа мы немного поговорили о пропавших стихах, о том, как их восстановить. Легли спать, когда выключили свет.
На следующий день я избегала Поля. Я думала, что он сердится на меня, и не хотела говорить об этом. Я поменялась работой с Божи. Она перешла на мешки с цементом, а я заняла ее место на подаче кирпичей. Когда прозвучал свисток на обед, Божи вручила мне пакет от Поля. Сердце мое забилось: по крайней мере, он не сердится. В пакете был кусок хлеба, две сигареты, яблоко, носовой платочек и письмо. Я поделилась хлебом и яблоком с Ливи, спрятала сигареты и платочек и во время обеда прочла письмо. Поль не касался того, что произошло накануне. Он писал, что слышал по радио из Англии о поражении немцев на всех фронтах и что война не может долго продолжаться. Он понимал, что значат для нас эти новости. Такие вести были витаминными инъекциями, они помогали нам выживать. Я рассказала другим. В этот вечер мы гораздо меньше чувствовали голод.
Через два дня мой носовой платочек украли. Я пошарила под матрацем, мои руки не нащупали ничего, кроме его грубой поверхности. Мой прекрасный мягкий льняной платочек — единственная дорогая мне вещь — пропал. Я заплакала. Ливи, которая была на нижней койке, услышала мой плач.
— Что случилось, ты заболела?
— Исчез мой платочек.
— Может быть, он завалился подальше?
— Нет, его украли.
— Не стоит из-за этого плакать.
— Это был подарок Поля. Я ему нравлюсь. Он не сердится на меня. Каждый раз, когда я прикасалась к платочку, я чувствовала его ласковую руку.
— Не будь дурой. Ты потеряла гораздо больше, стоит ли плакать из-за носового платка?
Но я не могла остановиться. Мне казалось, что я потеряла Поля. Я плакала и ругала злого вора, который похитил платок. На этот раз это сделала не «блоковая» и не охранник. Иначе было бы много больше пропаж.
Нашу хулиганку-«блоковую» уволили. Она слишком расхрабрилась и позволила себе слишком задираться с охраной из СС. Однажды, вернувшись с работы, мы узнали, что «блоковой» назначили Тери. Я обрадовалась. Тери была родом из Сигета, она была из нашей группы, теперь мы могли надеяться на снисхождение.
Поскольку Грете я никогда не нравилась, моим друзьям и мне всегда доставался самый жидкий суп, и нам никогда не давали добавки из остатков. Когда мы становились в очередь, каждый старался быть первым, чтобы получить побольше овощей. Но все зависело от «блоковой», которая была на раздаче. Все следили за половником. Если его опускали неглубоко, то мы знали, что это будет только жижа, если он опускался глубоко, то можно было рассчитывать на репу, свеклу, может быть, картофель, лук и даже, если посчастливится, мясо. Капо и «блоковая» пользовались этим, чтобы угодить своим друзьям и тем, кто выполнял их поручения. Суп был их валютой.
Тери была очень справедливой и никогда не стремилась снискать чье-либо расположение. Но ее чувство справедливости требовало, чтобы ее друзья получали лучший суп, который полагался ей как «блоковой». Как только она видела кого-либо из друзей, половник погружался глубже. Это продолжалось несколько вечеров, но затем другие запротестовали. Тогда Тери обещала не смотреть на тех, кто стоит в очереди, она раздавала механически, не поднимая глаз от котла. В этот вечер у меня бурчало в полупустом животе. Позже мы обсудили положение и решили, что нужно договориться об условном сигнале, когда мы будем подходить к Тери. Мы сигналили покашливанием, которое должно было означать, что следующая тарелка для друга. Так продолжалось еще несколько вечеров, но затем другие обнаружили наши уловки. Пришлось смириться с неизбежным. Тери сожалела, но не хотела, чтобы ее обвиняли в несправедливости.
Был вечер накануне Йом Кипур, Дня Искупления. Ливи заболела. Она была бледна, исхудала и чувствовала усталость больше, чем всегда. Уже несколько дней она работала с трудом. После вечернего супа мы решили отвести ее в лазарет. Это был барак, в котором стояло пять или шесть кроватей. Там была медсестра, но не было врача — в нем не было нужды, ибо мы не должны были болеть.
Ханка, сестра, посмотрела на глаза Ливи.
— У тебя желтуха. Тебе надо есть побольше сладостей, — добавила она с иронией.
— Это можно устроить, — сказала я, делая вид, что не замечаю иронии. Поль нам поможет.
— Можно мне побыть здесь несколько дней? — спросила Ливи. Не стоять на перекличке, не ходить на работу, не таскать кирпичи, отдохнуть.
Эта мысль вызвала у меня тревогу, и я постаралась отговорить ее. Я помнила, чем рисковали заболевшие в Освенциме. Кроме того, мы недавно узнали, что нас опять переводят в другой лагерь. Поэтому мы решили выждать.
На обратном пути к бараку мы увидели, что наши религиозные девушки начали собираться для, молитвы. Заходило бледное осеннее солнце. Наступило время для Кол Нидре, молитвы, которая читается накануне Дня Искупления. Пронесся слух, что у кого-то есть молитвенник. Девушки решили поститься, несмотря на все уговоры не делать этого. Мне было трудно понять их слепую веру. Они отказывались даже от глотка воды и к концу дня еле стояли на ногах. Девушки с трудом тащились обратно в лагерь и, вероятно, думали о вечернем супе, но вместо супа нас ожидал сюрприз. В этот вечер мы должны были переселиться. Надо ждать, пока придут грузовики, и суп мы получим только в новом лагере. Неужели они специально приурочили это к такому дню? Никто не знал, но мы убедились, что они решили заставить нас подольше ждать супа.
Примерно через час пришли грузовики, и нас отправили в другой пригород, Эйдельстедт. Бараки здесь были такими же, как в Альтоне. Этот лагерь принадлежал строительной фирме, которая наняла нас для подсобных работ на строительстве жилого дома для тех, кто после бомбежек переселился сюда из Гамбурга. Теперь, наконец, мы получили свой суп. Мы ели, а ослабленные постившиеся женщины смогли наконец отдохнуть.
На следующее утро к нам приставили Марию, самую худшую из эсэсовок. На ее лице было написано удовольствие от возможности ударить кого-нибудь, кто двигался недостаточно быстро. Я никогда не пойму, как девушка моего возраста может быть такой злой. Казалось бы, от женской охраны можно было ожидать лучшего обращения, чем от мужчин, но за одним исключением все было наоборот. Только мечтательная блондинка Эдит, по-видимому, не получала удовольствия от избиений. Она носила с собой дубинку, как и остальные, иногда кричала на нас, но редко била.
Когда нам выдали задание, мастер приказал мне ухаживать за его будкой. Я должна была быть его личной прислугой, убирать помещение и следить, чтобы оно было хорошо натоплено, когда он приходил во время перерыва. Я была в восторге, предполагая, что сумею прятать здесь Ливи, когда ей будет особенно плохо.
Мастер оказался неразговорчивым, но добрым. Когда я попросила разрешения приводить сюда свою сестру, он едва заметно кивнул и шепотом велел следить за тем, чтобы охрана СС не обнаружила ее. Я привела Ливи и, пока я мыла пол, она могла полежать в углу.
Наше переселение означало потерю контактов с французами. Несомненно, это входило в планы СС. Нас постоянно переселяли, чтобы мы не пустили где-либо корни и не установили связи, которые могли бы придать нам силу. Они стремились подчеркнуть свое могущество и наше бессилие.
Но и здесь были французские военнопленные, и они были так же внимательны к нам, как их соотечественники в Альтоне. Новые французы передавали нам новые посылки. Я знала, что они живут там же, где Поль, и один из них обещал передать ему письмо. Я написала Полю о болезни Ливи и на следующий день получила от него пакет. Опять установилась связь. Он присылал Ливи разные сладости, девушки помогали тоже, отдавая свои порции джема или шоколада, который им присылали, в обмен на то, что могли дать мы. Я подумала было попросить помощи у мастера, но когда увидела его обед, который состоял из компота, сваренного из яблочной кожуры, поняла, что ему нечем делиться, особенно в части сладостей. Сладости и отдых, который получала Ливи, возымели свое действие. Она поправлялась с каждым днем и вскоре могла работать.
Однажды мастер сказал, что я должна помочь ему принести доски с дровяного склада. Я решила, что нас будет сопровождать эсэсовец, так как никому из нас никогда не разрешалось выходить без сопровождения. Когда мы сели в машину только вдвоем, я удивилась, но не стала ни о чем спрашивать. Прежде, чем нажать на стартер, мастер огляделся вокруг, ворча что-то насчет «проклятых охранников», по-видимому, он не собирался ждать. Когда мы приехали на дровяной склад, мне было приказано ждать, а он вошел в контору. Я села на доски в изумлении, что оказалась одна. Я подумала: быть может, представляется возможность бежать. Но куда? Я не знала ни города, ни кого-либо из его обитателей. Далеко ли я уйду с желтой звездой на спине, пока меня не схватит СС?
Мои мысли прервал немецкий рабочий, спросивший, что я здесь делаю. Я сказала, что ожидаю своего мастера, но он хотел знать больше. Я рассказала ему, как нас увезли из дома, как моих родителей убили в Освенциме и что мы теперь работали, как рабы. Когда я кончила, он ушел, не сказав ни слова, но вскоре вернулся с другим рабочим и попросил, чтобы я все повторила. Когда я это сделала, они, взглянув друг на друга, воскликнули: «Свинство!» — и ушли. Я решила, что они должно быть, социалисты — настоящие социалисты, не национал-социалисты (нацисты), а противники Гитлера и его политики. Но если есть такие люди, почему они не действуют? Почему не протестуют? Почему они все это допускают?
Пришел мастер. Мы погрузили доски в машину и вернулись на стройку. Вечером я рассказала девушкам о своей поездке и о возникших у меня вопросах. Но никто из них не знал ответа.
Мы привыкли к новому лагерю и к своей работе. Чтобы заставить нас больше работать, строительная фирма объявила, что наиболее старательным будет в качестве вознаграждения выдавать купоны. Эти купоны будут служить деньгами в лавке, которая открылась в одном из бараков. В ней можно было купить квашеную капусту, селедку, мидии, иногда даже джем и небольшие кусочки плохо пахнущего лимбургского сыра. Это оказалось желанной добавкой к нашей диете и приятно отвлекало от монотонной рутины. Особенно нам понравилась квашеная капуста. Но, к сожалению, эта система вознаграждения просуществовала недолго. Только вначале можно было купить все эти деликатесы, затем их поубавилось, и вскоре лавка закрылась. А меня перевели на другую работу. Теперь я должна была стоять вместе со всеми в цепочке, передавать кирпичи и мерзнуть в тонком платье.
Становилось все холоднее и холоднее. Однажды появился грузовик с более теплой одеждой. Гражданские пальто и джемперы, которые были сданы другими женщинами по прибытии в Освенцим, теперь раздавали нам. Мне повезло, и я получила длинное синее пальто, хотя и без подкладки, но все же пальто. Большинство девушек получили только джемперы. Нас уже не трогало, что эту одежду теперь украшали желтые звезды. Звезда Давида или крест на спине, какое это имело значение?
У меня инфицировался ноготь на ноге. Не знаю, как это случилось, но палец нарвал, и я не могла надевать ботинок. Я завязала ногу тряпками и хромала в одном ботинке. Наконец это надоело охраннику и он отослал меня в лазарет. «Доктор» осмотрела ногу и взяла мазь. Это была та же мазь, которую она применяла при всех заболеваниях: плохо пахнущее вещество ихтиол, которое она втирала в раны и в горло. Теперь она его применила к моему пальцу. Не знаю, помогло ли это, но, по крайней мере, от него не было больно. Мой палец заживал очень медленно, как и все наши раны, из-за недоедания и отсутствия лекарств. Мне пришлось хромать с обвязанной ногой несколько месяцев.
Гамбург бомбили по нескольку раз в неделю. Мы привыкли к тревогам и всегда их приветствовали с радостью. То были самые счастливые минуты для меня. Охрана из СС убегала в укрытие, некоторые девушки прятались под столом, закрыв голову одеялом, но я стояла у окна, глядя на небо и радуясь каждому взрыву. Как бы близко ни разорвалась бомба, я не боялась. Думала только о том, что мы увидим утром: хаос на улицах, разбитые дома, усеянное воронками место нашей работы. Когда живешь ежедневно по соседству со смертью, то притупляется страх перед ней, она становится другом.
Вера боялась; она была одной из тех, которые прятались во время тревоги. Ее страдания начались задолго до того, как я услыхала о гитлеровском «окончательном решении». Когда немцы оккупировали Чехословакию, Веру интернировали в Терезиенштадт, этот показательный лагерь, обитателям которого разрешалось жить почти нормально. У них оставалась своя одежда, их не стригли наголо; семьи не разлучались. Вера, тогда юная девушка, была влюблена в молодого человека, за которого со временем вышла замуж. Вскоре после женитьбы их разлучили и Веру переправили в Гамбург. Когда я встретилась с ней, меня поразило ее благородное спокойствие, стоическая улыбка и прекрасные светлые волосы. Ее миндалевидные глаза излучали тепло и покой. Я всегда удивлялась ей: она казалась погруженной в себя, на нее не действовало то, что происходило вокруг, это был остров, недосягаемый, неуязвимый. Она выполняла свою работу с кроткой улыбкой, никто никогда не слышал от нее жалоб.
Постепенно Вера начала полнеть. Мне было непонятно, как это возможно при нашем голодном пайке. Однажды она рассказала мне, что беременна. Девять месяцев ей удавалось скрывать это, но теперь ребенок должен скоро родиться. Что же будет? В нашем лагере было место только для женщин, которые могут работать. Беременную вернули бы обратно в Освенцим.
— Что теперь будет? — спросила я.
— Я справлюсь, рожу ребенка, когда настанет время.
— Но что будет потом? Как ты будешь за ним ухаживать? Разве ты сумеешь продолжать работать?
— Надеюсь. Я могу привязать ребенка на спину, как это делают крестьянки в Китае. Они сразу идут на работу.
— Боюсь, что это будет нелегко.
— А я ничего не боюсь. Я намерена бороться за своего ребенка.
— Лучше я скажу Гизи. Может быть она сумеет договориться с Шара.
Гизи — сестра, которая ведала лазаретом, — единственная среди нас имела доступ к коменданту.
— Хорошо, попробуй. Может быть, она сумеет помочь.
Я отправилась к Гизи. Это была венгерская еврейка двадцати двух лет, приятная и добрая.
Более того, она была красива и умна и, возможно, могла подействовать на коменданта. Она обещала попробовать.
В ту ночь я не могла уснуть. Я думала только о Вере, ее смелости и стойкости. Теперь наконец мне стала понятна ее улыбка Моны Лизы. Беременность помогала ей переносить заключение. Я представляла себе, как у нас в лагере будет младенец и мы будем ухаживать за ним.
После нескольких дней ожидания Гизи сообщила новости: «Шара обещал, что Вере позволят родить». Мы не могли поверить этому. «Да, правда. Она сможет рожать в лазарете».
Вера подняла голову. Ее глаза расширились и она широко улыбнулась: «Благословен будь, Господь».
Теперь она стала более общительной. По вечерам мы сидели на своих койках и слушали ее часами. Она рассказала нам о своем любимом Зденеке, о ее горе, когда их разлучили, о том; как она заподозрила, что беременна, а затем убедилась в этом; о ребенке, который рос в ней, о своих надеждах, о том, как она будет о нем заботиться. Когда Вера это говорила, она сияла, ее светлые волосы светились в неярком свете лампы. Мы оберегали ее, старались выполнять ее работу, когда это было возможно, и делились с ней своими скудными пайками. Она нуждалась в пище больше, чем мы. Но этого было недостаточно. Мы знали, что ей требуется лучшее питание. А как мы оденем ребенка, когда он появится?
Я написала Полю и попросила его помочь. На следующий день я получила пакет с сухим молоком и иголку. Когда я разбирала руины после бомбежки, я нашла катушку ниток. Теперь нужно было достать кусок материи, и можно сшить рубашечку. Но где его взять? У нас не было простыней, а одежду нашу тщательно проверяли. Чистую одежду не выдавали, пока мы не сдавали всю грязную. Мы долго ломали головы. Решили, что каждая из девушек обратится к своему французу, будем искать в руинах. Может быть, Гизи достанет какие-нибудь тряпки. Однако ничего не получалось.
Я почти потеряла надежду, когда Поль получил посылку от Красного Креста. К счастью, в ней оказались два носовых платка, которые он немедленно передал мне. В тот же вечер мы все трудились, чтобы превратить два серых квадрата в крохотную рубашечку, самую чудесную рубашечку, которую я когда-либо видела. Теперь ребенок мог родиться. Все было готово.
И это свершилось. Через несколько дней утром мы обнаружили, что Верина койка пуста. Я побежала в лазарет, но и здесь Веры не было. Гизи сидела одна, согнувшись, с опустошенным взглядом. Лицо ее было пепельным.
— Ради Бога, что случилось?
Она не отвечала. Казалось, она даже не видит меня, продолжая смотреть в пространство. Когда я ее встряхнула и повторила свой вопрос, ее взгляд ожил и она с ужасом посмотрела на меня, как если бы она только что увидела что-то страшное. Наконец она произнесла:
— Мертвый.
— Вера умерла?
— Нет, Вера жива. Ребенок умер.
Я обняла ее и начала гладить.
— Постарайся рассказать мне, Гизи.
Казалось, мое прикосновение принесло ей облегчение, и она начала плакать. Сначала было трудно разобраться в ее словах, но постепенно я поняла, что когда Вера начала рожать, Гизи приказали отвести ее в пустой барак. Шара пришел и присутствовал при родах. Затем он заставил Гизи утопить ребенка. Теперь она не верила, что смогла совершить это бесчеловечное дело. Я поняла, что должна успокоить ее, дать ей понять, что не она, а Шара убил ребенка.
Я не могла долго оставаться с Гизи, так как уже прозвучал сигнал на перекличку. Девушки построились, и я не хотела, чтобы их наказали из-за моего отсутствия. Поэтому я оставила ее и отправилась во двор. Первой, кого я увидела, была Вера. Она стояла в своем ряду, худая, бледная, дрожащая, с потухшими глазами. Все смотрели на нее. Никто не решался заговорить. Только когда мы отправились на работу, она смогла мне что-то сказать.
— Я даже не видела его, — прошептала она.
Бедная Вера, бедная Гизи… Кто из них больше заслуживает жалости?
Вера не могла работать. Это было видно даже надзирателю. Поэтому ей было приказано развести огонь в помещении охраны. Она рыдала не переставая, и у нас не хватало слов для утешения. Она не могла примириться с тем, что ее обманули. Она считала, что раз ей обещали, она может сохранить ребенка. То и дело она вынимала маленькую рубашечку и баюкала ее. Когда, наконец, она смогла говорить, она сказала:
— Я не жалею, что была беременна. Это было самое лучшее в моей жизни.
Дни проходили как по конвейеру. Хорошо, если не было происшествий. Но эсэсовцы любили давать нам встряску, не позволяли долго жить спокойно. Как только мы привыкали к какому-нибудь месту, к работе, нас перемещали и приходилось начинать сначала — находить новые связи с военнопленными, ибо их маленькие посылки были для нас вопросом жизни или смерти. Был и другой способ встряски — постоянная проверка постелей. Если одеяло было заправлено не идеально, нас наказывали так же, как когда обнаруживали что-нибудь под матрацем. Для нас, ничего не имевших, все было ценно, мы старались сохранить любую мелкую вещь, которую находили. Многие прятали свой утренний паек, чтобы было что есть с дневным и вечерним супом, — велико было их горе, когда хлеб исчезал.
Через несколько недель или, может быть, месяцев после Вериной трагедии, когда мы вернулись с работы, нас встретил разгневанный Шара. Мы плохо заправили постели, у каждой был найден хлеб или что-нибудь еще. Нас строго накажут. Мы должны наконец понять, раз и навсегда, что с ним надо считаться. Вызвали нарушителей. Среди них была и Вера. Шара знал, как продлить пытку. Повторив, что наказание будет суровым, он ушел, оставив девушек стоять по стойке смирно. Его долго не было, а когда он явился, то объявил: в наказание будете работать в воскресенье. Выравнивать двор, засыпать землей все неровные места и обкатывать землю катком. Одни должны были копать, другие выравнивать землю, а самая трудная работа — тащить тяжелый каток — предназначалась Вере. Шара дал сигнал к началу и занял позицию, чтобы развлечься зрелищем. Вера пыталась сдвинуть каток. Было очевидно, что для этого нужна большая сила. Она согнулась почти до земли, приседая на каждом шагу. Мы знали, что долго она не выдержит. Но она продолжала тащить тяжелый каток туда и обратно, туда и обратно. Лицо ее ничего не выражало. Иногда она останавливалась, делала несколько вдохов, отирала пот со лба. Шара довольно ухмылялся.
В полдень он разрешил сделать перерыв на полчаса, зайти в помещение и поесть. Вера была без сил, и мы считали, что она не в состоянии продолжать. Она сама не верила, что сумеет работать. Но ее опять выгнали. Шара не знал жалости. Все должны были продолжать. Мы не могли помочь, могли только наблюдать из окна и желать, чтобы им хватило сил.
Наступили сумерки. Девушки были похожи на работающие привидения. Когда прозвучал сигнал к окончанию работы, Вера упала около катка. Я выбежала, чтобы помочь ей. Она была в обмороке. Я принесла воду и смочила ей виски. Когда она пришла в себя, то сказала:
— Лучше умереть, чем пережить еще одно такое воскресенье. — Впервые я слышала от нее такие слова. Вера, которая всегда думала о будущем, всегда с надеждой ожидала свободной жизни, какой бы несбыточной мечтой это ни казалось.
Ее молитва была услышана. К следующему воскресенью ее уже не было в живых. Она стала одной из жертв несчастного случая, который произошел в среду.
Это случилось так быстро, что я не могу восстановить все подробности.
В то время много бомбили. Я, Ливи и еще пять или шесть девушек разбирали руины на некотором расстоянии от лагеря. Нас отвезли туда на специальном трамвае. Мы с Ливи всегда сидели в переднем вагоне, вместе с нашими ближайшими друзьями. По неписаному закону сестры и друзья старались быть вместе, сидели вместе, боялись разжать руки. Чтобы не искушать судьбу, мы не расставались.
Произошло это после работы. Прозвучал свисток, и все бросились к трамваю, чтобы занять свои места. Вдруг Ливи закричала:
— Подожди минутку, я должна забрать одну вещь — я ее спрятала под кирпичом.
— Поторапливайся. Наши места займут.
Когда Ливи наконец пришла, трамвай уже отправлялся. Разъяренный охранник из СС с помощью дубинки и проклятий впихнул нас в последний вагон. Нам негде было сесть. Я сказала:
— Ты не могла побыстрее? Теперь нам придется стоять всю дорогу.
Ливи ничего не ответила, только глядела задумчиво.
Трамвай тронулся, изможденные девушки тихо переговаривались, довольные тем, что кончился рабочий день и что скоро они смогут растянуться на своих жестких нарах в лагере.
— Как ты думаешь, дадут нам сегодня джем? — спросила одна.
— Может быть. Давно уже не давали.
Я не участвовала в разговоре. Конечно, хорошо было бы получить немного джема вдобавок к пайку, но какое это имеет значение? Все равно сыты не будем. Мне казалось, что и у немцев было мало еды. Наш мастер сегодня варил себе суп из картофельных очисток. Но у него, по крайней мере, был хлеб к супу. Грубый деревенский хлеб с блестящей корочкой. Я смотрела на него голодными глазами, но он махнул рукой, чтобы я ушла. Или ему было стыдно, что не поделился со мной, или самому не хватало? Он не мог не знать, что у нас паек еще меньше. Но он не был злым. Он делал вид, что не замечает, когда я заходила в будку погреться. Хотя наступила весна, еще дул холодный ветер и иногда были заморозки. Ветер дул весь день, а посмотрев в окно, я заметила, что он еще усилился. Трамвай шел медленно, и я искала приметы весны, глядя на деревья, которые росли вдоль дороги. Не было видно почек. Деревья были еще голые и не заслоняли открытые раны домов, подвергшихся бомбежке. Целых домов было мало, но я уже так привыкла, что это зрелище не впечатляло. Пианино, лежавшее вверх ногами, напомнило мне о моем инструменте. Где он сегодня, играет ли на нем кто-нибудь?
Внезапно мои мысли прервал ужасающий грохот. Я подумала — бомба. Теперь мы все погибнем. Я схватила Ливи за руку. Она вся замерла. Трамвай затрясся и остановился. Мы повалились на девушку, стоявшую впереди, и смотрели друг на друга в страхе. Что случилось?
В наступившей тишине я заметила, что два передних вагона исчезли в облаке пыли. Через секунду послышался ужасный шум, сквозь который можно было различить крики, стоны и рыдания. Я выбежала из вагона и увидела нечто страшное. Раненные девушки, истекавшие кровью, лежали на земле или выползали из обломков трамвая и груды камней. Я не сразу поняла, что произошло. Одно из разбомбленных зданий рухнуло на трамвай и раздавило первые два вагона. Третий не был задет. Никто из нас, находившихся в нем, не пострадал.
Я подбежала к девушке, наполовину заваленной обломками, и помогла ей выбраться. Она отделалась только царапинами, но была страшно перепугана. Все бросились вытаскивать раненых. Мы разбирали завал голыми руками. Те, кто был в состоянии подняться, ковыляли к дороге. Они сбились в кучу, как раненные птицы. Прошла целая вечность, пока принесли воду и тряпки. Теперь мы могли, по крайней мере, обмыть и перевязать раны. Раненые стонали, просили воды и в отчаянии звали своих сестер и друзей.
— Ципи, Ципи, где ты? — звала слабым голосом какая-то девушка, залитая кровью, — ее только что отрыли из-под кучи камней.
— Здесь я! — закричала Ципи, счастливая, что ее сестра жива.
— Грудь очень болит.
— Лежи спокойно. Может быть, сломано ребро. Вот-вот приедет «скорая помощь».
«Скорая помощь» приехала, но раненых не разрешили поместить в нее, только мертвых. Появился Шара, которого известили о происшествии, и он начал отдавать приказания. Раненых он приказал уложить в непострадавшем вагоне и отвезти обратно в лагерь. Им будет оказана помощь в лазарете, они либо поправятся, либо умрут.
Нас долго пересчитывали, раненые стонали и кричали. Многие громко плакали. Откопали женщину без признаков жизни. «Мама, мама!» — кричала ее тринадцатилетняя дочь, которой мы все завидовали, что с нею была мать. Теперь мы жалели ее. Потерять мать теперь было еще хуже, чем раньше, вместе со всеми. Она обнимала и целовала мать, причитая: «Мама, мама, ты не должна умереть! Ты не можешь оставить меня! Посмотри на меня, мама!» Ливи подошла к ней и попыталась ее успокоить. Только тогда я заметила, что девочка тоже ранена, ее рука висела безжизненно, возможно, из-за перелома. Откопали другое безжизненное тело. Это была Вера. Я не верила своим глазам. Вера, с которой я разговаривала полчаса назад. Не может быть, что она мертва. Ран не было видно, и я попробовала сделать ей искусственное дыхание, но безрезультатно. Она была мертва. Ее молитва была услышана.
Канун нового 1945 года
Мы только что вернулись с работы. Съеден ужин, выпит «кофе», и мы жуем оставшиеся крошки хлеба. На улице очень холодно. Несколько палок — все наше топливо — дают мало тепла. Я сижу, сжавшись на своей койке, пытаясь согреться, и слушаю, о чем говорят мои соседки. Кто-то сказал:
— Канун Нового года.
— Какая разница? — прозвучало с другой койки.
— Люди надевают все самое лучшее и готовятся к обеду, — откликнулась третья девушка.
— Ты помнишь, как было весело? — сказала Магда.
— Только год тому назад, — ответила Тери, — а кажется будто это было в другой жизни.
Девушки пробудились от апатии и вступили в разговор. Каждая о чем-то вспоминала. Каждой хотелось рассказать о том, что было в канун прошлого Нового года, поделиться счастливыми воспоминаниями.
— Помните, что было на обед?
— Петер всегда приносил много пива.
— Я была влюблена в Петера. Где он может быть теперь? Как ты думаешь, он жив?
— Конечно, он молод и силен.
— Помнишь мою розовую шелковую блузку с оборочками? Она мне так шла! В прошлый раз я была в ней на Новый год, — сказала Ольга, красавица Ольга, которая теперь сидела согнувшись, худая, с колючим ежиком на голове.
Какое счастье, что она не может видеть себя теперь, подумала я. В прошлом году она была королевой бала.
— Неужели это было только год назад? — спросила Божи, сестра Ольги. — Кажется, что прошла целая жизнь.
— Вечность в одном мгновении, — сказала Магда, у которой всегда была наготове цитата. — Хотя Блэйк имел в виду совсем другое.
Они болтали. Я слушала. Меня тоже одолевали воспоминания, но мне было бы слишком больно выразить их словами. Я начала понимать Данте: «Nessun maggior dolor…». Нет большей муки, чем вспоминать о счастливом времени, будучи в горе.
Прозвучал свисток, и лампы погасили. Нам не хотелось спать, и мы зажгли сальную свечу, которую кому-то удалось достать. Мы сидели на корточках и предавались воспоминаниям. Воспоминания чередовались со стихами и рассказами. Каждая вносила свою лепту.
Рожи запела. У нее был мягкий, красивый голос, некоторые девушки стали подпевать. Все заплакали, когда Рожи пела о бедной маленькой девочке, одетой в лохмотья и продававшей на морозе спички прохожим.
— Бельц, мой маленький город, где ты? — раздалось печально на еврейском языке с одной из нар. Другой голос запел «Моя еврейская мама».
Когда мы вволю наплакались и спели все песни, кто-то спросил:
— Каким будет 1945 год?
— Таким же, как 1944.
— Как вы думаете, будем мы здесь в канун следующего Нового года?
— Мы никогда отсюда не выйдем.
— Может быть, нас не будет в живых.
— Мы наверняка умрем с голоду, или нас отошлют обратно в Освенцим.
— Как вы можете говорить такие глупости? — неожиданно отрезала я. И добавила убежденно: — Конечно, мы выйдем отсюда.
— Когда? — спросила Сюзи.
Не задумываясь, я ответила:
— Пятнадцатого апреля.
Девушки вскочили со своих мест и окружили меня. Неожиданно для себя самой я стала оракулом.
— Это правда?
— Откуда ты знаешь?
— Ты обещаешь?
— Это когда кончится война?
Вопрос следовал за вопросом. Все смотрели на меня с удивлением и восторгом. Кто-то спросил опять:
— Война к тому времени кончится?
— Война не кончится, но мы будем свободны, — снова ответила я, не думая.
Они смотрели на меня с недоверием, стараясь поверить. Все вдруг умолкли и задумались.
— Давай пари, — сказала Сюзи.
— Хорошо, — ответила я.
— Что я получу, если ты окажешься неправа?
— Мой паек хлеба, — сказала я, не моргнув глазом. — А что я получу, если выиграю?
— Откуда я знаю, чему будет равняться сегодняшняя пайка? — сказала Сюзи, явно под впечатлением моего уверенного ответа. — Но я обещаю, что это будет что-нибудь равноценное.
Мы скрепили уговор рукопожатием, погасили сальную свечу и легли спать. Завтра обычный рабочий день.
Шел снег. Зима заключила нас в свои железные объятия. С каждым днем становилось все холоднее. Моя одежда очень слабо грела, а обувь превратилась в лохмотья. Прошел слух, что привезли несколько пар обуви и счастливчики ее получат. Кто же это будет? Только те, у кого влиятельные друзья.
Первыми все всегда получали те, кто выполнял особые задания на кухне, или в лазарете, или на рабочем месте. Доктор, капо и «блоковая» всегда пользовались привилегиями. Я была ничтожество, никто, без прав и без надежды что-то вдруг получить. Но глядя на свои ноги, я не могла не мечтать о ботинках. Большие дыры в подошвах, а то, что когда-то было верхом, скреплено кусками проволоки. Однажды мне повезло — я нашла среди руин старые газеты, которые немного защищали ноги от холода. Но это было давно, а сегодня мои ступни отделялись от покрытой снегом земли только лоскутками кожи. Проволока, на которой держалась обувь, при каждом шаге врезалась в ноги. Я едва чувствовала свои ступни: это были две ледышки, на которых я ковыляла. Как мираж, мне виделись целые ботинки, даже начало казаться, что ноги согреваются. Но как могла я попасть в элиту? Осмелиться пойти к коменданту? Во всяком случае, не убьет же он меня, если я попрошу. Я подумала и решила рискнуть. Пойду к нему, покажу свои негодные ботинки и попрошу новые.
В этот момент я увидела Шара во дворе. Я собралась с духом, сглотнула несколько раз и подошла к нему.
— Мои ботинки совсем развалились. Можно мне получить пару новых?
Удар в левую щеку чуть не сбил меня с ног. Я зашаталась, но выпрямилась и посмотрела ему прямо в глаза. Такого нахальства он не мог перенести. Он опять ударил меня, теперь под другой щеке. Я опять зашаталась, но удержалась на ногах, все еще надеясь. Но он уже потерял всякий интерес ко мне и, бросив на меня последний взгляд, с презрением отвернулся и ушел.
В этот вечер я молилась Богу, чтобы он сотворил чудо.
На следующее утро земля покрылась глубоким снегом. Когда я пришла на работу, мастер взглянул на мои ноги и сказал:
— Я смотрю на твои ноги уже несколько дней. Твои ботинки совсем износились, от них никакого толку. Неужели ты не можешь достать что-нибудь получше?
— Получили ботинки, но на меня не хватило.
Он опасливо оглянулся и сказал:
— Я нашел подходящий правый ботинок, — и показал мне большой мужской коричневый башмак со следами пребывания в руинах.
— Можно мне его взять?
— Возьми, если хочешь.
Еще бы. Только представить себе: хотя бы одна нога не мерзнет. Я надела большой коричневый ботинок и вдруг увидела себя в роли Чарли Чаплина. Не хватало только палки и усов. Моя правая нога была как бы в коричневой лодке, а левая в черных лохмотьях. Правая нога начала задирать нос, не желая признавать своего левого соседа, который хлюпал с возмущением.
Я не могла стоять на месте и согревать левую ногу. Если бы кто-нибудь заметил, что мастер со мной разговаривает, тот попал бы в беду. Я направилась обратно на работу, любуясь моими ногами: коричневый ботинок — черные лохмотья. Я смотрела на свои ноги, делая шаг за шагом, и не могла поверить, что они мои. Я как бы раздвоилась: как будто шагали два человека, а я наблюдала. Один был мужчина, которого извлекли из подвала разбомбленного дома, а другой — нищий, идущий в благотворительное заведение, чтобы выпросить пару ботинок.
Прошло много времени, пока мне удалось сменить свой левый ботинок. Это случилось только весной, когда прибыла партия деревянных башмаков.
Было странное ощущение, когда пришлось надеть башмаки, сделанные целиком из дерева. Трудно было ходить в них. Вскоре на ногах появились волдыри, на пятках и на верхней части ступни. Но все же это было лучше, чем моя старая обувь. Я больше не чувствовала снег и грязь под ногами.
Странное зрелище представляли мы, маршируя в новых деревянных башмаках, жестких и неуклюжих. Мы все еще носили гражданскую одежду с желтыми крестами, но теперь, когда наступила весна, нас заставили сдать зимние вещи. Мне очень не хватало моего синего пальто, так как было еще холодно. У меня было желто-коричневое платье в клетку с длинными рукавами, у Ливи — черная юбка и бежевый джемпер. Она его выпросила у другой девушки, этот джемпер раньше принадлежал нашей кузине, лучшей подруге Ливи, ее звали Дитси, и джемпер связала ее мать. Когда Ливи увидела его на другой девушке, она так захотела его получить, что готова была на любые жертвы, и обменяла его на свой красный. Носить одежду родственника казалось все равно, что быть с ним вместе.
Мы часто думали о том, жива ли Дитси, находится ли она где-нибудь в лагере, или ее уже нет. Много позже мы узнали, что она осталась в Освенциме и была расстреляна во время эвакуации. Труднее всего было примириться с тем, что человек прошел через ад и погиб перед самым освобождением.
Проходили дни. Еще день и еще, я не знала, какое было число. Мы отмечали только воскресенья, так как в эти дни не работали. Но это не было отдыхом, наоборот, эти дни были еще более трудными. Приходилось выстраиваться на бесконечные переклички и мерзнуть при этом, тогда как на работе мы хотя бы согревались. По вечерам я произносила маленькую молитву, которую позаимствовала у венгерского поэта Яноша Арани:
Благодарю тебя, Боже, За наступившую опять ночь, Одним днем меньше Земной боли.Мы с нетерпением ждали ночи. Я пыталась внушить себе, что сон — это реальность, а дни — кошмар, который кончится, когда усну ночью. Тогда я увижу опять своих любимых, буду разговаривать со своим парнем, буду есть вкусную еду, которую готовила моя мать, и гулять в нашем саду среди цветов и фруктовых деревьев. Утром я рассказывала Ливи о том, что видела во сне, и считала часы до встречи с родителями в Сигете. Ливи слушала молча, но хотела знать все детали — как выглядела мама, как она была одета, что мы ели, как выглядел сад. Обо всем этом я рассказывала ей, когда мы шли на работу под дождем и резким холодным ветром.
Обычно мы шли свободным шагом, а не маршировали в ногу, как этого хотели наши охранники. Поэтому они приказывали нам петь походные песни, и тот, кто не маршировал в ногу, получал удар палкой. Они хотели, чтобы прохожие видели бодрую рабочую силу, а не кучу плетущихся людей. Разумнее было угодить им. Поэтому мы маршировали строем и пели, как могли. Придя на рабочее место, мы продолжали петь. Разбирая руины после ночной бомбежки, мы пели песню, которая соответствовала положению вещей: «Мир существует только сегодня». «Кто знает, что ждет нас, что принесет грядущий день?» — пела одна девушка строку из банального венгерского шлягера. Но это наводило на нас тоску, поэтому Рози перешла на более веселый немецкий мотив: «Es gehtalies voruber, es gehtalies vorbei» — «все проходит», — и мы подхватили песню. Скоро мы уверовали в то, о чем говорилось в песне, и наши голоса стали звучать радостней. Охранники начали нервничать и заставляли нас молчать, но когда мы умолкали, песню подхватывали другие группы работающих поблизости, когда же им запрещали петь, мы запевали снова. Наконец эсэсовцы потеряли терпение и пригрозили, что будут стрелять. Это возымело действие. Мы не ожидали такой сильной реакции; мы только хотели досадить им, но боялись обозлить.
Главной нашей задачей было приободрять друг друга. Мы держались вместе, придавая друг другу силу. Большинство из нас были знакомы с детства, и я боялась даже думать о том, что будет, если нас разлучат. Думаю, что мы потеряли бы волю к жизни. Когда у одной кончались силы, всегда находилась другая, которая отвлекала ее от мрачных мыслей. Мы чувствовали свою ответственность друг за друга и старались поддерживать надежду во всех.
Жизнь продолжается
Однажды в холодный, но солнечный зимний день Кати и меня послали рубить дрова в лесу поблизости от нашего места работы. Работа была тяжелая, но мне она нравилась, мне нравилось уходить в лес, подальше от шума. Нас сопровождал Вильгельм, единственный охранник, который иногда проявлял человеческие чувства. Было раннее утро, по дороге мы любовались восходом солнца. Сосны стояли в тяжелых шапках снега. Кругом валялись срубленные деревья. Наша задача заключалась в том, чтобы обрубить ветки и распилить стволы деревьев на дрова, которые следующая группа заберет для отопления помещения охраны. Работая, мы заметили маленькую старушку в черном платке, стоявшую за деревом перед маленькой хижиной. Она пристально смотрела на нас, затем вернулась в свою хижину, вышла через некоторое время и, как только охранник отвернулся, несколько раз приглашающе кивнула. Я старалась понять, чего она хочет.
— Кати, ты видишь старушку, которая машет нам?
— Кажется, она хочет, чтобы мы подошли к ней.
— Лучше не надо. Может быть, это ловушка?
— Какая ловушка? Ведь это только старуха.
— Никто до сих пор не осмеливался подойти к нам. Зачем это ей?
— Давай подойдем поближе и посмотрим, чего она хочет.
Мы смотрели на нее, но подойти все же не решались.
— Смотри, она опять зовет.
Старушка снова вошла в дом. Через минуту она вышла, держа что-то в руках. Что это, бутерброды? Похоже.
День подходил к концу. Мы украдкой поглядывали на старушку, которая продолжала звать нас, и то входила, то выходила из дома.
Ближе к вечеру мы решили, что Кати отвлечет внимание охранника, а я подойду к старушке. Я начала собирать дрова, делая все более широкие круги. Я вспомнила, что иногда нам позволяли оставлять ветки и сучья для нашей печки в лагере, и спросила у Вильгельма разрешения. Он кивнул. Через минуту я дала Кати сигнал. Она начала длинно рассказывать Вильгельму о своих школьных годах, зная, что это ему интересно. До войны он был учителем. Я собрала все свое мужество и подошла к старушке. Когда я приблизилась настолько, что мы могли слышать друг друга, она прошептала:
— Не бойся, я тоже еврейка.
Я не могла этому поверить и опять подумала, что это западня. Она указала на свой дом. Теперь я увидела, что стол застлан белой скатертью, на нем стоят две свечи в простых подсвечниках, а на тарелке лежит нечто похожее на накрытую буханку. Хала? Все напоминало подготовку к праздничному ужину, к субботе. Может быть, она и вправду еврейка. Но как же она может находиться здесь, на свободе? Как ей удается скрываться от СС? Может быть, у нее арийские документы, а свечи она зажгла для нас? Или надежда ослепила меня? Я не знала и боялась спросить. Я не смела задерживаться, взяла предложенные бутерброды и побежала обратно.
Когда я вернулась в лагерь, никто не поверил моему рассказу. Бутерброды не были достаточным доказательством.
Всю ночь шел снег. На следующий день нашу группу послали очищать улицы. Мы ехали на трамвае до станции. Утреннее солнце освещало руины вокруг нас, но, к нашему удивлению, сама станция была невредима. Вокзальные часы показывали десять минут девятого.
Мы работали молча. Орудуя лопатой, я иногда дыханием согревала замерзшие пальцы. Глубокий снег приглушал все звуки вокруг нас. Шум редких машин был едва слышен. Мимо спешили тепло одетые краснощекие люди. Казалось, они не замечают нас, хотя не могут удержаться, чтобы не взглянуть в нашу сторону. Что думали они, видя скелетообразных женщин в легкой одежде, сгибающихся под лопатами снега? Или они нас действительно не замечали? Можно не видеть того, чего не хочешь видеть. Несколько человек остановились и наблюдали, но никто не подошел близко и не задал ни единого вопроса. Потом они скажут, что ничего не знали. А еще позже, будут говорить, что все эта ложь.
Мы разгребали снег целый день, с перерывом в полдень, когда нам дали суп, который немножко согрел нас. В-остальное время мы согревались, стараясь работать быстрее, но руки и ноги мерзли. Мы топали ногами, размахивали руками, клали пальцы в рот. Но все равно многие обморозились. Наконец и этот день кончился.
Следующий день был днем рождения Ливи. Ей исполнилось пятнадцать лет. Даже в лагере мы не забывали отмечать дни рождения. Я поговорила с другими, и мы решили вечером, после работы, устроить праздник. Ливи, конечно, не должна ничего знать заранее.
Утром я обняла ее и поздравила. Я сказала, что, к сожалению, у меня нет для нее подарка, но обещала, что вознагражу ее позже, когда мы будем на свободе. Ливи промолчала, но я видела, что она разочарована. Так было задумано нами. Тем больше она порадуется вечером, думала я.
День прошел так же, как и предыдущий, мы сгребали снег около гамбургского вокзала. Ливи была молчаливее, чем обычно, по-видимому, вспоминала прежние свои дни рождения, наших родителей, которые всегда будили нас песнями и приносили шоколад в постель и подарки, а потом устраивали праздник. На этот раз праздника не будет. Когда мы вернулись в лагерь, Сари, которая жила в другом бараке, под каким-то предлогом, позвала Ливи, давая нам возможность подготовить сюрприз.
Я положила небольшую хвойную ветку на середину ее койки и вокруг этой ветки мы расположили свои скудные подарки. Шнурок от ботинок, кусочек мыла, сплющенную баночку с остатками крема для лица. Мы берегли сокровища, найденные в руинах. Сюзи отдала свой паек джема, Магда написала стихи к этому дню. В течение нескольких недель я сумела скопить пайку хлеба. Мы украсили койку ветками и шишками и ждали прихода Ливи. Когда она появилась, мы запели: «С днем рождения».
Надо было видеть, как изумилась Ливи.
— Все это для меня? — спросила она. Она была слишком взволнована, чтобы благодарить нас. До самого отбоя она перебирала подарки и повторяла: — Мое. Для меня. Я получила подарки. Вы вспомнили о дне моего рождения. О, хлеб! — Она взяла хлеб и посмотрела на меня. — Твой? — Когда я утвердительно кивнула, она сказала: — Нет, я не могу взять его. Ты не должна отдавать свой хлеб.
— Я его откладывала долго. Не беспокойся обо мне. Это мой подарок тебе на день рождения, и ты должна все это съесть. Ни с кем не делиться. Даже со мной.
Она оглядела остальные подарки.
— Джем! О, спасибо, — кого мне за это благодарить? — Увидев довольный взгляд Сюзи, она обняла ее. — Хлеб с джемом! Какой пир! — Она открыла сплющенную баночку и понюхала содержимое. — Крем для лица! — Она обняла подарившую его Ольгу, и сразу начала втирать крем. — Откуда ты знала, что у меня такая сухая кожа? Такая сухая, что больно. И мыло! И шнурок для ботинка! Какое богатство. Как мне всех вас благодарить? Вы такие добрые, а у меня нет ничего, чтобы подарить вам.
Девушки, работавшие на кухне, принесли «кофе», и мы ждали, пока Ливи начнет есть хлеб с джемом. Кто-то одолжил ей найденный где-то перочинный ножик, и она отрезала ломтик такой тонкий, что он почти просвечивался. Медленно и церемонно она намазала на него очень тонкий слой джема. Восемь пар глаз следили за каждым ее движением.
— Намажь немножко толще, не надо оставлять. Съешь все сегодня, — сказала Сюзи.
Ливи намазала еще немножко и с наслаждением откусила. Когда хлеб исчез у нее во рту, я тоже, не сознавая того, начала жевать, пока не увидела, что глаза Ливи прикованы к моему лицу. Тогда я заметила, что все остальные тоже жуют. Ливи перестала есть и предложила нам остаток хлеба. Я остановила ее. Это ее день рождения и ее хлеб, и никто другой не должен к нему прикасаться. Даже я. Но она не могла есть под взглядом восьми пар голодных глаз, следящих за каждым ее движением. В конце концов всем пришлось принять от нее по крошке. Ей хотелось так отметить свой день рождения.
От Поля и других военнопленных мы все чаще слышали о том, что Германия на грани капитуляции. Такие новости были для нас витаминными инъекциями. После каждой такой инъекции было все труднее мириться с действительностью, но теплое весеннее солнце придавало нам силы и вселяло проблески надежды. Был конец марта. Гамбург бомбили почти непрестанно.
Из писем Поля я узнала, что русские подходят к Берлину. Условным кодом он сообщал, что не намерен ждать конца в Гамбурге и спрашивал, согласна ли я попытаться бежать с ним. Он предлагал мне выскользнуть из лагеря во время воздушного налета, когда охрана будет в убежище. Поль опасался, что немцы убьют нас до того, как армия освобождения дойдет до лагеря. Он считал, что знает Гамбург, и мы сможем спрятаться, пока город не освободят.
Я много думала об этом, но, переговорив с Ливи, решила, что риск слишком велик. Эсэсовцы, отправляясь в убежище, всегда спускали собак и грозили пристрелить’ каждого, кто покинет бараки. Конечно, оставаться было тоже рискованно. Опасения Поля вполне могли оправдаться, но я не была способна на усилие, требуемое для побега. Я могла только следовать линии наименьшего сопротивления. Что суждено, то суждено. Я написала Полю, что желаю ему удачи и что постараюсь связаться с ним, если мы оба уцелеем.
Через два дня в лагере началось оживление и пошли слухи, что нас эвакуируют. Приближалась армия, не то советская, не то британская. Наши следы надо замести. Мы только гадали, как они будут избавляться от нас. Даже не было сомнения, что теперь мы умрем. По-видимому, наша охрана была такого же мнения. Нас вызвали на перекличку, и мы стояли в ожидании несколько часов. Наконец появился комендант и велел нам всем собраться в одном бараке. Мы сидели на койках, думая, что они сделают. Это печально напоминало то, что происходило в синагоге накануне нашей депортации. Будет ли опять депортация, или они убьют нас? Все молчали, ждали.
Через некоторое время пришла эсэсовка, жирная Мария, и приказала нам раздеться. Мы подчинились. Когда мы спросили, почему, она ответила, что мы отправляемся туда, где не нужна одежда. Мы обнимались. Меня мучил один v вопрос. Как они будут нас убивать? Расстреляют? Когда две девушки принесли суп, мне показалось, что я знаю ответ. Отравление. Мы не должны притрагиваться к супу, но что из этого? Если они намерены умертвить нас, то так или иначе мы умрем. Выхода не было.
Как раз в это время пришел комендант лагеря и посмотрел на нас с удивлением. Он начал кричать. Почему мы голые? Увидев толстую Марию, он наорал на нее и приказал вернуть нам одежду. Она подчинилась, ничего не понимая. Видимо, она была разочарована, что не увидит массовую экзекуцию. Мы оделись и продолжали ждать. В одежде мы почувствовали себя лучше.
Я вспомнила старую еврейскую притчу: нищий старик, который живет в одной комнате со своими семью детьми, идет к рабби за советом, и тот ему предлагает взять в комнату еще и козу. Когда вонь и теснота становятся невыносимыми, старик получает разрешение выгнать козу, после чего всем становится лучше в их тесном доме. Так и я — не то, чтобы обрадовалась нашему положению, но все же несколько успокоилась.
Через несколько часов нас вывели из барака и в сумерках привезли на вокзал. Я опять подумала о Поле. Удалось ли ему бежать, и правильно ли я сделала, оставшись? Будущее покажет.
4 апреля 1945 года
Мы опять в товарном поезде. Снова страх не покидает нас. Запечатанные товарные вагоны, окна забиты досками. Неужели они в конце концов отравят нас газом? Приходится ждать. Всю ночь поезд простоял в тупике. Мы не решались уснуть. Когда поезд наконец, тронулся, слабый свет начал пробиваться через щели в ставнях. Пронзительный свисток — и паровоз, кашляя, потянул поезд в рассветную даль. По мере того, как проходил день, к страху еще присоединились голод и жажда. Параша в углу переполнена, из нее льется через край. Мне дурно от вони. Все это уже было. Я ищу глазами мать, но вижу только бледные лица своих подруг в сером. Я успокаиваю себя надеждой, что существует загробная жизнь и что я скоро снова увижу маму.
Прошло двадцать четыре часа с тех пор, как мы ели в последний раз. Давно кончилась вода. Поезд тащился, останавливался, двигался опять и снова останавливался. День подходил к концу, когда наконец открыли вагон. Нам приказали вынести парашу и набрать питьевой воды из ближайшей колонки. Затем вагон опять запечатали. Мы наполнили голодные желудки водой, несмотря на предупреждение, что лучше было бы не выпивать все сразу. Никто из нас не знал, когда мы вновь увидим воду.
Запечатанный поезд вновь остановился, когда наступила ночь. Мы стояли толпой, объятые страхом, прислушиваясь к каждому звуку. Мы все еще не имели представления о том, куда нас везут, но было легче терпеть, когда поезд двигался. Я старалась усилием воли заставить его двинуться, но он стоял. Неожиданно мы услышали шум. Открылась дверь какого-то вагона, и я услышала залпы. Вот и ответ, это то, что они запланировали. Нас выгрузят и расстреляют в ночи. Мы с Ливи обнялись и ждали, боясь шевельнуться. Может быть, забудут о нас, если мы будем сидеть тихо. Мы ждали, но ничего не случилось. Ночь безмолвствовала. Но уснуть мы не решались.
На рассвете поезд двинулся и пополз в неизвестность. Прошли еще день и еще ночь. На третье утро мы остановились. Открылась дверь, и яркое солнце ослепило меня. Я услышала пение птиц, и когда глаза привыкли к свету, увидела яркую зелень. Широкие поля, трава, деревья. Куда мы приехали? Живы ли мы еще?
Грубые выкрики команды подтвердили, что мы все еще находимся под охраной СС. Когда мы выбрались из вагона, перед нами предстал лагерь, на воротах которого красовалась известная нам надпись «Arbeit macht frei». Внутри лагеря стояли бледные, безжизненные привидения.
— Где мы находимся? — прошептала я, обращаясь к одному из них.
— Нет газа, нет хлеба, много работы, — прозвучал ответ.
Что же, подумала я, может быть, есть еще шанс. Мы уже привыкли обходиться без пищи и работать. Если здесь нет газовой камеры, то еще есть надежда.
Позже я узнала, что нас привезли в Берген-Белсен.
Берген-Белсен
7 апреля 1945 года
Нас отвели в бараки, такие же, как в Эйдельштадте, и выделили каждой по койке. Мы сразу же на них повалились, обессиленные и голодные после длинной дороги.
Довольно долго ничего не происходило. Мы надеялись получить пищу. Прошла вторая половина дня, и никто не вспомнил о нас. Наконец девушки принесли котел с супом. Когда пришла моя очередь, я мысленно пыталась внушить раздатчице, чтобы она зачерпнула со дна. Может быть, перепадут овощи или даже мясо. Она погрузила половник и налила в мою миску коричневатую пахучую жидкость, в основном вода и немного овощей. Капуста, лук? Я не могла понять. Но после трех дней без пищи хорошо было хотя бы выполнять процедуру еды: опустить ложку в суп, поднести ее ко рту, проглотить и ощутить, как горячая жидкость течет по внутренностям. Я ела медленно, чтобы растянуть этот процесс подольше. Хлеба нам не дали.
Вечером нас вызвали на перекличку, затем еще раз утром. Больше ничего не произошло. Утром нам дали «кофе», днем жидкий суп и опять «кофе» вечером. Через несколько дней нам один раз перепал хлеб. Больше мы его там никогда не видели. Нам также не давали воду.
Многие девушки выходили во двор и пили из грязных луж, хотя это было запрещено — во избежание эпидемии тифа или чтобы мучить нас?
Однажды по дороге в уборную я увидела, что по другую сторону проволоки женщина в лохмотьях подходит к луже. В Белсене охрана состояла, главным образом, из венгерских солдат, и я слышала, как один из них велел женщине остановиться. Она не обратила внимания и нагнулась попить. Раздался выстрел, и женщина упала.
Однажды утром в барак вошел эсэсовец и спросил, желает ли кто-нибудь добровольно поработать. За это выдадут дополнительную миску супа. Я согласилась, не имея представления о том, что это за работа. Нас отвели за бараки, где лежали груды трупов. Нам дали лопаты и велели выкопать глубокие ямы и захоронить мертвых. Я посмотрела на трупы и безучастно начала работать. С таким же успехом это могли быть дрова. Я даже не думала о том, что сама могла оказаться среди лежащих здесь.
Вместе с моей скелетообразной компаньонкой я усердно копала. Когда последовал свисток на обед, я совсем выдохлась. Нам дали густой суп с овощами, в моей миске даже оказалась кость. Съев свою порцию, я заметила, что в котле еще немного осталось. Я решила взять еще суп для Ливи и стала опять в очередь, а когда мою миску наполнили, поставила ее в стороне, думая о том, как обрадуется Ливи этому сюрпризу.
Пока я сидела и отдыхала, мне показалось, что миска обращается ко мне и предлагает изменить свое решение. «Как хорошо я пахну, какой густой суп», — казалось, говорила она.
Но я была непреклонна. Это для Ливи, я не буду слушать, что говорит мне мой желудок. Но суп продолжал манить: «Она только лежит на кровати, ничего не делает. Ты работаешь, тебе нужно больше пищи. Быстренько съешь меня. Может быть, хватит еще на одну добавку, и миска не будет пустой. Будет глупо, если ты пропустишь возможность получить еще добавку».
Этот последний довод меня убедил. В надежде еще на одну добавку я съела этот суп, причем, теперь, когда самый острый голод был утолен, я ела медленно, наслаждаясь каждой ложкой, держа суп во рту, прежде, чем проглотить. Закончив, я стала ждать добавки. Но, увы. Весь суп съели, и девушки, работавшие на кухне, собирали миски, чтобы унести.
Я сидела с полным желудком, и меня мучила совесть. Я предала свою меньшую сестру. Я съела ее суп. Я низшее из низших существ. Как все остальные. Думала только о себе. Как я презирала тех, кто обманывал своих сестер или воровал у матерей. Теперь я не лучше их. Сумею ли я когда-нибудь искупить свою вину перед Ливи? Я чувствовала, что обманула не только сестру, но и свою мать, которая поручила мне беречь ее.
Но все мы изменились. Большинство к худшему, немногие к лучшему. Некоторые доказали, что они благородны и неэгоистичны. Никогда не забуду Марию, прислугу, которая нашла в лагере свою хозяйку. Как самозабвенно она заботилась о хозяйке, готова была сама голодать, чтобы накормить старую больную женщину. И моя собственная тетя, которую я никогда не любила за ее эгоизм и плохое отношение к нам, детям. У нее не было своих детей, и мы всегда считали, что она нас не любит. Но теперь она совсем изменилась. Она ухаживала за своей племянницей Юдифью, как если бы та была ее дочерью. Когда ей удавалось достать что-нибудь сверх пайка, она отдавала все Юдифи, которая рассказала мне об этом после войны.
Но это были исключения. Большинство думали только о себе. Они могли ударить собственную мать и украсть хлеб у сестры. Теперь я знала, что я не лучше их.
15 апреля 1945 года
Мы лежим на нарах в полной апатии. Кто-то спрашивает:
— Давно мы здесь?
— Кто знает? Неделю, месяц, год?
— Какое сегодня число?
Кто-то ответил:
— Пятнадцатое апреля.
— Жаль, — сказала я. — Я проиграла пари, Сюзи. Придется тебе поверить мне в долг. Мы сегодня не получим хлеба.
У Сюзи не хватило сил ответить мне. Мы больше не чувствовали голод, только невероятную слабость. Не было сил сделать лишнее движение, произнести лишнее слово. Я просто лежала. Кажется, не было мыслей в голове. Казалось, что я плаваю в пространстве. Может быть, это то, что называется нирваной?
День тянулся медленно, и вдруг послышался шум. Девушка, которая была ближе всех к окну, истерически закричала:
— Британские танки!
Я подумала, что бедняжка бредит, и даже не потрудилась посмотреть.
Прошло несколько часов, затем снова послышался шум во дворе. То-то на верхнем ярусе посмотрел в окно и закричал:
— Смотрите, смотрите, солдаты бегут.
— У них белые повязки на рукавах, — сказала другая.
— Смотрите, британский солдат!
Безусловно, что-то происходило. С трудом я встала на ноги и подобралась к окну. Я увидела… или это мне снилось? Неужели у меня тоже галлюцинация? Я не была уверена, но мне казалось, что я вижу солдат не в немецкой форме. Нас освободили. И это было 15 апреля.
В тот момент я ощущала только невыразимую усталость. Я вернулась на койку, мне хотелось только спать. Но вдруг мои мысли ожили. Я начала строить планы на завтра. Завтра, завтра я буду искать отца. Он жив, он должен быть жив, я это чувствую. Я старалась убедить себя и мысленно вернулась к тому времени, когда мы отправлялись в поезде в Гамбург и пришла девушка, передала мне привет из пекарни.
В бараке тихо. Прекратился радостный шепот. Большинство девушек уснули, совершенно изможденные.
Завтра, завтра начнется жизнь.
Завтра я должна обойти разные лагеря. Не будет охраны, и колючая проволока не помешает мне искать отца. Я прочешу один лагерь за другим. Засыпая, я видела себя проходящей сквозь заграждения, как будто через паутину. Теперь мы свободны.
Свобода. Я не могла полностью осознать, что это значит. Но одно я знала: я жива, хотя была мертва. Я умерла в ту ночь 17 мая 1944, в ночь, когда мы прибыли в Освенцим. Но теперь я опять живу. Мне дана вторая жизнь. С этих пор я буду праздновать день своего рождения 15 апреля. Кто знает, какое будущее ждет меня? Что бы ни случилось, я буду уже другим человеком, в котором не осталось ничего от девушки, родившейся в один июньский день 1924 года в Сигете.
На рассвете следующего дня все уже поднялись со своих нар. Несмотря на слабость, мы вышли во двор, чтобы узнать, что случилось. Каждой руководило нечто более сильное, чем разум. Большинство отправились искать пищу и питье. Я же искала отца. И это еще раз спасло мне жизнь.
Мы были истощены и высохли, как скелеты. Британские солдаты смотрели на нас с отвращением и жалостью, не веря своим глазам. И не мудрено. Эти ходячие скелеты — «мусульмане», как мы себя называли, имея в виду факиров, — разве мы были похожи на человеческие существа? Им никогда не приходилось видеть ничего подобного. Они освобождали военнопленных, но не живые мощи. Они хотели помочь, и когда у них просили пищу, давали ее щедро. Они отдавали свои пайки — мясные консервы, бобы, густые супы, питательную тяжелую пищу, пригодную для солдат. Они были полны сочувствия. Откуда им было знать, что голодающим людям нельзя есть такую пищу? Несомненно, отдавая все, что у них было, они были рады видеть, как мертвые глаза оживают радостью и благодарностью. Но для желудков тех, кто принял их дары, это было смертельно опасно. У всех начался понос. Многие умерли.
Тогда мы не понимали, отчего все это. Пронесся слух, что немцы отравили наш последний хлебный паек или положили в него толченое стекло. Только много позднее я узнала, что причиной были питательная еда и грязная вода. Теперь, когда не было охраны, все пили из луж.
Я не могла думать о пище и питье и потому не воспользовалась питательными британскими консервами. Один добрый солдат дал мне немного свеклы и, подкрепившись, я начала бродить кругом. Ворота, разделявшие соседние лагеря, были разбиты, и я ходила из барака в барак. Я встретила несколько мужчин из Сигета, но они ничего не знали о моем отце. Я также увиделась с сестрой парня, с которым раньше дружила, Пуей. Она лежала при смерти на куче тряпок, кишевших вшами. Пуя слабо улыбнулась, показывая, что узнала меня. Когда я обещала, что приду к ней на следующий день с едой, мылом и одеждой, в ее глазах вспыхнула искра надежды. Но на следующий день она уже была мертва.
Я не нашла своего отца, но я нашла Михаила. Он сидел у костра и пек пять картофелин, которые дал ему солдат. Увидев меня, он отдал мне три из них. Его привезли, в Освенцим тем же транспортом, что и нас. Он рассказал, что моего отца отправили на левую сторону, а привет из пекарни нам прислал дядя Алекс, единственный из всех братьев и сестер моего отца, кто выжил.
Итак, мой отец также погиб. Я не могла плакать. У меня не оставалось слез. Я их все выплакала.
Бродя по лагерю, я заразилась. У меня начался кашель и лихорадка, но я не хотела признаваться, что больна. Так много надо было сделать теперь, когда я обрела свободу. Необходимо организовать доставку еды, одежды, самого необходимого. Я работала, пока не свалилась. Не было армейских врачей, поэтому Ливи разыскала одного из наших, освобожденного заключенного, который работал врачом до войны. Сам он был больше похож на мертвеца, чем на живого, ослаблен дизентерией, очень истощен. С трудом он дотащился до моей постели, бегло осмотрел и поставил диагноз — тиф. Большинство заключенных теперь были больны тифом. Мне было очень плохо и хотелось услышать, что мои опасения преувеличены.
Я сказала:
— Кажется, я умру, сердце так сильно бьется, как будто хочет выскочить изо рта.
Он посмотрел на меня с жалостью, но не стал утешать. Я прочла в его глазах: «Мне жаль тебя, но когда так много умирающих, какое имеет значение, что будет одним больше».
Я повернулась к стене и стала ждать смерти. Жар усилился, и мне казалось, что я лечу на огромном шаре, который становится все больше и больше. Мы летим, и я знаю: когда он лопнет, я тоже исчезну. Я плавала в холодном поту. Что было после, я плохо помню. Но проснувшись однажды утром, я почувствовала, что жива.
Затем я долго выздоравливала. Ливи ухаживала за мной с удивительным терпением. Моя маленькая сестра стала взрослой за одну ночь. Она доставала еду, варила мне питательные супы и выхаживала меня, пока я не окрепла. Не знаю, сколько продолжалась моя болезнь, но Ливи удалось поставить меня на ноги. Она заставила меня подняться и сделать несколько шагов. Я научилась опять ходить. С каждым днем мне становилось лучше, и я наконец выздоровела. Только тогда я узнала, что мы уже не в бараках, нас перевели в бывшие солдатские казармы за пределами лагеря. Затем пришло известие, что весь лагерный комплекс англичане сожгли.
Оккупационные власти занялись нами. Нам ежедневно давали хорошие порции хлеба и дважды в день суп. Но нелегко было утолить наш голод. Нам требовалось все больше. Чтобы достать дополнительную пищу и что-нибудь еще сверх самого насущного, я решила найти работу. Я слышала, что англичане щедры к тем, кто помогает в работе администрации лагеря. Я немного знала английский, поэтому отправилась к начальству и спросила, не нужен ли переводчик. Да, нужен. И меня послали в отдел социального обеспечения, где работали женщины под руководством миссис Монтгомери, родственницы известного генерала. Меня приняли в качестве переводчицы с венгерского на английский и с английского на венгерский. Давали также отдельные поручения по уборке, в качестве посыльной, по приготовлению чая. Я надеялась, что мне перепадет от богатого стола. В первый же день мои надежды оправдались. Мне позволили отнести домой все, что осталось после чаепития леди. Когда я принесла молоко, сэндвичи, джем и кусок кекса, то в глазах моих подруг выглядела кем-то вроде Деда Мороза.
Наша семерка держалась вместе с самого отъезда из Гамбурга и образовала маленькую семью. Поскольку я нашла работу, на меня смотрели как на кормилицу. Мы разделили обязанности. Тери, которая хорошо готовила, выполняла роль матери, а остальные сестры помогали соответственно своим способностям.
Самым ценным в это время были сигареты. Курящие жаждали получить что-то настоящее вместо самодельных папирос из листьев и газетной бумаги. Сигареты «Кэмел» и «Филип Моррис» казались сказочным сном. Те из нас, кто не курил, продавали за дорогую цену все, что удавалось достать. Солдаты платили хорошо. Вскоре сигареты стали валютой. За них можно было купить все, что угодно. Ломоть хлеба стоил пять сигарет, кусок мыла — десять. Я не курила и собирала все сигареты, которые мне попадались. По вечерам мы садились около моей кровати, вынимали нашу картонную коробку и пересчитывали свое имущество. Вырученные деньги мы тратили главным образом на еду, иногда на покупку одежды. В ближайших деревнях удавалось найти кое-какие продукты и одежду. Мы не считали это воровством. У нас отняли все, что мы имели, и теперь мы только брали немного взамен, чтобы прикрыть тело и наполнить вечно голодный желудок.
В пятницу утром, когда я собиралась на работу, я увидела как Ливи готовится к своему трудовому дню. Худая длинноногая девушка, которую я все еще считала ребенком, сидела перед зеркалом и наводила красоту. Она накрасила щеки, подкрасила губы, расчесала волосы, которые были теперь снова прекрасны, и строила себе глазки.
— Что ты делаешь? — спросила я.
— Стараюсь быть красивой.
— Зачем это тебе нужно?
— Что ты имеешь в виду?
— Зачем ты пользуешься косметикой?
— Знаешь, гораздо легче заинтересовать Томми[4], когда хорошо выглядишь. Иначе они меня не заметят. Как же я раздобуду сигареты?
Я думала, что она не понимает, что делает, и пыталась ей объяснить, но она и слышать не хотела.
— Какое это имеет значение, если он меня поцелует?
— А если он захочет большего, что ты будешь тогда делать?
— Конечно, оттолкну его.
— А если он будет настаивать?
— Тогда я буду драться.
Я не могла отговорить ее. Она была намерена внести свой вклад и достать хоть что-нибудь из необходимого нам. И у нее это получилось. Ее детская наивность настолько не вязалась с размалеванным лицом, что британские солдаты поняли, почему она накрасилась. Она вернулась с сигаретами, живым петухом и рубашками.
— Как тебе это удалось? — спросила Тери.
— Я отправилась по главной дороге в сторону деревни. Ты знаешь, что многие дома остались без хозяев, когда ушли немцы. Я увидела, что на веревке сушатся рубашки, и, поскольку там никто не живет, решила, что они никому не нужны. У тебя и Рози нет рубашек — так вот каждой из вас по рубашке. Я пошла дальше. Навстречу мне ехала машина с солдатами. Они остановились и спросили, куда я иду. Я сказала, и они подвезли меня. Солдаты согласились с тем, что я имею право на имущество немцев, и сказали, что сами забирали вещи у немецких офицеров и отдавали их бывшим заключенным. Они были добрые, особенно один, которого звали Джим. Он был очень добр: дал мне шоколад и, хотя я не курю, — целую пачку сигарет, чтобы я отнесла их домой. Он обещал придти сюда в воскресенье и принести консервы. Затем я походила еще по деревне, искала чего-нибудь еще. Увидала петуха, который копался в канаве. За ним, похоже, никто не присматривал, и я его взяла — вот он.
С выражением триумфа она показала перепуганного петуха. Она, самая младшая из нас, добыла нам первый куриный суп на обед. Теперь мы смогли приготовить настоящий субботний пир. На деньги, вырученные за сигареты, мы купили муку, испекли халу, сварили куриный бульон и зажгли две сальные свечки, которые мне дал британский солдат в начале недели.
В этот вечер мы сидели за столом, накрытым белой скатертью, которую каким-то образом достала Сюзи, и в сумерках наблюдали за пламенем субботних свечей. Мы ели благословенную халу, Тери подала бульон и мясо. Мы ели и предавались воспоминаниям о довоенных субботних пиршествах, пели песни своего детства. Много плакали, тоскуя по своим родителям, обнимались, счастливые, что мы вместе.
Становилось теплее, сияло солнце, птицы пели нам о вновь обретенной свободе. Я опять была молодой девушкой. То же чувствовали и мои подруги. Мы весили не более шестидесяти пяти — семидесяти фунтов, у нас все еще не возобновилась менструация, но волосы выросли, и это было главное. Мы опять почувствовали себя женщинами, пользовались помадой и старались очаровать британских солдат. Все затмил интерес к мужчинам. Расцветали легкие романы, которые иногда приводили к небольшим трагедиям. Нас оторвали от наших семей и теперь, иногда сознательно, иногда нет, мы искали новые привязанности.
Несколько наших друзей находились в госпитале. Их ослабленные тела не могли сопротивляться различным болезням. У большинства были тиф или простуда, которая привела к воспалению легких, а то и к туберкулезу. Я мало думала о них. Я была эгоисткой. Единственная девушка, которую я иногда навещала, это Магда — у нее был дифтерит. Она так ждала свободы. Но изголодавшись, жадно ела калорийную пищу, и у нее начался понос, а затем она заболела дифтеритом. Магду поместили в военный госпиталь, где у нее обнаружили врожденную болезнь сердца. Она умирала. Когда я навестила ее, у нее было одно желание — передать привет Вере, которую она нашла незадолго до болезни. Вера была ее любимой кузиной и единственной в семье, кто уцелел. Я обещала, хотя знала, что Вера умерла от тифа днем раньше. Случилось то, что и со многими другими семьями, — никого не осталось в живых. Никто из них не вернется в Сигет, не расскажет о судьбе всей семьи и не начнет жизнь заново.
Но мы, которые уцелели, осуществим это. Я не думаю, что мы действовали сознательно, даже Божи вела себя необычно. Она была старшей среди нас и, по словам сестры Ольги, никогда раньше не интересовалась мальчиками. Она не была красивой. У нее было длинное худое веснушчатое лицо с остреньким носиком и впалыми щеками. Через редкие рыжие волосы просвечивала кожа, поэтому казалось, что она все еще лысая. Божи сильно сутулилась; когда она шла, ее тонкое тело походило на серп, который держит невидимая рука. У нас не было стульев, все мы сидели на своих кроватях, но никому не позволялось приблизиться к ее койке. Если кто-то из девушек — наших гостей — ненароком нарушал это правило, она визгливо ругала нарушителя. Но если садился мужчина, Божи расхаживала перед кроватью и флиртовала с ним. Она ничего не говорила, а только бросала на него счастливые взоры, ласкала его своими узкими, водянистыми глазами.
Многие добивались расположения Ольги. Ее прекрасные волосы отросли, округлились втянутые щеки, кожа снова блестела, ясные глаза горели, и ее веселый смех поднимал нам всем настроение. Естественно, ей льстило, что большинство мужчин приходили ради нее. Но она отвергала одно предложение за другим. Никто не знал, кому она благоволила. Ольга соглашалась встретиться с одним, а уходила с другим. Мы радовались ее победам, хотя некоторые и завидовали.
Жизнь в бывших бараках протекала легко. При поверхностном взгляде можно было подумать, что все идет почти нормально, — женский мир сплетен и интриг, все сосредоточено на пище и мужчинах. Мы не думали ни о прошлом, ни о будущем. Только сегодняшний день имел значение: полный желудок и небольшой роман. Но мы знали, что со временем вернемся в Сигет, вернемся к реальности.
Сюзи беспокоилась. Она не знала, как расплатиться за выигранное мною пари. Но она была больна, и я сказала ей, чтобы она не волновалась, — я охотно подожду.
Новое начало
3 июня 1945 года
Мы сидим в поезде, идущем из Любека в Травемюнде.
Приближается ночь, и те немногие, кто еще не уснул, беседуют в вагоне. Поезд идет через Германию, и мы почти не замечаем озерные края, которые проезжаем. Что было, то прошло. Теперь нас манит будущее, ждет новая жизнь. Случилось невозможное: мы выжили.
Вошел кондуктор и спросил по-немецки:
— Как поживаете, девушки?
— Хорошо, — ответила я, — но было бы лучше, если бы можно было прилечь. Мы очень устали.
— Не знаю, есть ли свободные спальные места, но я посмотрю.
— Можно мне пойти с вами? — спросила я. — Там моя кузина. Я хотела бы проведать ее.
Мы прошли по вагонам. Больные лежали в спальных вагонах второго класса. Зеркало в углу, в которое не так давно смотрелись уверенные в себе офицеры, ехавшие в отпуск, теперь отражало изнуренные лица и безжизненные глаза. Наконец мы нашли Сюзи, лежавшую в одном купе с другой больной девушкой. Сюзи была бледна и слаба, лысая тень той тени, к которой я уже привыкла. Тиф отнял у нее волосы. Увидев меня, она попыталась улыбнуться, ее голос был еле слышен.
— Хорошо, что ты пришла. Скоро мы будем в Швеции?
— Мы приедем в Травемюнде утром, а оттуда на пароходе в Мальмё. Это займет несколько дней.
— Как ты думаешь, я выдержу?
— Конечно. Самое худшее уже позади. В Швеции о нас позаботятся. Скоро ты выздоровеешь.
— Какие у тебя прекрасные волосы. Посмотри на меня, у меня почти нет волос.
— Вырастут, когда поправишься. Вырастут заново.
— Ты, правда, так думаешь?
Я старалась придать уверенность своему голосу, хотя совсем не была уверена. Но разговор утомил Сюзи, и она замолчала. Я сидела на краю койки, держала ее руку и гладила сухую, как пергамент, кожу. Я не знала, о чем говорить. Я надеялась, что она выздоровеет. Подумала о Магде: Сюзи и Магда лежали в соседних палатах в госпитале в Берген-Белсене. Магда умерла второго июля, за день до нашего отъезда. Как будто прочтя мои мысли, Сюзи спросила:
— Как поживает Магда?
— Поправляется, — сказала я, не решаясь сказать ей правду. Она со временем все узнает, а пока ей необходимо беречь свои силы.
Раздался гудок, и поезд остановился на какой-то станции. Я встала и посмотрела на пустую платформу. Там стоял один рабочий с красным флажком и с любопытством смотрел то на меня, то на красный крест на поезде. Знал ли он, кто мы? Скорее всего, нет. Прозвучал гудок, и поезд тронулся. Я опять села на край койки, прислушиваясь к стуку колес, и старалась понять, о чем они говорят. «Она поправится, Она поправится, она выздоровеет, она выздоровеет», — отстукивали колеса, набирая скорость. Я посмотрела на Сюзи, собираясь рассказать ей, что услышала, но она уже уснула под монотонное перестукивание.
Я вернулась в свой вагон. Там все продолжали разговаривать, смеяться и мечтать. Им было о чем рассказать новым друзьям: о детстве, о любимых, о своих мечтах. Обо всем, кроме того, что они только что оставили за собой.
В нашем купе было шесть девушек. Двое из Сигета и четверо из Сату-Маре. Нас потянуло друг к другу, как только мы узнали, что поедем в одном поезде. Мы были примерно одного возраста, казалось, имели общие интересы и хорошо ладили между собой.
Аделя рассказывала нам о прочитанных книгах и о своих планах, когда она вернется в Румынию.
Иза рассказывала о своей работе в коммунистической ячейке, о том, что до депортации вела антифашистскую борьбу, которую она теперь собиралась продолжать. Она была старше всех нас, и эти идеи все еще вдохновляли ее. Она рисовала нам золотой век, который нас ожидает, и не уставала повторять: «Помните, девушки, то, что случилось, не должно повториться. Только коммунисты могут предотвратить это».
Ее сестра Релла молчала. Она боготворила свою старшую сестру и не осмеливалась говорить в ее присутствии. Кроме того, она была слишком молода, и ей нечего было сказать такого, что произвело бы впечатление на старших девушек. Но у нее были свои мечты, которые она хотела осуществить. Она мечтала пойти в школу, чему-то научиться и стать самостоятельной личностью, а не тенью своей старшей сестры.
Кати говорила главным образом о своем брате Гиури, она надеялась увидеться с ним. Все ее мечты были сосредоточены на том, чтобы помочь ему и другим, нуждающимся в помощи. Кати всегда думала о других, она была альтруистка по сравнению с нами, эгоцентристами. Все мы были заняты своими проблемами.
Когда я вошла в купе, там обсуждали происшествие в Любеке, куда мы приехали из Берген-Белсена. Я вспомнила большую палатку, где работники шведского Красного Креста дали нам возможность принять душ и переодеться. Прежде, чем направить нас в Швецию, они должны были продезинфицировать всю нашу одежду и нас самих.
— Помнишь красивого шведа, который вошел в палатку, когда мы были в душевой? — спросила Ливи.
— Странно, что нас мыли мужчины. Мне было стыдно стоять голой перед мужчиной, — сказала Релла.
— Я разговаривала со шведкой Марианной, которая была с ними, — сказала я. — Она говорит, что в Швеции считается нормальным, когда девушки и парни купаются вместе голыми. У них в банях женщины моют мужчин, и довольно часто мужчины моют женщин. Очень странно.
— Что это за страна, в которую мы едем?
— Там, должно быть, хорошие люди. Их королева пригласила нас на отдых. Одна девушка в поезде слышала, что ее величество собирается встретить нас на границе и что она даст нам красивую одежду и каждой золотые часы. Даже вечерние платья.
— Но какая там будет еда? Эти шведы такие худощавые. Как ты думаешь, нам будет хватать еды?
— Они знают, что мы голодали. Нас будут хорошо кормить. Мы будем у них почетными гостями. Ведь они нас пригласили.
— Я буду брать двойную порцию и запасаться на случай, если будут кормить слишком редко.
— Как вы думаете, они умеют хорошо готовить, так же как у нас дома?
— Тебе больше не видать маминых фрикаделек, — сказала я, — но как только представится возможность, я постараюсь приготовить тебе такие же. Я помню, как мама их готовила.
— Как ты можешь это помнить? — удивилась Ливи. — Ты была тогда еще ребенком.
— А ты забыла, кто готовил еду, когда мама уезжала, а ты загорала у реки?
Она вспомнила и успокоилась.
— Где находится Швеция? — спросила Релла.
— По-моему, в левой половине того полуострова, который на карте похож на собаку, — сказал кто-то.
Что еще мы знали о Швеции? Что король играет в теннис и что люди там настолько честные, что можно оставить ключи от квартиры, вернуться через несколько часов и найти их на том же месте. Вот и все. Впоследствии мы убедились, что наши сведения были неверными. Королева не встречала нас, нам не дарили часы, она нас не приглашала в гости. Швеция не выглядит на карте, как левая половина собаки. Что касается честности, то с этим было покончено до нашего прибытия. Единственно верным оказалось сведение о том, что король играет в теннис.
Но какие красивые люди! Я с обожанием смотрела на кондуктора автобуса, который вез нас из Берген-Белсена. Если все шведы похожи на него, то мне грозит опасность: я влюблюсь во всех сразу. Он был высокого роста, широкоплечий с темно-голубыми глазами, очень приятный. К сожалению, мы не могли разговаривать, так как он знал только шведский. Когда я слышала их речь, она звучала как пение. Усвоим ли мы их язык? Но в этом не будет необходимости. Мы не останемся здесь надолго. Шесть месяцев, затем обратно в Румынию.
Вернулся проводник поезда, и пригласил нас в пустое купе, где мы сможем прилечь. Мы с Ливи улеглись вместе и начали засыпать. Я обняла ее и по глазам поняла, что она опять размечталась о своем Кареле. Карел — польский мальчик, в которого она влюбилась в последние дни нашего пребывания в Белсене и который уехал в Швецию раньше нас. Я поняла, что в своих мечтах она уже с ним. Это из-за него мы обе ехали сейчас в Швецию. Я не могла видеть, как она страдает, и потому исхитрилась получить разрешение поехать в Швецию, хотя мы обе были здоровы.
Когда распространился слух о том, что шведы пригласили больных для поправки, мы вначале не думали об этом. Мы с Ливи собирались поскорей вернуться в Румынию и продолжать свое образование. Наконец должно было осуществиться мое желание изучать медицину, а Ливи предстояло завершить среднее образование и поступить в высшее учебное заведение. Но наша кузина Сюзи была очень больна, и нам сказали, что ее отвезут в Швецию. Через несколько дней ко мне в слезах пришла Ливи и сообщила, что Карел тоже поедет в Швецию. Она не хотела расставаться с ним. Это была ее первая любовь, причем очень серьезная. Может быть, и мы что-нибудь придумаем? Почему бы и нам тоже не поехать?
Не думая особенно о том, какие могут возникнуть осложнения, я обратилась в Красный Крест Швеции и попросила разрешения сопровождать нашу больную кузину. Шведы были великодушны. Они не хотели разъединять родственников. И нас внесли в список.
Только тогда мы осознали, что расстаемся со своими друзьями — Тери, Ольгой, Божи, Рожи, которые оставались здесь. Это было нелегко, но мы утешались мыслью о том, что скоро все встретимся в Сигете.
Затем начались волнения. Вопросы, споры, слухи. Воображение не знало пределов. Так легко верить слухам, если они сулят что-то хорошее. Мы перестали стирать то немногое из одежды, что имели. Не стоило брать ее с собой, если нам дадут все необходимое, как только мы очутимся в Швеции. Кое-кто из девушек сумел достать новую одежду, они были сравнительно хорошо одеты. Но теперь, когда нам предстояло уехать в Швецию, можно было позволить себе выбросить все, что мы имели.
Когда мы прибыли в Любек, у нас оставалось только то, что было на нас надето. В основном, все ходили в той одежде, которая была на них при освобождении — грубая, рваная и грязная, с желтыми звездами на спинах. Все это сожгли в Красном Кресте во время санитарной обработки. Затем нам выдали нижнее белье, летнее платье и пару обуви. Не было вечерних платьев и ночных рубашек. С отсутствием вечернего платья мы примирились. Оно не было нужно при переезде; несомненно, нам его дадут на границе. Но ночная рубашка или пижама? В чем спать? К великому нашему удивлению работник Красного Креста сказал, что он всегда спит голым. Мы приняли этот довод как еще одну странную особенность новой незнакомой страны.
В Любеке я встретила британского сержанта средних лет. Он обрадовался, что я говорю по-английски, и пригласил меня погулять в парке. Я с благодарностью приняла это предложение, счастливая, что кто-то проявил ко мне интерес. Он расспросил меня о том, что со мною произошло, и рассказал о своей трагедии. Его жена умерла, и в Йоркшире его ожидал ребенок, лишившийся матери. Он сочувствовал мне и сам страдал. Он просил меня выйти за него замуж. Я чуть было не согласилась, сразу не подумав о том, что я его не знаю, что он намного старше меня и что мне ничего не известно о его прошлом. Я так скучала по семейной жизни, так хотелось иметь близкого человека, разделить с кем-то свою жизнь, что была готова на все. Но прежде всего мне хотелось обсудить это с Ливи. Это была счастливая мысль.
Ливи посмотрела на меня своими большими детскими глазами и спросила:
— Ты его любишь?
— Конечно, нет.
— Тогда зачем выходить за него замуж?
— Я хочу иметь свой дом.
— Мы вернемся в Сигет. Там наш дом.
Это решило все. На следующий день мы продолжали свой путь в Швецию.
Утром мы с Ливи вернулись в купе, в котором были прошлой ночью. Там же оказались и другие девушки, более или менее отдохнувшие. Я села у окна и наблюдала открывающийся передо мной пейзаж. Повсюду руины, — свидетельства того, что и здесь бушевала война. Мне пришло в голову, что и другие страдали, но я не испытывала жалости к людям, которые жили раньше в этих разрушенных домах. Я видела части уцелевших домов: спальня, в которой еще стояла кровать, перевернутый туалетный столик, разбитое зеркало; кухня с кастрюлей на плите; остаток гостиной, где кто-то когда-то читал газету и слушал радио. Может быть, эсэсовец? Мне хотелось думать, что это так. Я подозвала остальных, и мы начали фантазировать о людях, которые жили в этих домах.
Чем больше мы разговаривали, тем яснее становилось, что у нас много общего. Я опасалась, что по прибытии нас могут разлучить, и другие тоже беспокоились. Поэтому мы поклялись, что всегда будем держаться вместе, помогать друг другу. Мы будем друг другу родителями, сестрами, друзьями. Мы всемером будем жить вместе, конечно, Сюзи присоединится к нам. Когда я ей об этом сказала, она улыбнулась и кивнула в знак согласия. У нее не хватало сил, чтобы принимать участие в наших мечтах.
Время бежало, мы все еще планировали свое будущее, когда поезд прибыл в Травемюнде. Там мы пересели на паром, который должен был перевезти нас в Швецию — белый голубь на пути в рай. Я сидела на палубе, смотрела на море и не хотела уходить. Но это не разрешалось.
Надо было спуститься вниз и отдыхать. Нам дали позавтракать и предоставили кровати, застланные бумажными простынями. Улегшись в такую шуршащую постель, я испытала странное ощущение: как будто я — дорогая шоколадка. Будет ли жизнь и дальше такой же? Будут ли со мной и в дальнейшем обращаться, как с дорогой вещью, завернутой в целлофан?
Швеция
9 июля 1945 года.
Мы высадились в Швеции.
Где это было — в Истаде или в Мальмё? Должно быть в Мальмё. Я помню только, что когда мы высадились, нас встретили женщины в униформах — после я узнала, что это были представительницы WAAC, которые предложили нам горячий шоколад. С тех пор горячий шоколад для меня навсегда связан с Швецией. Все были доброжелательны, заботливы и внимательны к нашим физическим потребностям. Но нам хотелось еще любви и нежности. Конечно, и эти запросы будут удовлетворены в скором будущем.
Больных отправили в санаторий, а нас, здоровых, разместили в школе, где мы должны были пробыть шесть недель в карантине.
У каждой из нас была кровать и туалетный столик. Мы расположились в больших, светлых классных комнатах.
Первые несколько дней мы только ели и спали. Мы ели, ели, а в промежутках говорили о еде. Большинство из нас таскали еду из столовой и прятали, на случай если опять проголодаемся. Вскоре от наших кроватей запахло испорченной пищей, и нам запретили выносить еду из столовой. Но этот запрет нарушался. Тогда нам выдали карманные деньги и взяли с нас обещание, что если нам понадобится еда, мы будем покупать ее в киоске. Большую часть этих денег мы тратили на покупку белого хлеба. Прошло много времени, прежде чем мы убедились, что еды вполне достаточно, и перестали прятать куски под подушками. Но некоторые так никогда и не избавились от этой привычки.
Мы находились в изоляции, пока выяснялось, не заражены ли мы чем-нибудь. Любопытные жители Мальмё толпились у школьной ограды и глазели на нас, как будто мы прибыли с Марса. Их лица выражали сострадание и недоверие. Мы были благодарны за каждое адресованное нам слово, за любое выражение внимания. Нам не разрешалось подходить к ограде из опасения, что бактерии могут распространиться за ее пределы, но любопытные горожане приходили ежедневно. В конце концов мы перестали считаться с запретом. Здесь собирались люди, которые думали о нас. Завязалась дружба. Они передавали нам адреса и брали с нас обещание, что мы навестим их, как только кончится карантин.
Через несколько недель мы настолько окрепли, что заявили протест против того, что нас не выпускают за ограду. Мы вновь чувствовали себя узниками. Администрация старалась нас успокоить, что карантин для нашей же пользы и что нас ограждают от слишком любопытных людей. Нам было трудно примириться с этим. Мы так долго находились в изоляции и жаждали свободы. Мои товарищи обнаружили, что можно легко пролезть под оградой, и начали выходить на прогулки в город и посещать друзей.
Две сестры, шведки Ингрид и Барбо, стали приходить к ограде, чтобы поговорить с Ливи и со мною на общем для нас немецком языке. Они были одного с нами возраста, и мы скоро подружились. Нам хотелось узнать подробнее об их семье. Однажды Ингрид спросила, не хочу ли я навестить их, как только это будет дозволено. Я сказала, что хочу сейчас же, и не дав ей опомниться, пролезла под забором.
Очутившись на улице, я огляделась. Сделала несколько неуверенных шагов, обернулась и увидела, что я одна. Оглянулась еще несколько раз. Трудно было поверить, что меня не сопровождает эсэсовец с ружьем, что не последует окрик и никто не прикажет мне остановиться. В этот момент я наконец поняла, что свободна и Что это означает. Меня больше не охраняют солдаты и не унижают. Больше никогда никто не будет распоряжаться моей жизнью. Меня больше не будут преследовать за то, что я еврейка. Это никогда не повторится. Весь мир получил урок. И он будет усвоен.
Я пошла увереннее, почти вприпрыжку бежала за Игрид. Мы шли по направлению к окраине Мальмё, мимо веселых вилл и цветущих садов. Куст сирени свесился через забор, и я сорвала веточку. Ингрид посмотрела на меня с неодобрением и предупредила по-немецки: в Швеции так не принято.
Мы подошли к желтому дому, где нас встретили родители Ингрид, чета среднего возраста, напоминавшая моих родителей. Ингрид представила меня, и ее мать пригласила меня в гостиную. Она угостила меня горячим шоколадом и сэндвичами. Мы разговорились. Но когда она узнала, что я ушла к ним без разрешения, ее сердечный тон сменился холодным и тревожным. Мне опять напомнили о том, что в Швеции так себя не ведут. Мне дали понять, что если я хочу остаться в этой стране, то должна уважать ее законы. Но любопытство взяло верх над недоверием и, поскольку я уже была здесь, меня стали расспрашивать о том, что мне пришлось пережить.
С чего начать? Освенцим? Поймут ли они?
— Я еврейка.
— Но почему вас отправили в концлагерь? Вы, должно быть как-то провинились?
Что ответить на это? Что мы ничего не сделали? Что поэтому мы попали в заключение? Если бы мы что-нибудь совершили, нас бы расстреляли. Надеясь избежать такой участи, мы выполняли то, что от нас требовали. Поколение за поколением нас учили слушаться и покоряться. Нам твердили: отец знает лучше; если ребенок непослушен, его наказывают; если он придерживается правил, то ничего плохого с ним не случится; если соседи недоброжелательны, то всегда есть отец, который защитит. И в новой ситуации надо придерживаться старых правил. Только немногие могут себе представить какую-то неожиданную ситуацию. И этим немногим никто не верит.
Со смешанными чувствами я выпила шоколад и попросила Ингрид проводить меня обратно в школу, где мы жили.
Август 1945 года
Прекрасный летний день в Стокгольме. Полуденное солнце, отраженное в водах озера Маларен, слепит прохожих, пыхтящие велосипедисты вытирают пот со лба. Кажется, что пешеходы никуда не спешат. Слышны только слабые звонки ползущих трамваев. Не видно автомобилей.
Я стою на мосту, облокотившись на перила. Худая девушка с копной волос и голодным взглядом. На мне зеленое платье, которое я сшила из старой занавески по моде начала сороковых годов. Оно немного выше колен. Я себя чувствую в нем очень нарядной и надеюсь, что никто не смотрит на мои ноги. Мне немного стыдно за свои черные ботинки на шнурках и короткие белые носки. Красивее было бы в шелковых чулках и кожаных туфлях.
Я смотрю, пораженная красотой пейзажа. Внезапно что-то заставляет меня оглянуться. Нет, позади не стоит вооруженный охранник из СС. На тротуаре нет никого. Под мостом только блестящее зеркало воды, на котором играют лучи солнца.
Где я? Как я попала сюда? Сейчас я этого не знаю. Меня наполняет радостное сознание, что я одна, свободна, свободна идти, куда хочу, свободна делать, что хочу, могу наслаждаться этим днем, сколько вздумается. Я жажду выпить эту зелень, солнце, хочется быстро проглотить все это, так же быстро, как я поглощала хлеб в последние недели, спеша, чтобы у меня его не отняли.
Я смотрю в сторону старого города, расположенного за мостом. Невероятно красивый, он поднимается из воды. Дома, как заколдованные, остановились на берегу и подмигивают мне своими окнами. Те, что сзади, наклоняются вперед и как бы манят к себе. Они напоминают мне волшебные замки моего детства. Дворец переливается рубиново-красным, его позолоченный купол блестит, соревнуясь с водой. Чайка кружит вокруг башни, и три короны образуют печать под невидимой надписью на синем небе. Я упиваюсь этим зрелищем, не желая расставаться со сказкой.
Медленно поворачиваюсь на звук трамвая, показавшегося из-за поворота. Из его окон на меня смотрят с любопытством. Мужчины и женщины, довольные, упитанные, кажутся счастливыми. Они едут куда-то, к кому-то, кто ждет их: отец, мать, друзья. Солнце на минуту закрывается тучей. Никто не ждет ни Ливи, ни меня. Но эта мысль проходит, не задерживаясь. В данный момент я ощущаю только удивительное, странное чувство, такое непривычное, что я едва узнаю его. Радость? Счастье?. Так ли оно ощущается?
Навстречу мне идут смеющиеся девушки. Их юбки немного ниже колен. Мимо проезжает тандем. Отец в клетчатой рубашке и красной кепке с кисточкой, мать в шортах, ребенок на руле, другой в корзинке. Какой у них смешной вид.
Под мостом сидят два маленьких мальчика. На них тоже красные кепки, в руках удочки. Один наживляет червя на крючок, другой широкой петлей забрасывает удочку. Около них ведро, и я гадаю, есть ли у них улов. Я хочу спуститься вниз и спросить, нельзя ли мне присоединиться к ним, рассказать им, что я тоже давным-давно вот так же стояла под мостом. С тех пор прошло, наверное, сто лет, или же это было в другой жизни. До того, как исчез мой мир, или, вернее, я исчезла из своего мира.
Но теперь я вернулась. Осколок женщины в коротенькой юбке. И я действительно не понимаю, почему все смотрят на меня. Я не понимаю, что это именно я отличаюсь от других, что я кажусь странной. Кем-то с другой планеты. Торопясь жить, я воображаю, что могу начать оттуда, где я остановилась, в юбочке выше колен. Я не поняла, что невозможно продолжать жить так, как если бы ничего не случилось, даже в отношении длины юбки. Пройдет много времени, прежде чем я пойму это.
Сегодня меня переполняет восторг от того, что я вижу. Швеция, Стокгольм. Так много воды, много мостов. Высокие здания. Трамваи проезжают среди травы. Собаки, которые никогда не лают. Дети, которые никогда не плачут. Соседи, которые никогда не ссорятся. Почти не видно полицейских. Тихо. Чисто. Порядок.
В той стране, где я жила, все было иначе. Людские толпы, звуки и запахи, беспорядок, грязь на улицах. Там не было высоких зданий. Очень мало велосипедов. Я никогда не видела тандема. Летний день там мог быть таким же чудесным, но все же другим. Когда я мысленно возвращаюсь в прошлое, я чувствую запах пыли и вижу небо, которое кажется более низким и голубым. Может быть, потому, что детский рай всегда голубее?
Но детские годы прошли. Я выросла, и жизнь ждет меня. Я еще не знаю, выживу ли, но знаю, что хочу этого. То, что произошло, невозможно забыть, но и вспоминать об этом пока не надо. Лучше думать о нашем пребывании в прекрасном Ельмареде, где мы вновь соприкоснулись с природой, которой нам так долго не хватало. Мы жили в школе, гуляли в лесу, плавали в озере, загорали и ели.
Самым главным была еда. Многие из нас все еще по-прежнему припрятывали еду. Это и было причиной скандала с нашим смотрителем Калле. Да еще наша привычка все «добывать». У нас пока было всего несколько вещей, которые нам выдали по прибытии в Любек. При взгляде на простыни и клетчатые чехлы-наматрасники возникало желание пополнить свой гардероб. Мы изрезали большую часть из них и вовсю занялись шитьем. Вскоре у нас появились новые летние рубашки, шорты, юбки, платья. Калле сочувствовал нам, но не мог спокойно смотреть как мы уничтожаем имущество школы. Он провел собрание, на котором упрекал нас. Мы могли понять его точку зрения, но привычка «добывать» что-то вошла в нашу плоть и кровь, трудно было избавиться от нее. Гораздо позже, уже живя в Стокгольме, в так называемых нормальных условиях, я все еще ловила себя на желании «добыть» что-нибудь. Однажды бесцеремонно захватила, по-видимому, бесхозное ведро угля в подвале и только через несколько месяцев поняла, что я наделала. Быстро протекли несколько недель в Ельмареде, и в августе нас переселили в лагерь на остров Лювё неподалеку от Стокгольма. Лагерь состоял из нескольких бараков, отделенных от остального острова оградой из колючей проволоки. Сюзи поправилась, и мы — семеро друзей, подружившихся в Берген-Белсене, — поселились вместе в бараке № 7.
Здесь мы пробудились к действительности. Лето подходило к концу, вместе с ним приближался конец нашего отдыха. Нам дали ясно понять, что мы больше не являемся гостями. Мы — беженцы. Это новое для нас слово звучало неприятно. Из временного гостя, у которого где-то как-будто есть свой дом, я превратилась в беспомощное, маленькое и беззащитное существо, полностью зависимое от чужой доброй воли. Целыми днями, сидя в бараке, мы обсуждали вопрос о том, вернуться ли в Сигет или остаться в Швеции. За исключением Сюзи, ни у кого из нас не осталось семьи в Сигете. Вернуться в пустой дом, в город, из которого нас выгнали, было так же тяжело, как оставаться здесь. В конце концов мы решили остаться — по крайней мере на время.
Жизнь в лагере вызывала у меня постоянное беспокойство. Мне хотелось выйти на свободу. Я хотела избавиться от клейма беженки, приложить все силы к тому, чтобы уйти из Лювё как можно скорее, и начала выяснять возможности для этого. Мне опять пригодилось знание английского языка. Единственной возможностью получить разрешение на проживание в Стокгольме была работа в чьем-то доме. Я нашла место преподавательницы английского языка в одной шведской семье. Так я навсегда рассталась с лагерной жизнью.
15 июня 1949 года
Мы встретились перед зданием регистратуры. На мне было синее шерстяное платье с длинной юбкой по последней моде из «Нового взгляда», короткий закругленный жакет и белая соломенная шляпа вроде мельничного колеса. Я считала себя очень нарядной в новом платье, на которое потратила всю месячную зарплату, и не могла нарадоваться на шляпу, одолженную у подруги. Михаил выглядел элегантно в новом сером в полоску костюме и серо-голубом галстуке, который я ему подарила. Он обнял меня, посмотрел на меня своими большими серо-зелеными глазами и улыбнулся. Солнце выглянуло из-за туч; исчезли все мои печали и страдания. Хотелось погладить его темные, густые брови. Я была готова следовать за ним на край света, я чувствовала, что наконец обрела дом, обрела мужа, отца, брата — всех в одном лице, товарища на всю жизнь. Он принес кольцо, но не было цветов.
— Хочешь цветы?
— Гм… да.
— Идем. Купим букет.
Мы перешли Бергсгатан и выбрали в маленьком цветочном магазине букет ландышей. Это мои любимые цветы. Я глубоко вдохнула их аромат. Минуты счастья надо тщательно хранить, чтобы вспоминать, когда жизнь опять ударит тебя своим молотом.
Самые тяжелые наши годы были позади. Работа в чужом доме, на фабрике, в офисе. Мы сумели выучить шведский язык и теперь оба имели сравнительно хорошо оплачиваемую работу секретарей. Поскольку Михаилу удалось найти квартиру, мы решили, что можем пожениться. Оба мы выходцы из одного города, у нас одинаковое прошлое, одинаковый опыт, оба жаждем иметь семью. Михаил намного старше меня, но какое это имеет значение. Мы любим, понимаем и поддерживаем друг друга. Мы будем иметь семью и детей, которых воспитаем в духе других ценностей, чем те, в которых воспитывали нас. Наши дети вырастут уверенными в себе, смелыми, мы их будем любить такими, какие они есть, не пытаясь их переделывать. Но от одного мы никогда не отречемся. Наши дети будут знать, что они евреи, и не будут стыдиться этого.
Август 1985 года
Стоят машины на Западном мосту, в радиаторах от жары закипает вода. Мои глаза следуют за уличным движением и останавливаются на мосту. Я вижу худенькую девушку, облокотившуюся на перила. Закрываю глаза и вспоминаю. Как все изменилось с тех пор! И город, и девушка. Так же ярко светит солнце, такое же голубое небо. Но не ходят больше трамваи, семьи не ездят на тандемах; не видно прохожих, совсем мало велосипедов. И не видно красных кепок с кисточками. Корректно одетые бизнесмены возвращаются домой после работы в своих машинах, не видя в этом ничего особенного. Большинство из этих молодых директоров компаний, которые нервозно курят или барабанят пальцами по сидению в своих машинах, не знают, как выглядел Западный мост сорок лет тому назад, когда по нему не проезжали автомобили.
Сорок лет! Целая жизнь. Добавка, еще одна полная ложка жизни, которая была мне дарована 15 апреля 1945 года.
Я была листочком, который плавал на поверхности моря жизни, его бросало из стороны в сторону, он соприкасался с другими гонимыми ветром листьями. Я встретила Михаила, и два легких листочка соединились, пустили корни, и растение медленно, медленно возродилось к жизни. Штормы улеглись, а деревцо выстояло и превратилось в могучий дуб, раскинувший ветви и расцветший в этом чужом краю. Пока гроза не ударила опять и не снесла половину ствола.
Я думала, что не выживу. Каждую ночь я умирала, но просыпалась утром. Понадобилось много времени, чтобы зажила рана. Память давала мне силы продолжать жить.
Лишняя ложка жизни, дарованная мне, также возложила на меня ответственность. Я долго размышляла над значением этой добавочной порции, этой новой жизни. Понадобилось сорок лет, чтобы я поняла, что являюсь свидетелем и обязана поведать о пережитом, хотя я и не писательница. Нас так мало, оставшихся в живых. Мы должны рассказать о том бесчеловечном деянии, которое было совершено в двадцатом столетии. Это не должно быть забыто и не должно никогда повториться.
Я все помню, но почти не знаю, как это ощущалось. Я помню, что было больно, но не могу восстановить само ощущение боли. Я помню свой нарыв на ноге. Я помню, как стыдилась своей наготы. Я помню минуты прощания. Я помню почти все, но память ослабевает. И если я сама могу забыть такое, то что же говорить о тех, кто этого не пережил? А будущие поколения, смогут ли они понять?
Эпилог
Наступило еще одно лето. После бесконечной шведской зимы я каждый раз изумляюсь, когда тает лед, кончаются холода и на ветках набухают почки. Прошло больше сорока лет. Я за городом, в окружении своих трех сыновей и их семей. Мои семь внуков возятся и играют. Я думаю о том, как счастлив был бы Михаил видеть их.
Мои три сына стали способными учеными, любящими отцами и очень преданными сыновьями. Конечно, и у нас были разногласия. Возможно, я была строже, чем хотелось бы. Мне пришлось быть и матерью, и отцом, одновременно строгой и ласковой, и это иногда создавало проблемы. Моим мальчикам было труднее, чем многим другим в их возрасте, — ведь потеря отца не проходит даром. Я стремилась дать им то воспитание, то направление в жизни, о котором мечтал Михаил. В моих ушах всегда звучали его слова: их надо воспитать так, чтобы они были хорошими людьми. Они должны оставаться евреями. Нас преследовали за то, что мы евреи. Наши дети и внуки будут гордиться тем, что они евреи.
После смерти Михаила (он умер в Йом Кипур, День Искупления, в 1962 году) я долго шла по пути наименьшего сопротивления. Небольшое предприятие по поставке госпитального оборудования (которое мы с мужем открыли, когда стало ясно, что он не сможет работать в Швеции по специальности юриста) все еще было убыточным. У нас образовались большие долги, и мне пришлось оставить свои занятия психологией, чтобы помочь мужу. После его смерти я пыталась продолжать дело. К моему удивлению, стало поступать больше заказов, и постепенно, через год образовалась небольшая прибыль. Эта прибыль увеличивалась ежегодно, что обеспечивало мне и моим сыновьям приличный жизненный уровень среднего класса. Когда дети поступили в университет, я получила возможность продолжать свое прерванное образование. Я продала предприятие, поступила в университет и получила ученую степень в области психологии. Это дало возможность осуществить план, который вынашивал Михаил. Когда мы только приехали в Швецию, нам не хватало общения в кафе, которое играет такую важную роль в жизни Центральной Европы. Не было места, где люди могли бы собраться, выпить кофе, прочесть газету и часок побеседовать. Теперь, через сорок лет, еврейская община в Стокгольме имеет место для тех, кто выжил, но все еще борется с тенями прошлого. Основан дневной центр, в котором я работаю организатором и психологом, где бывшие узники концентрационных лагерей могут встретиться, выпить кофе, поддержать друг друга с помощью групповой терапии.
Моя сестра Ливи живет в Стокгольме. Она вышла замуж за немецкого еврея-беженца. У нее трое детей. Она помогала мне в тяжелые годы. Наши летние домики стоят рядом, и мы радуемся тому, что, вопреки всему, мы живем и наш род продолжается. В праздники у нас за семейным столом собирается двадцать восемь человек. Стокгольм стал нашим домом; здесь мы живем, здесь мы среди своих, здесь родились наши дети. Сигет — небольшой городок далеко отсюда — относится к другой жизни.
В июне 1968 года, когда мои дети были подростками, я повезла их в Сигет. По иронии судьбы русские освободили эту область уже в январе 1944, всего через восемь месяцев после нашей депортации, и возвратили ее Румынии. После некоторого периода хаоса был установлен более или менее либеральный режим, хотя, к сожалению, это продолжалось недолго. Я хотела показать своим сыновьям город, в котором родилась, места моих игр, кладбище, где похоронены их предки. Я как будто перелистывала страницы старой книги или смотрела пьесу, которую давно и хорошо знала. Все знакомо, тот же сценарий, только актеры другие. За прилавками магазинов сидели незнакомые люди, незнакомые люди пили кофе в саду у Анны. Лошади тащили экипаж, но правил ими уже не дядя Залман. Когда я подходила к дому дяди Хилмана, мне казалось, что это он стоит в дверях. Я подбежала к нему сзади, но ко мне повернулся незнакомый человек. Тери была единственным человеком, которого я знала в этом городе.
Я не осмеливалась дать волю чувствам. Надо было быстро перелистать книгу, следить за пьесой, не давая волю эмоциям. Этот визит имел один хороший результат. До него мне часто снилось, что я в Сигете и не могу вырваться оттуда, а Михаил и дети в Швеции. Теперь эти кошмары прекратились.
Спустя пять лет я опять посетила Сигет, на этот раз вместе с Ливи. Нам было необходимо совершить это паломничество. Мы зашли в наш старый дом (я не осмелилась сделать это в свой первый приезд). В нем жила венгерская семья, примерно моего возраста. Нас пригласили войти, но хозяева были неразговорчивы и не очень дружелюбны. Они, конечно, боялись, что мы будем претендовать на возвращение себе нашего дома, мы имели на это право, если бы решили вновь поселиться в Сигете. Дом был очень запущен. Мы поднялись в нашу мансарду, и я вновь пережила те же чувства, что и сорок лет тому назад. Я опять ощутила себя ребенком. Я посмотрела через окно в сад. Кусты жасмина и сирени исчезли. Мне хотелось рассказать об этом родителям, но их не было.
Что случилось с другими девушками из Сигета?
Дора возвратилась и вышла замуж за Дали, которого она любила. У них родились трое детей, и они эмигрировали в Соединенные Штаты. Она теперь преуспевающий врач в Нью-Йорке, у нее пять внуков.
Сюзи также вернулась в Сигет. Она вышла замуж и родила сына. Муж ее погиб в результате несчастного случая. Она теперь живет на Гавайских островах и вновь вышла замуж.
Тери вышла замуж в Сигете и все еще живет там. К великому ее сожалению, у нее нет детей.
Ольга вышла замуж за одного из своих обожателей, американского солдата, которого встретила в Берген-Бельсене. Позже она развелась с мужем и сейчас — преуспевающая деловая женщина, живет в Чикаго.
Ее сестра Божи уехала в Израиль, вышла замуж и родила шестерых детей. Она умерла в 1980 году.
Анна живет со своим мужем в Монреале.
Об остальных у меня нет сведений.
Район концлагеря Освенцим
План концентрационного лагеря Освенцим I
1–28. Жилые бараки
a. Дом коменданта
b. Основное помещение для охраны
c. Комендатура
d. Административное здание
e. Госпиталь для эсэсовцев
KL. Газовые камеры и крематорий
W. Помещение для охраны при входе в лагерь
h. Кухня
i. Приемно-пропускной пункт
М. Здание, служившее складом для вещей и ценностей, снятых с трупов погибших в концлагере
J. Новое здание прачечной
Примечания
1
Блюдо из бобов и ячменя, которое мы оставляли в пятницу в пекарне. В субботу нельзя разводить огонь, и только так мы могли получить горячую пищу.
(обратно)2
Конца века.
(обратно)3
«Работа дает свободу» (нем.).
(обратно)4
Томми — рядовой, прозвище английского солдата (прим. переводчика).
(обратно)
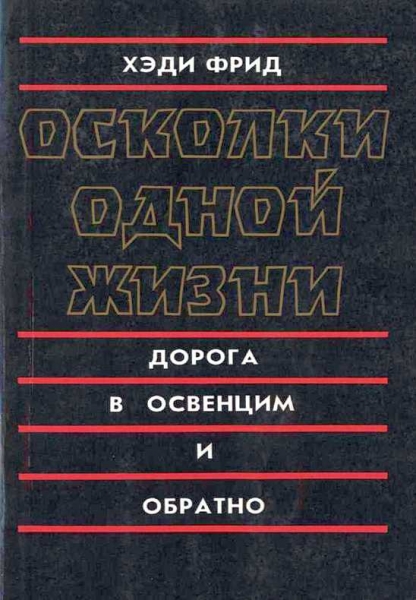

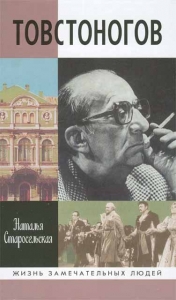

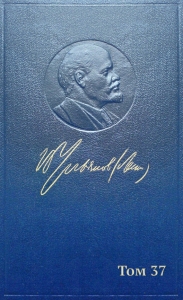
Комментарии к книге «Осколки одной жизни. Дорога в Освенцим и обратно», Хэди Фрид
Всего 1 комментариев
Армахан
05 мар
Великая женщина, пережила такой кашмар. Вот последние годы опять в Европе поднимают голову неофашисты, а большинство населения молчит, печально, ничего их не учит, коротка человеческая память