Двенадцать евреев, которые изменили мир.
В.Н.Шевелев
Ростов-на-Дону
Издательство «Феникс», 2001
На страницах этой книги представлены научно-художественные биографии двенадцати великих евреев - мыслителей, деятелей культуры и науки, которые своей мыслью и своей деятельностью меняли мир и наши представления о мире. Одними из них человечество гордится, других - отвергает, но все эти личности - важная составная часть общечеловеческой культуры и истории.
Предисловие
Жизнь слишком коротка, чтобы быть незначительной.
Бенджамин Дизраэли
Только соучастие в бытии других живых существ обнаруживает смысл и основанне собственного бытия.
Мартин Бубер
Великие личности — персонажи этой книги — с ранних лет формировались в русле еврейской культурнорелигиозной традиции. В то же время они самым тесным образом были связаны с культурой и духом народа и общества, где жили и творили. Движимые жаж- дой познания, энергией творчества и стремлением к самоутверждению, они открывали новые миры в пространстве и времени. Своим умением выразить многообразие жизни они раздвигали границы человеческого опыта и познания. Их идеи становились учением, ве- рой, овладевали душами людей и в конечном итоге преображали мир, создавая новое культурное пространство. О Бетховене кто-то из классиков сказал, что он создал новое музыкальное мироздание. Слова эти в полной мере применимы ко многим героям нашей кни- ги. На протяжении всей истории цивилизации развитие стимулировалось и направлялось «образами будущего», которые творили самые одаренные и талантливые представители рода человеческого.
Австрийский еврей Теодор Герцль, в молодости не знавший ни религии своих отцов, ни языка, ни культуры, попав в Париже на процесс Дрейфуса, вдруг осознает себя евреем. Этот лощеный, преуспевающий журналист проникается идеей дать своим братьям по крови государство, покончив наконец с многовековым периодом рассеяния, и делает все, чтобы реализовать эту идею. «Всякая подлинная жизнь есть встреча», — заметил некогда Мартин Бубер. Встреча каждого из наших героев с «голосом предков», с неким вызовом внешнего мира, с судьбой, предначертанной свыше, — определила их жизненный путь и призвание.
Только великая личность способна осознать гармонию мироздания, понять и реализовать потребности времени и эпохи. Целеустремленность, всепоглощающая страсть к совершенству, несокрушимая воля — все это можно найти у каждого из героев нашей книги, — великих лидеров, новаторов, творцов новых идей и новых культурных миров. В 1904 году Владимир Жаботинский написал стихи, посвященные памяти скончавшегося Теодора Герцля:
Он не угас, как древле Моисей,
На берегу земли обетованной,
Он не довел до родины желанной,
Ее вдали тоскующих детей.
Он сжег себя и отдал жизнь святыне,
И «не забыл тебя, Иерусалим», —
Но не дошел и пал еще в пустыне,
И в лучший день родимой Палестине Мы только прах трибуна предадим.
Слова эти можно отнести и к нашим героям, поскольку далеко не все задуманное каждым из них осуществилось. Философ Анри Бергсон говорил: «Наш жизненный путь усеян обломками того, чем мы начинали быть и чем мы могли Сы сделаться». Человек сам творит себя и утверждается в этом мире, однако далеко не все из предназначенного способен реализовать. Но высота мысли, смелость идей, дерзновенность поступка всегда привлекали внимание. Великие личноети интересны прежде всего тем, что решают частные и общечеловеческие задачи лучше, результативнее и мудрее, чем обычные люди, опережая время и эпоху. Опыт великих бесценен, их деятельность поучительна. Недаром Сенека заметил: «Воспоминания о великих людях так же полезны, как их присутствие».
Интерес к великим личностям обусловлен не только чувством восхищения и гордости за людей, достигших вершин в своей жизнетворческой деятельности, но и подсознательным стремлением многих к успеху. Люди, принадлежащие к какой-то определенной культуре, вращаются в одном социальном пространстве, но живут и действуют по-разному. Одни полны энергии и жизнелюбия, другие — жалуются на тяготы жизни. Одни стремятся к свободному существованию, другие не могут обойтись без чьей-либо опоры и поддержки. Существование подлинной личности всегда обусловлено духовностью, которая постоянно производится и воспроизводится, являя собой совокупность идей, культурно-религиозных традиций, духовного наследия.
Богатая событиями история и культура евреев всегда вызывала повышенный интерес. Как пишет современный английский историк Пол Джонсон, «взгляд евреев стал прообразом многих великих мечтаний человечества, преисполненных надежд и на Провидение, и на Человека». Исторические персонажи, представленные на страницах этой книги, по-разному осознавали свое еврейство. Одни принимали его как нечто само собой разумеющееся, ибо родились в истинно еврейских семьях. Другие искренне стремились найти и осознать сам смысл еврейского существования. Третьи, ощущая культурно-исторические корни своего еврейства, особенно не задумывались над этим, будучи вовлеченными в жизнь общества, в котором жили, народа, с которым постоянно контактировали, и ощущали себя составной его частью.
Многие из них соблюдали еврейские обычаи лишь по привычке, а оперируя такими понятиями, как Бог, народ, Израиль, совсем не стремились осознать их историческую ценность и значимость. Иудаизм же был для них скорее индивидуальным мистицизмом, окруженным романтическим флером и ностальгической притягательностью, основанным лишь на соблюдении семейных традиций. В эпоху рассеяния идея «ахават моледет» (любовь к родине) всегда была туманной и неопределенной, хотя все евреи помнили о Священной земле. Но культурная связь с прошлым, построенная на унаследованных ценностях и укладе жизни, была интуитивно-мистической. В течение многих столетий родина являлась для евреев культурно-историческим источником вне конкретных географических координат. Ее образ основывался на обещаниях искупления, данных еврейскими пророками, на еврейской философии и еврейском мистицизме, на литературе эпохи Гаскалы — еврейского Просвещения. Лауреат Нобелевской премии, писатель Элиас Канетти, еврейские предки которого были изгнаны из Испании в XIV веке, определял евреев через их «массовый» символ — образ толпы, бредущей через пустыню после исхода из Египта; это — единственный из древних народов, который странствует так долго.
Многие биографии великих людей очень напоминают древние мифы о героях. Культурный герой представляет силы упорядоченного космоса в борьбе с хаосом. Подвиги его всегда связаны с лишениями и страданиями, подчас со смертью, но итогом этой драмати- ческой борьбы являются создание новых орудий и институтов культуры и благодарная память потомков. Жизнеописания наших героев в немалой степени содержат элементы классического мифа — детство, юность, зрелость, борьба с людскими предрассудками. И как итог — новое учение или открытие новых миров, новая художественно-эстетическая модель или эталон жизненного успеха.
«Нет более опасного оружия, чем искусство воспоминания», — сказал философ Сёрен Кьеркегор. Вспомним этих великих людей, одних — с благодарностью, других — с недоверием; здесь прав знаменитый философ. Но кто может с точностью определить, что есть Зло, а что Добро?! Где это «лезвие бритвы», рассекающее историческое пространство на «хорошее» и «пло- хое»? Наверное, прав поэт Юрий Левитанский:
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы,
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе.
Свой жизненный путь выбрали Лев Троцкий и Иосиф Бродский, Карл Маркс и Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд и Майер-Амшель Ротшильд. Жизнь каждого из персонажей этой книги — драма, полная страстей и ошибок, достижений и неудач, счастья и разочарований, верности и предательства. А за страницами книги остается великое множество имен.
Библейский Авраам и его внук Иаков (Израиль), двенадцать сыновей которого положили начало двенадцати коленам (племенам) израилевым. Моисей, который вывел евреев из Египта и передал им Божественный Декалог. Еврейский историк Иосиф Флавий. Философы Моисей Маймонид, Барух Спиноза, Мартин Бубер, Эрих Фромм. Мыслитель и ученый-экономист Давид Рикардо. Композиторы Феликс Мендельсон-Бартольди, Имре Кальман, Жак Оффенбах, Антон Рубинштейн, Джакомо Мейербер. Экстрасенс и медиум Вольф Мессинг. Великий шахматист Михаил Ботвинник. Актеры Марк Бернес, Леонид Утесов, Фаина Раневская. Недаром Вернер Зомбарт писал: «Какой огромный пробел образовался бы в человеческом мире, если бы еврейская нация исчезла. Мы не хотим лишиться, когда бы то ни было глубоких, грустных еврейских глаз, ибо вместе с ними исчезли бы и другие красоты: удивительная меланхолия еврейской поэзии, проявившейся для нас в творчестве Генриха Гейне, еврейский юмор и многое другое, что нам дорого и обогащает мир».
В конечном итоге звание «великая личность» прису ж дают только Время и История. В 30-е годы Зигмунд Фрейд, отговаривая Арнольда Цвейга от попытки написать его биографию, заявил: «Нет, я слишком вас люблю, чтобы разрешить подобное. Кто становит- ся биографом, вынуждает себя ко лжи, к утайкам, мошенничеству, украшательству и даже к маскировке своего непонимания — правды в биографии достичь невозможно, а если бы даже и можно было, то с такой правдой было бы нечего делать за ее непригодностью. Правда не пользуется спросом, люди не заслуживают ее». В результате Арнольд Цвейг так и не написал биографии Фрейда. К сожалению!
Тайна завершения жизненного пути каждого, как и тайна завершения истории, скрыты от человека. Люди должны исполнять свой долг на земле, не гадая о временах и сроках. Каждый из персонажей этой книги посвоему закончил свой жизненный путь, в большей или меньшей степени реализовав то, что было предназначено ему судьбой. «Да, каждый человек незаменим. Но он уходит, Господи, уходит. И пустота, оставленная им, есть место Бога в дрогнувшей природе» (Зинаи да Миркина).
И каждый из героев этой книги словно говорит нам устами Сёрена Кьеркегора:
— Не плачь обо мне, но плачь о себе самом!
* * *
Автор благодарит Т.Ф. Ермоленко, Н. Е. Ерохина и В.И. Немчину за помощь, оказанную при подготовке данной книги!
Вечные странники
Смотри на все с точки зрения вечности.
Барух Спиноза
Евреи оказали миру столько добра и причинили ему столько зла, что мир к ним никогда не будет относиться справедливо.
Эрнест Ренан
История вершится в повседневности, но когда человек размышляет о ней, то обычно подразумевает под этим крупные события, чреватые опасностями или же обещающие исполнение великих надежд. Люди, как правило, ощущают поступь истории в эпохи соци- альных катаклизмов. Ход и цели этих событий для человека непостижимы, но всегда опасны и страшны. Но есть и другая история — творчества, поиска, духа, созидающая вековое здание культуры. Прогресс мировой культуры — это непрерывный процесс прораста- ния настоящего из прошлого. Культура — это память, и она, тесно связанная с историей, всегда подразумевает непрерывность интеллектуальной, нравственной и духовной жизни личности и общества.
Сознание человека устроено таким образом, что воспринимает прошлое и настоящее лишь тогда, когда это укладывается в факты истории. Раньше историю творил миф, затем — религия, сейчас — наука. Но сквозь тысячелетнее развитие мировой культуры — мифа, религии, философии, науки, искусства — при всех разрывах, различиях и взрывах, единой нитью тянется общая цель исканий, объединяющая все области проявления духовной мощи человека в освоении окружающего мира и мира в себе.
Масштабы четырехтысячелетней истории евреев — со времен Авраама до наших Д?1ей — всегда поражали воображение. Евреи самоидентифицировались, похоже, раньше всех прочих народов, доживших до сегодняшнего дня, и сумели пройти сквозь все бури и по- трясения. Именно они положили начало интеллектуальному проникновению в область неизведанного. Историк Пол Джонсон пишет: «Ни один народ не стоял так твердо, как евреи, на том, что у истории есть цель, а у человека — судьба. Еще в самом начале своего коллективного бытия они верили, что ими найден заданный свыше путь рода человеческого, поводырем для коего должно послужить их общество. Причем роль свою они проработали удивительно подробно и героически держались за нее перед лицом неимоверных страданий». Иной взгляд мы находим у Эрнеста Ренана: «Этот вечный Иеремия, этот «человек скорбей», вечно жалующийся, подставляющий под удары свою спину с терпением, которое само по себе нас раздражает; это создание, которому чужды все наши инстинкты чести, гордости, славы, деликатности и искусства, это существо, в котором так мало воинского, так мало рыцарского». Отто Вейнингер вообще отказывает евреям в праве иметь великих людей, в праве на гениальность.
Между тем, история ясно свидетельствует: евреи — важная составная часть мирового культурного процесса. Этот народ дал миру немало ученых, музыкантов, литераторов, философов, художников, актеров, государственных деятелей. Все они были создателями универсальных ценностей. И в этом отношении вопрос о том, были ли евреями Моисей или Маркс, Гейне или Кафка, лишается содержательного смысла. В любом случае влияние еврейской культурной традиции на формирование образа мыслей и стиля творчества той или иной великой личности бесспорно. В творческих взлетах великих представителей еврейского народа запечатлены достижения общечеловеческой культуры. Эти личности в высших проявлениях философии, науки, искусства в полном смысле слова творили мир. Своим интеллектом, волей, энергией, талантом они разрушали традиционное, косное пространство устоявшейся культуры. Многие из них, как подвижники, осуществляли свою миссию через самопожертвование и духовную работу, преодолевая ограниченность мира культуры.
Каждый выбирает для себя —
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает для себя.
(Ю. Левитанский)
Одной из самых влиятельных книг человечества стала Библия. Евреи сумели первыми создать логически выстроенную историю. Еврейство — это во многом воля, пассионарность, национально-религиозное самоощущение. Поставленные историей и окружающим миром в экстремальную ситуацию, они демонстрировали чудеса выживаемости, силу духа и интеллектуальной мощи. Генрик Ибсен так объяснял феномен сохранения евреями своей индивидуальности: «Благодаря чему иудейский народ, эти аристократы человечества, сохранил свою индивидуальность, свою позицию, вопреки всякому насилию? Благодаря тому, что ему не приходилось возиться с государственностью. Оставайся он в Палестине, он давно бы погиб под тяжестью своего государственного строя, как и все другие народы». Аристократизм евреев, о котором упоминает великий драматург, — это их социальная неприкрепленность, в некотором роде свобода. В тысячах и тысячах еврейских семей звучал монолог, обращенный к враждебному для них внешнему миру: — Вы считаете нас людьми второго сорта! Вы обрекаете нас на нищету и беспросветное существование!
Но мы не желаем быть такими. Мы не будем гнушаться никакой работы. Мы будем закройщиками, портными, менялами, лавочниками, но наши семьи не умрут с голоду. Наши дети получат образование, даже если мы будем себе во всем отказывать. И ребенок будет с утра до ночи играть на скрипке или думать над шахматами, чтобы выбиться в люди и жить лучше, чем его родители.
Общеизвестно особое отношение евреев к образованию, учености, знаниям, что во многом обусловлено культурно-религиозной традицией. Иудаизм связывает высокий престиж образования с тем, что знание есть высочайшее и чистейшее блаженство, которого чело- век может •добиться уже в этом, земном мире. Учение— занятие сугубо нравственное. Талмуд говорит: «Ученый важнее царя Израиля, потому что, если ученый умрет, некому будет его заменить, а если умрет царь, то весь Израиль может его заменить». В средне- вековье, когда население европейских стран было почти поголовно неграмотным, большинство евреев умели читать и писать. В XII веке один из монахов свиде- тельствовал: «Еврей, даже бедный, у которого десять сыновей, всех учит грамоте, и не только сыновей, но и дочерей, и не для выгоды, а для познания закона Божия».
Ученость в иудаизме приравнивается к богатству и успеху. Лишь тот заслуживает уважения, кто благодаря своему упорному труду, способностям, усердию сумел добиться благополучия и успеха. Но даже если ученый человек остался беден, он достоин всяческого уважения за то, что сумел приобрести знания. У евреев всегда считалось почетным породниться с ученым человеком, жениться на его дочери или взять в мужья его сына. Обида, нанесенная ученому, являлась тяжким грехом. Обидеть такого человека значило оскорбить Слово Божье. Сохраняемое во многих семьях и поныне традиционное уважение к образованности, пиетет к мудрецам объединяет евреев не в меньшей степени, чем язык, мироощущение и образ жизни.
Труд, творчество, деятельность в иудаизме рассматриваются как призвание. Человек, реализуя свою миссию в земном мире, стремится к успеху. Он не может отречься от своего Я, но в силах подчинить свою индивидуальность общезначимой деятельности. И чем 60лее одарен человек, тем больше пользы он приносит обществу и сам, в свою очередь, становится выше как личность. Культурно-религиозная традиция еврейства формировала веру в то, что успех зависит от самого человека. Достижение целей, которые человек поставил перед собой, вместе с тем означало реализацию духовных устремлений.
Скитания и лишения закаляли характер, формировали повышенную способность к выживанию. Торговля, ростовщичество, финансы — сферы, приносящие наибольшие доходы, со временем становятся как бы «еврейскими» профессиями. Это обстоятельство и стало во многом основой для формирования в европейском сознании образа «жадного и хитрого» еврея, который грабит «добрых христиан».
Надежда на то, что когда-то все изменится к лучшему, желание переделать мир, который к ним так несправедлив, становится неотъемлемой частью еврейской культурно-исторической традиции. Сознательно или интуитивно опираясь на нее, эту традицию, Альберт Эйнштейн, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Норберт Винер — эти величественные фигуры новаторов планетарного масштаба, меняли наше восприятие мира и увеличивали власть над ним, трансформировали мышление. Если Христофор Колумб открывал новые миры в географическом пространстве, то Лев Троцкий творил «новый мир» в социальной реальности. Франц Кафка, Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Иосиф Бродский создавали новую философско-художественную модель отношений человека и общества. Они несли людям знание о том, что мир совсем не таков, каким он выглядит. Рушился прежний миропорядок, создавалась новая Вселенная.
По оценке Пола Джонсона, евреи были не просто новаторами, но лицом всего человечества, высвечивая в чистом виде все те дилеммы, которые неизбежно встают перед нами. Открытие Эйнштейном того, что пространство и время являются относительными, а не абсолютными измерениями, равноценно по воздействию на наше восприятие мира открытию перспективы в искусстве, общая теория относительности изменила ньютоновскую картину мира. Фрейдовский психоанализ и марксизм до сих пор остаются весьма влиятельными системами мысли.
История евреев всегда была историей их взаимодействия с окружающим миром культуры. Великие евреи формировались в пространстве той национальной культуры, где они появились на свет и состоялись как личности. В 1922 году Лондонский университет вместе с Еврейским историческим обществом чествовал пять «еврейских философов» — Филона Александрийского, Маймонида, Спинозу, Фрейда и Эйнштейна. Все они сформировались в русле определенной национальной культуры: греческой, немецкой и т.п. Поэтому не имеет смысла отрывать Иосифа Бродского, Марка Бернеса или Леонида Утесова от русской культуры, Жака Оффенбаха или Джакомо Мейербера — от французской, Амедео Модильяни или Чезаре Ломброзо — от итальянской, Элиаса Канетти — от австрийской, Имре Кальмана — от венгерской. Все они — носители культуры общечеловеческой. Особенно ярко проявилось это, пожалуй, в науке, самой космополитичной сфере человеческой деятельности. Недаром из почти пятисот ученых и писателей, которым в XX веке присуждалась Нобелевская премия, каждый шестой — еврей.
Мировоззренческая основа еврейства
При всей вовлеченности евреев в общемировой культурный процесс всегда заметную роль в их жизни и деятельности играли культурно-религиозные традиции, система ценностей. С момента рождения и до своей смерти человек формируется и развивается в пространстве определенной культуры. Человеческая личность и индивидуальность обусловлены традицией, религией, языком, воспитанием, образованием, обычаями. Еврейская идентичность всегда строилась на общности языка, религии, традиции и культуры. Но существенную роль при этом играл негативный опыт трагического прошлого, выступающий мощным консолидирующим фактором. Пожалуй, прав был Бердяев, когда писал: «Евреи — народ особый, исключительно религиозной судьбы, избранный народ Божий, и этим оп- ределяется трагизм их исторической судьбы. Избранный народ Божий, из которого вышел Мессия и который отверг Мессию, не может иметь исторической судьбы, похожей на судьбу других народов».
По словам Голды Меир, быть евреем — значит не только соблюдать религиозные установления, главное — гордиться тем, что принадлежишь к народу, в течение двух тысяч лет сохранившему свое своеобразие, несмотря на все мучения и страдания, которым он подвергался. Особый духовно-интеллектуальный склад, который культивировался в еврейских семьях, прежде всего в городской среде, особое отношение к знаниям и культуре — именно это отличало их индивидуальность и самобытность.
Евреи появились в пространстве Истории сравнительно поздно. Истоки этого народа восходят к временам патриархов Авраама, Исаака и Иакова, то есть к XVIII — XVII векам до н.э. Египет в тот период был уже мощным государством, имеющим великую культуру. В Месопотамии начал возвышаться Вавилон. В Финикии и Ханаане возникли первые города-государства. Но все они со временем стали достоянием истории, исчезнув с поверхности земли. А маленький пастушеский народ, превратившись в вечного странника, навсегда вошел в мировую историю и культуру через Библию. Именно образ Бога в еврейской культуре является, пожалуй, ключом к пониманию иудаизма и еврейского мироощущения. Постоянная прочная связь иудаизма с божественными установлениями выделила евреев среди прочих этнических и религиозных общностей.
Эрнест Ренан так пишет об эпохе патриархов: «Призвание Израиля еще не стало очевидным. На челе этого народа нет еще вполне ясного знака, который отличал бы его от соседей и сородичей. Но детство избранных полно смутных предвестий и предзнаменований, которые становятся понятными только впоследствии». Традиционно считается, что приблизительно в 1250 — 1230 годах до н.э. Бог явился евреям у горы Синай на пути из Египта в Землю Обетованную и заключил с ними Завет (союз). После Синая на смену племенному делению израильтян постепенно приходит осознание себя единым народом, когда все племена (колена) стали подчиняться новой конституции — единому закону, который, зародившись приблизительно во II веке до н.э., окончательно сложился в эпоху Талмуда (с 332 г. до н.э. до 430 г.).
Впоследствии рассеянные по всему свету евреи никогда не теряли собственного культурного облика и веры в свое призвание. Как говорит Георгий Гачев, «еврейство замыкается в себе, внутри него — любовь, нежность, мягкость, взаимопомощь». Как же удалось им сохранить свой национально-религиозный образ жизни и свою сущность на протяжении множества веков, пребывая на положении меньшинства в зачастую враждебном окружении христианского или мусульманского мира? Прежде всего потому, что в еврейском обществе иудаизм был основой общенародной жизни и мировоззрения. И это, в сочетании с мессианской мечтой о реализации коллективного предназначения Израиля, пропитывало всю общинную жизнь евреев даже в самые тягостные времена их существования. Немаловажную роль играли и общественные санкции общины.
613 заповедей иудаизма, обеты, традиции, неукоснительно поддерживаемый образ жизни — все это предохраняло от распада еврейство, которое существовало среди чуждых народов. По замечанию Гачева, еврейство свернуло себя с земли — в Книгу и вернуло себя в родную плоть и кровь: в чистоте пронести через множество поколений особое семя и ген. Важную роль в консолидации евреев играла синагога, которая в диаспоре всегда выступала как оплот еврейства в среде иноверцев. Разбросанные по всему свету, но объединенные синагогой и раввинистической традицией, евреи сопоставляли себя с народами тех стран, в которых они обосновались, что способствовало более четкому осознанию своих культурных, религиозных и бытовых особенностей. Так что их святость определялась не отдельными людьми, а национально-религиозной культурой, которую евреи усваивали уже в детстве.
В конце XVIII века начинается период еврейского просвещения — Гаскалы, что влечет за собой эмансипацию евреев по всей Европе. В результате новых либеральных тенденций в Европе и ослабления христианских религиозных идей евреи обрели возможность выйти׳ за пределы своей общины и стать гражданами новых национальных государств. Историческая концепция универсальной еврейской нации теряет свою значимость, становится все более расплывчатой. Отныне евреи оставались таковыми по собственному выбору, на основе субъективных ощущений, а не в силу того, что их кто-то обязывал придерживаться еврейских ценностей и идеалов. По замечанию Бориса Парамонова, ассимиляция есть прямое нарушение воли Бога. Ассимилированный еврей — это еврей богооставленный. Если ассимилированный еврей сохраняет гений, он становится русским, польским, французским гением.
В условиях Гаскалы евреи все активнее вовлекались в окружающий мир. И возникала дилемма, для евреев особенно острая и болезненная, — они стремились стать личностью, а образ жизни, религия загоняли их назад, в мир традиционного существования. Выйти из черты оседлости — значит влиться в окружающую жизнь, но в то же время это означает перестать быть евреем. Включаясь в самые разнообразные сферы жизнедеятельноети и творчества, евреи одновременно становились творцами уже не только еврейской, но и национальной культуры тех стран, где они проживали. Гачев по этому поводу пишет так: «Немецкий композитор Феликс Мендельсон-Бартольди, немецкий национальный поэт Генрих Гейне, космополитический мыслитель крещеный еврей Карл Маркс... Дизраэли, Бергсон, Эйнштейн, Фрейд, Пастернак, Троцкий, — какое им и всем дело до их еврейства по происхождению? Они в этом смысле совершенно денационализировались — и были по- терей, беглецами, блудными детьми, уродами в семье».
Национальный характер евреев формировался веками, в том числе и под влиянием традиций стран, где они жили или живут сейчас. Все древние народы растворились в тумане истории. Евреи сумели сохраниться, ибо так пожелал Господь. А вера в него как историческую силу, вне зависимости от того, существует Господь или нет, превращается в движущую силу истории. Правда, многие исследователи сомневаются, что современные евреи восходят к тому же генеалогическому древу, что и их далекие предки. Ведь где бы евреи ни оседали, они неизбежно смешивались с местным населением. Многие, в нарушение запрета, заключали браки с неевреями. Но и сегодня значительное число иудеев предано своей древней религии. Евреи в основе своей всегда верили в то, что они — народ особый, избранный Богом. Они верили в это так страстно и истово, что стали им. Эти бродяги по диким полям истории сами сотворили сценарий своей истории и своей судьбы и твердо следуют ему.
Антисемитизм и консолидация еврейства
Встреча двух разных миров в истории культуры неизбежно обрастает непониманием, недоразумениями и мифами, когда формируются стереотипы для любви и для ненависти. Евреи слишком хорошо помнят о ненависти, объектами которой они были, и поэтому они всегда болезненно реагируют на проявления антисемитизма. Вместе с тем многие полагают, что именно погромы и ненависть сохранили евреев евреями, в противном случае они растворились бы в культуре тех народов, среди которых жили.
Если верно, что характер человека формируется в детстве, то погромы и ненависть стали одним из определяющих факторов в становлении духовного мира и жизненного ощущения еврейских детей. Голда Меир пишет: «Со страхом связано одно из самых отчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне было тогда года три с половиной-четыре. Мы жили в Киеве, в маленьком дойе, на первом этаже. Ясно помню разговор о погроме, который вот-вот должен обрушиться на нас. Конечно, я тогда не знала, что такое погром, но мне уже было известно, что это как-то связано с тем, что мы евреи, и с тем, что толпа подонков с ножами и палками ходит по городу и кричит: «Христа распяли!» Они ищут евреев и сделают что-то ужасное со мной и с моей семьей».
Еврейская история полна примеров гонений. Один из первых — судьба еврейской общины в Александрии Египетской — торговом и интеллектуальном центре эллинистического мира. Расположенный к евреям Александр Великий даровал им те же права в этом городе, что и грекам. Именно тогда евреям досталась завидная роль экономических посредников. Еврейская община преуспевала. Но после захвата римлянами Греции снова началось преследование евреев. То же происходило в завоеванной арабами Испании, где по своим богатствам испанские евреи не уступали самому халифу.
Народы, среди которых евреи жили, нередко высоко ценили их трудолюбие и энергичность и предоставляли им возможность добиться успеха, опираясь на свои достоинства. Однако зачастую и презирали их за культурную замкнутость и изолированность или же зави- довали их успехам. Почему евреи подчас воспринимались как «кошмар наций»? Мартин Бубер писал: «До сих пор нашего существования хватало лишь на то, чтобы сотрясать троны идолов, но не на то, чтобы воздвигать трон Господень. Именно в силу этого наше существование среди народов столь таинственно. Мы претендуем на то, чтобы научить абсолюту, но в действительности лишь говорим «нет» другим народам, или, пожалуй, мы сами являем собой такое отрицание и ничего больше. Вот почему мы стали кошмаром наций».
Эрнест Ренан, пытаясь понять корни антисемитизма, рассуждает так: «Еврей хотел пользоваться преимуществами нации, не будучи нацией, не участвуя в тяготах, лежащих на нациях. Ни один народ никогда не мог этого терпеть. Несправедливо требовать себе прав члена семьи в доме, который вы не строили». Со времени средневековья можно уже говорить о возникновении антисемитизма. Обостряются экономические и социальные противоречия между местным населением и еврейскими общинами. Еврейство уже тогда являло собой своеобразный прототип будущего буржуазного общества — капиталисты, торговцы, ремесленники. Начинается массовая депортация евреев: Англия — 1290 год, Франция — 1394 год, Испания — 1492 год.
В чем причины гонений на евреев? Рассеянные по миру, они повсюду оказывались в меньшинстве, исповедуя «странные» обряды и обычаи. По Б. Парамонову, «еврей в диаспоре — загадка и тайна человечества. Если угодно, в истории есть только одна тайна, и эта тайна — еврей». Обостренное чувство национальной принадлежности, память о прошлом, закрытая религиозная и социальная структура — все это помогало евреям выжить. Но именно в силу этого они нередко и становились объектом ненависти и погромов.
В условиях притеснений и периодических взрывов антисемитизма еврейство через века пронесло в душе надежду на то, что когда-нибудь все изменится к лучшему, желание перестроить мир, который так к ним несправедлив. Даже отказавшись от иудаизма, эмансипированные евреи так и не смогли встать наравне с соотечественниками-христианами. Они по-прежнему периодически ощущали антисемитизм. В этих условиях и зародился сионизм как коллективная реакция на страдания евреев.
У его истоков стояла группа молодых еврейских интеллектуалов. Писатели, журналисты, историки, воспитанные на ценностях еврейской культуры и ощущавшие «вечное одиночество» еврейства, — они вознамерились/изменить наконец-то судьбу своего гонимого народа. Именно тогда, в конце XIX века завершается процесс правовой эмансипации евреев в западноевропейских странах. Начинается их вхождение в европейскую культуру и политическую жизнь. Ответом на это стала новая волна антисемитизма. Именно тогда отцы сионизма переосмыслили религиозно-мистическую идею в рациональный проект. Лидером движения становится Теодор Герцль.
В августе 1897 года в Базеле на Первом всемирном сионистском конгрессе была создана Всемирная сионистская организация. Большинство делегатов конгресса прибыли из России, где еврейский вопрос был особенно острым. Нынешний Израиль является воплощением идеи и веры евреев. Израиль — это Земля Обетованная. Политически существование этого государства опирается на резолюцию Организации Объединенных Наций, этически — на тяжкий урок Холокоста.
Своим возвращением в Палестину и созданием государства евреи повторили исход из Египта, перейдя из рабства в свободу и наполнив историческое предание особым смыслом. Но переход этот дается им не менее трудно и болезненно, чем выход из египетского рабства.
Моисей: освободитель и законодатель
Только тот, кто вверяет себя одновременно духу и земле, вступает в союз с вечностью.
Мартин Бубер
Моисей — ключевая фигура еврейской истории. Если Авраам был праотцом еврейского народа, то Моисей стал творческой силой, сформировавшей его. Пророк и вождь, человек мощной воли и несокрушимой энергии, он был способен на гнев и безжалостную решимость, но в то же время обладал высокой духовноетью, был великим пророком и общался с Богом.
Слово «пророк», несущее в себе магию звука, рокот времени и ощущение тайны, возвращает нас в далекое прошлое, когда экзальтированные люди в хижинах, на площадях, перед дворцами осуждали служение наживе и сладострастию. Пророки были ясновидцами и верил и в конечное торжество Божественной истины. Дар пророчества — это видение, ставшее образом.
Библия свидетельствует, что Моисей сорок лет водил по пустыне свой народ, чтобы выросло поколение свободных и богобоязненных людей. Почему все эти годы люди шли за ним? Насколько были они готовы к свободе? Моисей принес с горы Синай заповеди Бога и дал их детям Израиля, но не был ли это переход из внешней несвободы во внутреннюю? Жил ли на самом деле Моисей? Ведь нет конкретных исторических данных, подтверждающих его существование, кроме традиции. Но кто знает, быть может, традиция это и есть историческая правда!?
Моисей — персонаж Библии, а Микеланджело воплотил его зримый облик. В конечном счете определяющее значение имеет не то, что говорит или делает библейский Моисей, а то, во что превращают его деяния и его слова последующие поколения людей, как их воспринимают и объясняют, каким в итоге становится образ жизни и способ мышления под воздействием образа Моисея, его слов и его деяний. Образ Моисея становится символом и гарантией определенного образа жизни и мышления.
Именно Моисей был одним из тех людей, которые создавали иудаизм как религию. В конечном итоге на основе иудаизма сформировались две мировые религии: ислам и христианство. Моисей сумел повернуть колесо Истории столь кардинально, как если бы он действительно общался с Богом. Когда произведение искусства воздействует на людей столетиями, его называют вдохновенным. То, что Моисеев закон живет до сих пор, наверное, само по себе не доказывает боговдохновенности Моисея. Однако жизнестойкость Закона позволяет считать его одним из факторов истории.
Американская Декларация независимости, французская Декларация прав человека и гражданина или английская Великая хартия вольностей — это всего лишь пожелтевшие листки бумаги, лежащие в музеях под стеклом. Но их идеи живут в реальной действительности, в мироощущении, в характере общественного и государственного строя, в мышлении и поведении людей. Так и образ Моисея, его духовное наследие живут в сознании, душах и чувствах миллионов людей.
Моисей — это не просто национальный освободитель и великий законодатель. Моисей — это культурный герой. Мы живем одновременно и в реальном, и в идеальном мире, который творим из собственных мечтаний, размышлений, надежд, устремлений. В нашем сознании и наших ощущениях сосуществуют реальность и вымышленные образы. Мы создаем идеальный художественный, поэтический или религиозный образ того, что имело место в прошлом. Являются ли эти идеальные миры и образы истинными? Во всяком случае, мы часто страстно желаем веры и убежденности, а не проверенного, истинного знания! Американский историк Пол Куртц пишет: «Религиозные системы, со3данные человеческой культурой, являются творческим продуктом воображения, замешанного на мечтах и слезах людей. Хотя эти системы и не истинны, они живут до сих пор, поскольку удовлетворяют нужды, лежащие в глубине человеческой психики. В этом смысле они действенны». Слова эти в полной мере применимы и к образу Моисея.
Идея монотеизма прорастала из смутных чувств и идей маленького народа, вечного странника. Только на единого и всемогущего Бога мог он надеяться. Постепенно духовные вожди и пророки формировали в сознании народа образ Господа. Во все времена, во всех культурах ведущая тема — познание человеком своего бытия и места в мире, стремление постичь тайну своей причастности к миру как бесконечному целому. Как бы далеко в глубь веков мы ни заглянули, всегда можно найти вопросы и темы, позднее получившие название «вечных». Лирика Древнего Египта восходит ко II тысячелетию до н.э. — уже в ней намечены основные философские темы: сетования на неумолимый бег времени, размышления над тем, для чего человек приходит в этот мир, если жизнь так кратка и ничтожна, осознание собственной смертности и стремление переступить через это. Древние евреи все свое творчество вложили в Библию. Она одновременно эпос и поэзия, история и философия, право и этика. Из Библии черпали свои сюжеты художники и мыслители, на материале библейских сюжетов развивались вечные темы. Человек сознает неумолимость своей кончины и трагизм существования. И хотя жизнь его может быть полна смысла, в подсознании всегда кроется отчаяние, неумолимый страх перед уходом в Вечность. Подавленный бренностью обыденного существования, человек всегда стремится в другой мир. Ноги его стоят на земле, но душа тянется в небеса. Жажда божественного сильна и неискоренима. Жизнь, несомненно,— источник счастливого существования, радости, творческого вдохновения. Но, тем не менее, для множества людей она неинтересна и безобразна, полна мучений и страданий. Люди оплакивают прошлое, не принимают настоящее и страшатся будущего. На протяжении всей истории человечество сопровождают ложные надежды и напрасные мечтания, горе и страдания, поражения и предательства. Молитвы, обращенные к Богу, не спасают человека от угасания, а лишь свидетельствуют о его неизбывном желании избежать смерти. Но люди всегда стремились найти пути к потустороннему, верили в силы, от которых зависит судьба человечества и Вселенной.
Фигура Моисея как создателя монотеистической религии величественна и человечна. Он предстает на страницах Библии колеблющимся и неуверенным в себе, ошибающимся и вновь встающим на путь истины. Временами это одинокий, обессилевший человек, согнувшийся под бременем тяжкой ноши, которую он взвалил на себя и от которой мечтает освободиться. И вместе с тем Моисей, пожалуй, единственный из евреев, кто оставил столь заметный след в истории древнего мира. Греки чтили его наравне со своими богами и героями.
Как известно, существует пять книг, связанных с именем Моисея; это — Пятикнижие Моисеево, или Тора («Учение»), Вплоть до II века до н.э. книги Моисея рассматривались как одна книга, однако затем ее разделили на пять: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Долгое время авторство Моисея не подвергалось сомнению. Однако в XII веке еврейский философ Ибн Эзра высказал мнение о том, что не все книги написаны Моисеем. В XVII веке Барух Спиноза заявил, что автором Пятикнижия был книжник Ездра, живший в VI веке до н.э., который «собрал истории из разных авторов, а иногда только просто списал и оставил их потомкам», что и составило Пятикнижие. В XVIII веке X. Виттер и Ж. Астрюк независимо друг от друга высказали предположение, что в основу Пятикнижия положено несколько источников. Многие современные исследователи разделяют эту точку зрения, но обращают внимание на то обстоятельство, что в основу Пятикнижия положен некий текст, составленный Моисеем. Возможно, это первый вариант Декалога, а все последующие законодательные установления, вошедшие в Пятикнижие, представляют собой расширенные комментарии к нему.
Египетское рабство
В Библии повествуется о том, как в голодные годы евреи из рода Иакова (Израиля), внука Авраама, пройдя пустыню, переселились в Египет. Это были двенадцать сыновей Иакова с семьями, всего около семидесяти человек. Со временем эти семьи разрослись в роды («колена»). Каждое из колен именовалось по имени того из сыновей Иакова, от которого оно произошло. Считается, что это переселение произошло около 1700—1680 годов до н. э.
Библия повествует о пребывании евреев в Египте, где они провели более четырехсот лет. Со временем их положение ухудшилось. Историки обычно связывают это с тем, что около 1600 года до н.э. в Египте была свергнута династия гиксосов-семитов, которые завоевали страну за несколько веков до этого. После их свержения здесь утвердилась национальная Фиванская династия. Ненависть коренного населения к своим бывшим властителям-семитам распространилась и на израильтян, которых со временем превратили в рабов. Произошло это, видимо, в правление фараона Рамзеса II (1301—1234 гг. до н.э.). То было время большого строительства. Рамзес пригонял на общественные работы огромное количество рабов и военнопленных. Он приказал, чтобы израильтяне также участвовали в этих работах.
Библия рассказывает о том, что израильтяне жестоко притеснялись египтянами. Безмятежное существование поселенцев Гесема было нарушено. Было похоже, что фараон, обеспокоенный ростом численности евреев, решил искоренить это племя. Израильтяне помнили, что они пришли сюда с Востока и с тоской вспоминали о своей родной земле. Но Ханаан находился под управлением египетских ставленников и идти евреям было некуда.
В 1234 году до н.э., после шестидесяти лет правления, Рамзес II умер. Трон занял его тринадцатый сын Менептах, которому было уже пятьдесят лет. При нем гнет еще более усилился. Именно тогда среди израильтян начинает распространяться слух о неизвестных людях, которые призывали народ покинуть «Дом рабства» и идти в пустыню поклониться Богу Авраама. Это были левиты — израильское племя, тесно связанное с египтянами. У большинства из них были египетские имена. Вождя их звали Моисеем.
О левитах и их предводителе ходили самые разнообразные слухи. Одни считали его магом, другие — египетским жрецом, отстраненным от должности, третьи — членом царской фамилии. В дальнейшем в литературе личность Моисея также подается весьма неоднозначно. Так, Зигмунд Фрейд считал, что тот был знатным египтянином, возможно, членом царской семьи. Будучи приверженцем религии Эхнатона, Моисей решил создать новую империю с новым народом, которому можно было бы даровать религию, отвергнутую египтянами. Именно у Эхнатона, полагал Фрейд, Моисей взял идею единого Бога. Однако в этом подходе не было ничего нового. Еще языческие авторы рубежа нашей эры полагали, что Моисей по происхождению был египтянином. Об этом писали Манефон, Гекатей, Страбон, Тацит и другие. Так, Страбон свидетельствует: «Хотя они (обитатели Иудеи) являются смешанными по своему происхождению, господствует общепринятое мнение, что египтяне были предками тех людей, которые ныне называются иудеями. Некий Моисей, египетский жрец, наместничал над Нижней провинцией. Но он был недоволен своей жизнью и ушел оттуда в Иерусалим в сопровождении многих людей, поклонявшихся тому же божеству».
Некоторые авторы пишут о том, что Моисей был посвящен в «египетскую мудрость», т. е. во все тайнства религиозного миросозерцания Египта, и вложил ее в свою книгу. По свидетельству Гераклита, египетские жрецы владели тремя языками: говорящим, обозначающим и скрывающим, т.е. простым, символическим и иероглифическим. Моисей, видимо, написал свою книгу на священном языке, понять который невозможно без знания ключа. Однако этот ключ был утрачен в процессе многих переводов. То же, что остал ось в Библии, — это лишь внешняя оболочка Истины.
В Библии повествуется об исходе израильских племен из Египта. Ведущая роль в этом отводится Моисею, особое призвание которого подчеркивается в рассказе о его рождении. Фараон приказал бросать в реку всех еврейских младенцев-мальчиков, однако мать Моисея укрывала его три месяца, а потом сплела корзину из тростника и оставила в ней младенца на берегу реки, приказав старшей дочери присмотреть за братом. Младенца нашла дочь фараона и взяла к себе во дворец, дав ему имя Моисей (Моше), что значит «вынутый из воды». Пока младенец подрастал, кормилицей его была мать, которую дочери фараона предложила сестра Моисея. Хотя Моисей рос в царской семье, он не забывал о рабстве и страданиях своих соплеменников. С возмущением наблюдал он, как их притесняют и оскорбляют. Однажды Моисей, не справившись с собой, убил надсмотрщика-египтянина, избивавшего израильтянина, и вынужден был бежать.
Он поселился среди еврейского племени мадианитян, взяв в жены одну из дочерей их вождя Иофора по имени Сепфора. Именно здесь с Моисеем произошел таинственный переворот, превративший его в вождя и пророка. Библия рассказывает, что однажды он зашел далеко в горы и оказался в каком-то древнем святилище. Здесь Моисей увидел терновый куст, который был охвачен пламенем, но не сгорал, и услышал из огня голос Бога, призвавший его на служение: «Я — Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я увидел страдания моего народа в Египте и услышал стоны его, и вот Я хочу избавить его от неволи египетской и ввести его в землю Ханаанскую. А теперь иди: я пошлю тебя к Фараону и ты выведешь Мой народ из Египта». Смущенный и испуганный, Моисей пытался уклониться, но голос властно требовал, чтобы он шел как вестник Неба к своему угнетенному народу и избавил его от рабства.
Около 1230 года, в третий год правления фараона Менептаха, Моисей появляется среди израильтян, живущих в Египте. Вместе со своим братом Аароном он сообщил им, что Бог хочет освободить еврейский народ от ига. Так началась борьба Моисея за народ и веру. Идея монотеизма вызревала у евреев в египетском плену. Здесь были чужие боги, и покориться им означало отдать победителям не только тело, но и душу. Свои же боги были далеко. Очевидно, именно обстановка плена постепенно превратила неопределенного и невидимого верховного Бога, стоящего до этого просто над другими богами и божествами, в единственного близкого евреям Бога. Моисей, увидевший этот маленький огонек веры, сумел раздуть его в пламя, возвысив тем самым маленький народ в его собственных глазах, дав ему силу выстоять. Только на такого, единого и всемогущего Бога мог надеяться маленький народ, оторванный от родной земли и своих богов.
Конечно, в вопросе происхождения монотеизма немало неясного. Недаром Зигмунд Фрейд вопрошал: как мог крохотный и бессильный народ претендовать на роль любимца всесильного Бога? Однако когда речь заходит о моменте зарождения религии, о проникновении человека в Божественную Тайну, к историческим свидетельствам обращаться бесполезно. Александр Мень был прав, когда говорил, что историку здесь приходится молчать, поскольку на пороге высших миров его методы и средства исследования бессильны. Что может сказать он об источнике Откровения, какие камни или письмена достоверно расскажут о том, что происходило в тайниках человеческой души?
Исход
Весенним утром в пятнадцатый день месяца Нисана израильтяне двинулись в путь. Во главе шел Моисей. Люди собирались столь поспешно, что даже не было времени испечь хлеба на дорогу, удалось только на скорую руку приготовить пресные лепешки. В память об этом позднее у евреев сложился обычай в течение семидневного праздника Пасхи (Песах) употреблять в пищу именно такие пресные лепешки — мацу. В Библии говорится, что численность покинувших Египет мужчин составляла шестьсот тысяч человек, то есть с учетом женщин и детей ушло более двух миллионов человек. Днем впереди двигался облачный столб, у казывающий путь, а по ночам дорогу освещал огненный столб.
Фараон вскоре пожалел, что выпустил евреев и вместе с войском пустился за ними в погоню. Египтяне настигли ушедших возле Чермного моря (скорее всего, одно из Горьких озер, протянувшихся цепью между Красным и Средиземным морями). Увидев египетское войско, израильтяне испугались. Многие из них стали роптать на Моисея: «Зачем ты нас вывел из Египта? Разве там нет могил, что ты нас взял сюда, чтобы погубить в пустыне?» Но вождь ободрил малодушных: «Не бойтесь, вы сегодня же увидите чудесную помощь Божью». И действительно, море вскоре расступилось и израильтяне прошли по дну, не замочив ног. Однако когда за ними по дну моря двинулись египтяне, море сомкнулось и те утонули. Это повествование о переходе через море содержит две традиционных версии. В соответствии с одной из них, Бог при помощи восточного ветра поднял море стеной и тем самым защитил евреев, бежавших от войск фараона. Согласно другой, Моисей коснулся моря своим жезлом, оно расступилось и пропустило израильтян.
Так состоялся Исход. Причины его не следует сводить только к экономическим тяготам, тем более, что в Библии говорится — моисеево племя имело возможность кормиться из «египетских котлов с мясом». Это был акт религиозного и политического самоопределения и сопротивления. Евреи отвергали египетский пантеон богов, весь его дух и символику. Вполне вероятно, что египетское рабство, исход и последующие блуждания в пустыне касались только части евреев. Но в любом случае эти события имели важное значение в этническом и культурно-религиозном развитии евреев. Впервые была продемонстрирована во всем величии воля единого Бога, его способность избавить еврейский народ от рабства и дать ему Землю Обетованную.
Во всех этих событиях много неясного, но вспомним слова Меня, о том, что историки здесь бессильны. И вряд ли когда-либо удастся ответить на многие вопросы, что задают себе уже несколько веков исследователи. Кто такой Моисей? Существовал ли он на самом деле? Когда состоялся Исход? Где на самом деле происходили события, описанные в Библии как Исход?
Кого вывел Моисей из Египта — евреев, какой-либо иной народ или же «разноплеменную толпу»? Сколько их было, покинувших Египет под предводительством Моисея?
Действительно, в Библии сказано, что численность израильтян, ушедших из Египта, составляла шестьсот тысяч человек мужского пола, то есть всего их могло быть около двух миллионов с женщинами и детьми. Многие историки полагают, что имеются в виду не тысячи, а роды и семьи; отсюда выводится цифра в шестьсот родов, то есть примерно три-четыре тысячи человек. Далее, где происходили события, описанные в Библии, как Исход? Здесь также нет ясности. Почему, к примеру, Земля Ханаанская, то есть Палестина, описывается как страна изобилия, хотя, как известно, там в основном пески и каменистые горы? Недаром, анализируя Библию, современные авторы А. Фоменко и Г. Носовский под Чермным морем понимают Черное море, а странствия евреев связывают с Балканами. Конечно, это весьма экзотическая версия, тем более, что они относят Исход к XV веку нашей эры. Но ведь и другие историки уже немало столетий спорят по поводу Чермного моря или того, погиб ли фараон вместе с войском в морской пучине? Хотя известно, что правящий тогда в Египте фараон Менептах оставил в наследство историкам для размышлений высеченный на каменных стелах победный гимн с такими словами: «Враги повергнуты и просят пощады... Племя Израиля обезлюдело, семени его больше не стало». Видимо, он был уверен, что израильтяне обречены на неминуемую гибель в пустыне.
Стоит упомянуть и о том, что языческие авторы, именующие Моисея египетским жрецом, считали, что он был׳ изгнан из страны вместе с группой египтян и «чужаков», зараженных какой-то болезнью. Грек Гекатей, живший в IV веке до нашей эры, писал: «Когда в древнем Египте началась серьезная эпидемия, народ посчитал причиной беды гнев божества. Поскольку там проживало множество различных пришлых чужаков... местные жители посчитали, что пока они не изгонят чужеземцев, бедам не будет конца». Согласно ему, были изгнаны не только евреи, а все чужестранцы. Римский историк Помпей Трой утверждал, что египтяне обнаружили «чесотку» и «кожную инфекцию» и изгнали Моисея, вместе с другими зараженными из страны. По его мнению, впоследствии евреи жили обособленно не потому, что считали себя богоизбранным народом, а из-за страха перед заразными заболеваниями, и правило это Моисей превратил в обычай. В свою очередь, Тацит писал, что евреи воздерживаются от свинины, потому что зараза, поражающая это животное, «однажды перекинулась на них».
Эти мнения подтверждаются некоторыми косвенными свидетельствами из Библии. Так, в книге «Числа» говорится: «И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею — золото, серебро, медь, же- лезо, олово, свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось». Составители библейских законов очень боятся заразы, возможно, потому что хорошо помнят об эпидемии, поразившей их в Египте. Немало страниц в Библии посвящено детальному описанию заразных заболеваний. Тщательно перечисляется, сколько дней карантина должен выдержать больной, какой вид имеет язва, и т.д.
Но вернемся к Моисею библейскому. Итак, он осуществил свою главную миссию — вывел израильтян из Египта. Однако он должен еще довести их народ до земли Ханаанской и завоевать ее. Между тем Моисей начинает сознавать, какую тяжкую ношу он взвалил на себя. Он видит, что люди к борьбе не способны, они малодушны, трусливы, постоянно укоряют его за то, что он лишил их сытой жизни в Египте, подбив на исход. Моисей творит чудо за чудом и только так ведет за собой людей, постоянно готовых предпочесть сытое рабство беспокойной свободе. Ему нужны чудеса, чтобы удержать в людях веру в победу духовного огня, но сами чудеса — это его воля, порыв, горение.
Пока что решимость идти за Моисеем — это, скорее всего, решимость отчаяния. Он понимает, что с этими людьми Ханаан завоевать невозможно. С ним идет разноплеменная толпа, состоящая из рабов, пастухов, просто бродяг, ищущих приключений. Израильтяне должны расправить крылья после долгих лет рабства, обрести волю к борьбе, научиться уважать себя, то есть они должны превратиться в сплоченный и энергичный народ. Пока что люди просто вверили пророку свою судьбу, ибо Моисей сильнее этой пестрой толпы, он одержим верой, он полон энергии и преисполнен решимости.
Взаимоотношения Моисея и сынов Израиля пока никак не укладываются в схему взаимоотношений мудрого вождя и его подданных. Поэтому он как бы начинает создавать сам народ. Люди, им предводительствуемые, должны из дикого состояния перейти в историческое. Для этого им следует прежде всего осознать себя духовной общностью. Связь по рождению и обстоятельствам жизни должна переплавиться в родство общей веры, идеалов праведности и справедливости. В Моисее как духовном вожде и пророке сосредоточены духовные идеалы, внутренняя правда и нравственное могущество. Он привносит идею единого Бога и общезначимых нравственных принципов, создавая тем самым духовное пространство, в котором различные роды и племена объединяются в единый народ.
Закон
Постепенно, в ходе странствий по пустыне и нескольких столкновений с бедуинами, в израильтянах начинает пробуждаться чувство собственного достоинства, совершенно утраченное в египетском рабстве. Моисей, чтобы поддержать и укрепить это чувство, ведет народ туда, где впервые для него прозвучал голос Бога. Там, у святой горы он сможет вдохнуть в израильтян новый дух, придать им энергии и смелости.
Согласно книге Исхода, по прошествии трех месяцев евреи под предводительством Моисея достигли священной горы Синай и раскинули свои шатры у ее подножия. Здесь Моисей открывает народу свою цель. Он объявляет, что Бог освободил народ Израиля, чтобы заключить с ним союз, или Завет. Отныне евреи станут избранным народом. Русский философ Владимир Соловьев пишет: «Отделившись от язычества и поднявшись своей верой выше халдейской магии и египетской мудрости, родоначальники и вожди евреев стали достойны Божественного избрания. Бог избрал их, открылся им, заключил с ними союз. Союзный договор или завет Бога с Израилем составляет средоточие еврейской религии».
Библия рисует величественную картину заключения священного Завета. Люди покинули свои становища и подошли к самой горе С трепетом и страхом устремили они свои взоры на вершину, над которой вспыхивали молнии и грохотал гром. Тем временем Моисей стал подниматься на вершину, окутанную густыми облаками. Вскоре среди рокота грома и блеска молний с вершины Синая раздался могучий голос и народ услышал великие заповеди Бога. После этого Моисей оставался на горе Синай еще сорок дней и ночей, и Бог за это время передал ему законы и предписания юридического, нравственного и ритуального характера. Чтобы увековечить учение, полученное на Синае, пророк начертал главные десять заповедей на каменных досках (скрижалях), которые должны были отныне храниться как святыни. Остальные законы впоследствии были записаны в книге «Сефер-ха-Брит» (Книга Завета).
Однако пока Моисей находился на горе Синай, многие евреи отвратились от Бога, сделали из золота тельца и начали ему поклоняться. Увидев это, Моисей в ярости разбивает каменные скрижали. Это — первое трагическое столкновение пророка с народом. «Земное» и «небесное» еще не разделились. Людям трудно поддерживать в себе веру в Бога Моисея. Их рабское сознание требует зримости, а не пророческих символов и метафор, совершенно им не понятных. Если не руки, то хотя бы сознание должно «осязать» образ Бога. А Моисей говорит, что узрел Бога, но тут же утверждает, что человек видеть Бога не способен. Более того, он был единственным, кому дозволялось общаться с Богом, видеть его или слышать. Недаром Моисей приказал провести черту вокруг горы и наказал: «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти».
Увидев поклонение золотому тельцу, Моисей приказал своим соплеменникам из колена левитов убивать ослушавшихся. В ходе этой бойни погибло около трех тысяч человек. Похоже на то, что положение Моисея все еще очень непрочно. Его авторитет далеко не все- гда срабатывает, и тогда приходится прибегать к запугиванию. Нет организующего начала, отсутствует законодательство, обычное же право не действует, ибо слишком уж пестрый и разноликий народ находится под его предводительством.
На следующий день в лагере израильтян было непривычно тихо. Жестокость Моисея и левитов возымела свое действие. Моисей же вновь поднимается на гору и просит Бога о прощении. Библия говорит: «И возвратился Моисей к Богу, и сказал: «О Господь, народ сей сделал великий грех — сделал себе бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Бог прощает неразумных, и Моисей получает новые каменные скрижали. Но инцидент с золотым тельцом навел Моисея на мысль, что людям нужен символ Бога, некий внешний знак присутствия Божества. Моисей повелевает построить переносный шатер (скинию), который служил бы храмом. Вскоре такой шатер был готов, его назвали скинией Завета. В глубине его установили Ковчег Завета, в котором хранилась величайшая святыня народа — каменные скрижали с заповедями. Внешне ковчег представлял собой ящик из деревянных досок, обитый снаружи металлом. Отныне, когда народ снимался с места, левиты несли ковчег на шестах, продетых в его боковые кольца, а вокруг них обычно шли четыре отряда со знаменами.
Так евреи получили Декалог — десять заповедей, начертанных на каменных скрижалях. Они гласили:
1. Я — Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраим, из Дома рабства. Ты не должен иметь других богов пред лицом моим.
2. Ты не должен делать себе никакого изображения божества.
3. Ты не должен употреблять понапрасну имя Бога твоего.
4. Помни день субботы, чтобы праздновать его.
5. Почитай отца и мать.
6. Ты не должен убивать.
7. Ты не должен распутничать.
8. Ты не должен красть.
9. Ты не должен давать ложного свидетельства на ближнего своего.
10. Не желай дома ближнего твоего, ни жены его, ничего, что есть у ближнего твоего.
Эти заповеди Декалога обычно подразделяют на две группы: первые четыре, относящиеся к сфере божественного (отношений человека с Богом) права, и шесть, которые относятся к мирскому праву. Но вместе с тем они тесно связаны друг с другом, поскольку нормы взаимоотношений между людьми прямо вытекают и зависят от норм взаимоотношений людей с Богом.
По существу, Декалог Моисея стал первым нравственным кодексом. Его установки категоричны и подлежат исполнению без каких-либо оговорок и ограничений. Они подаются как прямые и первые указания Бога, — создателя мира и воплощения его высшей истины. Моисей связывает их выполнение с благодеяниями. Но благодеяния — не условие, а следствие. Моисей не говорит: если вы хотите жить, выполняйте заповеди. Он утверждает, — только выполняя их, вы сможете жить, иначе вы погибнете. Отечественный философ Абдусалам Гусейнов обращает внимание на то, что Декалог является и юридическим документом. Бог и Моисей обращаются не к отдельным людям, но ведут диалог с Израилем как целым. Задача их — вое- питание, наставление, возвышение народа. Центром всех усилий Бога и Моисея является государственное устройство Израиля, создание политического пространства для становления и развития еврейского народа. Моисей делает ставку не на свободу духа, а на принудительную силу закона, поскольку его основная задача — создание единого народа, сознающего себя через собственного Бога и установленные им законы.
Почти год провели сыны Израиля в Синайской пустыне, а затем двинулись к Ханаану. Путь был трудным и вновь начался ропот. К тому же левиты, всегда бывшие опорой Моисея, изменили ему. Брат Моисея Аарон, предвидя конец пути, видимо, решил за- хватить руководство племенем и стал открыто возмущаться тем, что Моисей стал единоличным вождем. Однако Моисей сумел успокоить недовольных. Векоре он направил на восток разведчиков, чтобы те разузнали, можно ли рассчитывать на успешное завое- вание Ханаана.
Вернувшись, разведчики хвалили Ханаанскую землю за ее изобилие, но и рассказали много страшного о жителях Палестины, их силе и могуществе. Израильтян охватила паника, переросшая в новый мятеж против Моисея. С большим трудом и на этот раз удалось ему удержать власть в своих руках. Он понял, что с этими людьми никогда не удастся завоевать Палестину. Надо ждать, пока подрастет новое поколение, воспитанное на свободе и лишенное духа рабства. И Моисей объявил израильтянам, что они будут еще сорок лет кочевать по пустыне до тех пор, пока не вымрет старшее поколение, вышедшее из Египта, пока не окрепнет молодежь, более мужественная и способная к завоеванию.
В течение этих долгих лет, странствуя по пустыне, воспитывая, наставляя и защищая свой народ, Моисей укреплял в нем сознание богоизбранности и приучал к нравственной, правовой и ритуальной дисциплине. Когда срок, назначенный Моисеем для скитаний по пустыне, подходил к концу, израильтяне стали приближаться к границам Ханаанской земли. Пророк вел уже новое поколение, выросшее в пустыне среди невзгод и испытаний, закаленное в столкновениях с бедуинами. Но самому ему уже не суждено было вступить в Землю Обетованную. Моисей чувствовал приближение смерти, — ему было уже сто двадцать лет. С вершины горы Нево всматривался он в просторы, раскинувшиеся за Иорданом. Все испытания остались позади. Он научил этих людей всему, дал им законы, превратил их из толпы рабов в народ. Ничто более не удерживало его на этой земле, долг, порученный Богом, исполнен, пророческая миссия исчерпана.
Ему было дано столько, что хватило бы на несколько человеческих жизней. Он знал роскошь царского двора и неприхотливую обстановку пастушеской палатки, испытал славу полководца и горечь изгнания, вкусил радость побед, ему поклонялись как посланцу Бога и ненавидели как самозванца. Перед смертью Моисей назначил себе преемника. Им стал Иисус Навин, на которого пророк возложил свои руки в знак передачи ему всей полноты власти.
Когда пророк стал прощаться с народом, все были полны печали. Одни сокрушались о том, что ждет их в будущем, словно впервые осознав, какого вождя и покровителя они лишались. Другие скорбели, что расстаются с человеком, заслуг которого так и не сумели оценить должным образом. Кончина Моисея была окутана тайной и никто не знал, где находится место его погребения. В течение тридцати дней израильтяне оплакивали кончину своего вождя, а затем двинулись на завоевание земли Ханаанской.
Моисей подготовил необходимые предпосылки для образования единого еврейского народа и создал национальную идеологию. Он считается отцом нации, заложившим религиозные, нравственные и законодательные основания исторического существования израильтян. Провозглашенная им религия покоится на монотеизме, нравственность — на любви к Богу и своему народу, законодательство — на принципе равного возмездия. Именно это — Бог, народ, справедливость, — основа учения Моисея.
Вполне возможно, что человеку с критическим складом ума и не подверженному влиянию Библии образ Моисея предстает в весьма непривлекательном свете. Он способен на хитрость, обман, вероломство, убийство. Он вспыльчив, коварен, мстителен. Нередко он управлял своей паствой только с помощью кровавого насилия. Будучи диктатором, он никому не позволял усомниться в своей власти. Многие предписания Декалога, с точки зрения современного морального сознания, лишены нравственности. Но для того времени их создание явилось несомненным прогрессом. Это были моральные прозрения, воплощающие, несмотря на все их противоречия, мудрость тогдашнего человечества, наследие цивилизованных обществ того времени. В Библии было сформулировано Золотое правило нравственности: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
Драматизм человеческого существования в том, что добро, любовь и милосердие внедряются в сознание очень медленно. Благородство учений Сократа и Платона не препятствовало их соотечественникам убивать, когда они считали это нужным, собственных детей. Широкая известность идей Сенеки не мешала его согражданам наслаждаться резней гладиаторов. Вся утонченность китайского гуманизма не могла запретить выбрасывать на свалки только что родившихся «лишних» дочерей. Индийская ахимса с ее идеей непричинения вреда всему живому мирно уживалась с практикой человеческих жертвоприношений. Как тут не вспомнить Овидия: «Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь».
А. Гусейнов совершенно прав, когда пишет, что разделение людей на «своих» и «чужих» не было изобретением Моисея. Он просто считался с жизненной реальностью, с изначальной враждой племен. Смысловым центром этики Моисея выступает идея справедливое- ти. Отсюда — ее суровость и беспощадность. Идея милосердия в ней выражена крайне слабо. Но в Декалоге сказано самое важное из всего, что необходимо человеку: надо жить по законам справедливости.
Само же имя Моисея стало неким символом. Бард Нателла Болтянская пишет:
Свой народ по пустыне водил Моисей С отвердевшими в камень губами.
Сорок лет для того, чтобы умерли все,
Кто на свет появился рабами.
Сколько их, взоры к жаркому небу подняв,
На песке погибало от жажды.
А могли бы пройти этот путь за три дня,
Как потом и случилось однажды.
Сорок лет вел пророк обреченных людей,
Он хотел, чтобы дети народов Из иссохшего чрева седых матерей Выходили уже на свободу.
Пролетели века, и опять суховей Опаляет идущих сограждан.
Нас который по счету ведет Моисей К утоленью неведомой жажды.
Все вперед и вперед, бездорожье кляня,
А ночами взываем к пророку.
Знать бы только, что можно пройти за три дня, И умрем мы без слова упрека.
Сколько нас, взоры к жаркому небу подняв,
На песке не погибнет от жажды.
Знать бы только, что путь проходим за три дня, И чтоб так вдруг случилось однажды.
Нострадамус : великий провидец
В тиши ночей, от взглядов ищущих сокрывшись,
Я вижу отблеск пламени во тьме,
И в этом зеркале огня картины
Всплывают будущих времен.
М. Нострадамус
Этим четверостишием начинается одна из самых странных и загадочных книг в истории человечества. Первая ее часть увидела свет в 1555 году в Лионе под названием «Центурии». «Таинственное творенье Нострадама», — так говорил Гете в «Фаусте» об этой книге. В дошедшем до нас виде «Центурии» состоят из двух прозаических посланий (сыну Цезарю и королю Франции Генриху II) и примерно девятисот семидесяти катренов. Это — описание воображаемого путешествия автора по будущей судьбе человечества, путешествия сквозь катаклизмы, войны, бедствия.
Но можно ли увидеть то, что должно случиться через несколько веков, даже тысячелетий? Ведь будущее — это всего лишь возможное. И в истории всегда может произойти нечто совершенно непредвиденное. Однако всегда находились люди, способные в силу какого-то подсознательного инстинкта предугадывать тенденции и события мирового исторического процесса, предсказывать будущее. Они, как правило, не понимали причин этого дара и объясняли свои необычные способности воздействием высших сил — богов, духов, ангелов. Во многих священных книгах, в легендах и мифах действуют пророки, которые ставят нравственные и философские вопросы.
Пророки — это те, кто целенаправленно использует свои предвидения в качестве важнейшего аргумента, подкрепляющего их вероучительскую или идеологическую деятельность. Многие из них действовали на основе своей внутренней интуиции, предчувствия или же обладали более или менее развитой способностью к предвидению. Пророки пытались уловить в переплетении бытия и духа нечто закономерное, предначертанное или же, напротив, объявляли все случайным и непостижимым. Страницы истории пронизаны их размышлениями и откровениями, мучительными сомнениями и страстными призывами.
«Религия ссылается на случаи пророчества и видения будущего, — пишет философ Лев Карсавин — она допускает и утверждает данность его святым. Если добросовестно отнестись к сообщениям о подобных фактах, ясно, что речь идет о безошибочном и точном ясновидении во времени и видении неотвратимого. Но раз дан во всей своей конкретности хотя бы один момент будущего, надо допустить, что дано все будущее, все его моменты: ведь все от всего зависит, все со всем связано». Возможно, что пророчества — это что-то иррациональное, а во многом реакция коллективного сознания на существование в вероятностном мире, лишенном закономерностей. Не являются ли предсказания и пророчества ответом на вызов вероятностного мира?
Разве не гениально пророчество Казимира Малевича, заложенное в его знаменитом «Черном квадрате»: торжество в двадцатом веке авангардизма и конструктивизма в сочетании с адским содержанием? А пророческий «мир», сотворенный братьями Стругацкими, угодившими точно в цель: современная российская действительность объединяет бездуховность «Хищных вещей века» с кошмарами «Обитаемого острова» и абсурдным мироустройством «Улитки на склоне»? Интерес к таинственному, загадочному, непонятному вытекает из подсознательного ощущения, что бытие и мир построены на тайне. И хотя пророчества сбываются чрезвычайно редко, соблазн узнать будущее постоянно преследует людей. Слаб человек, ибо вечно подвержен соблазнам!
Последнее прижизненное издание «Центурий» Мишеля Нострадамуса увидело свет в 1566 году. На оборотной стороне титульного листа напечатана надгробная эпитафия и откровение автора: «Уже с давнего времени и многократно я предсказывал задолго до событий то, что впоследствии сбывалось. Я желал замолчать и не писать вовсе нижеследующее по причине несправедливостей и оскорблений не только настоящего времени, но и большей части будущих времен... Я скрыл свой язык от черни и перо от бумаги, но потом я решился сделать сообщения при помощи темных и двусмысленных сентенций о некоторых будущих, даже весьма близких событиях, но, чтобы не возбуждать мелкие самолюбия, я писал тем более туманно, чем более пророческим я считал то, что хотел сказать... Пророки через вечного Бога и добрых ангелов получили дар предвидения, при помощи которого они замечают далекие вещи и имеют возможность предвидеть будущие события. Ибо тайны Бога... проясняют причины, которые не могут сами по себе достичь ясности ни с помощью человеческих догадок, ни другими способами познания или какой-либо оккультной добродетели, даже заключенной в небесном своде, но из самого факта абсолютной вечности, включающей в себя все времена».
В словах его явно звучит опасение: «Будь осторожен». Будь осторожен в своем предвидении и своих пророчествах. Как тут не вспомнить китайских даосов: «Кто не знает — говорит, кто знает — молчит». И что означает «абсолютная вечность», прозвучавшая в откровении Нострадамуса? Или почему он изложил свои предсказания не в хронологическом порядке, а совершенно бессистемно, к тому же умышленно их перепутав и придав им форму загадочных по смыслу четверостиший? Кроме того, Нострадамус обильно вводил в тексты пророчеств непонятные сокращения, анаграммы, клички, смысл которых был известен только ему одному.
Многие исследователи Нострадамуса находят истоки его творчества в Библии, Талмуде и апокрифической иудейской «Книге Эноха», где был выдвинут постулат, что миру отведено для его существования шесть тысяч лет, сообразно с шестью днями творения. По истечении этого срока после победы над силами Зла на Земле воцарится тысячелетнее царство Божье. А еще через тысячу лет произойдет битва сил Созидания и Разрушения, Бога и Дьявола. Иудейская и христианская традиции во многом здесь сходятся. Из иудаизма Мишель Нострадамус заимствовал идею о шести тысячах лет существования цивилизации, а из христианства — о приходе Антихриста. Начало этого периода он отсчитывал от 3761 года до н.э. — даты сотворения мира в иудейской традиции.
Похоже, провидец из Салона сумело составить некий набор универсальных сценариев на все случаи исторических катаклизмов. Недаром его пророчества достаточно успешно применялись к самым различным временам и событиям. Но немало при этом встречается натяжек и подтасовок, тем более, что катрены Нострадамуса весьма запутанны и противоречивы. Если в них упоминаются географические пункты (как правило, иносказательно, и толкователю необходимо знать названия и метафоры того времени), — то не указано время событий. Если же время указывается, то совершенно непонятно, о каком месте идет речь. Хронология не соблюдается, а события перемешаны самым причудливым образом. Если даются имена, то метафорические, и потому трудно согласиться, что у Ноетрадамуса упоминаются Наполеон, Гитлер, Сталин, Ельцин.
Есть ли смысл во всем этом разбираться? Быть может, Нострадамус просто посмеялся над потомками, создав свои головоломки? Или же нуждался в славе и таким образом поддерживал к себе интерес этими бесконечными пророчествами? А может, речь вообще идет о душевно больном человеке, который зашифровывал свои видения после припадков эпилепсии? Наверное, главное не в том, верны пророчества Нострадамуса или нет?! Верить им или же не верить? Суть в том, что он дал понять человечеству: ваша картина мира слишком проста и приземленна. Нострадамус творил собственное культурное пространство, и люди дол жны задуматься, так ли прост и осмыслен их мир, тот мир, в котором они существуют, любят, страдают, блаженствуют, убивают друг друга и плодят себе подобных.
Став неотъемлемой частью европейской культуры, имя Нострадамуса нередко привлекалось различными политическими силами для оправдания своих действий. Так, в 1789 году, на следующий день после захвата Бастилии городской чернью, на ее первом этаже выставили книгу Нострадамуса с подчеркнутым прорицанием в отношении 1792 года. По мнению восставших, Нострадамус как «предсказатель свободы», предвидел торжество идей французской революции именно к 1792 году. И действительно, в этом году во Франции был введен новый революционный календарь, то есть обновился век. Тогда же отрубили голову королю Людовику XVI.
Феномен Нострадамуса, пожалуй, не в его сбывшихся или несбывшихся пророчествах, а в том, что его имя не забывают и в третьем тысячелетии. Как выразился один из его биографов, дело Нострадамуса живет и побеждает. Из его творческого наследия выросла целая наука — нострадамоведение. Главный секрет популярности провидца из Салона — в полной неопределенности. Почти все пророки, которые предсказывали конкретные события и катаклизмы, давно забыты, даже если их пророчества полностью сбылись. О Нострадамусе помнят и знают все. И, похоже, помнить будут еще долго! Что же, как выразился философ Сёрен Кьеркегор, «чудо есть чудо и не может быть понято».
Драма жизни Мишеля Нострадамуса
Нострадамус родился в провансальском городке СенРеми, на юге Франции 14 декабря 1503 года в семье евреев, незадолго до его появления на свет крестившихся в соответствии с указом Людовика XII. В противном случае им угрожало отлучение от профессий и изгнание из Прованса. Но родители Нострадамуса втайне продолжали исповедовать иудаизм — отсюда атмосфера таинственности и двойной жизни, неизбежно влиявшая на мальчика.
Воспитанием ребенка больше занимались его деды — по матери Жан де Сен-Реми и по отцу Пьер де Нотр Дам. Оба они были медиками и людьми весьма образованными. Именно под их руководством Мишель освоил медицину, народное целительство, древнееврейский, греческий и латинский языки, а также познакомился с алхимией, каббалой и астрологией. В 1522 году он поступает в знаменитый университет Монпелье, где изучает медицину. Вскоре он обнаруживает, что его знания если и не превосходят, то по крайней мере не уступают знаниям прославленных профессоров. Более того, интуиция и здравый смысл подсказывали юноше, что многие методы лечения, общепринятые в ту эпоху, вроде кровопускания или злоупотребления слабительными препаратами, не только бесполезны, но и во многих случаях попросту вредны.
В 1529 году Нострадамус удостоен докторского диплома, а вместе с ним берета с кистью, золотого кольца и роскошной книги Гиппократа. Молодой доктор-еврей, выпускник университета, которому на каждом шагу приходилось сталкиваться со снисходительным отношением старших лекарей, мало обращал внимания на то, как было принято лечить в те времена, и считался лишь с тем, что подсказывали ему логика, здравый смысл и врачебная практика. Именно поэтому он оказался в эпицентре эпидемии чумы и, быстро разочаровавшись в методах своих старших коллег, начинает врачевать пациентов своими собственными приемами. Вскоре ему удалось остановить эпидемию в нескольких крупных городах Франции — Тулузе, Нарбонне, Бордо. Вместо изнурительных для больных кровопусканий он «прописывал» родниковую воду, свежий воздух и снадобья, сделанные им на основе целебных трав.
В 1534 году по приглашению известного ученого Жюля Сезара Скалигера он переезжает в город Ажан. Здесь он женился, вскоре родились сын и дочь. Однако три года спустя эпидемия погубила всю его семью. Эта трагедия потрясла Нострадамуса, он полностью ушел в себя. Видимо, тогда и стала проявляться его способность к ясновидению, за что впоследствии великий Ронсар назовет его «богом избранным пророком». Нострадамус оставляет Ажан и в течение восьми лет странствует по Европе. Однажды, встретив в бедном селении молодого монаха, он поклонился ему до зем- ли. В ответ на недоумевающие вопросы очевидцев этой сцены Нострадамус сказал: «Я преклонил колени перед его святым Высочеством». Молодого монаха звали Феликс Перетти. В 1581 году он станет римским папой под именем Сикст V.
В 1547 году Нострадамус обосновался в небольшом городке Салоне, расположенном между Авиньоном и Марселем. Здесь он женился. Именно здесь у него начинается жизнь, разделенная на две совершенно непохожие друг на друга части. С одной стороны, жители Салона знали его как опытного медика и покладистого, добродушного человека с изрядным чувством юмора, с которым всегда можно было поболтать по душам. С другой — по ночам в окнах дома Нострадамуса долго горел свет и был виден его силуэт, склонившийся над бумагами. Он заглядывал в самые отдаленные закоулки будущего и, если судить по его эмоциональным записям, был непосредственным участником всех открывающихся ему событий, переживая их точно так же, как впоследствии люди будущего.
В 1555 году выходит первая часть его «Центурий», спустя три года — вторая, где было помещено послание к королю Генриху II. Именно в нем Нострадамус раскрыл методику своих пророчеств: «Я думаю, что могу предсказать многое, если мне удастся согласовать врожденный инстинкт с искусством длительных вычислений. Но для этого необходимы большое душевное равновесие, предрасполагающее к прорицаниям состояние ума и высвобождение души от всех забот и волнений. Большую часть моих пророчеств я предсказывал с помощью бронзового треножника... Многое в божественном я соединяю с движением и курсом небесных светил. Создается впечатление, будто смотришь через линзу и видишь как бы в тумане великие и грустные события и трагические происшествия, которые пронизывают мистическим ужасом всякого, кто углубился в молитвенное созерцание. Мрачное будущее ожидает Божьи храмы и затем проникает в сердца и души тех, которые поддерживали и укрепляли эти храмы на земле. И это нахрянет вместе с тысячью других бедствий, а ими — я вижу — пронизаны будущие времена».
Таинственный, пугающий пророческий дар обрекал его на одиночество. Днем Нострадамус исполнял свои врачебные обязанности, а вечерами запирался в кабинете и писал свою книгу. Постепенно слава о нем как чудесном предсказателе распространяется по всей Франции. В 1564 году путешествующий по Провансу король Карл IX посетил город Салон. Местная знать встречала его у городским ворот. Однако король сказал: «Я прибыл в Прованс только для того, чтобы увидеть Нострадамуса». После этого, когда Нострадамус входил в церковь, люди вставали и кланялись ему в знак особого уважения.
Скончался Нострадамус 2 июля 1566 года, шестидесяти трех лет от роду, точно предсказав день своей смерти. Его похоронили в церкви францисканского монастыря. На мраморной плите, возложенной на могилу, была высечена надпись: «Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Нострадамуса, единственного из всех смертных, который оказался достоин запечатлеть своим почти божественным пером, благодаря влиянию звезд, будущие события всего мира. Он умер в Салоне, в год благодати 1566-й, 2 июля, имея 63 года, 10 месяцев и 17 дней от роду. О потомок, не трогай этот прах и не завидуй покою здесь лежащего».
Но физической смертью Мишеля Нострадамуса его биография не закончилась. Начинается посмертная биография великого прорицателя — загадочная, таинственная, драматичная. Популярность Нострадамуса продолжала расти. Его книга, пожалуй, единственная после Библии, которая в течение последующих столетий издавалась почти непрерывно. Почитателями Нострадамуса были такие выдающиеся личности, как Пьер Ронcap, Иоганн Вольфганг Гете, Борис Пастернак.
Но возрастало и число его критиков. Одни поносили его за гений, другие — за еврейскую кровь. Его считали проходимцем или безумцем. Его осуждали, над его памятью издевались. Ведь оснований для критики и поношений было немало. Немыслимое количество туманных намеков, непонятных выражений, головоломок — все это, казалось, резко снижало значимость его пророчеств. Заговорили о том, что в катренах должен содержаться некий ключ, способный помочь расшифровать туманные предсказания Нострадамуса. Тем более, что сам он писал: «Столетья отыщут забытые книги, мой факел в иных оживет временах» (центурия 8, катрен 66). Быть может, под «факелом» Нострадамус и понимал этот загадочный ключ?!
Похоже на то, что Нострадамус предвидел незавидную судьбу своих пророчеств, искаженных будущими переводчиками и толкователями. Недаром он предостерегал:
Читающий эти стихи, испытай себя тщательно!
Профаны и простолюдины не должны ими заниматься:
Прочь, астрологи, невежды, варвары!
Упрямствующий пусть будет предан
Справедливой анафеме!
(центурия 6, катрен 100)
Как пишет отечественный исследователь его творчества Владимир Южин, Нострадамус посадил Древо Жизни, даровав спасение от чумы миллионам сограждан, воспитал своих детей, наконец, выстроил Дом — величественное здание своих центурий, в которых рассказал человечеству о его будущем. Исполнив эти три великих деяния, он справедливо посчитал свой человеческий долг исполненным и удалился от нас туда, «откуда нет возврата земным скитальцам». Воздадим же ему хвалу и попытаемся извлечь уроки из его наставлений.
«Центурии» — «правда столетий»?
Бессмертную славу Мишелю Нострадамусу создала его книга «Центурии», в которой он попытался описать будущее человечества. Внешне «Центурии» напоминают лекции по философии истории, обращенной к грядущим временам. Сам Нострадамус говорил, что его пророчества охватывают период до 3797 года, однако в 942 катренах он дает только двенадцать абсолютных дат: от 1580 до 1999 годов, а также полтора десятка относительных, которые можно вычислить по сочетанию созвездий на небе.
Впрочем, этому у него есть объяснение: «Если бы я хотел прибавить к каждому четверостишию точное время, когда событие должно совершиться, и я в состоянии был бы это сделать, но это далеко не всем было бы приятно!» Однако даже без указания дат и сроков его предсказания многих пугали. Так, четверостишие 44 центурии 7 не вошло ни в одно из дореволюционных французских изданий:
Тогда, когда один из «bоur» будет очень «bоn»
(добр),
И который будет носителем знаков закона
И от рождения носителем длинного имени,
Вследствие несправедливого бегства будет казнен.
Из французских слов выводится королевская фамилия Бурбонов, сменившая на троне династию Валуа. И каждый из Бурбонов мог отнести предсказание Нострадамуса на собственный счет.
Несомненно, он подвергал себя немалому риску, если вспомнить многочисленные средневековые процессы над ведьмами. Но во имя чего или кого рисковал Нострадамус? Зачем было писать письмо в будущее, если его пророчества не поддаются расшифровке? Впрочем, первоначально «Центурии» не произвели на современников особого впечатления. В те времена прорицателей и предсказателей было более чем достаточно, несмотря на то, что они жили под постоянной угрозой. Никто не обратил внимания и на катрен 35 в центурии 1:
Молодой лев одолеет старого На поле битвы в одиночной дуэли,
Он выколет ему глаза в золотой клетке.
Два перелома — одно,
Потом умрет жестокой смертью.
Минул год, и произошло трагическое событие, сразу же принесшее Нострадамусу широкую известность. В ходе праздничных торжеств, связанных со свадьбой дочери короля Генриха II Елизаветы и испанского короля Филиппа II, состоялся рыцарский турнир. На третий день состязаний на поединок выехали Генрих II и капитан шотландской гвардии граф Габриэль Монтгомери. Дважды, съезжаясь, соперники «преломили копья», то есть ломали их и разъезжались, оставаясь каждый в своем седле. Когда же они сошлись в третий раз, сломавшееся древко копья Монтгомери случайно попало в глазное отверстие шлема короля, пробило ему глаз и проникло в череп. Спустя десять дней король скончался. Эта нелепая смерть Генриха II, предсказанная в туманных стихах Нострадамуса, потрясла многих. Как говорили, узнав о предсказании Нострадамуса, граф Монтгомери в сердцах воскликнул: «Будь проклят прорицатель, предсказывающий столь жестоко и точно».
На страницах «Центурий» немало смертей, страданий, пожарищ. Нострадамус воспринимал мир трагично, его пророчества зачастую мрачны и безжалостны. В катренах 139 раз звучит слово «смерть», 111 раз — «битва», 89 раз — «кровь», 78 раз — «огонь», 45 раз — «война», 42 раза — «чума», 38 раз — «голод», 36 раз — «меч», 19 раз — «убит». Таким Нострадамус видел будущее человечества из своего настоящего, столь же мрачного, сурового, полного человеческих страданий, несчастий и бед.
Значительная часть предсказаний, содержащихся в «Центуриях», относится к родине Нострадамуса — Франции. Его поклонники находят в катренах многих известных деятелей французской истории XVI—XX веков: от короля Генриха II до генерала Шарля де Голля.
Комментаторы нашли в пророчествах более 30 катренов, указывающих, как они полагают, на события Beликой французской революции. Так, в катрене 7 центурии и 1 говорится:
Придут, но поздно, казнь свершилась,
Напрасно ветры преодолены и письма посылались.
Четырнадцать отъявленных сектантов
Дела закончат с помощью Руссо.
Жан-Жак Руссо родится через 146 лет после ухода из жизни Нострадамуса, но его имя непостижимым образом фигурирует у Нострадамуса. Каким образом Нострадамус смог предвидеть появление этой противоречивой исторической личности и даже точно назвать его имя? Руссо — идеолог французской революции, автор знаменитой «Исповеди»; и вместе с тем его при жизни несколько раз объявляли сумасшедшим. Известно, что он страдал шизофренией, но, вместо того, чтобы осознать себя больным, считал, что болен мир, его окружающий, и потому призывал к революции.
А за 236 лет до драматических событий, связанных с бегством и задержанием в городке Варенн Людовика XVI с семьей, как полагают, Нострадамус сумел каким-го образом все это предсказать:
Сквозь лес королевы ночью двумя частями,
Окружным путем, белый камень,
Черный монах в сером в Варенне,
Титулованный Кап, причина бури, огня, крови, резни.
Французский писатель Жак Дюмезиль даже опубликовал книгу, почти полностью посвященную толкованию лишь одного этого катрена. Он писал, что тогда «лесом королевы» называли как раз тот лес, через который проходит дорога, ведущая в Варенн и которой воспользовался Луи Капет, у Нострадамуса сокращенно Кап, во время бегства, закончившегося его арестом в городке Варенн. Во всем пророчестве прослеживается стремление автора скрыть от современников ключ к его пониманию. А после того, как событие произошло, все умолчания и сокращения стали ясны; цель их могла заключаться в том, чтобы предохранить героя будущего драматического события и его близких от душевной травмы осознания своей обреченности.
В другом катрене, как полагают исследователи, Нострадамус безошибочно предсказал карьеру Наполеона Бонапарта:
Родом из морского, платящего дань города,
Голова с короткими волосами,
Захватит власть сатрапа,
Разгонит всех, кто будет ему противиться, Четырнадцать лет будет властвовать тираном.
Оживленные споры вызывает следующий катрен Нострадамуса:
Звериное славит вождей и народы,
С ним станет сражаться церковный закон, Столетья пройдут сквозь террор и невзгоды,
Раз был утопизмом закон искажен.
Считается, Нострадамус предвидел, что из «Утопии» Томаса Мора вырастут те учения об общественном идеале, которые, создав миф о грядущем рае на земле, будут теснить веру и церковь и приведут к катастрофическим последствиям, если будут реализованы в грядущих столетиях. Вполне возможно допустить, что «Центурии» — это первая в истории мировой литературы и общественной мысли антиутопия. Нострадамус был человеком здравомыслящим и сумел предвидеть, что «рай земной» неосуществим, а рост численности человечества приведет и к росту вражды, бедствий и преступлений. Он выступает разрушителем утопических иллюзий и надежд: не рай земной, а новые тирании, войны, кровь, бедствия ждут человечество в будущем.
Еще один катрен, также вызывающий споры:
Казнен пред толпой человек и провидец,
Распятья кострам могут боль сообщать,
Но мученик Духом Святым был увиден,
Чтоб мысль и любовь всей земле передать.
Над разгадкой катренов Мишеля Нострадамуса уже несколько веков бьются ученые, историки, лингвисты, астрологи, просто любители всего таинственного. Одни пытаются прочесть катрен за катреном и с помощью логики и интуиции понять, к какому событию миро- вой истории подходит тот или другой его стих. Другие начинают изобретать свой способ разгадки, переставляя с места на место номера катренов и центурий, сочетая их в различных вариантах. Они прибавляют к ним число гласных или согласных букв в строфе, отнимают эти цифры или перемножают их, пока определенное значение не удовлетворит автора. Но, похоже, что жизнь и история развиваются по своим законам, изменить которые человек не в состоянии. Люди вольны выбирать свою судьбу, даже пытаются как-то противиться этим законам, но жизнь обычно складывается так, как нужно, а не как хотелось бы человеку. То же самое и с историей: в ней происходит лишь то, что должно произойти.
Несомненно одно — таинственная и до сих пор неразгаданная книга Нострадамуса создана во благо человека. Его пророчества — прежде всего важный источник по истории, психологии и внутренним потребностям людей того времени. К нашему же или какому иному времени эти пророчества имеют отношение лишь постольку, поскольку помогают понять и осмыслить массовую психологию в кризисные эпохи. Но последние строфы «Центурий» звучат знаменательно:
Я знаю, что явится новый Спаситель.
Нет силы, способной разрушить любовь.
Так слово погибших пророков цените,
Чтоб вырвалось солнце из древних гробов.
Пророк или гадальщик?
Так кто же он, Мишель Нострадамус? Действительно ли его предсказания содержат в себе уже реализовавшуюся историю последних веков? Или же его пророчества — это всего лишь набор догадок на уровне сознания XVI века, немногие из которых совершенно случайно попали в цель? Фауст у Гете распознал в Нострадамусе великого человека, сумевшего поставить черную магию на службу магии белой: «Так кто же ты, наконец? — Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Впрочем, быть может, самая точная оценка Нострадамусу, хотя и не относящаяся к нему непосредственно, дается у Фридриха Ницше: «Я от сейчас и от прежде, но есть во мне также нечто от завтра, послезавтра и от некогда».
Великий французский поэт Пьер Ронсар писал о нем:
Кто Нострадамус есть? Злой дух иль шарлатан? Иль дар ему великим Богом дан?
Ведь знаки тайные на землю небо шлет,
Быть может, он один их правильно поймет. Смешались мрак и грусть в писаниях его,
Пронизан смех предчувствием тревог.
Я говорю: он тот есть, кем он стал,
Он тем помог, кто от грозы устал.
И слово с дном двойным скрывает мир чудес, Оракул древних эр в нем оживает здесь.
Пусть знают все — он правду говорил,
Хоть верь или не верь движениям светил.
Пред судьбами земли он, знаю, будет прав,
Раз с ним и за него — бессмертие добра.
Быть может, его пророчества необъяснимы лишь в рамках современной картины мира, но самому Нострадамусу были понятны? В послании к сыну он так объяснял свой дар: «Хотя я и пользуюсь словом «пророк», я не желаю столь высокое звание применять к себе в настоящее время. Ибо того, кого теперь называют пророком, некогда называли «провидцем». Строго говоря, пророк — это тот, кто видит вещи, далекие от обычного круга познания... Если разум выстраивает будущие события, исходя из современных ему событий, они, эти будущие события, не слишком спрятаны от него и вообще не явились для него откровением. Но совершенное знание событий невозможно без Божественного вдохновения».
Несомненно, предсказания и сами по себе в какой-то мере влияют на ход истории. Знаменитый Казанова в «Истории моей жизни» обронил: «Если предсказание не сбывается, то грош ему цена, но я отсылаю снисходительного моего читателя ко всеобщей истории: там обнаружит он множество событий, какие, не будь они предсказаны, никогда бы и не совершались». Давно замечено, что предсказание сбывается, если оно является частью успешного социального проекта. Так, большевики предсказывали мировую социалистическую революцию, а когда она стала откладываться, послали по всему миру эмиссаров подтолкнуть ее, в чем добились немалых успехов. Недаром сам Нострадамус считал, что последствия прорицания будущего простираются далеко.
Нострадамус и Россия
Есть ли у Мишеля Нострадамуса предсказания, посвященные России? Многие нострадамоведы полагают, что есть. Правда, такие понятия, как Россия, Русь, Московия, он нигде не употреблял, но считается, что русских он называл аквилонцами или северянами. В четырех его катренах встречается «Славония» и славянский народ. Многие комментаторы считают, что Ноcтрадамус сумел предвидеть Смутное время в России и возрождение после избрания династии Романовых:
Иная династия будет в России,
Страна за свободу свою восстает,
Народ, став от горя единым Мессией,
К расцвету и славе все царство ведет.
Однако этот катрен может быть истолкован и подругому, тем более, что термин «Россия» у самого Нострадамуса не упоминается. Другой катрен, по мнению В. Завалишина, намекает на деяния великого реформатора Петра I:
Проснется Восток в восемнадцатом веке.
Там даже снега оживут под луной.
Весь Север великого ждет человека:
Он правит наукой, трудом и войной.
Однако вот иной перевод этого же катрена:
Гораздо раньше всех событий этих,
Под лунным знаком полчищ с Востока В году тысяча семисотом совершат Нашествие на север Аквилона.
По мнению В. Южина, 15 катрен 8-й центурии посвящен Екатерине Второй, которая сочетала в себе энергию мужчины и страстность женщины, и чье правление волновало всю Европу:
Мужеподобная усилия многие бросит на Север, Почти всю Европу и мир весь она потревожит.
Но за двумя беглецами устроит большую погоню, И у паннонцев к жизни и смерти силы взрастут.
Кто эти двое, за которыми императрица устроит погоню? Южин считает, что в данном случае имеются в виду княжна Тараканова и поручик Мирович, которые поставили под сомнение ее право пребывать на российском престоле.
Несколько предсказаний комментаторы относят к Октябрьской революции 1917 года и ее последствиям, хотя в них и не содержится прямых указаний на то, что это произойдет именно в России. Катрен 14 центурии 1 переводится так:
Славянский народ под ненастливым знаком,
Их тюрьмы и песни царям их не впрок,
На смену придет, как священный оракул,
Схоласт, и догматик, и ложный пророк.
Неумелая политика Николая II, война и разруха создали в России благоприятную почву для народных волнений. Умело используя все это, Ленин — «священный оракул» — вместе со своими соратниками организует государственный переворот.
Комментаторы немало говорят о предсказанном Нострадамусом противостоянии «белых» и «красных» в России:
Опрокинутся носилки, вихрем сметены могучим,
И, укутаны плащами, друг на друга вмиг восстанут.
Заволнуется республика, люди новые явятся,
И уже никто не в силах белых отличить от красных.
Однако другие комментаторы предлагают при оценке «красных» и «белых» у Нострадамуса исходить из символики не XX века, а XVI. В таком случае речь еледует вести о французах, имевших знамя белого цвета, и испанцах, чье знамя было красного цвета. Перечень катренов можно продолжать и далее. Главное — в их интерпретации. Всякий комментатор видит в предсказаниях Нострадамуса свое. Символика его центурий сложна и многогранна, отсюда — сложность объяснения пророчеств. Быть может, прав Исаак Альбалог, который говорил: «Так же, как нужно быть философом, чтобы понять намерение философа, нужно быть пророком чтобы понять смысл пророчества».
Мишель Нострадамус — явление мировой духовной культуры. Он творил с расчетом на вечность и бессмертие, сам, скорее всего, не сознавая этого. Многие считают его предтечей Уриэля Акосты, Баруха Спинозы, Зигмунда Фрейда. Возможно, его драма в том, что он пришел слишком рано — и слишком поздно?!
Человечество периодически захлестывает лавина пророчеств. Вдохновенные прорицания будущего нередко повторяют сюжеты минувших веков, включают в себя фрагменты Апокалипсиса. Но люди не способны учиться на ошибках прошлого, как, впрочем, и на его достижениях. По этому поводу поэт Иосиф Бродcкий заметил : «История почти всегда застает нас врасплох. По здравому размышлению, предсказуемость — как раз то, что предшествует шоку... Чем лучше мы узнаем историю, тем больше мы склонны повторять ее ошибки... Способность удерживать в памяти не преобразуется в способность предсказывать. Всякий раз, как попытка такого преобразования делается — философом или политологом, она почти неизменно заканчивается проектом нового общества».
Обращение к Нострадамусу показывает, что наше знание природы и ее законов все еще очень ограничено. «Мне кажется, что науки понесут великий урон в связи с тем, что я открыл», — говорил Нострадамус в «Послании к сыну Цезарю». Нострадамус работал на будущее. Но можем ли мы определить, что является в нашей жизни более значимым — прошлое или будущее? С уверенностью можно сказать лишь одно: и то и другое в ней незримо присутствуют. Первое существует в виде культурного опыта, второе — в виде целей, намечаемых нами как желательные или обязательные элементы будущего.
Феномен Нострадамуса отчетливо вписывается в современный глобальный социокультурный ландшафт. Он подводит к мысли о возможности иного миропонимания, о наличии различных интеллектуальных ситуаций. Многие открыли для себя Нострадамуса, когда общество сотрясали беды и смуты. «Он тем помог, кто от грозы устал», — это предвидел Пьер Ронсар. Конечно, факты прорицания с трудом вписываются в нашу устоявшуюся модель мировосприятия.
История всегда следует за традицией. Катаклизмы и войны оставляют после себя одни развалины, но, как говорил Иоганн Готфрид Гердер, цепь развития и воспитания превращает развалины в целое, и в этом целом живет человеческий дух. Вечно славятся имена, которые сверкают в истории культуры и, словно яркие звезды, встают в ночи времен. Гений человечности вечно обновляет свой облик и расцветает в новых поколениях. Однако люди обычно держатся за все, что уходит корнями в прошлое. Они ищут там покоя, комфорта, устойчивости, то есть того, без чего жизнь немыслима. Эту нить из прошлого в будущее через наше настоящее протягивают великие люди. Один из них — Мишель Нострадамус.
При всей своей неоднозначности и противоречивости творчество Нострадамуса основано на доверии к жизни и здравом смысле. Все это спрятано за туманными строфами, но магнетическое воздействие личности и катренов Нострадамуса прорывается сквозь завесу символов. Бездна эпох и событий, отделяющая нас от этого великого провидца, нисколько не уменьшает его воздействия на духовную культуру, нравственность и интеллектуальный поиск современного человека.
Спиноза: Бог един и вечен
Спиноза не просто шлифовал стекла, — он шлифовал очки для нового миросозерцания.
Соломон Михоэлс
Барух Спиноза, философ и полунищий отшельник, всю жизнь занимавшийся шлифованием линз и размышлениями над причинными основаниями бытия, скончался 21 февраля 1677 года, когда ему было всего сорок четыре года. Он был человеком, равнодушным к благам и деньгам. После него осталось столь мало имущества, что сестра и племянник отказались от всяческих прав на наследство. Незадолго до смерти Спиноза написал: «Я научился принимать поступки людей».
Однажды Альберт Эйнштейн в предисловии к биографии Эммануила Ласкера сравнил великого шахматиста со Спинозой: «Ласкера влекла к себе такая красота, которая присуща творениям логики, красота, из волшебного круга которой не может выскользнуть тот, кому она однажды открылась. Материальное обеспечение и независимость Спинозы зиждились на шлифовке линз; аналогична роль шахмат в жизни Ласкера. Но Спинозе досталась лучшая участь, ибо его ремесло оставляло ум свободным и неотягощенным, в то время как шахматная игра держит мастера в своих тисках, сковывает и известным образом формирует его ум, так что от этого не может не страдать внутренняя свобода и непосредственность даже самых сильных личностей».
Судьба на долю Спинозы выпала трудная. Он так и не нашел признания при жизни и, скончавшись почти в нищете, исчез из людской памяти на целое столетие. Умственная косность и ограниченность делали его предметом жестоких нападок, обвинений в ереси и презрения. Ко времени деятельности Спинозы период религиозных распрей с их кровавыми ужасами миновал и вопрос о свободе веры был наконец решен положительно. Но вера сама по себе считалась самым высшим и благородным делом жизни. Интересы религии господствовали над всем, а из всех наук теология стояла на первом месте. Трагическая судьба Галилея и Джордано Бруно свидетельствовала о том, что теология стремилась оставить за собой решающее слово при обсуждении проблем мироздания.
Излишняя ортодоксальность и косность мышления современников трагическим образом сказалась на судьбе Баруха Спинозы. В двадцать четыре года он был отлучен раввинатом и вынужден был бежать из Амстердама. Спиноза дал первый яркий пример разрушительной силы еврейского рационализма, вырвавшегося из рамок общины. И при жизни, и долгое время после смерти его считали атеистом. Беда Спинозы заключалась в том, что он развил свой пантеизм до такой степени, что его невозможно было отличить от атеизма. Во многом отсюда столь разноречивые оценки личности и философского наследия Спинозы.
Вольтер был им очарован, Лессинг утверждал, что «нет другой философии, кроме философии Спинозы». Для Гегеля он — философ, отвергающий заблуждения и безумные страсти людей. В глазах Фейербаха воззрения Спинозы — это «философия возвышенного». Для Бертрана Рассела Спиноза — самый благородный и привлекательный из всех великих философов. Нравственно он выше их всех. С другой стороны, Отто Вейнингер, назвав Спинозу «самым выдающимся евреем последних девятнадцати веков», весьма невысоко оценивает его философские воззрения. Немецкий мыслитель Карл Шмитт именует Спинозу «первым либеральным евреем, который явился с ножом и вилкой в ру- ках, чтобы наброситься на государство». Для Дмитрия Галковского Спиноза — это поэт и пророк, «в эротическом экстазе выкрикивающий геометрические формулы».
Действительно, в Спинозе все оригинально и неповторимо: и сама его личность, незаурядная и загадочная, и его философские воззрения. Этот мыслитель, вызывающий столь противоречивые чувства, замечателен тем, что никогда еще прежде жизнь философа и писателя не была так неразрывно слита с его творениями, и никогда еще дух, пронизывающий эти творения, не получал столь полного воплощения в реальной жизни автора. Стремление к добру и истине, говорит его биограф Александр Федоров, стали для Спинозы естественной потребностью. Он имел полное право сказать о себе: «Я избегаю зла или стараюсь избегать его, потому что оно противоречит моей природе и отвлекало бы меня от познания Бога и разумной к нему любви».
Центральным пунктом философской системы Спинозы является тождество Бога и природы. Вводя понятие «субстанции» в качестве необходимого для всякой философской конструкции, Спиноза определяет ее как то, что выступает причиной самой себя. Согласно Спинозе, таким образом понятая субстанция есть то, что обычно называют Богом, или природой. Бог Спинозы — это не Бог теологов, который противопоставляется природе как чему-то испорченному, а все совершенное у них переносится в какое-то стоящее над миром бытие. Спиноза не представляет себе Бога отдельно от природы, как не представляет и природу без Бога, совмещающего в себе все, что есть совершенного в природе. Это и есть пантеизм, то есть отождествление Бога и мира. В отличие от христианства с его пониманием Бога как личности, возвышающейся над природой и человеком, пантеизм развивает учение о безличном мировом духе, скрытом в самой природе.
Взгляды Баруха Спинозы демонстрируют одну особенность еврейского духа — его склонность не только все рационализировать, но и все интеллектуализировать. По словам Пола Джонсона, Спиноза был одним из тех, кто верил в возможность разрешить все споры и конфликты и достичь человеческого совершенства в результате логического процесса. Он полагал, что весь мир представляет собой математическую систему и может быть до конца понят лишь геометрическим способом. Спиноза считал, что и проблемы эти- ки могут быть разрешены подобно доказательству геометрических теорем. Тем самым он во многом находился в русле идей философа Маймонида, полагавшего, что к идеальному миру можно прийти через здравый смысл; для этого следует соблюдать Закон, то есть опираться на Пророков и Тору. Спиноза же не верил Пророкам и хотел отбросить Тору за ненадобностью, полагая, что результата можно достичь при помощи чистого разума.
Все в мире управляется абсолютной, логической необходимостью, все предопределено. Все, что происходит, есть проявление непостижимой природы Бога и логически невозможно, чтобы события развивались иначе, чем на самом деле. Мудрый человек стремится видеть мир с позиций Бога. Только по невежеству мы думаем, что способны изменить будущее. Поняв себя и свои чувства, из которых удалена страсть, мы можем возлюбить Бога. Но это не будет любовь одного существа к другому, поскольку Бог не существо, а вообще все сущее. И любовь есть не страсть, а понимание. Спиноза стремился преодолеть страсть, следуя своему учению. Он никогда не поддавался страстям, никогда не выходил из себя. К несчастьям, говорил он, следует относиться как к части общего мироустройства. Осознав это, человек становится неуязвимым для печали, ненависти, чувства мести: «Ненависть у силивается от встречной ненависти; с другой стороны, ее можно победить любовью. Ненависть, которая полностью уничтожена любовью, сама превращается в любовь; а потому любовь становится больше, если ей предшествовала ненависть».
Первый биограф Спинозы Колерус видел на его челе печать отверженного. Гегель уточнял: «Да, отвержения, но не пассивного, а активного: это философ, отвергающий заблуждения и безумные страсти людей». Задачей Спинозы было не отрицание, а очищение идеи Бога. Он считал кощунственным представление о Боге как о личном, стоящем вне мира существе, бесстрастно взирающем на людскую суету. При таком взгляде неизбежно должны появиться сомнения в отношении необходимости и разумности общих законов природы, а если люди начинают сомневаться во всем, у них неизбежно появятся сомнения относительно самого Бога.
Несмотря на свой статус «еретика в иудаизме», Спиноза в своем учении во многом развивает морально-философские основания иудаизма. Давид Бен Гурион даже называл его «первым сионистом за три последние столетия». Известный американский историк филосо- фии Гарри Вольфсон в своей фундаментальной монографии «Философия Спинозы» подчеркивал значение еврейских источников как «материнского начала» в мировоззрении этого мыслителя.
По достоинству Спиноза был оценен лишь по прошествии долгого времени. Людвиг Фейербах так написал о нем: «Философия Спинозы есть философия возвышенного. Спиноза все объединяет в одной великой, нераздельной и гармонической мысли. Он астроном, который, не опуская глаз, взирает на солнце Единства, или Божества, и, поглощенный этим величественным зрелищем, теряет из виду землю, земные предметы и интересы как нечто совершенно ничтожное. Он Коперник новой философии. Божество является для него не солнцем Птолемея, а тем неподвижным центром, вокруг которого совершенно несамостоятельно кружится земля, подобно мотыльку». В 1880 году в Гааге был открыт памятник Спинозе. Философ-отщепенец становится общепризнанным мыслителем, навсегда вошедшим в историю мировой философской мысли.
Отлучение
Нидерланды в XVII веке были самой развитой страной в Европе по уровню социально-экономической и политической жизни и, наверное, единственной, где существовала свобода слова. Здесь печатал свои работы Гоббс, находил спокойное убежище Локк, в течение двадцати лет творил Декарт. То было время, когда начал формироваться социальный и духовный облик нового времени. Снижался авторитет церкви и возрастала роль науки. В культуре нового времени светские элементы начинали преобладать над церковными. Но старый мир не собирался сдавать свои позиции. Был подвергнут гонениям и покончил с собой Уриэль Акоста, гениальный предтеча Спинозы, который смело опровергал церковное понимание нравственности. А в июле 1656 года был отлучен от иудаизма и сам Барух Спиноза.
Его предки принадлежали к одной из самых знатных фамилий португальской общины Амстердама и были выходцами с Пиренейского полуострова, бежавшими сюда из-за еврейских погромов. В прошлом фамилия их звучала как Эспиноза. Беглые мараны-новообращенные стали первыми евреями, поселившимися в Амстердаме в самом начале века. Им была дарована свобода богослужения. Из еврейской общины вскоре выделились зажиточные граждане. К ним и принадлежали родители Баруха Спинозы. Его отец Михоэл был состоятельным торговцем, занимавшим в еврейской общине видное место. Мать Эсфирь умерла от туберкулеза, когда мальчику не исполнилось и шести лет. В детстве Барух был слабым и болезненным ребенком, с ранних лет склонным к уединению и мечтательности.
Семья Спинозы была обычной религиозной еврейской семьей, в которой неукоснительно соблюдались иудейские традиции. Дома мальчик обучался письму и чтению религиозной литературы, проявив уже в раннем возрасте незаурядные способности. Позднее его отдали в еврейское религиозное училище. В первые два года дети осваивали здесь чтение и древнееврейское письмо по главам Пятикнижия Моисеева. Затем они подробно разбирали и комментировали другие книги Библии или Танаха. Последний год семиклассного образования был посвящен изучению Талмуда и комментариев к нему.
Возглавляли училище три видных раввина, которые были и духовными руководителями еврейской общины Амстердама. Первоначально маленький Барух полностью отдается обучению и жадно впитывает знания. Но со временем его природная любознательность и формирующаяся самостоятельность мышления пришли в противоречие с религиозными канонами. Он начинает изучать латинский язык и находит у классических авторов взгляды, которые далеко выходили за пределы привычного ему круга понятий. Спиноза все более явно стремится к научному и философскому образованию.
Его наставником в изучении латинского языка становится ван ден Энден, один из самых образованных и передовых людей того времени, имевший в Амстердаме славу вольнодумца. Барух все чаще бывает в доме ван Эндена. Тот знакомит юношу с трудами Декарта и Джордано Бруно. Перед молодым Барухом Спинозой открывается новый мир. Вращаясь в кругу самых образованных людей того времени, он все больше отчуждается от своих единоверцев, от еврейского уклада жизни. Он начинает превыше всего ценить умственные достоинства, независимость взглядов. Его с детства учили, что он принадлежит к избранному народу, и Спиноза пытался понять, на чем же основана эта избранность. В судьбе евреев, претерпевших столько гонений, он не видел никаких признаков того, что Бог заботился о своем избранном народе и был к нему благосклонен. Позднее в одной из своих работ Спиноза напишет, что евреи не имеют никаких прав на особую избранность, поскольку в них нет решительно ничего, что возвышал о бы их над прочими народами.
Вместе с тем в поисках истины он обращался к Талмуду и Каббале. Переработаншш в Каббале арабская концепция учения Аристотеля, вершиной которой стал пантеизм Аверроэса, наложила на его мировоззрение определенные черты. Однако пантеистические идеи перешли к нему не только из Каббалы. Много Спиноза взял у Якоба Беме и Джордано Бруно. Но лишь открывшаяся ему внутренняя связь философских размышлений великих умов с трезвым и строгим естествознанием, его методами, разработанными Леонардо и Галилеем, подготовила его ум к созданию собственной системы.
Весной 1654 года умирает отец Баруха. Наследство перешло к юноше, но тот отказался от него и уступил все своим сестрам. Тогда же Спиноза начинает работу над своей первой книгой, которая получила название «Краткий трактат о Боге, человеке и его блаженстве». Впоследствии рукопись была утрачена и обнаружена лишь в 1852 году.
Опасаясь отрицательного влияния на еврейскую молодежь свободомыслящего Спинозы, консервативное руководство еврейской общины Амстердама все более настойчиво предлагает ему возобновить посещение синагоги и не выражать пренебрежения к вере и обычаям предков. Однако ничего не помогало, Спиноза все больше отдалялся от еврейства. Тогда его подвергли малому отлучению. Это означало, что в течение месяца никто из евреев не смел поддерживать с ним какие бы то ни было отношения. Но к этому времени Спиноза уже не искал общества своих соплеменников.
Однажды вечером кто-то подкараулил Баруха, когда он выходил из театра, и бросился на него с обнаженным кинжалом. Однако юноша сумел уклониться. Избежав опасности, он и не подумал пожаловаться в суд на покушавшегося, что вполне соответствовало его характеру. Этот инцидент свидетельствовал о возбужденном состоянии среди членов еврейской общины. Не желая более терпеть отступника, раввины решили образумить его угрозой полного отлучения. Когда об этом сообщили Спинозе, тот отвечал: «То, что со мной намерены сделать, вполне совпадает с моими намерениями. Я со своей стороны хотел уйти по возможности без огласки. Вы решили иначе, и я с радостью вступаю на открывшийся предо мною путь, утешая себя мыслью, что ухожу от вас более безвинный, чем были древние евреи по выходе из Египта. Мне не в чем упрекнуть себя».
27 июля 1656 года состоялся обряд отлучения. Сам Спиноза на него не явился, ему уже было все равно. Слово с кафедры в синагоге держал Ицхак Абоаз де Фонсеко, старейший из членов магамада, духовного правления еврейской общины. Над сводами синагоги в абсолютной тишине зазвучал его суровый голос:
— Члены духовного правления магамада объявляют, что, будучи давно уже поставленными в известность о безбожии и богопротивных мнениях и поступках Баруха Спинозы и неоднократно пытавшись отклонить его от дурного пути, но не преуспев в этом, а, напротив, ежедневно убеждаясь сами и через многих достоверных свидетелей, изобличавших его в ересях, с общего согласия постановили наложить на Спинозу пе- чать отвержения и предать его отлучению и исключению из среды Израиля.
Раввин сделал многозначительную паузу и продолжил:
— По произволению ангелов и приговору святых отлучаем, отвергаем и предаем осуждению и проклятию Баруха Спинозу с согласия Бога Благословенного и полномочия синагогального трибунала и всей святой общины. Упреждаем не входить с ним ни устно, ни письменно в сношения; не оказывать ему какую-либо услугу, не проживать с ним под одним кровом, не подходить к нему ближе чем на четыре локтя расстояния, не читать ничего, написанного им или о нем.
Раввины обратились к властям города с прошением об изгнании Спинозы из Амстердама, выставляя его нечестивцем и хулитетем Бога. Однако те признали вопрос теологическим и предоставили решать его церковным властям. В конечном итоге было решено изгнать Спинозу из города на несколько месяцев. Но еще до этого решения юноша покинул Амстердам и переехал к своему приятелю в деревню Оуверкерк, в нескольких километрах от города. Отныне он окончательно решил посвятить себя исканию истины. Так судьба, казалось, осудила его на вечное одиночество. Она словно хотела этим сказать: если ты не нашел счастья с другими людьми, ищи его в себе самом.
Спинозе было всего лишь двадцать четыре года, но он уже успел сполна испить чашу невзгод и страданий. Отныне ему надо избрать какую-то профессию, чтобы обеспечить себя куском хлеба и вплотную заняться философскими размышлениями. На помощь Спинозе пришел его любимый Декарт. Читая «Диоптрику», Барух впервые узнал со страниц этой работы Декарта о законах преломления лучей. Его увлекает загадка действия увеличительных стекол. Создание линз совпадало с его стремлением проникнуть в суть вещей. И Спиноза выбирает для себя профессию шлифовщика оптических стекол.
Философские поиски
В начале 1660 года Спиноза переезжает в селение Рейнсбург, близ Лейдена, где проведет три года своей жизни. Это было время активной творческой деятельности. Здесь он заканчивает свое раннее произведение «Краткий трактат о Боге, человеке и его блаженстве», работает над «Трактатом об усовершенствовании разума», пишет «Основы философии Декарта» и начинает главный труд жизни — «Этику».
Летом 1663 года Спиноза поселился в Ворбурге, недалеко от Гааги, где будет жить вплоть до 1669 года. Днем он работает за шлифовальным станком, а вечерами пишет. Именно здесь он закончил свой «Трактат об усовершенствовании разума» и написал «Богослов- ско-политический трактат», единственный, изданный при его жизни. Спиноза переписывается со многими выдающимися мыслителями и учеными того времени. Он имел право сказать: «Я наслаждаюсь своей жизнью и провожу ее не в печали и вздохах, а в покое, радости и веселье, и так, ступень за ступенью, возношусь ввысь». Наверное, этот мотив сопровождал все его творчество и всю его жизнь — построенную на стремлении к истине, совершенно непритязательную в потребностях. Глубоко ошибался Фридрих Ницше, говоря о нем: «Еврейского Бога поглотила ненависть к евреям, отшельник, я тебя узнал!»
Вокруг него сложился круг друзей и единомышленников. Спиноза всегда ценил истинную дружбу и наслаждался ею как духовным благом, стоящим выше зависти, мелочности и корысти. Один из его почитателей так говорил о Спинозе: «Основательные знания в соединении с человеколюбием, благородством и мягкостью обращения — все эти преимущества, которыми щедро наградила его природа, и собственные усилия, придают ему такую привлекательность, что все благожелательные и хорошо воспитанные люди не могут не любить его».
Широкую известность получает его «Богословско-политический трактат», работу над которым Спиноза завершил летом 1668 года. Здесь Спиноза поставил задачу установить соотношения между религией и разумом, государством и церковью. Непосредственно его критика была направлена против книг Библии, в которой Спиноза видел лишь исторический памятник. Сущность религии, как ее понимал Спиноза, — это не еле- дование догматическим доктринам, а любовь к Богу.
А лучшее выражение этой любви — благочестие и послушание, ведущие к добродетельной жизни. Всяческие рамки для мыслей и суждений представляют большую опасность, поскольку это ведет к сосредоточению власти в руках духовенства. Религия при этом вырож- дается: место страха Божия заступает страх перед духовенством.
В своем трактате он много пишет о пророках и пророчествах: «Пророчество, или откровение, есть известное познание о какой-нибудь вещи, открытое людям Богом. Пророк же есть тот, кто истолковывает откровение Божие тем, которые не могут иметь верного познания о предметах Божественного откровения и которые поэтому могут принимать предметы откровения только на чистую веру».
Спиноза считал, что необходимым условием единого государства, управляемого законами разума, дол жна стать свобода совести, слова и печати. Невозможно, чтобы государство, которое судит человека за его дела, а не его мысли, вмешивалось в духовную жизнь человека и ограничивало его внутреннюю свободу. Делать область веры предметом постановлений закона — значит поощрять одну форму веры за счет других. Это сразу дает преимущество определенной группе духовных лиц, которые начинают оказывать влияние на государственную жизнь и даже могут быть опасны для государственного порядка.
Если в области религии, считал Спиноза, человеку должно быть предоставлено право свободного суждения, то тем большей свободой он должен пользоваться в сфере науки, и ничего не может быть опаснее вмешательства закона и ограничений в области знания. Это порождает лишь лицемерие и притворство, и ожесточает всех искренних людей, посвятивших жизнь поиску истины. Изгонять, как преступников, честных граждан только за то, что они думают не как все и не хотят лицемерить, — что может быть хуже для государства? Преследовать, как врагов отчизны, тех, кто мыслит свободно, посылать их на смерть, превращать плаху в трибуну, — что может быть более гибельно для государства?
Почти пятнадцать лет провел Спиноза в сельском уединении, прежде чем решился окунуться в бурную жизнь большого города. В 1670 году он, по настоянию друзей, перебирается в Гаагу. Здесь у Спинозы было немало влиятельных знакомых и друзей, все они дорожили обществом философа и высоко ценили беседы с ним. Но Спиноза по-прежнему превыше всего ценил уединение, позволявшее ему полностью отдаваться философским размышлениям. Жил он скромно и непритязательно. Первый его биограф Ян Колерус пишет: «Трудно себе представить, до какой степени умеренно и скромно жил Спиноза. И не потому, что к этому вынуждала его бедность: многие известные и состоятельные люди предлагали ему и кошелек свой, и всякого рода помощь, но он приучил себя к воздержанности и потому довольствовался малым».
Благодаря своим работам Спиноза приобретает широкую известностью. В феврале 1673 года курфюрст Карл Людвиг Пфальцский предложил ему кафедру философии и математики в Гейдельбергском университете. Но Спиноза ответил отказом, мотивируя это тем, что никогда не собирался открыто выступить на поприще преподавания, и что это может помешать ему заниматься философией. Он все свои силы в это время отдавал главному труду жизни — «Этике».
Мудрость и истина
Над «Этикой» философ начал работать весной 1663 года, а завершил свой труд только в 1675 году, за два года до смерти. Назвав свое главное сочинение «Этика», он тем самым как бы указывал людям путь, ведущий к добродетели как высшему благу. Это была вершина его творческой философской мысли.
Книга Спинозы необычна по форме изложения, поскольку при изложении своей этической доктрины философ применяет геометрический метод. Здесь нашла свое воплощение абсолютизация математического знания в его элементарной форме, восходящая к Евклидовым «Началам». Если открытие подлинных истин, выражаемых общими понятиями, происходит, как считал Спиноза вслед за Галилеем и Декартом, при , помощи аналитического метода, разлагающего исследуемый объект на простые элементы, то воссоздание целостной картины осуществляется синтетическим методом, который автор «Этики» именует геометрическим. Он как бы стремится придать провозглашенной им истине такую же объективность и неуязвимую достоверность, какой обладают математические истины.
«Этика» делится на пять разделов, из которых первые два являются как бы вступительными, а остальные посвящены собственно этике. В первом разделе излагается учение о субстанции, или Боге; здесь изложена метафизика Спинозы, во многом базирующаяся на идеях Декарта. Второй раздел посвящен теории по- знания. В третьем разделе говорится о природе и происхождении человеческих страстей. Четвертый посвящен могуществу страстей и средствам их преодоления. Наконец, в заключительном, пятом разделе обсуждается возможность человеческой свободы, заключающейся в осуществлении истинной добродетели как выс- шей цели жизни. Таким образом, в этом труде Спиноза излагает свои основополагающие метафизические идеи и одновременно свое учение о пути спасения человека.
«Этика» Спинозы — это не сборник поучений и утверждений, но в первую очередь живое и практически ориентированное руководство для души читателя на пути осмысления опыта бытия в мире. На то, чтобы сформировать такую установку, в которой человек спасает сам себя, нацелено и его учение о страстях и их преодолении силой разума. Это книга для спасения человека, а не просто метафизическая теория понятий. Для Спинозы этика — это не учение о нормах человеческого поведения, а некая техника очищения души и сердца для познания Бога.
Как определяет Спиноза место человека в мире и природу его духа? Человек для него — это существо, состоящее из известных модусов Божественных атрибутов и отражающее в определенной степени Божественную природу. Человеческий дух есть образ бесконечно- го мышления, человеческое тело есть образ бесконечного протяжения. Первый есть идея, второй — предмет этой идеи. Единственное, в чем проявляется сущность духа, есть мышление или деятельность разума, состоящая в образовании понятий и идей. Ее целью является истина и, сосредоточив все свои стремления на ней, дух охраняет свое блаженство.
Созданная природа с ее разнообразием возникновения и исчезновения вечного бытия, изменением конечных вещей, является ареной страстей и в то же время миром воображения. Мы можем возвыситься от невнятного мышления до истинного познания только благодаря присущей нашему духу способности рассматривать вещи в их необходимости и законосообразности и, таким образом, сосредоточить свои стремления на вечном. Так как сущность нашего ума заключается в познании, первоначалом и основой которого является Бог, то сохранение нашей духовной индивидуальности или свободы нашего духа получает истинное удовлетворение, когда его стремления обращаются к Богу или духовному началу.
Одной из главных проблем для Спинозы является человеческая свобода. В чем же она заключается, если все действия человека предопределены? Понятие человеческой свободы у него проистекает из понятия о человеческой природе вообще. Человек воспринимает внешние влияния и впечатления и претерпевает их, то есть страдает. Страдать — значит быть подверженным могуществу природы. Могущество это ставит перед че- ловеком на каждом шагу препятствия, постоянно напоминает ему о его бессилии, о его ограниченности. Уничтожить окружающие предметы он не властен и вынужден смиряться с их существованием. Но человек может освободиться от напора внешнего мира с помощью своей способности мыслить. В торжестве разума над страстями философ видит истинную свободу духа.
Могущество Бога есть сама его сущность. Бог сам причина всех вещей, их сущности и их существования. От Него мы получили наши разум и волю, а поскольку между созданным и создателем есть существенная разница, то Божественные разум и воля совершенно от- личны от наших разума и воли. Наш разум стремится к знанию и приобретает его. Наша воля проявляется в принимаемых нами решениях. Для Бога же не существует никаких решений, поскольку Его могущество будет действовать вечно.
Последним произведением Спинозы стал «Политический трактат», выступающий как бы дополнением и к его «Этике», и к «Богословско-политическому трактату». Здесь философ склоняется в пользу демократического устройства общества, которое считает наиболее соответствующим естественной природе человека. Он дает свое определение естественного права: «Под именем естественного права я подразумеваю не что иное, как собственные законы и собственное могущество природы. Поэтому во всей природе, а следовательно, и во всех отдельных существах, естественное право простирается настолько, насколько простирается ее могущество, поэтому все, что человек совершает в силу своих естественных законов, он совершает с величайшим природным правом и его право на природу измеряется его силой». Спиноза говорит, что природа имеет верховное право вообще на все, что находится в ее власти. До учреждения государства не может быть и речи о справедливости или несправедливости, о добре или зле. Но такое состояние не может продолжаться долго, потому что никто не хочет жить в постоянном страхе, окруженный ненавистью и неистовством страстей. Если люди, лишенные взаимной помощи, не управляемые разумом, по необходимости ведут жалкую и несчастную жизнь, то ясно, что, для того чтобы вести счастливую и безопасную жизнь, они должны будут согласиться между собой жить так, чтобы всем вместе обладать тем примитивным правом на вещи, которым был наделен от природы каждый из них.
Государство, по Спинозе, — это результат взаимного соглашения, сделки. Значение же любой сделки измеряется пользой, которая из нее вытекает. Как только какой-либо договор перестает приносить пользу, он теряет силу. Поэтому глупо связывать кого-либо еловом на вечные времена, если одновременно не позаботиться о том, чтобы нарушение договора приносило нарушителю гораздо больше вреда, нежели пользы. Средством к соблюдению каждым общественного договора служит неограниченная власть государства, которая может быть сосредоточена в руках одного, нескольких или многих. Но какой бы ни была форма государственного устройства, в основе его всегда лежит одна идея — власть законов и повиновение им со стороны граждан. Никакое государство не может существовать без соблюдения этого условия.
Идеал государства для Спинозы — это политическое равенство граждан и рядом с ним естественная свобода личности, спокойствие и безопасность общества и рядом с ними независимость внутреннего человека. Как учреждение, имеющее целью общественное благо, государство может требовать от каждого индивидуума лишь столько, сколько нужно для сохранения целого. Внутренние же проявления человеческой природы должны жить своей отдельной жизнью. «Безопасность есть добродетель государства, свобода духа есть частная добродетель», — пишет философ.
Освобождение людей от тирании страха — один из лейтмотивов в размышлениях Спинозы: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни». Похоже, он сам жил в соответствии с этим принципом. Даже в последний день своей жизни он был совершенно спокоен, встречался и беседовал с друзьями. Спиноза давно был болен чахоткой, но смерть его для всех стала полной неожиданностью. На похоронах Спинозы присутствовало много знатных и известных людей, за его гробом двигалось шесть карет. Для его друзей и поклонников преждевременная смерть Спинозы была трагедией. Враги же его торжествовали. Один из биографов Спинозы писал: «Смерть философа должна почитаться им немалым счастьем, так как благодаря ей он спасся от бури, которую готовили против него враги. Они подняли против Спинозы толпу, потому что он указал средство для различения между лицемерием и истинной справедливостью, для опровержения всяких глупых верований. Счастлив наш философ не только благодаря славе, которую приобрел при жизни, но и образом своей смерти. Он ветретил ее с открытыми глазами, не выражая никакого страха, словно был рад пожертвовать собой для своих вра- гов, что обрекли бы себя на вечное проклятие, убив его».
Вскоре его друзья издали оставшиеся сочинения философа. В однотомник вошли «Этика», «Трактат об усовершенствовании разума», «Политический трактат», «Письма некоторых ученых мужей к Б. д. С. и его ответы, проливающие немало света на другие его сочи- нения» и «Грамматика древнееврейского языка». Сборник открывало предисловие, подготовленное, видимо, друзьями Спинозы. Место издания и имя издателя не были указаны, а на титульном листе были проставлены лишь инициалы философа: Б. д. С. Затем было издано собрание сочинений Спинозы в переводе на голландский язык, где также были указаны лишь его инициалы.
Так началась новая жизнь идей Спинозы, оказавших огромное влияние на духовную историю и мысль Европы. Его высоко ценили Гете, Лессинг, Гердер, Гейне и многие другие замечательные личности. Гете говорил, что после первого чтения «Этики» ему открылась великая и свободная перспектива чувственного и нравственного мира, и никогда еще окружающее не виделось ему с такой ясностью. Людвиг Фейербах писал, что учение Спинозы имеет всемирно-историческое значение. Многие считают, что основа современной цивилизации своими корнями уходит в философскую систему Спинозы. Демократические общества отказались от надежд улучшить природу человека и признали, что человек в своих естественных проявлениях эгоистичен, устремлен к собственной выгоде и первенству среди себе подобных. Отсюда ведущая ценность демократического общества — свобода. Но стабильность подобного общества обеспечивается тем, что «свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». Кто или что устанавливает между ними границу? Закон. Что есть закон по своей сути? Договор о сделке. Кто обеспечивает его соблюдение? Государство. Это и есть практическая реализация идей Спинозы.
Ротшильд: патриарх и его династия
— Какая жизнь лучше всего?
— Когда это сверкающее и непрерывное достижение от юности до могилы!
Бенджамин Дизраэли
Ротшильды — самая знаменитая и самая загадочная финансовая династия. Они всегда вла- дели единственной непреходящей ценностью в мире войн и кризисов — золотом, и это де- лало их сильнее президентов, королей и до зубов вооружейных армий. Имя Ротшильдов и поныне завораживает.
Ротшильды — «знаковая» династия; они первыми бросили вызов враждебному для них миру: «Вы не пускаете нас во власть?! Что же, мы покажем вам, что такое власть денег!» Будучи евреями, они подвергались гонениям, травле, преследованиям, но обладание золотом и ум всегда помогали им возвышаться над враждебным окружением. Один из классиков заметил, что «красота могущественна, а богатство всемогуще». Дружбы с ними искали самые знаменитые государственные деятели. Покровительство Ротшильдов делало неуязвимыми политиков, финансистов, промышленников, торговцев.
Превращение Ротшильдов в международных банкиров изменило всю структуру еврейского бизнеса. Исключительное положение дома Ротшильдов оказалось объединяющим фактором тогда, когда религиозно-духовная традиция перестала объединять евреев. Династия Ротшильдов — олицетворение жизненного успеха. Деятельность их — это «сверкающее и непрерывное достижение от юности до могилы».
Основатель этой одной из богатейших и могущественных династий Мейер-Амшель Ротшильд родился 23 февраля 1743 года во Франкфурте-на-Майне, в еврейском гетто. Отец его, Амшель-Моисей Бауэр, держал лавку, торгуя всякими редкостями, особенно старыми монетами, и был человеком скромным и непритязательным, придерживаясь правила: «Богатство человека не в том, что он получает, а в том, что сберегает». Сын решил сам творить свою судьбу, а не плыть по течению. Жизненный успех становится целью и смыслом его деятельности.
Возвышение семьи Ротшильдов началось в эпоху Наполеона Бонапарта, когда сыновья основателя династии открывают собственное банковское дело в Лондоне, Вене, Париже и Неаполе. Композитор Россини сочинял музыку для их вечеров. Джордж Байрон и Уильям Теккерей воспевали их в стихах и прозе.
О Ротшильдах знают все, знают, кажется, обо всем, но вместе с тем ничего в точности. Ротшильды — в высшей степени скрытная династия, что, впрочем, вполне объяснимо. Некая писательница, собиравшаяся написать книгу под названием «Ложь о Ротшильдах», с досады бросила это занятие, сказав: «Мне было сравнительно просто обнаружить ложь, но оказалось невозможным найти правду о них». Как евреи, Ротшильды были уязвимы в судебных процессах, поэтому они никогда не хранили документов больше, чем необходимо. Особенно они были озабочены тем, чтобы подробности их жизни и деятельности не всплывали на поверхность. Ведь именно Ротшильды всегда были знаменем в руках антисемитов. К примеру, академик Виктор Кандыба пишет: «В 1773 году Мейер Ротшильд у себя в доме во Франкфурте собрал двенадцать крупнейших банкиров мира (евреев), и они приняли специальный тайный план по контролю всех финансов мира, который получил название «Протокол сионских мудрецов». Текст этого плана до сих пор никому не известен. Известно только одно — половина всех денег мира принадлежит семье Ротшильдов».
Пожалуй, ни одно упоминание о «жидо-масонском заговоре» не обходится без имени Ротшильдов. По этому поводу Игорь Губерман едко высказался в одном из своих «гариков»:
Конечно, это горестно и грустно,
Но ведь об этом факты говорят.
Евреи правят миром так искусно,
Что сами себе пакости творят.
Действительно, Гитлер истребил почти всю немецкую ветвь семьи Ротшильдов. Французские Ротшильды понесли громадный финансовый ущерб после оккупации нацистами Парижа. Но Ротшильды живут и добиваются новых успехов. Видимо, это у них в крови. Несмотря на две мировые войны, конфискацию семейных владений и высокие налоги на наследство, Ротшильды по-прежнему в числе ведущих деловых династий мира. Существует предание о том, как Мейер-Амшель Ротшильд познакомился с наследником Вильгельмом. Однажды он был приглашен во дворец знакомым, имевшим деловые связи с правителем Гессена. Его провели в зал, где Вильгельм играл в шахматы. Ротшильд, будучи незаурядным шахматистом, внимательно следил за игрой. Неожиданно Вильгельм обернулся и спросил Мейера, играет ли тот в шахматы. «Да, Ваша светлость, — отвечал ростовщик, — и, если вы сделаете ход, который я вам готов посоветовать, то выиграете в три хода». Вильгельм последовал совету Ротшильда и выиграл партию. Правильных ходов в жизни Ротшильда было немало. Сказывались интуиция, деловая сметка, незаурядный ум.
Умение делать верный ход в нужное время! Не в этом ли коренится главная причина жизненного успеха патриарха Мейера-Амшеля Ротшильда?! Но, наверное, самое главное заключается в том, что он сумел воспитать у своих пятерых сыновей это непреклонное и постоянное стремление к успеху.
Патриарх
История семьи Ротшильдов уходит своими корнями в еврейскую общину Франкфурта-на-Майне. Евреи поселились здесь в середине XIII века. То были тяжелые и страшные времена. Еще в конце XI века в Европе начались еврейские погромы. Затем евреев стали изгонять из Франции и Англии, что также сопровождалось насилием и грабежами.
Из Германии евреев не изгоняли, однако постоянно унижали и угнетали. Еврейские общины, словно отверженные, были отделены от местных жителей. В городах евреям отводились особые кварталы — «гетто» (по имени района Венеции, где жили евреи). Им было предписано носить на одежде желтую звезду, чтобы каждый мог отличить иноверца от христианина. Нередко в каждом из домов ютились до десятка семейств. Подавляющее большинство немецких евреев жили очень бедно. Обычным для них занятием была мелкая торговля. Более состоятельные занимались ссудой денег под проценты.
Гетто представляло собой в полном смысле слова «государство в государстве». Оно осуществляло связь евреев с властью, игнорировавшей отдельного человека. Община выражала интересы жителей гетто как единого коллектива; специально назначенным представителям поручалось действовать от имени общины в юридических и политических вопросах. Не следует полагать, что управление общиной было демократическим. Во главе ее стоял небольшой совет. Его избирал более крупный орган, в который входили все основные плателыцики общинного налога; этот орган решал все важнейшие дела. При такой системе беднота вообще не имела права голоса во внутренних делах общины. На руководстве общины лежала обязанность собирать тяжелый налог, который власти ежегодно взимали со всего еврейства. К этому добавлялись внутренние расходы самой общины: содержание синагоги, помощь беднякам, уход за кладбищем и оплата различных служащих, к которым относились религиозные служащие (раввин в конце концов тоже стал служащим на жалованье), секретарь общины, синагогальный служка, человек, будивший по утрам евреев на молитву, шохет (резник), письмоносец и мусорщик. Помимо всего этого приходилось изыскивать средства для уплаты стражам у ворот гетто, в назначении которых евреи не участвовали и без услуг которых охотно бы обошлись.
Германия с безжалостной логичностью и дьявольской изобретательностью довела систему издевательств в гетто до максимума. До какого-то момента евреи были полезны городу или государству, но затем их присутствие становилось излишним и вызывало недовольство. Официальное разрешение на жительство обычно давалось на определенное число семей, которое должно было оставаться неизменным. Но население, естественно, росло. Никакими постановлениями нельзя было регулировать рождаемость, но браки и число семей находились под строгим надзором. Только старший сын в семье имел право жениться и жить отдельно. В других местах разрешения на женитьбу выдавались строго в соответствии с числом умерших. Во всяком случае, ни один еврей не мог жениться без официального разрешения.
Гонения на евреев в Германии особенно усилились в XIV веке. «С тех пор, как евреи живут на свете, — по словам одного немецкого писателя, — они еще не переживали более жестокого столетия, чем четырнадцатое. Можно лишь удивляться, как после такой бойни остался еще в Германии хоть один еврей».
В 1348—1349 годах по всей Европе свирепствовала «Черная смерть» — невиданная по масштабам эпидемия чумы. Население сократилось более чем на треть. Вымирали целые города. Ужас царил повсюду, церкви были переполнены — люди каялись в грехах. В массах простолюдинов оживали самые дикие суеверия. В этой обстановке евреи вновь оказались «козлом отпущения». Сначала избиение евреев прокатилось по Южной Франции и Арагону, затем перекинулось в Германию, где приняло особенно страшные формы. Евреев здесь пытали, вешали, сжигали на кострах, не жалея даже детей. Нередки были случаи, когда евреи сжигали свои дома и семьи, чтобы не попасть в руки палачей.
Еврейский историк Г. Гертц свидетельствовал: «Если бы какой-нибудь путешественник проехал во второй половине XIV столетия через Европу, чтобы посетить еврейские общины, сосчитать и описать их, то он должен был бы набросать безотрадную картину их. От Геркулесовых столбов и Атлантического океана до берегов Одера или Вислы он во многих местах совсем не встретил бы евреев, а в большинстве случаев лишь немногие, обедневшие и жалкие группы, все еще страдавшие от тяжких ран, нанесенных им то одичавшими из-за чумы людьми, то отчаянной гражданской войной. Гибель евреев на западе и в центре Европы была близка».
В XV веке гонения на евреев в Германии несколько ослабли, хотя периодически наблюдались всплески еврейских погромов. На смену средневековью пришло новое время. В XVI—XVII веках вместе с утверждавшимся капитализмом появляется новый тип человека, с иным отношением к труду, обществу, религии, самому себе. Формируется общество, ориентированное на успех в земных делах. На смену средневековому рыцарю приходит буржуа, носитель капиталистического духа.
По сути дела, уже в эпоху зрелого средневековья началось постепенное перемещение интересов человека «с Небес на Землю». Кальвинизм учил, что люди изначально не были равны перед Богом, а следовательно, не равны и в мирской жизни. Их успех измерялся прежде всего деньгами, собственностью, социальным статусом. Спасение может быть только индивидуальным, человек должен рассчитывать прежде всего на собственные силы. Жизненный успех постепенно становился центром всех человеческих устремлений. Создать себя как личность — через успех. Важнейший критерий успеха — деньги. Стремление к обогащению становится для многих смыслом жизни. Деньги — это путь к независимости. А богатство заставляло постоянно трудиться, преумножая его.
И здесь вновь срабатывали предприимчивость и энергичность евреев. Вернер Зомбарт утверждал, что в XVI—XVIII веках евреи были самыми влиятельными поставщиками войска и самыми доверенными кредиторами князей. Не было ни одного немецкого государства, которое не имело бы при себе одного или несколько придворных евреев. От их поддержки зависели финансовые возможности страны.
Евреи хоть на шаг, но старались идти впереди других. Они повышали эффективность существующих экономических приемов и методов. Многих из них отличали рационализм и новаторство, умение быстро распознавать новое и реагировать на него. Быть может, сказывалось и то, что над ними не довлело общество с его устоявшимися традициями. Пол Джонсон пишет: «Едва ли не величайшим вкладом евреев в прогресс человечества было то, что они заставили европейскую культуру примириться с деньгами и их властью. Человеческие общества всегда демонстрировали упорное нежелание лишить деньги мистического ореола и увидеть в них только их истинную сущность — быть средством, чья цена, как и всего прочего, относительна». Большинство людей всегда вкладывало в свое отношение к деньгам неизбежный негативный оттенок. Апостол Павел говорил: «Любовь к деньгам есть корень всего зла». Люди выращивали хлеб, разводили скот, сооружали дома — и всегда считались тружениками. Однако стоило кому-то из них начать «делать деньги» — он сразу же превращался в глазах окружающих в паразита и подвергался всеобщему осуждению. Получать доход от обладания деньгами считалось самым презренным занятием. Подобное заблуждение присуще всем традиционным обществам.
В XVIII веке еврейская финансовая и коммерческая деятельность приобретает особенно широкие масштабы. Вместе с тем еврей в Германии считался, как и прежде, существом презренным, недостойным даже сожаления. Ему можно было, забавы ради, поджечь бороду, а обращались с ним не лучше, чем с собакой. Недаром крупные придворные евреи-финансисты были основными борцами за права простых евреев.
Для многих евреев восхождение Ротшильдов являлось образцовым решением, поскольку им удалось избежать крещения, но, тем не менее, добиться впечатляющего жизненного успеха. Дело в том, что в период эмансипации обращение евреев в христианство приняло довольно широкие масштабы. С падением роли, которую религия играла в общественной жизни, крещение становилось для евреев скорее актом мирским, сугубо утилитарным. Генрих Гейне, окрещенный в двадцать восемь лет, цинично именовал этот акт «входным билетом в европейское общество». Обращение в христианство сулило выгоды, в то время как иудаизм по-прежнему препятствовал и политической карьере, и экономической деятельности. Ведь, несмотря на начавшуюся эмансипацию, бесправие евреев еще не было преодолено.
Ротшильды сумели добиться успеха, оставаясь евреями и юридически, и по духу. Первое упоминание об этом семействе относится к XVII веку. А основателем династии стал Мейер-Амшель Бауэр — «король кредиторов и кредитор королей».
В детстве Мейер занимался торговлей старинными монетами и медалями в семейной лавочке. В двенадцатилетнем возрасте он стал круглым сиротой и поступил под опеку родственников, которые собирались еделать из него раввина. Но юношу тянуло к реальному жизненному делу. После нескольких лет занятий Талмудом он вернулся во Франкфурт и занялся торговлей в лавке покойного отца.
Позднее он переехал в Ганновер, где начал служить в банкирской конторе Оппенгеймера. В 1766 году Мейер-Амшель открыл собственную банковскую контору во Франкфурте-на-Майне. Имя «Ротшильд» произошло от красного щита, висевшего на доме отца во франкфуртском гетто. Во второй половине XVIII века Франкфурт стал одним из ведущих торговых центров Германии. Все более явно на первый план выходил финансовый капитал. Богатства, ранее лежавшие без движения, стали пускаться в оборот. Посредниками в передвижении денег и главными их собирателями становятся банкирские фирмы.
В 1769 году Ротшильд познакомился с наследииком ландграфа Гессен-Кассельского Вильгельмом. Вскоре они сблизились, поскольку оба увлекались коллекционированием старинных монет. Тогда же Ротшильд становится официальным торговым агентом двора ландграфа. В 1775 году после смерти отца Фридриха II его наследник становится ландграфом Вильгельмом II. Положение Ротшильда еще более упрочилось. Постепенно он сосредоточил в своих руках значительное количество британских векселей и облигаций, которыми Лондон расплачивался с ландграфом. Ротшильд получал за это солидный банковский процент, скупая в Англии ткани, кофе, табак, чай и продавая их в Германии. В 1803 году он был назначен главным придворным агентом в Касселе, а годом ранее его сыновья стали казначеями
Несколько десятилетии понадобилось Ротшильду, пока он добился полного расположения и милости ландграфа, поскольку тот по своей натуре был человеком подозрительным, опасавшимся обмана в финансовых делах. Ротшильду помогло то обстоятельство, что у Вильгельма II не было предубеждений против евреев. Со временем дом Ротшильдов начинает опережать всех конкурентов при дворе Касселя.
В 1806 году после вторжения войск Наполеона Бонапарта Вильгельм II вынужден был бежать за границу и несколько лет провел в эмиграции. Ротшильд находился при нем, по-прежнему верой и правдой служа своему покровителю. Он сумел спасти значительную часть состояния Вильгельма II, после чего их взаимоотношения еще более укрепились.
Похоже, что Мейер-Амшель Ротшильд был счастлив в семейной жизни. В августе 1770 года он женился на дочери коммерсанта Соломона Шнапера, чей род принадлежал к старым еврейским семьям Франкфурта. Приданое невесты составило почти две с половиной тысячи флоринов. Гедула была скромной и очень хозяйственной женщиной, много занималась воспитанием детей: пяти сыновей и пяти дочерей.
Когда старший Ротшильд начал стареть и часто болел, его в деловых поездках все чаще стали заменять сыновья. Но секреты всех деловых сделок оставались в кругу семьи. Осенью 1810 года Мейер-Амшель создает фирму «Мейер-Амшель Ротшильд и сыновья» и делает своих пятерых сыновей ее совладельцами. Патриарх скончался в сентябре 1812 года. После него остались пятеро сыновей. Это и были главные ресурсы, максимально полное и эффективное использование которых предопределило беспрецедентный успех дома Ротшильдов. Его жена Гедула намного пережила своего супруга, став свидетелем блестящей карьеры сыновей. Умерла она в 1849 году, в возрасте девяноста четырех лет.
Сыновья
Пятеро сыновей патриарха стали удачливыми продолжателями его дела. Старший, Амшель-Мейер, родился в 1773 году. После смерти отца именно он принял руководство банком. Это был «генеральный менеджер» всего семейства — трудолюбивый, умный. Но он предпочитал действовать из-за кулис. Амшель держал своих братьев в курсе событий с помощью писем, став создателем и руководителем широко разветвленной сети информаторов и разведчиков, давшей Ротшильдам — в отсутствие в то время ежедневных газет, почты, телеграфа и телефона — почти полную монополию на быстрое получение надежных сведений о событиях в мире. И самое главное — именно он находил, вербовал и в значительной степени готовил молодых немецких евреев, которые в качестве доверенных клерков и посыльных стали становым хребтом фирмы.
Второй сын — Соломон-Мейер, родился в 1774 году, обосновался он в Вене. Обходительный, терпеливый и величавый, он умел находить общий язык с тамошними банкирами, для которых был лишь один клиент, — двор Габсбургов, с его аристократизмом и напыщенными церемониями.
Третий из сыновей — Натан-Мейер (1777—1836) уехал в Англию. Он был неотесан и высокомерен, но оказался самым способным и изобретательным, обладавшим врожденным даром гения финансового мира.
Четвертый — Карл (Кальман)-Мейер (1788—1855) открыл банковский дом в Неаполе. Он не обладал ни выдающимися способностями, ни трудолюбием, по крайней мере по меркам Ротшильдов.
Наконец, самый младший — Джеймс (Якоб)-Мейер, который родился в 1792 году, продолжил дело семьи в Париже. Столица Франции была в то время крупнейшим рынком капитала. Финансовые заговоры и интриги, описанные в романах Бальзака — ровесника Джеймса Ротшильда, — отнюдь не плод фантазии великого писателя. Но для Джеймса это оказалось весьма подходящим. Он плавал в море интриг как рыба в воде и вскоре стал политическим стратегом семейства.
После падения Наполеона Бонапарта банкирский дом Ротшильдов выплатил Лондону, Вене и Берлину французские репарации на сумму в сто двадцать миллионов фунтов стерлингов. Через них шли также финансовые средства, которые английское правительство предоставило Вене в качестве компенсации за ущерб, понесенный в войне против Наполеона. Во многом благодаря этому венский императорский двор в 1817 году дал понять Ротшильдам, что они засуживают награды. Надворный советник фон Ледерер, который ведал вручением наград, предложил преподнести Ротшильдам золотую табакерку с бриллиантовой монограммой императора. Однако Ротшильды деликатно ответили, что золота и бриллиантов у них более чем достаточно, а желательным для них было бы получение дворянства. Так Ротшильды обрели право писать свою фамилию с приставкой «фон». А в 1822 году они получили наследственный титул баронов. Девизом к своему гербу братья Ротшильды взяли слова: «Согласие, усердие, честность», что полностью соответствовало заветам отца.
Вообще, секрет успехов сыновей старшего Ротшильда заключался прежде всего в том, что они всегда старались придерживаться принципов, которые внушал им отец. Именно соблюдению этих принципов, наряду с умелым ведением дел и использованием выгодной конъюнктуры, были обязаны сыновья своим процветанием.
Первый из этих принципов гласил: жить в согласии, любви и дружбе. Это был завет, оставленный умирающим отцом. Отныне всякое деловое предложение становилось предметом совместного обсуждения, все операции проводились сообща, а прибыль делилась поровну. И хотя братья жили далеко друг от друга, это не мешало их тесному сотрудничеству. Более того, из этого они извлекали немалую пользу, поскольку были хорошо информированы о положении дел в различных государствах Европы.
Второй принцип — никогда не гнаться за непомерно высокой прибылью и оградить себя от всяческих случайностей. Знать во всем меру и никогда не терять цель из виду — в этом один из главных секретов успехов Ротшильдов.
Таким образом, братья рассредоточили свое предприятие в пяти основных центрах Западной Европы. Одновременно это были и главные центры общественно- политической жизни. Они начали выпускать государственные займы, что позволило дому Ротшильдов стать мощнейшей финансовой империей. Однако в Берлине и Петербурге они так и не смогли утвердиться, поскольку в Берлине всем заправлял дом финансиста Брейтшредера, а в столице Российской империи доминировал дом барона Штиглица.
Каждый из братьев поддерживал доверительные отношения со многими ведущими политиками своей страны. Налаженная ими отличная информационная служба вовремя оповещала их обо всех политических и финансово-экономических проектах и намерениях правительств. Если они собирались получить крупный и долгосрочный государственный заем, то не брезговали использовать различные средства, в том числе подкуп министров и депутатов парламента.
Из всех братьев самым способным и удачливым оказался Натан. Именно благодаря ему дом Ротшильдов сумел подняться на невиданную высоту. Отец направил Натана в Англию в 1798 году в качестве своего торгового агента. Здесь он начинает скупать фабричную продукцию и торговать ею. Позже Натан так рассказывал о начале своей деятельности: «Во Франкфурте нам всем было тесно. Я вел дела с английскими товарами и вскоре попросился у отца выехать в Англию. Прибыв в Манчестер, я истратил все свои наличные на покупку товара. Все было очень дешево, и я получил немалую прибыль. Вскоре я понял, что могу извлекать тройную пользу, зарабатывая на сырье, краске и на собственном изготовлении. За короткое время с моих 20 тысяч фунтов стерлингов я получил 60 тысяч».
В 1803 году Натан переезжает из Манчестера в Лондон и основывает банк «Натан Мейер Ротшильд и сыновья». До самой своей смерти в 1836 году именно он был главной движущей силой всех финансовых операций Ротшильдов в Европе. В начале XIX века шли войны с наполеоновской Францией, и в течение 1806— 1815 годов Натан финансировал союзников.
Британское правительство именно банкирскому дому Ротшильдов поручило перевод денег для английской армии в Испании во главе герцогом Веллингтоном. Натан и его братья, хорошо знавшие только немецкий и иврит, тем не менее сумели создать настоящую подпольную сеть, охватившую половину Европы. Они проходили сквозь армейские кордоны под чужим именем и с поддельными документами, подкупали чиновников, использовали контрабандистов. Позднее Натан признавал, что организованная им и его братьями переправа золота контрабандой армии герцога Веллингтона стала самым удачным из всех его предприятий.
Прекрасно сознавая, как может отразиться на финансовом рынке исход сражения при Ватерлоо, Натан Ротшильд завел голубиную почту и первым в Англии получил известие о разгроме Наполеона Бонапарта. Он сообщил о победе герцога Веллингтона правительству, а затем отправился на фондовую биржу. Но вместо того, чтобы скупать долговые бумаги английского государственного займа, готовые вот-вот резко подскочить в цене, Натан стал в огромных количествах продавать облигации госзайма. При этом он не отвечал ни на какие вопросы. Он просто стоял на своем привычном месте на бирже — у колонны, которая с тех пор так и называется — «колонна Ротшильда», — и продавал. По бирже прошел слух: «Значит, Ротшильд что-то знает! Значит, англичане битву при Ватерлоо проиграли!» Биржевые игроки начали срочно избавляться от акций. А когда государственные бумаги упали в цене чуть ли не до нуля, Натан скупил их одним разом. Через несколько часов до биржи дошла, наконец, официальная информация о разгроме Наполеона. Цены на бумаги резко поднялись вверх, и Ротшильд получил миллионную прибыль. Так в 1815 году Англия стала первой державой в Европе, а дом Ротшильдов — первым в Ан- глии.
Однажды к нему пришли два незнакомца. Когда они полезли за чем-то в карманы, Натан схватил книгу и швырнул в них, за ней последовали тяжелая ваза и чернильный прибор. Наконец, когда его слуги схватили посетителей, выяснилось, что они были банкирами, пришедшими с визитом. Оказавшись лицом к лицу с «великим Ротшильдом», они так растерялись, что не могли говорить, и хотели достать визитные карточки, чем и вызвали такую реакцию Ротшильда.
С теми, кто его задевал, Натан обходился без всяких церемоний. Однажды его «прогневал» Английский банк, которому он помог спастись от банкротства во время паники 1825 года. Он послал в банк вексель на солидную сумму, написанный на его личном бланке, а почтенное учреждение отказалось принять вексель к оплате, ссылаясь на то, что банк принимает к оплате лишь свои собственные обязательства, а не векселя частных лиц.
Ротшильд приказал своим служащим купить максимально возможное количество банкнот Английского банка. Затем однажды утром, когда банк открылся, он появился там с тяжелым баулом. Натан достал пятифунтовую бумажку и попросил кассира разменять ее на золотые монеты. Тщательно проверив каждую монету, он убрал их, вытянул вторую пятифунтовую бумажку и вновь потребовал золотые монеты. В это время вошли девять служащих Ротшильда с мешками и приступили к обмену банкнот на золото, внимательно проверяя каждую получаемую монету. Операция длилась весь день, и ко времени закрытия банка его золотые резервы уменьшились на 200 тысяч фунтов стерлингов.
На следующее утро, когда Ротшильд и его служащие вновь принесли свои мешки и готовились продолжить операцию, управляющий спросил, что же послужило причиной таких чрезвычайных мер. «Вы сказали мне, что не имеете возможности принимать к оплате мои векселя, — ответил Ротшильд. — Если вы не доверяете моим, то и я имею право сомневаться в ваших банкнотах. Я потребую золото на каждую вашу банкноту, и вашим служащим придется непрерывно в течение предстоящих двух месяцев выплачивать мне его». Спешно созвали Совет директоров банка, который направил Ротшильду официальное извинение и заверение, что с сего дня Английский банк принимает к оплате его векселя в любое время.
У Натана было четыре сына и три дочери. Перед смертью он завещал своим детям 800 тысяч фунтов стерлингов, кроме того, каждый из сыновей унаследовал еще до 150 тысяч фунтов. Пышные похороны Натана в августе 1836 года продемонстрировали, какую силу и власть он обрел к тому времени. За его гробом шли послы великих держав, мэр Лондона, шерифы, члены парламента, министры. Главой лондонской фирмы становится сын Натана — Лайонел (1806—1879). Когда в 1858 году он был в четвертый раз избран в нижнюю палату, то, используя дружеские отношения с Дизраэли, сумел добиться того, что английские ев- реи получили гражданские права.
Не менее удачно развивалась деятельность Джеймса Ротшильда в Париже. Вначале он был только агентом своего брата Натана. После падения Наполеона Бонапарта Джеймс начинает самостоятельную финансовую деятельность, а с 1836 года, после смерти Натана, он стал играть ведущую роль в доме Ротшильдов. К концу своей жизни Джеймс стал вторым по богатству человеком во Франции после короля. Генрих Гейне так писал о Джеймсе Ротшильде: «Мне приходилось видеть людей, которые, приближаясь к великому барону, вздрагивали, словно касались вольтовой дуги. Личный кабинет Джеймса был удивительным местом, вызывающим возвышенные мысли и чувства, как это делает с нами вид океана или неба, усеянного звездами. Здесь чувствуешь, как ничтожен человек и как велик Бог! А деньги — это Бог в наше время, и Ротшильд — его пророк!»
После смерти Джеймса Ротшильда дела наследовал его старший сын Альфонс. Это был представитель династии совершенно нового типа. Особой достопримечательностью в Париже считались его коллекции произведений искусства. Он жертвовал на дома для ра- бочих миллионы франков. Альфонс Ротшильд получил французское подданство, а в 1855 году стал управляющим банка Франции.
Династия
История Ротшильдов самым тесным образом связана с историей Европы. В Вене они финансировали Габсбургов и давали советы Меттерниху. Во Франции первая железная дорога была построена на деньги парижского банка «Братья Ротшильд». В Лондоне Лайонел Ротшильд осуществлял надзор за использованием многих правительственных займов, которые шли на помощь во время голода в Ирландии, на Крымскую войну, на приобретение акций Суэцкого канала.
Однако интересы Ротшильдов не ограничивались Европой. В 60-е годы XIX века на юге Африки были обнаружены крупнейшие в мире месторождения алмазов. До этого почти две тысячи лет человечество знало лишь индийские алмазы, многие из которых обросли легендами и преданиями: «Кохинор», сверкающий в британской короне, бриллиант Орлова или знаменитый «Шах», полученный из Персии Николаем I как примирительный подарок после убийства Александра Грибоедова. Теперь же наступает очередь легенд о южно-африканских алмазах.
На рубеже 60—70-х годов здесь, на юге Африки, начинается «алмазная лихорадка». В европейской и американской прессе замелькали названия бурских фирм и прежде всего «Де Бирс». Уже в 1871 году район алмазных месторождений захватила Великобритания. В этой операции ведущую роль играл английский министр колоний лорд Кимберли. Его именем назвали поселок старателей, а затем и возникший здесь город. А породу, в которой оказались алмазы, кимберлитом.
Ротшильды с самого начала зорко следили за происходящим в Африке. Лорд Натаниэл Ротшильд, сын Лайонела и внук Натана, имел специального наблюдателя на алмазных россыпях. В 1887 году именно к Натаниэлю Ротшильду обратился знаменитый Сесил Родс, вошедший позднее в историю как создатель Британской колониальной империи. Родс попросил у Ротшильда в кредит миллион фунтов стерлингов и получил могущественного покровителя — финансиста и политика. В марте 1888 года в Южной Африке появилась мощная компания «Де Бирс», одним из руководителей которой был Родс. В состав руководства компании с самого начала вошел представитель Ротшильдов.
В годы второй мировой войны Ротшильды испытали на себе все ее ужасы. Роберт Ротшильд был отправлен нацистами в концлагерь и погиб в газовой камере. В Германии мало кто из Ротшильдов сумел уцелеть, а все их состояние было конфисковано. После второй мировой войны Ротшильды так и не сумели восстановить свои прежние позиции. Однако лондонский и парижский банкирские дома и поныне считаются «великими державами» в финансовом мире. Долгое время они традиционно чуждались друг друга, но в 60-е годы XX века начинается их сближение.
Ротшильды тщательно хранили чистоту своей крови. Из Франкфурта направлялась вся династическая «политика браков». Мужчины должны были жениться на девушках из отдаленных ветвей семейства, а девушки должны были, по возможности, выходить замуж за мужчин из аристократических семей. Все свадьбы должны были играться во франкфуртском доме.
Но время берет свое. В середине XX века Ротшильды несколько отошли от своей замкнутости. Стали даже заключаться браки с неевреями. Барон Ги де Ротшильд, разведясь со своей первой женой-еврейкой, женился на католичке, хотя ему и пришлось отказаться от поста главы еврейской общины во Франции.
Все они сохраняли приверженность иудаизму. Это хорошо иллюстрирует известная картина, написанная в XIX веке. На ней изображены Лайонел, сын Натана, в момент принятия присяги в качестве депутата английского парламента. На его голове — шляпа, что противоречило всем канонам парламентского этикета. А до этого его отец, Натан, который трижды избирался в парламент, настаивал на произнесении присяги по еврейскому обычаю, то есть не снимая шляпы. Все три раза парламент ему в этом отказывал. Отказывали трижды и Лайонелу. Но когда тот был подавляющим большинством голосом избран в четвертый раз, парламент сдался.
Первая мировая война привела к некоторому падению престижа семейства Ротшильдов в финансовом мире, поскольку начинают доминировать американские «финансовые тузы». Во время войны каждый из Ротшильдов поддерживал «свое» правительство. После распада австро-венгерской империи резко ослабла роль венских Ротшильдов.
В мировую историю дом Ротшильдов вошел как самый знаменитый и самый крупный частный банкирский дом. За сто лет, с 1804 по 1904-й, на одних лишь займах Ротшильды получили миллиард триста миллионов фунтов стерлингов. При этом Ротшильды были не только банкирами, составившими себе огромное состояние и постоянно увеличивающими его. Они оказывали серьезное влияние на политику своих стран и Европы в целом. Ротшильды поддерживали или свергали правителей, предотвращали военные конфликты, снимали неугодных министров и назначали новых. Опираясь на свои мощные финансовые возможности, они управляли парламентом и прессой, устраняли конкурентов, проникали в самые разнообразные сферы внутренней жизни европейских государств.
Ротшильды финансировали войны против Наполеона Бонапарта, и это привело к его поражению. Они приняли активное участие в выплате французских репараций после поражения в войне с Пруссией в 1871 году, что привело к быстрому освобождению занятых французских территорий и способствовало возрождению национального духа французов. Только банкирский дом Ротшильдов сумел в считанные часы предоставить английскому премьеру Дизраэли громадную сумму в наличных для покупки акций Суэцкого канала.
Ротшильды активно содействовали эмансипации своих единоверцев в странах Европы. Один из них стал первым евреем в английском парламенте, другой — вошел в палату лордов. Именно Ротшильды были первыми евреями в верхней палате парламента в Берлине и Вене. Они жертвовали многомиллионные суммы на благотворительные цели. Для создания «национального очага» евреев в Палестине они выделили семьдесят миллионов франков золотом, о чем напоминают названия улиц в современном Израиле.
Маркс: идеолог Новейшего времени
Высшее, к чему может стремиться человеческая мысль, — это выйти за свои собственные пределы, придя к парадоксу.
Сёрен Кьеркегор
Карл Маркс, родившийся в 1818 году в немецком городе Трире, сын адвоката, крещеного еврея, внук и правнук раввинов, гениальный социальный философ и экономист, стал властителем дум последующих поколений. В 1999 году по итогам опроса, проведенного Би-Би-Си в Интернете, Маркс был назван человеком XX столетия. Действительно, коммунизм и национал-социализм, ставший ответной реакцией на него, во многом определили облик ушедшего века. Недаром Милован Джилас заметил, что Маркс принадлежит к тем исполинам духа, которые охватывают целые эпохи.
Карл Маркс, как никто другой, повлиял на современную историю, — трудно назвать мыслителя, сравнимого с ним по известности, популярности и тиражам книг. За его «Капиталом» стоит огромный, нечеловеческий труд и мощнейшее интеллектуальное напряжение, острый ум и громадная эрудиция. Тысячи и тысячи умнейших людей видели в этой книге чуть ли не современную Библию.
Поражает самоотверженность и самоотдача Маркса. В письме немецкому социалисту Зигфриду Мейеру он говорит: «Итак, почему же я вам не отвечал? Потому что я все это время находился на краю могилы.
Я должен был поэтому использовать каждый момент, когда я бывал работоспособен, чтобы закончить свое сочинение, которому я принес в жертву здоровье, счастье, семью... Я считал бы себя поистине непрактичным, если бы подох, не закончив полностью своей книги, хотя бы только в рукописи».
И все же он всю жизнь оставался загадкой для своих пролетарских современников. Для многих он остается загадочной фигурой и сегодня, на заре третьего тысячелетия. Почему Маркс, в юности близкий к христианству, вдруг стал ярым противником религии? Чем был обеспокоен его отец в своих письмах к Марксу? Почему он так был несчастен в семейной жизни? Почему переписка Маркса и Энгельса полна непристойностей и злобной ругани? Почему он был таким ярым антисемитом? Да и другие народы он не жаловал — славян, немцев, французов. Откуда в нем этот культ ненависти и насилия? Примерно те же вопросы ставил еще Сергей Булгаков: «Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какому богу служил он своей жизнью? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?»
В отечественной литературе и публицистике долгое время преобладал мифологизированный образ Маркса. «Его молодость — это заря гения, несущего людям светлый огонь Прометея!» У Маркса «натура прирожденного борца и народного трибуна», а его «убежденность, основанная на строго объективном анализе действительности, увлеченность, рожденная высокими гуманистическими чувствами, — сливаются воедино в революционном порыве». Между тем Маркс — это живой человек, а не «икона», реальная историческая личность со всеми достоинствами и недостатками. Страсти и самолюбие, жизненные трудности и недостаток средств, личное горе и высокое вдохновение — все было присуще его жизни. По Сергею Булгакову, душе Маркса была гораздо доступнее стихия гнева и ненависти.
Он живо интересовался всеми политическими событиями своего времени. Но он еще писал длинные любовные письма, сочинял неплохие стихи, охотно участвовал в дружеских пирушках, сидел в карцере, дрался на дуэли. Если исходить из документальных свидетельств, в частности переписки Маркса и Энгельса, то можно сделать вывод, что Маркс видел в пролетариате главным образом орудие для своих личных амбиций. С одной стороны — его социалистическая деятельность, направленная на защиту обездоленных и преобразование общественного строя на началах справедливости, равенства и свободы. С другой — его стремление сделать это революционное движение средством для разрушения святыни в человеке. Недаром тот же Булгаков замечает, что образ Маркса «загадочно и страшно двоится».
Карл Поппер считает, что Маркса от многих других его последователей отличала искренность в поиске истины и интеллектуальная честность: «Чтобы справедливо судить о марксизме, следует признать его искренность. Широта кругозора, чувство фактов, недоверие к пустой и, особенно, морализирующей болтовне сделали Маркса одним из наиболее влиятельных в мире борцов против лицемерия и фарисейства. У него было пылкое желание помочь угнетенным, и он полностью осознавал необходимость показать себя в деле, а не только на словах. Его главные таланты проявились в области теории. Он затратил гигантские усилия для того, чтобы выковать, так сказать, научное оружие для борьбы за улучшение доли громадного большинства людей... Интерес Маркса к общественным наукам и социальной философии в своей основе был практическим. Он видел в знании средство обеспечения прогресса человека». Но Поппер считает Маркса, несмотря на все его несомненные достоинства, лжепророком. Он указал направление движения истории, но его пророчества не сбылись.
По Миловану Джиласу, Маркс интересен прежде всего как пророк. Корни его миссии восходят к Библии, к тем предсказаниям, в которых древние пророки вещали «богоизбранному народу» и всему человечеству о неизбежном. «Если пророчество не что иное, как предвидение неизбежного, то тогда Маркс — самый прозорливый пророк эпохи индустриализации общества, размывания границ между умственным и физическим трудом и подчинения рода человеческого процессу промышленного производства. Но, как и всякий пророк, Маркс ошибся относительно конкретных меюдов и сил, посредством которых все это должно осуществляться».
Чрезмерная «эксплуатация» марксизма привела к тому, что его идеи стали восприниматься как универсальные. Марксизм превратился в догму, а взгляды Маркса были канонизированы. В умах последователей как бы возобладал именно пророческий элемент его воззрений. Да и в самом марксизме многие видят элемент религиозности. Ведь пророчества Маркса давали пролетариям в эпоху невзгод и страданий веру в свою миссию, в свое великое будущее. Карл Ясперс, к примеру, полагал, что притягательность марксизма определяется не его критикой социальной несправедливости, а основана на переживании древней мифологической концепции «мирового пожара» — разрушения и возрождения обновленного мира и рождения нового человека.
Маркс сотворил миф о пролетариате, который способен освободить человечество, приписав ему мессианские свойства. Как подметил Николай Бердяев, на пролетариат тем самым переносятся свойства избранного народа Божьего. Это секуляризация древнееврейского мессианского сознания, и тут материализм Маркса оборачивается крайним идеализмом. Миссия пролетариата есть предел веры. Марксизм есть не только наука и политика, но также вера, религия. И в этом, по Бердяеву, его сила.
Был ли прав Маркс? Анализу его теоретического наследия и практической реализации его учения посвящены горы литературы. Одни полагают, что марксистская теория и идеология были довольно искусными построениями, но они противоречили фактам истории и общественной жизни. Другие считают, что марксизм не устарел и продолжает «работать», но речь следует вести об «истинном» марксизме, а не искаженном последователями и эпигонами.
Одни авторы утверждают, что сам Маркс не был сторонником революционного насилия, не призывал к террору; все это — «заслуга» его последователей. Но с этим все же трудно согласиться. Маркс, наверное, был единственным в истории крупным философом, который призывал заменить оружие критики критикой оружием. Говорил он и о «революционном терроризме». Суть мировоззрения Маркса — идея пролетарской революции, призыв к насильственному ниспровержению капитализма. И нет принципиальной разницы между марксовым «Бьет час капиталистической частной собственности, экспроприаторов экспроприируют» и ленинским «Грабь награбленное».
Марксизм абсолютизирует насилие, которое, по определению создателя учения, является повивальной бабкой истории. Маркс, как и Энгельс, не запятнали себя кровью безвинных людей, которые не желали превращаться в послушное стадо, бредущее в зияющее гигантской пропастью завтра. Они были кабинетными учеными. Но когда революции стали свершившимся фактом, на арену истории выдвинулись уголовники и палачи, честолюбивые посредственности и беспринципные ничтожества.
И все же неизбежно возникает вопрос: ответственна ли теория за практику? Следует ли марксистскую идею смешивать с ее вульгаризацией? Быть может, марксизм классических текстов является подлинным, а марксизм реального социального действия — ложным? Но правомерно ли различать подлинность замысла и ложность исполнения применительно к марксизму? Если бы, например, речь шла о философии Спинозы, то требование отделять классический текст от более поздних интерпретаций и, следовательно, искажений, было бы естественным. Ведь философия Спинозы не претендует на статус «теории, изменившей мир»; она его лишь объясняет. Марксизм же является программой социального переустройства, и его достоинства выявляются только в процессе воплощения. Для Запада марксизм никогда не был государственной идеологией. Поэтому там вопрос «умер ли марксизм?» всерьез не обсуждается. Для левых интеллектуалов Запада марксизм, естественно, жив, как живы идеи Гегеля, Канта или Фрейда.
И не следует путать научную критику марксизма с его плебейским оплевыванием и ниспровержением, напоминающими не столько цивилизованный подход, сколько варварский; подобные люди стремятся выместить на идеях, ими же искаженных, свою злость как последствие осознания собственной неполноценности.
Маркс был гениальным философом и экономистом, оказавшим огромное воздействие на духовную историю человечества. Оспорить это невозможно. Но вопрос не в том, что марксизм представляет собой как явление культуры, а в том, можно ли жить в соответствии с его предписаниями?! Что же касается ответственности Маркса за то, что творилось его именем, то, пожалуй, прав А. Гусейнов, полагающий, что сама постановка вопроса выдержана строго в марксистском духе. Ведь именно марксизм соразмеряет социально философскую теорию с общественной практикой, чтобы выявить истинность первой.
Философ Карл Поппер считал, что опровергать «законы истории» Маркса — то же, что и опровергать Нострадамуса. Какое из положений Маркса ни возьми — все сбываются. Развитие капитализма сопровождается периодическими кризисами. Международные монополии опутали своими щупальцами всю планету. Просто формулировки Маркса, как и Нострадамуса, — многозначны и обтекаемы. Маркс — не ученый, он пророк. Подобно Иисусу Христу, он говорит не столько о нищете материальной, сколько о духовной, о превращении человека в робота-потребителя. Сравнительно недавно англичанин Фрэнсис Винн опубликовал биографию Маркса, где пишет, что главное у Маркса — это мрачная игра воображения. Его «Капитал» наполнен метафорами, парадоксами, силлогизмами и иронией.
Маркс изобразил ирреальную страну, жуткое зазеркалье, где все перевернуто вверх дном. И тем самым сделал весьма важное и полезное дело: вскрыл язвы и пороки нашей цивилизации, чтобы способствовать критическому самоосознанию и обновлению общества.
Маркс прав во многих частностях и велик в своих заблуждениях. Однако имя его и идеи живут, ибо оказали и продолжают оказывать мощное влияние на духовную и социальную историю человечества.
Надежды и разочарования
Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в Трире, одном из старейших городов Европы. Расположенный недалеко от границы с Францией, Трир часто менял правителей. В ходе Тридцатилетней войны его жители воевали то на стороне Франции, то на стороне немецких государств.
Отец основателя марксизма, Генрих Маркс, был преуспевающим адвокатом. Он уже в молодые годы разошелся во взглядах с отцом, раввином в Трире, и сумел самостоятельно «выйти в люди». Когда родился Карл, его отец уже был известным в городе человеком, пользовался уважением своих коллег и был даже избран председателем коллегии адвокатов Трира. В 1815 году, когда после Венского конгресса Трир, как и вся Рейнская область, был присоединен к Пруссии, король распорядился в бывших французских областях отстранить евреев от государственных должностей. Генриху Марксу было запрещено заниматься адвокатурой.
Тогда он крестился и стал лютеранином. В 1824 году перешли в новую веру и все его дети.
Карл Маркс с детства вращался в высокообразованной социальной и культурной среде. Много дал ему отец, человек образованный и эрудированный, приверженец либеральных взглядов. Кроме отца, на юного Маркса большое влияние оказал близкий друг семьи, будущий тесть Карла — барон Людвиг фон Вестфален. Юношу в большом доме Вестфален привлекали обилие книг и огромная эрудиция хозяина. Всесторонне образованный, Людвиг фон Вестфален любил античную культуру, прекрасно знал древнегреческую поэзию и философию, владел древнегреческим, латинским, французским, английским и испанским языками.
В двенадцатилетнем возрасте Карл поступил в гимназию, где проучился шесть лет, с 1830 по 1835 год. Он изучал древнюю, средневековую и современную историю, древние языки, философию. Первые документальные свидетельства, позволяющие судить об интеллектуальном облике юного Маркса, относятся к 1835 году. Ему семнадцать лет. Он полон надежд, много и охотно читает. В гимназических сочинениях отражен тот круг проблем и воззрений, которые волновали юношу. Особенно интересно гимназическое сочинение Маркса «Размышления юноши при выборе профессии». Он заканчивает гимназию, впереди — выбор пути, судьбы, быть может, жизненного призвания. О чем же думает в этом возрасте Маркс, что его более всего волнует?
Человек, говорит Маркс, отличается от животного, в частности, тем, что он сам избирает свою судьбу. В то время как животное движется в определенных границах своего существования, заранее установленных внешними обстоятельствами, человек творит самого себя, выбирает дело своей жизни. Возможность и необходимость выбора — великое преимущество свободного человека перед несвободным животным. Но выбор заключает в себе и опасность: он может оказаться действием, которое сделает человека несчастным или даже погубит его. Необходимо, следовательно, полностью осознать свою ответственность перед самим собой. Надо отбросить все посторонние соображения, мелкие страсти, тщеславие, с тем чтобы в спокойном, неторопливом сосредоточении решить вопрос о призвании. «Мы должны поэтому серьезно взвесить, действительно ли нас воодушевляет избранная профессия, одобряет ли ее наш внутренний голос, не было ли наше воодушевление заблуждением, не было ли то, что мы считали призывом божества, самообманом».
Выбор профессии, с точки зрения Маркса, предполагает не только трезвую оценку собственных способностей, но и готовность отдать все свои силы осуществлению общечеловеческих идеалов. «Стремление к совершенствованию, без которого не может быть истинного призвания, и служение благу человечества не противоречат друг другу: человек может приблизиться к совершенству лишь работая для блага своих современников. Если же человек трудится только для себя, руководствуясь своими эгоистическими устремлениями, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но он никогда не станет истинно совершенным и великим человеком».
«История признает тех людей великими, — размышляет юноша, — которые трудясь для общей цели, сами становились благороднее; опыт превозносит, как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей... Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что это — жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам, наши дела будут жить тогда тихой, но вечно действенной жизнью, а над нашим прахом прольются горячие слезы благодарных людей».
Осенью 1835 года семнадцатилетний Маркс покидает родительский дом и перебирается в Бонн. Он — студент юридического факультета университета. И сразу же началась буйная студенческая жизнь: попойки, споры до рассвета, дуэли на шпагах, ухаживания за девицами. Маркс неутомим в шалостях и выпивках, ловок в фехтовании, горяч в диспутах. Но ему постоянно не хватает денег. Отец верит в сына, считает его «светлой головой», но иногда со страхом спрашивает себя, не одержим ли юноша злым демоном, что испепеляет мозг и иссушает сердце.
В октябре 1836 года Маркс переходит учиться в Берлинский университет и с головой погружается в изучение юриспруденции, философии, истории. Но со временем он охладел к юридической науке, а после смерти отца (май 1836 года) окончательно оставил мысль о специализации в области права. С 1839 года он основное время уделяет изучению античной философии. И для своей диссертации Маркс избирает тему о различиях между натурфилософией Демокрита и Эпикура.
В предисловии к диссертации Маркс пишет: «Философия, пока в ее покоряющем весь мир, абсолютно свободном сердце бьется хоть одна еще капля крови, всегда будет заявлять — вместе с Эпикуром — своим противникам: «Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы. А тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах». Философия этого не скрывает. Признание Прометея: «По правде, всех богов я ненавижу», — есть ее собственное признание, ее собственное изречение, направленное против всех небесных и земных богов, которые не признают человеческое самосознание высшим божеством. Рядом с ним не должно быть никакого божества.
А в ответ заячьим душам, торжествующим по поводу того, что положение философии в обществе, повидимому, ухудшилось, она повторяет то, что Прометей сказал слуге богов, Гермесу:
Знай хорошо, что я б не променял Своих скорбей на рабское служенье:
Мне лучше быть прикованным к скале,
Чем верным быть прислужником Зевеса.
Прометей — самый благородный святой и мученик в философском календаре». В этих словах молодого Маркса выражено не только его непримиримое ко всякому угнетению свободолюбие; в них сформулировано в основных своих чертах как бы некое кредо: антирелигиозность, борьба против деспотизма и угнетения человека человеком. В своей диссертации Маркс говорит уже о революционном призвании философии. Силу, способную покончить с любым угнетением, он видит в самоосознании, в духовной деятельности, высшей формой которой является не теоретическое мышление, а основанная на нем революционная практика.
В том же 1841 году, когда Маркс завершил диссертацию, в Германии увидела свет книга Людвига Фейербаха «Сущность христианства». В ней автор отстаивал материалистический взгляд и на природу, и на человека, выступая против идеализма Гегеля. Эта книга оказала заметное влияние на формирование взглядов молодого Маркса. Тогда же Карл знакомится с немецким социалистом Моисеем Гессом, который высоко ценил его острый ум и философское мышление. В сентябре 1841 года Гесс говорил в одном из своих писем о Марксе как о «величайшем, может быть, единственном из ныне живущих, настоящем философе», который «нанесет последний удар по средневековой религии и политике».
С января 1842 года в Кельне стала издаваться «Рейнская газета». Вскоре Маркс начинает активно с ней сотрудничать, а в октябре занимает пост редактора. Газета приобретает отчетливую оппозиционную направленность. В число зарубежных корреспондентов входил и Фридрих Энгельс, который присылал свои статьи из Англии. В ноябре 1842 года именно в Кельне Маркс впервые встретился с Энгельсом; тот был здесь проездом в Англию.
В 1843 году Маркс женился на Женни фон Вестфален, с которой он был обручен еще студентом. В октябре 1843 года молодая чета перебирается в Париж. Здесь Маркс познакомился с поэтом Генрихом Гейне. Вскоре они становятся друзьями, часто встречаются и беседуют на темы, которые волновали их обоих.
— На всем лежит печать денег, — с грустью размышлял Гейне, — на всем лежит страх, который они сеют. В Париже, как в Спарте, есть свой храм страха. И этот храм — биржа, в залах которой все трепещут. Каких-то пятьдесят лет тому назад французы поклонялись в соборе Нотр-Дам богине разума, а теперь с большим рвением поклоняются богине страха — деньгам. Неужели это Франция, родина Просвещения, где смеялся Вольтер и плакал Руссо? Как азиаты почитали Магомета пророком Аллаха, так мы, европейцы, почитаем барона Ротшильда пророком нового бога. Я иногда бываю в его конторе, чтобы наблюдать, как народ, и не только избранный народ Божий, но и все прочие народы, склоняется и сгибается перед ним. Спинные хребты так изгибаются и извиваются, что, пожалуй, самый лучший акробат не сможет соперничать с ними в этом искусстве.
Генрих попытался показать, как изгибаются и склоняются перед Ротшильдом просители, но у него это не получилось, он извинился и продолжал:
— Я видел людей, которые, приближаясь к великому барону, судорожно вздрагивали, точно от прикосновения к вольтовому столбу. Уже перед дверью его кабинета многих охватывает благоговейный трепет. Несколько лет тому назад, придя как-то раз к господину фон Ротшильду, я увидел ливрейного лакея, проносившего по коридору его ночной сосуд, а биржевой спекулянт, оказавшийся здесь в эту минуту, почтительно снял шляпу перед могущественным горшком. Я заметил себе имя этого человека и убежден, что со временем он станет миллионером. — Генрих поднял руку, как это любят делать проповедники. И заговорил с пафосом: — Истинно, истинно говорю вам: деньги — бог нашего времени, а Ротшильд — пророк его! Деньги всесильны. Барон Джеймс Ротшильд покупает все. Он не знает ни одной музыкальной ноты, но Россини был у него другом дома. Все подвластно деньгам — талант, любовь, жизнь».
Впрочем, будучи романтиком, Гейне не разделял социалистических устремлений молодого Маркса: «Социалистическое будущее пахнет кнутом, кровью, безбожием и обильными побоями». Их сближало то, что оба не принимали еврейство и отличались нетерпимостью, что находило выражение в их едких нападках на врагов, а подчас и на друзей.
Генрих Гейне так отзывался о Марксе и Энгельсе: «Более или менее скрытые вожди немецких коммунистов — больше логики, сильнейшие из коих прошли школу Гегеля, и это, несомненно, способнейшие головы и энергичнейшие характеры Германии. Эти мастера революции и их беспощадно решительные ученики — единственные живые люди в Германии, и боюсь, что им принадлежит будущее».
В феврале 1844 года выходит первый номер «Немецко-французского ежегодника». Среди его авторов Генрих Гейне, Михаил Бакунин, Моисей Гесс и, конечно же, Маркс с Энгельсом. У Маркса две статьи: «К критике гегелевской философии права» и пресловутая «К еврейскому вопросу», которая была написана еще в Германии осенью 1843 года.
Суждения Маркса по еврейскому вопросу производят отталкивающее впечатление. Для него еврейский вопрос — это вопрос о процентщике-«жиде». Он пишет: «Вопрос о способности еврея к эмансипации превращается для нас в вопрос: какой особый общественный элемент надо преодолеть, чтобы упразднить еврейство? Ибо способность к эмансипации современных евреев есть отношение еврейства к эмансипации современного мира. Это отношение с необходимостью вытекает из особого положения еврейства в современном порабощенном мире.
Постараемся вглядеться в действительного еврея-мирянина, не еврея субботы, как это делает Бауэр, а в еврея будней.
Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие.
Каков мирской труд еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги.
Но в таком случае эмансипация от торгашества и денег — следовательно, от практического, от реального еврейства — была бы самоэмансипацией нашего времени.
Организация общества, которое упразднило бы предпосылки торгашества, а следовательно, и возможность торгашества, — такая организация общества сделала бы еврея невозможным. Его религиозное сознание рассеял ось бы в действительном, животворном воздухе общества, как унылый туман.
Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация человечества от еврейства.
Что являлось, само по себе, основой еврейской религии? Практическая потребность, эгоизм.
Деньги — это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога».
Маркс полемизирует здесь с утверждением Бруно Бауэра, что еврейский вопрос есть в основе своей вопрос религиозный. Он не приемлет этого справедливого положения, поскольку стоит на отчетливо антирелигиозных позициях. И Маркс указывает на недостаточность чисто политической эмансипации, потому что при ней остается еще религия. В этой статье Маркса отчетливо проявился его антисемитизм. Английский историк Пол Джонсон полагает даже, что марксова теория коммунизма явилась конечным продуктом теоретического антисемитизма Маркса. Спиноза первым показал, как критику иудаизма можно использовать для радикальных общезначимых выводов. Свой вклад в это внесли французские просветители с их глубоко враждебным отношением к иудаизму. Маркс довел эту критику до логического предела, усмотрев в еврействе заговор злых сил против человечества. В итоге революционный социализм, к которому Маркс пришел в конце 40-х годов, стал расширенной и видоизмененной формой его раннего антисемитизма. Отныне Маркса уже не волновала охота на «ведьм еврейских», теперь речь зашла уже о «ведьмах вообще».
В это время Маркс приходит к идее о «миссии» пролетариата, которая высказана им в статье «К критике гегелевской философии права». Для того чтобы овладеть массами, говорит он, теория должна быть революционной, выражающей коренные потребности народа. Потребности народов сами являются решающей причиной их удовлетворения. Речь идет прежде всего о материальных потребностях, неотделимых от развития общественного производства. «Отношение мира промышленности, вообще мира богатства, к политическому миру есть одна из главных проблем нового времени». Необходимость человеческой эмансипации обусловлена развитием материальных потребностей, ее осуществление неразрывно связано с тем классом, в котором эти потребности получают закономерное выражение. В Германии, говорит Маркс, ни один класс гражданского общества до тех пор не осознает необходимости всеобщей эмансипации и не сможет претворить в жизнь эту революционную задачу, «пока его к тому не принудят его непосредственное положение, материальная необходимость, его собственные цепи». Возможность человеческой эмансипации заключается, следовательно, «в образовании класса, скованного радикальными цепями, такого класса гражданского общества, который не есть класс гражданского общества; такого сословия, которое являет собой разложение всех сословий...» Этим классом может быть лишь пролетариат. Будучи порождением разлагающегося феодального общества, пролетариат представляет собой вместе с тем продукт развития промышленности. Его собственные интересы в конечном счете совпадают с интересами прогрессивной общественности в целом; в борьбе за свое освобождение он представляет интересы всех угнетенных.
Человеческая эмансипация в несравненно большей степени, чем политическая эмансипация, которая носит частичный характер, предполагает наличие класса, способного возглавить движение общества к прогрессу. Именно таким классом является пролетариат. «Воз- вещая разложение существующего миропорядка, пролетариат раскрывает лишь тайну своего собственного бытия, ибо он и есть фактическое разложение этого миропорядка. Требуя отрицания частной собственности, пролетариат лишь возводит в принцип общества то, что общество возвело в его принцип, что воплощено уже в нем, в пролетариате».
Свое полное воплощение эта идея об «исторической миссии пролетариата» вскоре получает в «Манифесте Коммунистической партии», где, по выражению Ленина, с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое мировоззрение, с его последовательным материализмом и учением о развитии, теории классовой борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества.
Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма
Летом 1847 года в Лондоне состоялся конгресс Союза справедливых. Маркс на нем не присутствовал. Союз переименовали в Союз коммунистов, а прежний лозунг «Все люди — братья» заменили на «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Осенью 1847 года на втором Конгрессе Союза коммунистов был утвержден его устав. По предложению Маркса и Энгельса в статье первой было записано: «Целью пролетариата является: свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного общества, и основание нового общества, без классов и без частной собственности». По настоянию Маркса и Энгельса было также принято решение о том, чтобы отныне Союз коммунистов открыто выступал перед все миром как коммунистическая партия и публично провозгласил свои принципы.
Марксу и Энгельсу было поручено написать партийную программу Союза коммунистов. Энгельс сделал первоначальный набросок программы, дав ему наименование «Принципы коммунизма». В письме Марксу в конце ноября 1847 года он говорил: «Подумай над символом веры. Я считаю, что лучше всего было бы отбросить форму катехизиса и назвать эту вещь «Коммунистическим манифестом». Ведь в нем придется в той или иной мере освоить историю вопроса, для чего теперешняя форма совершенно не подходит. Я привезу проект, составленный мною. Он написан в простой повествовательной форме, но ужасно плохо, наспех отредактирован. Я начинаю с вопроса, что такое коммунизм, и затем перехожу прямо к пролетариату — история его происхождения, отличие от прежних работников, развитие противоположности пролетариата и буржуазии, кризисы, выводы».
Маркс в конце 1847 года сам подготовил окончательный вариант Манифеста. Он тщательно отрабатывал каждый раздел, чуть ли не каждую фразу. Тогда он и внес в программу свое знаменитое: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма».
«Манифест Коммунистической партии» вышел из печати в конце февраля 1848 года. Имена авторов — Маркса и Энгельса — не были указаны. Именно эта брошюра в 23 страницы стала первым программным документом марксизма. Здесь авторы обосновали роль рабочего класса как «могильщика капитализма и создателя коммунистического общества». «Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, — утверждали Маркс и Энгельс, — только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт».
Таким образом, именно пролетариат был признан ими как единственный революционный класс, способный уничтожить старое общество. «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей, приобретут же они весь мир». Здесь же впервые подробно была обоснована идея диктатуры пролетариата.
Теория Маркса оформилась в эпоху революций, которые привели к власти буржуазию и существенно изменили облик Европы. События эти глубоко переживались всеми течениями общественной мысли того времени и способствовали их радикализации. И, конечно же, не один только Маркс видел тогда в революции единственно возможный способ разрешения социальных конфликтов и противоречий, в том числе и тех, что обозначились на буржуазной почве. Маркс не придумал классовую борьбу и революцию, он лишь распространил опыт борьбы буржуазии с абсолютизмом и феодальной аристократией на взаимоотношения буржуазии и класса наемных работников. Социализм Маркса был вызван к жизни разочарованием в результатах буржуазной революции и верой в то, что движение к подлинной свободе не может этим завершиться. Это осознание принципиальной незавершенности истории, невозможности ее остановить, — весьма важная составная часть учения Маркса.
Для Маркса пролетариат — «могильщик» капитализма, самый революционный класс его времени. Это выглядит несколько странным, особенно если учесть, что первоначально Маркс понимал под пролетариатом вовсе не весь фабрично-заводской рабочий класс. Пролетариат, говорил он, это просто «результат разложения общества как особое сословие», а ряды его «пополняются стихийно возникающей беднотой». И тем не менее Маркс сделал ставку на пролетариат, то есть самые забитые и малообразованные слои общества. Люди, лишенные корней, нравственной базы, устойчивых жизненных навыков, в согласии с буквой марксова учения были объявлены носителями высшей культуры, «солью земли».
Но пролетариат пролетариату рознь! Действительно, российская история свидетельствует, что наш рабочий класс, казалось, напрочь опровергал всю схему марксизма и не выказывал ни малейшего намерения становиться гегемоном. Однако не следует забывать, что в ходе первой мировой войны, революции и гражданской бойни кадровые рабочие во многом были истреблены. Остался, по сути дела, лишь люмпен-пролетариат. Сейчас нам многое представляется иначе, чем виделось Марксу в середине XIX столетия. Капитализм стал другим, обретя новые источники экономического развития, связанные не столько с эксплуатацией живой рабочей силы, сколько с применением знания и информации. Главным фактором роста прибылей стало не количество затраченного живого труда, а качество технологических идей. Это поставило под сомнение всю марксову трудовую теорию стоимости. Рабочий класс в развитых странах уступил место работникам интеллектуальной сферы производства. Но в процессе своего преобразования капитализм оказался способным реализовать многие программные установки социализма, как он мыслился в XIX веке. Да, многого Маркс не видел, или же видел не так, как это сегодня видим мы. Но главное все же остается — поиск такой исторической формы существования людей, когда каждый, будучи свободным от власти возвышающихся над ним политических и экономических институтов, подчиняется только закономерностям своего собственного индивидуального развития.
Главный труд Маркса
В августе 1849 года Маркс уезжает из Парижа в Лондон и предлагает Энгельсу также приехать туда. В сентябре в Лондон перебирается и семья Маркса. У них уже было трое детей, и жена Женни ожидала четвертого. Жили они по-прежнему трудно, почти нищенски. Женни уже несколько раз закладывала в ломбард свое фамильное серебро, чтобы накормить детей. Когда умерла маленькая дочь Франциска, то не оказалось даже денег, чтобы ее похоронить. Маркс же с головой ушел в привычную ему стихию; помощь политическим эмигрантам, собрания, реорганизация Союза коммунистов.
Но главным делом его жизни отныне становится «Капитал». Маркс выступает здесь пророком, предсказывающим гибель буржуазного общества.
Марк выступает здесь экономистом, сумевшим дать блестящий анализ механизмам функционирования капитализма.
Маркс в «Капитале» — это социолог, объясняющий существование капиталистической системы с точки зрения ее социальной структуры.
Наконец, «Капитал» — это философская история человечества, обремененного собственными конфликтами. По выражению Раймона Арона, «Капитал» — это грандиозное и гениальное начинание, ставящее целью одновременно прояснить способ функционирования, социальную структуру и историю капиталистического строя. Постижение функционирования капитализма должно способствовать пониманию того, почему в условиях существования частной собственности люди подвергаются эксплуатации и почему этот строй обречен породить революцию, которая сметет его с лица земли.
Марксов «Капитал» состоит из трех томов. Первый том увидел свет в 1867 году, второй и третий были подготовлены к печати Энгельсом и изданы, соответственно, в 1885 и 1894 годах. По сути дела, их содержание было извлечено Энгельсом из объемистых рукописей покойного Маркса, которые не были им завершены. Отсюда — спорные и противоречивые положения, содержащиеся в них.
В «Капитале» Маркс как бы стремится одновременно проанализировать функционирование и становление капиталистического мироустройства и описать судьбу людей при этом строе.
Сущность капитализма, по Марксу, это прежде всего извлечение прибыли. Откуда берется прибыль? Маркс считал, что нашел на этот вопрос ответ своей теорией прибавочной стоимости. Маркс также полагал, что открыл всеобщий закон капиталистического накопления и предсказывал ухудшение положения рабочих, а на этой основе — рост как внутринациональных, так и мирового полюсов нищеты и богатства. Однако он так и не сумел представить убедительных доказательств саморазрушения капитализма в будущем. Главными своими достижениями сам Маркс считал открытие двойственного характера труда, обоснование концепции прибавочной стоимости и применение в «Капитале» метода диалектики.
Маркс исходил из идеи основного противоречия между капиталистами и наемными работниками. Он все больше убеждается в том, что противоположность эта доминирует в капиталистическом обществе и со временем будет все больше обнажаться в процессе исторического развития. В «Капитале» Маркс выступает как социолог-экономист, убежденный, что невозможно понять общество, не усвоив механизма функционирования экономической системы, и нельзя постичь эволюцию экономической системы, не принимая в расчет теорию деятельности общества и отдельной личности.
Философ Борис Парамонов как-то сказал, что Маркс — это еврейский «экстаз бунта». Действительно, коммунистическая вера Маркса коренится в еврейском мессианстве. Но вместе с тем Маркс является и антиеврейским мыслителем и политиком. Как всякий еврей-отступник, он, стремясь скрыть свое происхождение, постоянно нападал на своих оппонентов-евреев. Главным предметом его атак был, наверное, Фердинанд Лассаль, которого Маркс именовал «еврейским негром». В марте 1856 года Маркс писал Энгельсу: «Лассаль — настоящий еврей со славянской границы и всегда стремился использовать партийные дела в личных целях». А вот его другое письмо: «Кстати, о Лассале — Лазаре. В своей выдающейся работе по Египту Лепсий доказал, что исход евреев из Египта — не что иное, как история изгнания из Египта «прокаженного народа». Во главе этих прокаженных стоял египетский жрец Моисей. В итоге Лазарь — прокаженный — есть типичный еврей, а Лассаль — типичный прокаженный». Даже в «Капитале» его антисемитизм периодически проступает: «Капиталист знает, что за всеми товарами, как бы жалко они ни выглядели и как плохо бы ни пахли, маячат на самом деле деньги и стоят обрезанные евреи».
Называя свое учение «научным социализмом», Маркс и Энгельс менее всего вкладывали в это понятие представление о еще не возникшем общественном строе. Не может быть науки без научного познания, не может быть научного познания несуществующего феномена. «Научный социализм» есть научное познание ранней стадии капиталистического способа производства в Западной Европе, обнаружившее объективные социалистические тенденции. «Капитал» — это системно-структурный и культурно-исторический анализ конкретно-исторической общественной формации, осуществленный через критику буржуазной политэкономии.
Можно сказать, что «Капитал» — это культурно-историческая и историософская теория капитализма. И в качестве таковой она и выступает как «научный социализм» Маркса и Энгельса. Никакого другого «научного социализма» у них нет. Все прямые высказывания основоположников собственно о социализме связаны с их участием в партийно-политической борьбе. В «Капитале» не нашлось места ни «диктатуре пролетариата», ни «двум фазам» коммунизма. Зато Маркс разработал здесь теорию сознания, включающую в себе положение о его бытийственных формах, образующих пласт культуры более глубокий, чем экономика. Эта теория исключает появление капитала как явления, обусловленного только производительными силами и экономикой. Первичными, по Марксу, были ценности, идеалы, нормы западноевропейской культуры, действовавшие на протяжении тысячелетий.
Вся история, по Марксу, простирается между «пещерным коммунизмом» — изначальным состоянием, когда труд был свободен, но не осознан и не универсален, — и просто коммунизмом, когда через лабиринты отчуждения он вернется к своей самодостаточности, но уже в универсальном и до конца осознанном объеме. Человек стал человеком после того, как он вошел в стихию Труда. Но до конца он станет человеком только тогда, когда сможет осознать абсолютную ценность этой стихии, освободить ее от всех примесей отрицательного начала, т. е. при коммунизме.
Что противостоит истинному труду? Маркс называет это «эксплуатацией», а высшую и совершенную форму такой эксплуатации он угадывает в капитале. Капитал — имя мирового зла в марксизме, темное начало, отрицательный полюс истории. Между «пещерным коммунизмом» только что появившегося человека и конечным коммунизмом лежит долгий период «эксплуатации», отчуждения Труда от своей сущности. Это, собственно, и есть содержание истории.
Капитал возникает не сразу, он постепенно появляется по мере того, как совершенствуются инструменты и механизмы эксплуатации стихии Труда узурпаторами. Развитие Труда способствует развитию моделей эксплуатации. Сложная диалектика постоянной динамики соотношения производительных сил и производственных отношений ведет оба полюса экономической истории по спирали развития. Противоположные цели и векторы деятельности тружеников и эксплуататоров объективно способствуют интенсификации единого, полит-экономического процесса. Производительные силы — это внутренняя структура труда и его организации. Производственные отношения — модель взаимодействия этой подчиненной базовой структуры с эксплуататорским началом. Стихия Труда — это стихия изобилия. Труд всегда производит нечто большее, чем необходимо для покрытия насущных потребностей самих тружеников.
Но Марксов анализ классического капитализма, во-первых, не мог выйти за пределы своего предмета. Поэтому практические выводы, сделанные Марксом из него, в лучшем случае могли быть применимы к европейской истории второй половины XIX века, да и то не в полной мере. Последнее обстоятельство понимал, кажется, и сам Маркс. Но уже начало XX века красноречиво свидетельствовало о существенных изменениях в данном способе производства, что и уловили идеологи II Интернационала. Во-вторых, целый ряд идей (причем важнейших в корпусе главных выводов о неизбежности коммунистической революции) определялся не столько доскональным и глубоким анализом классического капитализма, сколько способами рационализации исторических феноменов и процессов, характерных для европейской культуры начала и середины XIX века. В том числе и для выдающегося сына эпохи — Карла Маркса.
В чем же особенность именно марксизма? Марксизм — это учение о прогрессе как смене формаций и росте производительных сил, теория коммунистической революции с главным субъектом прогресса — пролетариатом во главе, концепция слома буржуазной государственной машины с заменой ее диктатурой пролетариата (с последующим ее отмиранием), наконец, это построение коммунистического бестоварного и безрыночного общества. Да, Маркс детально проанализировал в «Капитале» экономическую сторону функционирования такого устройства, как ранний капитализм. Но только экономическую и только раннего капитализма. Использовать его анализ и выводы сейчас для понимания и прогнозирования хотя бы экономической структуры современного западного общества — это все равно что пытаться понять работу компьютера с помощью схемы работы паровой машины, описывая логические связи между интегральными схемами посредством понятий «поршень» и «шатун».
Фрейд: между Я и Оно
Я с огромным уважением отношусь к личности Фрейда, я преклоняюсь перед его отвагой первопроходца, когда он, подобно своим финикийским предкам, первым пускается в кругосветное путешествие по неизведанному Материку Разума.
Ромен Роллан
Слово «Я» — тайный пароль рода человеческого.
Мартин Бубер
Фрейд умирал долго и мучительно. Еще в 1923 году он перенес первую операцию в связи с раком ротовой полости. После этого последовала целая серия хирургических вмешательств. Фрейд вынужден был носить во рту неудобный протез. Говорить, есть, пить — все давалось ему с трудом. В последние годы жизни его лечили светила европейской медицины. Всякая операция уже исключалась и врачи применяли радиотерапию. В конце жизни Фрейд испытывал страшную боль при приеме пищи, почти не спал и даже не мог читать. Последней в жизни книгой для него стала «Шагреневая кожа» Бальзака. Когда Фрейд прочел ее, он сказал: «Это именно та книга, которая была мне нужна: в ней говорится о сжимании и смерти от истощения». Последние три дня жизни Фрейд находился в состоянии комы вследствие подкожных инъекций морфия, о чем сам попросил врача. Скончался Зигмунд Фрейд 23 сентября 1939 года.
Так покинул мир этот великий человек — психолог и психиатр, философ и мыслитель. Его психология бессознательного — одно из величайших достижений человечества, — прочно вошла в медицинскую практику, биологию, религиоведение, литературу, живопись, исследования по мифологии. Психоаналитические теории были восприняты почти всеми интеллектуальными течениями и дисциплинами. Идеи и прозрения Фрейда осветили такие области социогуманитарного знания, как философия и антропология, социология и эстетика, культурология и этика. Многие последователи и почитатели Фрейда сравнивали его с Аристотелем, Колумбом, Ньютоном. Среди друзей Фрейда были Томас Манн, Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Альберт Эйнштейн, Райнер Мария Рильке. С. Цвейг к 75-летию Фрейда в 1931 году написал о нем биографический очерк, начав с констатации того, что идеи Фрейда, двадцать лет назад еще богохульные и еретические, свободно обращаются в крови эпохи и языка, а отчеканенные им формулы кажутся понятными. Томас Манн в начале 30-х годов говорил: «Психоаналитическая доктрина способна изменить мир. Благодаря ей был посеян дух недоверия, подозрения к скрытым сторонам души, позволивший их разоблачить. Этот дух, однажды пробудившись, никогда не исчезает. Он пронизывает всю жизнь, подрывая ее наивность, лишает ее пафоса, свойственного незнанию».
Так и произошло. Учение Фрейда изменило мир наших представлений о самих себе. Целостный подход к человеку был важной составной частью самой значимой тенденции интеллектуальной мысли начиная с XVII века: стремления осознать реальность, избавить человека от иллюзий, скрывающих или искажающих ее. Барух Спиноза заложил основы этого подхода, предложив новое понятие психологии, которая имеет дело с человеческим умом как частью природы. Ф. Ницше, К. Маркс, С. Кьеркегор, А. Бергсон и другие реализовали, каждый по-своему, тот же подход к неискаженному соприкосновением с реальностью человеческому миру. В «Автобиографии», написанной в 1924 году, Фрейд, подводя итоги своей деятельности, пишет: «Оглядываясь на дело своей жизни, я могу сказать, что проделал разнообразную работу и проложил немало новых путей, из которых в будущем что-то должно получиться. Но мне самому не должно знать, много ли это или мало. Однако позволю себе высказать надежду, что я открыл дорогу важному прогрессу нашего познания».
Фрейд страстно и неистово жаждал истины, бесконечно верил в Разум. Его идеи были нацелены на поиск глубинных смыслов и ценностей. Один из его биографов, Роже Дадун, говорил: «Царским путем сна, извилистыми тропинками неврозов, через великолепную одиссею самоанализа, смелые аналогии из области искусства, литературы, религии, общественной жизни, политики, культуры Фрейд подводит нас к непосредственному соприкосновению с областью, которая порождает наши самые затаенные желания и от которой мы, тем не менее, не перестаем упорно отворачиваться. С областью, которую он называет, заимствуя выражение Гете, «Главными дверями», и где вырисовываются основные формы человеческого бытия: Любовь и Смерть, Эрос и Танатос».
О Фрейде и его учении написано великое множество книг, на страницах которых предстает величественный и противоречивый образ мыслителя и ученого, мужество и трагизм жизни которого способны вызвать только уважение и восхищение. Фрейд был честолюбив, нетерпим к критике, болезненно воспринимал попытки недооценить его вклад в науку. Однажды он даже лишился чувств, раздосадованный тем, что последователи слишком редко упоминали его имя, говоря о психоанализе. Фрейд никогда не был «человеком не от мира сего». Управляя психоаналитическим сообществом, он жестко проводил принцип «разделяй и властвуй». Это был живой человек, со всеми присущими ему достоинствами и недостатками, вплоть до отсутствия эмоциональной теплоты, чувства близости, любви.
Что же сделало его Фрейдом? Прежде всего присущие ему от природы жизненная сила и огромная интеллектуальная одаренность, умело развитые семейным воспитанием и образованием в детстве и отрочестве. Возможно, немалую роль сыграли его стремление к известности и славе, смутное осознание своей культурно-исторической миссии. Вся его жизнь представляет собой настоящее интеллектуальное приключение, в основе которого — борьба и неистовое стремление к успеху, страстная жажда самоутверждения.
Начиная с 50-х годов в мире наблюдается падение престижа психоанализа. Многие ученые считают, что психоанализ превратился в довольно респектабельное учение, пройдя привычный путь от радикальной к конформистской теории. Однако влияние фрейдизма на духовную жизнь остается по-прежнему значительным. Психоаналитические идеи имеют широкое распространение, особенно в США и ряде европейских стран. Более того, разрабатываются различные философские теории, где предпринимается попытка совместить психоаналитический метод исследований человека и культуры с феноменологическими, структуралистскими, герменевтическими концепциями человеческого бытия.
Истоки и корни
Зигмунд Фрейд появился на свет 6 мая 1856 года в небольшом городке Фрейберг, расположенном в Моравии, на северо-востоке Австрийской империи. Дед его был раввином. В соответствии с еврейским обычаем на восьмой день после рождения мальчику сделали обрезание. В книге «Моя жизнь» Фрейд напишет: «Мои родители были евреями, и я сам всегда оставался евреем». Впрочем, его отец Яков Фрейд не очень отягощал себя религией, хотя часто обращался к Библии и любил древнееврейскую литературу. Сам же Зигмунд Фрейд в «Автобиографии» признавал, что сильнейшее влияние на характер его интересов оказала ранняя, едва он начал читать, погруженность в библейские истории.
По словам Эриха Фромма, еврейское происхождение Фрейда в первую очередь способствовало принятию духа просвещения, девиз которого — «Дерзай знать», — всецело определило его личность и творчество. Сама еврейская традиция явилась традицией разума и интеллектуальной дисциплины, и «презираемое меньшинство» было страстно заинтересовано в победе над силами тьмы, иррациональностью и предрассудками, стоящими на пути эмансипации и прогресса. Отсюда страстное стремление Фрейда к истине и разуму.
Жизнь и деятельность Фрейда впитала в себя многие особенности духовной жизни и истории евреев. Нельзя сказать, что он был верующим. Он вообще считал все религии коллективным заблуждением. Но Фрейд всегда относил себя к евреям, а в последнее десятилетие жизни прямо говорил, что он — еврей, а не австриец или немец. Его биограф Эрнест Джонс писал, что Фрейд «всегда ощущал себя евреем до мозга костей, и у него почти не было друзей среди неевреев».
По замечанию английского историка Пола Джонсона, Фрейд был динамичен как основатель религии или великий еретик. Недаром он говорил: «Будучи евреем, я чувствовал себя свободным от многих предрассудков, которые сдерживали у других использование своего интеллекта... Мне часто казалось, что я унаследовал всю дерзость и страсть, с которыми наши предки обороняли Храм, и с радостью пожертвовал бы свою жизнь за один великий момент в истории».
Фрейд был подобен Моисею своей несокрушимой и беспощадной убежденностью в собственной правоте. Он всегда яростно отстаивал то, что полагал истиной. Недаром Артур Кестлер, наблюдавший его мучительную кончину, увидел «маленького и хрупкого» мудреца с «несокрушимой жизнеспособностью еврейского патриарха».
Истоки мироощущения и жизненной стойкости Фрейда — в семье, в детских и отроческих годах, когда еще ничто не предвещало великого интеллектуального и волевого всплеска. В начале 1860 года его семья перебралась в Вену. В возрасте 9 лет мальчик поступил в лицей, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны — сказывались его способности и хорошее семейное воспитание. Он много читал, особенно его привлекали книги о великих людях. Первыми героями мальчика стали карфагенянин Ганнибал и наполеоновский генерал Массена, предположительно считавшийся евреем. Позднее он напишет: «Ганнибал был любимым героем моих последних школьных лет. Как и многие мальчишки в этом возрасте, в Пунических войнах я симпатизировал не римлянам, а карфагенянам. И когда в старших классах я начал понимать, что это означало — принадлежность к чужой расе, когда антисемитские чувства моих одноклассников предупредили меня, что я должен занять определенное положение, фигура семитского генерала еще больше выросла в моих глазах».
Многое указывает на его уже в раннем детстве особое отношение к матери — чувство глубокой привязанности. Фрейд, не находивший свободного времени ни для кого, даже для жены и близких, регулярно каждое воскресенье навещал мать. Джонс, американский исследователь творчества Фрейда, замечает, что в ранние годы у него было сильнейшее желание скрыть какую-то важную фазу собственного развития — возможно, даже от самого себя. И предполагает, что это — его любовь к матери. Сам же Фрейд, вероятно, исходил из собственного опыта, когда утверждал: «Мужчина, который был неоспоримым любимцем своей матери, на всю жизнь получает победное чувство, уверенность в успехе, а это нередко ведет к реальным успехам».
Фрейд не просто был привязан к матери, он остро нуждался в ней и более всего боялся лишиться ее oпeки. Подсознательный страх утратить материнскую любовь, видимо, и трансформировался в две фобии, которые преследовали Фрейда чуть ли не всю жизнь. Он боялся голода — мать ведь всегда воспринимается и как кормилица. И он всегда нервничал, когда предстояла поездка на поезде. Он воспринимал ее как символ утраты материнского дома, отрыв от корней и даже смерть.
В 1873 году Фрейд окончил лицей, получив степень бакалавра, и вскоре поступил на медицинский факультет престижного Венского университета. В 1882 году он знакомится с Мартой Верней, которая принадлежала к богатой еврейской семье с давними традициями. Поженятся они только через четыре года, в 1886 году. Письма, которые Фрейд посылал Марте все это время, полны ласковых и нежных слов. Он пережил в эти годы, наверное, все радости и муки своей пылкой страсти: восторг, отчаяние, нетерпение, ревность. Действительно, кем он был тогда?! Пылко влюбленный «коротышка» (рост Фрейда — 160 см), бедный, всегда плохо одет. Было чем озаботиться несчастному влюбленному.
Однако если годы до женитьбы были полны для него настойчивого ухаживания и страстного влечения, то в супружеской жизни страсть почти отсутствовала. В ухаживании почти всегда наличествует мужская гордыня, после женитьбы для нее уже нет места. Фрейд был пылким влюбленным до женитьбы, так как должен был доказать свои мужские качества, завоевать свою избранницу сердца. После этого — спокойная супружеская жизнь, семейное благополучие. Научно-интеллектуальные интересы оказались у него сильнее Эроса. Фрейд мало интересовался женщинами. В одном из писем сорокалетний Фрейд сообщал: «Сексуальное возбуждение для лиц, вроде меня, более не нужно». Он был убежден, что «три, четыре или пять лет супружества перестают приносить обещанное удовлетворение сексуальных потребностей, ибо все имеющиеся в наличии контрацептивы уменьшают радости сексуальной жизни, препятствуют восприимчивости партнеров или даже служат причиной заболеваний». Эрих Фромм полагает, что отсутствие у Фрейда эмоциональной близости с женщинами связано с тем, что он их очень мало понимал. Его теории о женщинах — это наивная рационализация мужских предрассудков — воззрений тех представителей «сильного пола», которым требуется господство над женщиной, для того чтобы скрыть свой страх перед ней. Однажды в разговоре Фрейд весьма откровенно заявил: «Величайший вопрос, на который нет ответа и на который я сам не в силах ответить, несмотря на тридцать лет изучения женской души, таков: «Чего хочет баба?». У пуританина Фрейда была скудная интимная жизнь, которую заменяли психоаналитические работы по сексуальности. Он был убежден, что только его «порядочность» позволяет писать и говорить о сексе так открыто и откровенно.
Но вернемся к молодому Фрейду, еще только начинающему свою карьеру. Получив в двадцать шесть лет докторскую степень, он из-за материальных затруднений вынужден был заняться частной практикой. Вначале Фрейд работал хирургом, затем, прослушав курс по психиатрии, он заинтересовался этой областью и вскоре получает стипендию для поездки в Париж в клинику нервных болезней Жана-Мартена Шарко. Главной специализацией этого знаменитого парижского доктора были больные истерией.
По вторникам Шарко устраивал публичные сеансы, на которых гипнозом лечил больных истерией. Благодаря этим сеансам, которые Шарко проводил непринужденно и артистично, Фрейд почувствовал, что больничная палата может быть местом постановки некой пьесы, основанной на переживаниях и мыслях, к которым обращается культура: женщина и секс. Видимо, в силу этих впечатлений оформляется у Фрейда пока еще неясное, но волнующее представление о тайной связи женственности и сексуальности. Именно во время этой поездки и знакомства с Шарко впервые приоткрылась для Фрейда завеса над бессознательным, именно сеансы гипноза продемонстрировали роль неосознанных мотивов в поведении человека.
Сновидения и эрос
Величайшей заслугой Фрейда явились открытие и разработка метода исследования бессознательной сферы человеческой психики. Этот метод получил название «психоанализ». Впервые Фрейд заговорил о нем в 1886 году, а спустя год он начал проводить систематические самонаблюдения, которые фиксировал в дневниках до конца жизни.
К созданию психоанализа Фрейда привел случай. Одна из пациенток не поддавалась нормальному лечению. Она обижалась, когда доктор прерывал ее, не давая выговориться. Однажды Фрейд решил позволить ей вести свой бессвязный во многом монолог. И неожиданно он начал улавливать закономерности в свободном течении ее мыслей, которые выстраивались в некие цепочки, а пациентка как бы шла за ними. Но затем она вдруг сбивалась, словно наталкиваясь на некий запрет, перескакивала на другую цепочку мыслей. Фрейд решил, что «стена», на которую наталкивается мысль больной, — эта какая-то психологическая защита, за которой и скрывается причина ее неврозов.
Чтобы попытаться проникнуть за эту «стену», Фрейд решил использовать состояние, когда психологическая защита ослаблена, — сон, и он начинает изучать природу сна. Одна из самых знаменитых книг Фрейда «Толкование сновидений» увидела свет в ноябре 1899 года, однако издатель датировал ее 1900, как бы обозначив тем самым наступление новой эпохи.
Фрейд стал первым, кто занялся научным анализом сновидений и дал им психологическое объяснение.
Книга во многом построена на интерпретации собственных снов Фрейда, который в 1895—1898 годах занимался деятельным самоанализом и психотерапией, стремясь излечить себя от истерии. В одном из писем в августе 1897 года он свидетельствует: «Главный пациент, который меня занимает, — это я сам. Моя не- большая, но из-за работы резко возросшая истерия несколько разрядилась. Но кое-что мне не поддается анализу. От этого в первую очередь зависит сейчас мое настроение. Анализ подвигается очень трудно». Впервые свой собственный сон он истолковал 14 июля 1895 года. Фрейд вскоре приходит к мысли, что во сне исполняются вытесненные в жизни желания. Для него становится очевидным, что в пространстве психики нет ничего бессмысленного и случайного. Всякий душевный процесс обладает смыслом, каждый поступок имеет своего вдохновителя. Фрейд выстраивает свою модель психики, состоящую из трех слов — сознательного, предсознательного и бессознательного, в которых и располагаются основные структуры личности. В бессознательном слое — это «ид» (Оно), которая является энергетической основой личности. Здесь содержатся бессознательные инстинкты, которые стремятся к удовлетворению и разрядке. Вторая структура личности — «эго» (Я) — располагается как в сознательном слое, так и в предсознании. Третья структура личности — «супер-эго» (сверх Я) — не является врожденной, она формируется в процессе жизни.
Фрейд считал, что существует два основных бессознательных инстинкта — жизни и смерти, — которые находятся в антагонизме, создавая основу для фундаментального внутреннего конфликта. Там, в глубинах подсознания, бродят желания нашего давнего детства, временами они прорываются в реальную жизнь. Там сталкиваются фобии, страсти, вожделения не только из нашего личного прошлого, но и прошлого давно ушедших поколений. Извечное желание бессознательного — вернуться к свету, претвориться в сознание и обрести выход в действии. Таким образом, вся жизнь нашей души — это постоянная борьба между сознательным и бессознательным, между ответственностью за наши деяния и безответственностью наших инстинктов.
В период сна, как полагал Фрейд, вытесненные в сферу бессознательного влечения и желания могут проникать в сознание. Но при одном условии — если они изменят свой облик. Именно эти замаскированные и зашифрованные. бессознательные влечения, желания, мысли, явившиеся сознанию в виде символов и метафор, и есть наши сновидения.
Ни один сон, считал Фрейд, не является полностью бессмысленным. Сон всего лишь говорит языком бессознательного. Именно поэтому мы не способны сразу постичь смысл сна и его предназначение. Язык сновидений трудно прочитать, ибо он является исключительно образным. Кто и что создает эти образы в наших сновидениях? И вообще, имеют ли какое-то значение наши сны, и если имеют — то как их объяснить?
Фрейд пользовался своей методикой: всегда, когда требуется достичь самых сложных результатов, следует начинать с самого примитивного. Поэтому в своей психологии сна он начинает не с сознательного человека, а с ребенка, круг мышления которого пока ограничен, ассоциации просты и потому материал его сновидений более доступен объяснению.
Фрейд приходит к выводу, что сновидения представляют собой исполнение желания. Но у желания, осуществленного в сновидении, особые свойства — это прежде всего то желание, которое сталкивается с препятствием. Поэтому, развивает он свою мысль, сновидения — это скрытое исполнение подавленного желания. Лишь во сне мужчина может обнять и войти в женщину, отвергшую его, урод может стать красавцем, бедняк — разбогатеть, старик — обрести молодость, слабый — стать сильным и могущественным.
Фрейд впервые предположил, что сновидения необходимы для сохранения нашего душевного равновесия. В бренное тело человека природа вложила множество могучих страстей, страстных вожделений, и лишь малая часть их реализуется в жизни. Каждого из нас обуревают темные влечения, подавленные анархические устремления, тщеславие, зависть. Из множества женщин, которых мы видим каждый день, каждая вызывает мгновенную страсть. Все эти неизжитые порывы и нереализованные желания оседают в подсознании. И если бы ночные видения не давали выхода этим подавленным дневным страстям и желаниям, душа наша разлетелась бы на осколки или нашла бы выход в преступлении. Во сне душа освобождается от избытка напряженности.
Пытаясь проникнуть в скрытые, замаскированные желания и влечения, символически выраженные в сновидениях, Фрейд приходит к выводу, что бессознательные влечения — это сексуальные инстинкты, которые подчиняются определенной логике: комплекс Эдипа, комплекс Электры, явление переноса. Немалая часть сновидений тесно связана с сексуальностью. Фрейд утверждает: «Чем больше мы занимаемся толкованием сновидений, тем больше убеждаемся в том, что большинство сновидений взрослых несут следы сексуальных факторов и выражают эротические желания». В процессе толкования сновидений Фрейд пришел к выводу, что символика — это самая интересная часть учения о бессознательном: «Область символики необычайно велика, символика сновидений составляет только ее часть».
Венский музыковед Макс Граф так рассказывал о рубеже XIX — XX веков, когда в Вене впервые стало звучать имя Фрейда: «Когда в те дни в какой-нибудь группе венцев кто-то вдруг невзначай упоминал имя Фрейда, все начинали смеяться, как при особенно остроумной шутке. Фрейд — это тот самый смешной чудак, который написал книгу о снах и выдал себя за толкователя снов. Считалось, верхом безвкусицы произносить имя Фрейда в присутствии дам. Дамы краснели при первом же его упоминании».
Сам же Фрейд идет еще дальше, бросая вызов пуританской лицемерной морали тогдашнего общества. Впрочем, Фрейд, ставший в некотором роде основателем сексуальной науки, первоначально вовсе к этому не стремился. Проблема Эроса встала на пути его научного мышления, когда Фрейд убедился, что невроз почти всегда обусловлен подавленным сексуальным влечением. Тезис Фридриха Ницше: «Степень и характер сексуальности человека отражаются во всем его существе, вплоть до вершин его духа», Фрейд подтвердил в качестве биологической истины. Сделать это было чрезвычайно трудно, ведь для того времени видимость морали была более значима, чем суть человеческого бытия. Пасторы, учителя, воспитатели, цензоры всячески стремились оградить молодых от любых проявлений телесной радости.
XIX век был эпохой торжества разума и рациональности. Вечный инстинкт сладострастия никак не вписывался в это рациональное пространство. Поэтому лучше было вообще не касаться вопроса пола. И он находился под негласным запретом. Анархические инстинкты и разнузданные первобытные влечения — разве может подобное стать предметом обсуждения в «приличном» обществе. А гомосексуализм — это уже вообще верх неприличия.
На прием к доктору Фрейду приходили мужчины, сексуальным объектом которых был мужчина, и женщины, которых в сексуальном отношении волновали только женщины. В обществе их называли не иначе как извращенцами. Психоанализ открыл Фрейду механизм появления сексуальных отклонений: это закладывается в основном в детстве. По его мнению, предрасположенность к извращению не является чем-то редкостным и особенным, а представляет собой составную часть нормального устройства.
Теория Фрейда формировалась постепенно, шаг за шагом, элемент за элементом. Он объявил подавленную сексуальность главной причиной неврозов. У одной из его пациенток муж оказался импотентом. Когда Фрейд спросил у знакомого гинеколога, как можно ей помочь, тот цинично бросил: «Ей нужен нормальный пенис в двойной дозе!» Добропорядочный Фрейд был шокирован, он всегда противился мысли о преобладании животного начала в человеческой природе. Но факты были сильнее и постепенно Фрейд был вынужден признать влияние либидо на человеческую психику.
Теория Зигмунда Фрейда стал для многих культурным шоком. Коллеги советовали ему Отказаться от обсуждения столь щекотливой тематики. Но для Фрейда истина важнее, чем видимость приличия. В 1905 году увидела свет его работа «Три очерка по теории сексуальности». Отныне идеи, изложенные на ее страницах, составляют для Фрейда неприкосновенную основу психоанализа. Ясным и четким языком он описывает сексуальные извращения и детскую сексуальность, покушаясь одновременно на два основных табу тогдашнего общества. Затем последовала еще серия работ, где он развивал свое учение об Эросе.
«Фрейд создал революционную теорию сексуальности и в этом его основная слава, — свидетельствует один из биографов. — Три очерка, которые потрясли мир — можем мы сказать, отмечая неопровержимый эффект фрейдовской теории сексуальности — отрыв, ниспровержение, коренная трансформация сознания своего «Я», постоянная открытость свободе и независимости».
Фрейд первым показал, что сексуальность в человеческой культуре играет несравненно большую роль, чем это считалось ранее. Согласно его теории, первичным источником жизненной активности выступает сексуальный инстинкт, половая энергия, которую Фрейд назвал «либидо» (лат. — страсть, похоть). Эта энергия стремится найти выход, реализоваться в каких-либо сексуальных действиях. Впрочем, к концу 20-х годов Фрейд существенно пересмотрел свою концепцию и стал трактовать сексуальный инстинкт как одно из проявлений более широкого инстинкта жизни.
Эрос и Танатос
Зигмунд Фрейд создавал здание психоанализа в течение нескольких десятилетий. Он неоднократно говорил, что ему ничего не приходилось менять в своих посылках и принципах. Однако на самом деле метод психоанализа претерпел заметную эволюцию. Первоначально он возник как один из психотерапевтических методов, позволяющий, как полагал Фрейд, невидимое сделать видимым. Невротик не знает, чем вызвано его психическое расстройство. Психоаналитик призван помочь больному разгадать загадку. Невротик должен выговориться. Слова его подчас бессвязны, он несет всякую всячину. Психоаналитик из множества отработанного жизненного материала, из тысяч воспоминаний и пересказов должен отделить словесный шлак и вывести психоаналитическую субстанцию. Больной воспроизводит свой конфликт, психоаналитик толкует его смысл.
Фрейд шел к глубинным основаниям психологии как практикующий психотерапевт, свободный от бремени устоявшихся академических представлений. Видимо, поэтому он раньше других сумел понять, что сознательные процессы не исчерпывают всего содержания мира психического. Со временем психоанализ начинает претендовать на статус общепсихологической теории, а затем мощно включается и в сферу социокультурной проблематики. Деление психики на сознание и бессознательное Фрейд считал основной предпосылкой психоанализа. Строго говоря, он не был здесь первооткрывателем. Идея бессознательного уже с середины XIX века прочно вошла в психологию и психо- физиологию. Впрочем, Фрейд особенно и не претендовал на роль первооткрывателя. На юбилейном заседании в честь его 70-летия он говорил: «Поэты и философы раньше меня открыли бессознательное. Я открыл лишь научный метод, с помощью которого бессознательное может быть изучено».
К тому, чтобы психоанализ стал общепризнанным методом, Фрейд прилагал немало усилий. Успех — известность — слава! Эта триада стала для него основополагающей в первые два десятилетия XX века.
Постепенно интерес к психоанализу захватывает все больше специалистов. В 1909 году Фрейд вместе с Юнгом приглашены в США для чтения лекций. Комментируя восторженную встречу, устроенную ему американцами, Фрейд обронил: «Эти люди и не подозревают, что я принес им чуму». Психоанализ стал быстро завоевывать США. В 1911 году в Нью-Йорке создается первое психоаналитическое общество, а к 60-м годам XX века США становятся общепризнанным лидером психоаналитического движения.
В 1910—1914 годах, прежде всего усилиями Фрейда, было положено начало мировому психоаналитическому движению. Созданная Фрейдом и его подвижниками Международная психоаналитическая ассоциация становится его основой. Однако эта ассоциация вскоре начинает раскалываться раздорами, зачастую переходящими в прямые выпады оппонентов друг против друга. Эрих Фромм, позднее рассказывая об этих драматических событиях, особо выделил деятельность Фрейда в расширении базы психоаналитического движения, когда он принял решение «передать лидерство от венских евреев швейцарским неевреям», имея в виду прежде всего Юнга.
Фрейд управлял психоаналитическим движением как истинный диктатор, подчас используя военную терминологию. Этому есть объяснение. Очень трудным оказался путь к триумфу. Казалось, весь мир тогда шел на него войной! Фрейд чересчур долго был отверженным. И теперь ему повсюду виделись враги, чудилась крамола. Он шел, постоянно ощущая опасность, и поэтому стремился самолично контролировать ситуацию. Так, в одной из работ того времени, выразив удовлетворение в связи с прогрессом психоаналитического движения в США, он добавляет: «Понятно, что именно по этой причине центры старой культуры, где сильнее всего сопротивление, должны стать подмостками последней и решительной битвы психоанализа».
В психоаналитическом движении Фрейд видел «нашу родину», в которой «мы должны укрепить наше господство против всех и вся». О других областях психологии он говорил как о «колониях» психоанализа. Язык Фрейда — это язык создателя империи. Фрейд, который мальчиком благоговел перед полководцем Ганнибалом и маршалом Массена, в юношестве собиравшийся стать политическим лидером, в зрелом возрасте отождествлявший себя с Моисеем, — видел в психоаналитическом движении орудие завоевания мира и его спасения с помощью идеала. В чем содержание подобного идеала? Это — покорение страстей разумом. Фрейд искренне верил, что с помощью психоанализа может быть реализована давняя мечта человека о самоконтроле и рациональности. Как другой великий еврей, К. Маркс, верил, что нашел научное основание для социализма в противовес утопическому социализму, Фрейд считал, что он превзошел утопическую мораль, представленную в религиозных и философских доктринах. Недаром Эрих Фромм полагает, что под маской научной школы Фрейд осуществлял свою заветную мечту — быть Моисеем, указующим человеческому роду Землю Обетованную и пути ее завоевания. Фрейд страдал пороком, от которого призван был избавлять психоанализ, — подавлением. По существу, психоанализ был для Фрейда религией, он же сам — Богом-Отцом.
В 1912 году Фрейд публикует свою, во многом программную, статью «Научное значение психоанализа». Кратко обрисовав место психоанализа в сфере естественных наук, он говорит о перспективах использования его учения о бессознательном в философии, истории культуры, религиоведении, этике, педагогике. По существу, Фрейд здесь объявляет психоанализ универсальным методом познания социальной действительности.
В 1914 году, вскоре после того, как началась первая мировая война, Фрейд обнародует статью «Современный взгляд на войну и смерть». Здесь он, по сути дела, впервые обнажает проблему смерти, которая будет доминировать в последующих его работах и изысканиях вплоть до середины 20-х годов. Констатируя, что «в глубине души никто не верит в собственную смерть» и что «в подсознании каждого живет вера в собственное бессмертие», он показывает, насколько характерно для современного человека отворачиваться от проблемы смерти. Он прямо ставит вопрос: «Не лучше ли нам придавать смерти в жизни и в наших мыслях место, которое ей соответствует, и уделять больше внимания нашему бессознательному отношению к смерти, которое мы обычно подавляем?»
Таким образом, сокрушая иллюзию бессмертия, которая коренится в глубинах подсознания, он выносит на обсуждение и анализ фигуру смерти. Фрейд признает, что помимо инстинкта жизни существует и инстинкт смерти, который обычно лежит в основе деструктивного поведения, имеющего целью разрушать все «чуждое». Именно поэтому Фрейд дает агрессии наименование «инстинкт смерти», поскольку всякая инстинктивная жизнь стремится подвести живое существо к смерти. Он пишет: «Инстинкт агрессии является отпрыском и главным представителем первичного позыва смерти, разделяющего с Эросом господство над миром. И теперь смысл развития культуры перестал быть для нас неясным. Оно должно показать борьбу между Эросом и Смертью, между инстинктом жизни и инстинктом разрушения, как она протекает в среде человечества. Эта борьба составляет существенное содержание жизни вообще, и поэтому развитие культуры можно было бы просто назвать борьбой человеческого рода за существование». Таким образом, он выдвигает концепцию двойственности: инстинкты жизни против инстинктов смерти, и деятельно проводит идею о столкновении Эроса и Танатоса.
Другой важный сюжет, волнующий его в этой связи, — «Мать — Любовь — Смерть». В статье «Тема трех ларцов» (1913 г.) он, обращаясь к мифологическому образу богини-матери и пьесам Шекспира, формулирует «три образа женщины»: родительницы, подруги и разрушительницы, то есть матери, любовницы и смерти. Фрейд в этой статье безуспешно пытается уловить странную волнующую связь любви и смерти, услышать в звуках Эроса голос Танатоса.
Позднее в письме к Эйнштейну в сентябре 1932 года Фрейд вновь вернется к сюжету смерти: инстинкты человека принадлежат к двум категориям: с одной стороны — те, что стремятся сохранять и объединять — мы называем их эротическими или сексуальными, с другой — те, что призывают разрушать и убивать, то есть инстинкты агрессивного или разрушительного влечения. Так, слушая звуки смерти, этого безмолвного, подспудного влечения, именуемого Танатосом, Фрейд как бы одновременно слышит и голос масс, толпы. И это не удивительно, ведь годы войны смешали воедино могучие звуки и тяжелые вздохи масс и смерти, — масс, осужденных на эту смерть, и смерти, действующей посреди этих масс.
Жизнь и творчество Фрейда являют собой яркий пример еврейского вклада в мировую культуру. Недаром он высоко ценил свои еврейские духовные корни. Никто из его детей не крестился и не женился на неевреях. Фрейд знал и уважал Теодора Герцля. Его сын Эрнест стал приверженцем сионизма. Имеется немало свидетельств, что Фрейд приписывал еврейскому духу особую силу. «Если вы не дадите своему сыну вырасти евреем, — говорил он одному из своих последователей, — вы лишите его источников энергии, которые ничем нельзя возместить». Все первые психоаналитики были евреями, а учение Фрейда практиковалось и распространялось в Европе и США по преимуществу евреями.
Он тесно увязывал свое подвижничество и мощную духовную энергию с еврейской культурной традицией. Он прекрасно знал еврейскую историю и часто стремился идентифицировать себя с Моисеем, считая его, а не Авраама, создателем иудаизма. Находясь в сентябре 1913 года в Риме, он подолгу рассматривал статую Моисея, стремясь постичь глубинную суть замысл а Микеланджело.
В свое время Хавелок Эллис назвал Фрейда не ученым, а великим художником. Сегодня очевидно, что некоторые из идей психоанализа не имеют биологического основания, поскольку были сформулированы Фрейдом до открытия законов Менделя, хромосомной теории наследственности, существования гормонов и механизма нервного импульса. Но воздействие Фрейда, как и Эйнштейна, на интеллектуальную и художественную жизнь оказалось весьма существенным, поскольку в 10—20-е годы XX века происходила фундаментальная революция. Все пространства, по определению Пола Джонсона, идеи относительности и фрейдизма являлись одновременно предзнаменованием и отголоском. В глубинах этой революции скрывались потеря ориентации во времени и пространстве, и сексуальный гностицизм.
И вот финал. Больной старик умирал на чужбине. Но, наверное, тяжкая боль и предчувствие конца меркли по сравнению с той трагедией, которую он переживал в те дни. Казалось, рушилось дело всей его жизни. Разум, на алтарь которого была возложена его теория психоанализа, проиграл битву бессознательному. Зло одолело Добро. В Германии Гитлер разжигал первобытные инстинкты бушующей толпы, которая орала ему хвалу. Мир сошел с ума и умирающий, беспомощный Фрейд уже ничем не мог ему помочь.
Если я не за себя, то кто за меня?! Если только за себя, тогда зачем я?! — эта извечная дилемма жизненного существования всякой крупной личности — суть жизни и деятельности Зигмунда Фрейда. Возвышенный дух и пассионарная воля отличали весь его путь жизни и творчества. Но взор Фрейда видел также много темного. На протяжении полувека люди шли к нему со своими заботами, нуждами, расстройствами, истерически возбужденные и неистовствующие. Замурованный в вечном подземелье своего труда, Фрейд редко видел светлый лик человечества. Недаром он задавался вопросом: почему же человечество, при всем своем богоподобии, не стало счастливее и радостнее? Почему наше истинное «Я» не чувствует себя в результате всех этих достижений цивилизации богаче и свободнее?
«Умолк разумный голос. На могиле дети Влечения оплакивают любимого: печален Эрос, возводящий города, и в слезах анархическая Афродита».
У.Х. Оден. Памяти Зигмунда Фрейда (сентябрь 1939).
Кафка: гений безумного мира
Франц Кафка — прощальный призрак XX столетия.
Синтия Озик
Кафка — яркий пример «посмертной славы»; вопреки здравому смыслу, он сначала умер, а затем появился на свет. Кафка мало что успел опубликовать при жизни. Пожираемый душевной болезнью и чахоткой, этот юноша с тоскливо-безумными глазами умер безвестным и неприз- нанным. Он так и не завершил все свои три романа — о путешествии в запредельную Америку, о поисках недостижимого Замка, о ходе немыслимого процесса — анонимного Суда над одиноким человеком. Кафка сумел «разрушить» XIX век с его устоявшейся художественной моностилистикой так же, как это сделали Маркс, Фрейд, Эйнштейн своими кардинальными идеями, идущими вразрез с картинами мира и образом культуры эпохи Нового времени. Все они несли в XX столетие одно лишь «откровение» — мир совсем не таков, каким выглядит. Нельзя доверять чувствам, эмпирическому восприятию времени и пространства, Добра и Зла, закона и справедливости. Это был конец старого порядка, крах былого мироустройства.
Кафка предвидел безумие XX столетия и невыразимую беспомощность человека в этом мире. Плоды воображения писателя стали сильнее фактов истории официальных документов, мемуаров, свидетельств очевидцев. Он писал по озарению. Его тексты, воспринимающиеся современниками как жуткая комичность, веселая сатира на тогдашние нравы Австро-Венгерской империи, для нас наполнены безысходностью и ужасами тоталитаризма — тяжким опытом минувшего столетия.
Как Гойя предвидел боль и безумие Нового времени, где нередко правил бал «сон разума», так Кафка сумел предчувствовать через бездну своей болезненной души безумие XX века. Недаром философ Теодор Адорно говорил, что в его прозе нет помешательства, в каждой его фразе запечатлен отчеканивший ее могучий дух; но при этом каждая фраза Кафки была извлечена им из сферы безумия.
Зрелище унылой и монотонной жизни отталкивало его, и тогда Кафка уходил в нишу своего болезненного творчества, в воображение, создавая иной мир, совершенно не похожий на реальный. Но он не способен был уйти от себя самого, от чувства тревоги, тоски и страха, которое нередко им овладевало. В дневниках Кафка пишет: «Для меня эта ужасная двойная жизнь, из которой, возможно, есть только один выход — безумие».
В его текстах ощущается некий опыт, притягивающий и отталкивающий, невыразимый средствами существующего языка. Но, как говорит психоанализ, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Когда человек стремится что-то скрыть, он всегда проговаривается — в своем творчестве, в письмах, в беседе. Именно с Кафки подлинное искусство XX века двинулось против времени, ломая единый культурный стиль эпохи, внося новые правила и иную стилистику. Кафка предвидел абсурдность тоталитаризма так же, как Пруст обнажил предельный психологизм.
XX век — это эпоха слов, которые во многом устранили разницу между добром и злом, это время действий, в основе которых абсурд и бессмысленность. Тексты Кафки — что это? Абсурд реального мира или же реальность абсурда?! У него сон и явь сливаются воедино. Его пространство условно, в нем нет системы измерения, господствует лишь случайность. Человек Кафка несчастен. Его что-то мучает. Его спутники — чувство страха и необъяснимой вины. Кафку невозможно понять до конца. Он символичен и метафоричен. Каждый из нас находит свой смысл между строк. Читать Кафку — означает будить символы, ибо благодаря соединению повседневной реальности и мистической неопределенности писатель достигает высшей степени символизации и многозначности.
Здесь и сладчайший соблазн страдания и отверженности, переплетающийся с тягостными мучениями 60лезненного одинокого человека. Здесь и страх смерти как страх недосягаемости вечного существования, которое, похоже, отождествлялось Кафкой с материнским абсолютным признанием и с материнской защищенностью от вселенского хаоса.
Франц Кафка — центральная и самая загадочная фигура литературы XX века. Этот тихий, закомплексованный, страдающий от своей худобы и высокого роста еврейский юноша из предместий Праги начал писать полубезумные рассказы, когда европейская цивилизация процветала, а на улицах городов царило спокойствие. Это благополучное и светлое жизнеустройство не было готово к восприятию головокружительных, абсурдных и безнадежных миров, которые предчувствовал Кафка.
Постоянно во всем сомневающийся, бросающийся из омута отчаяния и тоски в грезы литературного творчества, делающий предложение своей любимой «на расстоянии» Фелице Бауэр и тут же отказывающийся от него, Кафка сам не верил в свою гениальность. Он писал лишь потому, что не мог не писать. Из-под его пера выходили письма, рассказы, дневники. Но, поразительное дело, в итоге ему удалось невозможное. В его творчестве все объяснимо, все невероятно и вместе с тем обыденно, само собой разумеющееся.
Его внутренний мир, чудовищный и безрадостный, как и его болезненное состояние, во многом определили духовный тонус и особенности его произведений. Кафка внес в художественно-интеллектуальную стилистику эпохи острое ощущение трагизма жизни, ее неустойчивости, враждебности человеку. Трагизм мироощущения перерастал у него в ужас перед бытием вообще.
Проза Кафки — это неправдоподобная, изломанная, дышащая жутью и безнадежностью картина мира. Теодор Адорно полагает, что мощь Кафки — это мощь разрушения. Кафка претворяет в искусство «сор действительности». Он не изображает картину надвигающегося общества непосредственно, а монтирует ее из отходов, которые формирующееся будущее выбрасывает из «проходящего настоящего». Кафка, как и всякий большой художник, был пророком. Видимо, еще и поэтому до конца Кафку понять невозможно. До конца и он себя не понимал. Иначе к чему эта его фраза из дневников: «Люди меня едва ли когда обманывали, а письма — всегда, причем не чужие, а собственные».
Друг, душеприказчик и биограф великого писателя Макс Брод усматривал в мироощущении Кафки два «полюса притяжения» — «болезнь» и «здоровье». Маниакальная требовательность к себе, совестливость, комплекс вины перед семьей, постоянная неуверенность в своем литературном призвании и, как результат, неврастения, болезненное чувство одиночества и близость к помешательству — все это «болезненная» ипостась личности и творчества Кафки. Таким он и предстает на страницах своих запретных дневников. Но был и «другой» Кафка — мягкий, доверчивый, стремящийся к общению. Как невозможно до конца понять творчество Кафки, так невозможно до конца осознать величие образа — противоречивого и неоднозначного — писателя, художественный мир которого коренным образом изменил представления о человеческих взаимоотношениях. Огромное количество литературы о Кафке — самое убедительное свидетельство таинственности и загадочности его образа и творчества.
Семья
Франц Кафка родился в Праге 3 июля 1883 года. Тогдашняя Австро-Венгерская империя, управляемая Габсбургами, была сплавом нескольких национальных анклавов. Прага последних десятилетий XIX столетия превратилась в город быстрых перемен и, соответственно, обострившихся конфликтов. Три народа — немцы, чехи и евреи — существовали, периодически враждуя и заключая перемирие.
Пражские евреи мало походили на своих собратьев по вере с востока. К концу XIX века они были полностью ассимилированы, традиции и ритуалы своей религии чтили лишь по привычке. Закон давно уже освободил евреев Праги и интегрировал их в жизнь большого города — они становились предпринимателями, адвокатами, журналистами. Но общественное мнение менялось гораздо медленнее и многие их по-прежнему сторонились.
Впервые антиеврейские манифестации развернулись здесь в 1848 году, когда евреям предоставили гражданские права. Подобные вспышки насилия на протяжении второй половины XIX века наблюдались здесь неоднократно. Марк Твен, работавший в конце XIX века корреспондентом в Вене, так описывал взрыв антиеврейского насилия в Праге: «Было три или четыре дня свирепых беспорядков... евреев и немцев разоряли и грабили, разрушали их жилища; в других богемских городках вспыхивали бунты — в некоторых случаях зачинателями были немцы, в других — чехи, но во всех случаях на костер шел еврей, какую бы сторону он ни принимал».
Герман, отец Франца Кафки, сначала жил в гетто. Но ко времени появления на свет будущего писателя гетто исчезло, а старый еврейский квартал превратился в Пятый округ Праги — Иосифштадт. В 1881 году Герман Кафка открыл магазин модных вещей и быстро преуспел. В 1882 году он женился на Юлии Леки, девушке из еврейской семьи богатых суконщиков. Сам Кафка всегда противопоставлял две семейные линии: с одной стороны, семейство Кафки, отмеченное «силой, здоровьем, хорошим аппетитом, знанием людей, определенным благородством»; с другой — материнская линия семейства Леки, которое он наделяет такими качествами, как «упорство, чувство справедливоети, неуспокоенность». Род Кафки отличался немалым ростом. Рассказывали, что дед Якоб Кафка, мясник, мог поднять зубами мешок с мукой. Даже женщины были рослыми. Но сам Франц стыдился своего высокого роста, из-за которого чувствовал себя не сильным, а хилым, неуклюжим и смешным.
В «Письме к отцу», написанном в 1919 году, Кафка рассказывал о своих сложных отношениях с семьей. Это произведение Кафки переросло значение автобиографического документа и характеризовало его отношение к среде, из которой он вышел, и которая вызывала у него чувство неприязни и, вместе с тем, тоскливое ощущение кровного с ней родства.
Со страниц «Письма» встает образ отца — жестокого, деспотичного, малокультурного, для которого успех в делах определял все. Кафка пишет: «Ты никогда по-настоящему не побил меня. Но то, как ты кричал, как наливалось кровью твое лицо, как торопливо ты отстегивал подтяжки и вешал их наготове на спинку стула, — все это было для меня даже хуже. Вероятно, такое чувство бывает у того, кого должны повесить. Если его действительно повесят, он умрет, и все кончится. А если ему придется пережить все приготовления к казни, и только тогда, когда перед его лицом уже будет висеть петля, он узнает, что помилован, это заставит его страдать всю жизнь. Когда же я по твоей милости был пощажен, это лишь рождало чувство большой вины».
Уже в детстве Франц все воспринимал так, словно у него были полностью оголены нервы. Деспотизм отца подавлял его. «Ты требовал от меня хотя бы понимания и сочувствия. Вместо этого я с давних пор прятался от тебя — в свою комнату, в книги, в сумасбродные идеи, у полоумных друзей. Я никогда не говорил с тобой откровенно, в храм к тебе не ходил».
«Письмо» завершилось четкой, логически выверенной концовкой: «Разумеется, в действительности вещи не могут так последовательно вытекать одна из другой, как доказательства в моем письме, жизнь сложнее пасьянса; но с теми поправками, которые вытекают из этого возражения, — поправками, которые я не могу и не хочу вносить каждую в отдельности, — в этом письме все же, по моему мнению, достигнуто нечто столь близкое к истине, что оно в состоянии немного успокоить нас обоих и облегчить нам жизнь и смерть».
Однако отец письмо это так и не прочитал.
Кафка искал у матери защиты от грубого и необузданного отца. В «Дневнике» за 1911 год он пишет: «Уже довольно давно я сетую на то, что постоянно болен, никогда, впрочем, не имея конкретной болезни, которая заставила бы меня лечь в постель. Это желание, конечно, по большей части проистекает из того факта, что я знаю, в какой мере моя мать способна утешить, когда, например, она выходит из освещенной гостиной, чтобы войти в полумрак комнаты, отведенной для больного». Но знал ли он детскую нежность? Ведь далее в «Дневнике» Кафка пишет: «Вчера я думал о том, что не всегда любил свою мать так, как она того заслуживала, и так, как я мог бы это делать...»
Истоки одиночества Кафки — в семье, в его детстве и юности. Он ненавидит семейный очаг, но остается его узником, как узником Праги. Лишь в 31 год у него появится комната вдали от родителей, к которым уже вскоре он вновь вернется из-за своей болезни.
Ребенком будущий писатель почти весь день проводил без родителей, только со слугами. Наверное, то была его первая школа одиночества. В сентябре 1889 года, когда мальчику исполнилось шесть, его отвели в начальную немецкую школу. В десять лет он поступил в лицей. Именно в последние годы учебы в лицее он начал писать, однако из его первых литературных опытов ничего не сохранилось.
Юношей он быстро растет — метр восемьдесят, метр восемьдесят два. Он стеснялся своего высокого роста, ходил, сгорбившись, и не решался смотреть в зеркало, чувствуя себя почти уродом. Впрочем, на фотографиях той поры он выглядит красивым черноволосым юно- шей с печальными глазами.
Замкнутость на самом себе, комплекс неполноценности были поисками несчастья. Одной из устойчивых черт его судьбы была определенная склонность к саморазрушению. В дневниках за 15 октября 1913 года запись: «Сегодня после обеда в полусне: в конце концов страдание должно взорвать мою голову. И именно в висках. Представив себе эту картину, я увидел огнестрельную рану, края которой острыми выступами загнуты кверху, как в грубо вскрытой жестяной банке».
Кафка слаб перед своим отцом, перед семейным, почти ненавистным, окружением, перед жизнью. Он был плохо вооружен для борьбы, обречен на поражение и жил, прекрасно понимая это. Но, проходя через ненависть, он стремился к любви. Ненавидя отца, он вместе с тем любил его, он восхищался его энергией и предприимчивостью. Так, через воскрешение эдиповских тем были созданы все условия для появления невроза.
Видимо, наиболее парализующее воздействие отца, устрашающего и почитаемого, сказалось на его сексуальности. В дневниках Кафка пишет: «Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном плане (и очень долго оставался бы таким, если бы меня насильно не толкнули в область сексуального), как сегодня, скажем, к теории относительности». Однажды, когда Францу было лет шестнадцать, отец посоветовал ему посещать проституток, чем невероятно травмировал сына. Но позднее Кафка так и делал.
В 1913 году он пережил свой первый чувственный опыт с женщиной — продавщицей из магазина готового платья. Франц, познакомившись с девицей, повел ее в гостиницу. Вначале он испытывал жуткий страх, но «когда мы под утро возвращались домой, я был счастлив, но счастье это состояло лишь в том, что моя вечно скулящая плоть наконец-то обрела покой, а самое большое счастье было в том, что все не оказалось еще более омерзительным, еще более грязным».
Запретный дневник
Далека ли печаль от счастья, если она сильна.
Кафка
Силы зла слегка облизывали проходы, заранее радуясь, что ворвутся через них.
Кафка
После окончания юридического факультета Пражского университета Кафка становится мелким служащим в частном страховом обществе. Несколько позднее он поступает в контору по страхованию несчастных случаев, где занимается расследованием дел, связанных с производственным травматизмом. За время службы в этих учреждениях он насмотрелся на разнообразные проявления человеческого горя, и не раз ему открывалась безысходность людских бед.
Его друг Макс Брод, с которым Кафка познакомился и сблизился в годы учебы в университете, подталкивал Франца больше писать и издаваться. Но юноша не верит в себя, он боится с головой уйти в творчество, этот страх, это беспокойство постоянно терзают его. Но в конце 1909 года Кафка начинает, возможно, главное дело своей жизни — «Дневники». Они составляют собрание из 13 толстых тетрадей большого формата.
Его дневники пестрят вариантами и фрагментами незаконченных рассказов, литературными замыслами, записями сновидений, размышлениями о литературе, искусстве; здесь же копии отправленных писем, главы из будущих романов. Страницы дневников Кафки — это его тщательно оберегаемое пространство 60лезненной жизни, где беспредельное одиночество переплетается со страстным желанием общения, страх перед жизнью — с объяснением в любви. И всегда — непрестанная трагическая борьба с самим собой и с окружающим миром.
Макс Брод утверждает, что Кафка понимал творчество как своего рода молитву. Такой молитвой и стали его знаменитые дневники, где сами записи порой принимают очертания молитвы. Иногда мольба его адресуется Богу, чаще — вечности: «Прими меня в свои объятия, в них — глубина, прими меня в глубину, не хочешь сейчас — пусть позже. Возьми меня, возьми меня — сплетение глупости и боли». Это — исповедь, которую Кафка шепчет на ухо своему духовнику, — но шепот его уходит в пустоту, в бездну, откуда нет возврата и ответа, и вряд ли эта исповедь-молитва облегчала его душу. Напротив, выплескивая на потаенные страницы свои сомнения, боли, терзания, он лишь усугублял свои раны. Самоанализ почти всегда на страницах дневников выливается в болезненное самокопание, близкое к разрушению души и личности.
В декабре 1913 года Кафка, прослушав доклад философа Бергмана «Моисей и современность», записывает в дневник: «Между свободой и рабством пересекаются поистине страшные пути, для предстоящего нет проводника, пройденное мгновенно погружается во тьму... Я там. Уйти я не могу. Мне не на что жаловаться. Я не страдаю чрезмерно... страдания мои значительно меньше тех страданий, которые, возможно, мне суждены».
В своем дневнике он нередко описывал состояние, близкое к безумию. «Вчера вечером, уже предвкушая сон, откинул одеяло, лег и вдруг явственно ощутил все свои способности, словно держал их в руках; они распирали мне грудь, воспламеняли голову... Я все время представлял себе фуражку с козырьком, которую я, чтобы защититься, изо всех сил натягиваю на лоб. Как много я вчера потерял, как тяжело стучала кровь в стесненной голове, — обладать такими способностями и держаться только силами, которые необходимы просто для существования и попусту растрачиваются».
Ему вдруг становилось буквально противным собственное тело. «Бесспорно, что главным препятствием к успеху являлось мое физическое состояние. С таким телом ничего не добьешься. Я должен буду свыкнуться с его постоянной несостоятельностью. Последние ночи, полные кошмарных сновидений, но длящиеся лишь минуты сна, меня сегодня утром настолько выбили из колеи, что, кроме лба своего, я ничего не ощущал... Мое тело слишком длинно при его слабости, в нем нет ни капли жира для создания благословенного тела, для сохранения внутреннего огня... Как может это слабое сердце, так часто болевшее в последнее время, гнать кровь через всю длину этих ног? Только до колен — и то ему хватало бы работы, а в холодные голени кровь толкается уже только со старческим слабосилием... В этом теле слишком мало сил для того, чего я хочу достичь».
Записки в дневнике (май 1913 года): «Страшная ненадежность моего внутреннего бытия». «Беспрерывное представление о широком кухонном ноже, быстро и с механической ритмичностью вонзающемся в меня сбоку и срезающим тончайшие поперечные полосы, которые при быстрой работе отскакивают в стороны почти свернутыми в трубку». Июнь того же года: «Я не способен выносить натиска моей собственной жизни, бессонницы, близости безумия». В сентябре 1915 года — вновь мысли о самоубийстве: «Кажется, самое подходящее место для того, чтобы вонзить нож, — между горлом и подбородком. Поднимешь подбородок и вонзишь нож в напряженные мышцы. Но это только кажется, будто оно самое подходящее. Надеешься увидеть, как великолепно хлынет кровь и порвется сплетение сухожилий и сомнений, будто в ножке жареной индейки».
Дневник побуждал Кафку к терзаниям. Недоверие к самому себе росло, исчезали остатки воли и энергии. Другая опасность — не менее серьезная. Дневник в основном предназначался для того, чтобы дать толчок его литературному творчеству, обратиться к действительности. Но этот замысел потерпел крах, поскольку вместо встречи с внешним миром глазам его открывалось зрелище самого себя. Из-за этого Кафка порой приходил в отчаяние: «Сегодня после полудня боль из-за моего одиночества охватила меня так пронзительно, что я отметил: таким путем растрачивается сила, которую я обретаю благодаря писанию и которая предназначалась мною, во всяком случае, совсем не для этого».
Но он не сомневался в своем призвании. Он чувствовал себя на пороге божественного освобождения, которым для него могло бы стать началом сочинительства. «Бесспорно, все, что я заранее, даже ясно ощущая, придумываю слово за словом или придумываю лишь приблизительно, но в четких словах за письменным столом, при попытке перенести их на бумагу, становится сухим, искаженным, застывшим, мешающим всему остальному, робким, а главное — не цельным, хотя ничего из первоначального замысла не забыто». Изобилие возникающих в его сознании мыслей и образов было столь велико, что ему приходилось выбирать. Но выбор в конечном итоге делался вслепую. Отсюда — изнурительное чередование надежды и отчаяния. Подчас он описывал свое литературное бесплодие как половое бессилие.
Однажды весной 1912 года в Прагу приехала группа еврейских артистов из Лемберга (Львова), чтобы сыграть пьесы на идиш. И вот Кафка оказался перед маленькой группой людей, которых многие презирали, которые безмятежно жили своим иудаизмом и были страстно преданы творчеству. И он вдруг ощутил чувство принадлежности к ним, о котором ранее не подозревал. Для него открыть иудаизм означало осознать себя наследником древней традиции и богатой истории, почувствовать себя причастным к этому устоявшемуся образу жизни, разделить горести и радости еврейства. Кафка начал интересоваться историей евреев. Он читал «Популярную историю евреев» Генриха Гретца и другую литературу.
Вскоре к нему приходит любовь. В августе 1912 года у родителей Макса Брода он впервые встречает Фелицу Бауэр. Ей было двадцать пять лет, она была еврейкой, изучала древнееврейский язык и разделяла идеи сионизма. Между ними завязалась переписка, поскольку вскоре Фелица возвратилась в Берлин.
Кафка был явно ею увлечен. Но любил он ее на расстоянии, в письмах. Она для него была далекая воображаемая возлюбленная, словно тень на горизонте. Кафка, скорее, любил ту любовь, которую испытывал к этой тени. Переписка то вспыхивала, то затихала. И вдруг в июне 1913 года он попросил ее руки. Девушка согласилась сразу и без колебаний. Но Кафка вдруг осознал, что этот брак ему совершенно не нужен. 21 июня в своем дневнике он записывает: «Страх перед соединением, слиянием. После этого я никогда не смогу быть один». Его тяга к одиночеству взяла верх. Позднее, 14 августа, в дневнике: «Я люблю ее, насколько способен, но любовь задыхается под погребающим ее страхом и самообвинениями». Он просил Фелицу не спешить, перечислял свои недостатки, словно бы стремился совсем оторвать ее от себя.
Кафка дважды, в мае 1914 года и в июле 1917, был с ней помолвлен, но брак они так и не заключили. Вот одно из последних писем Кафки к девушке: «То, что во мне борются двое, Ты знаешь. Что лучшее из этих двух принадлежит Тебе, в этом я не сомневаюсь, особенно в последние дни. О ходе борьбы, я в течение пяти лет извещал Тебя — большей частью к твоей муке — словами и молчанием, и тем и другим вместе. Если Ты спросишь меня, всегда ли это было правдиво, я смогу лишь ответить, что ни перед одним человеком я с такой силой не избегал сознательной лжи или — чтобы быть еще больше точным — не избегал с большей силой, чем перед Тобой. К маскировке я иной раз прибегал, ко лжи — очень мало... Я лживый человек, иначе я не могу сохранять равновесие, мой челн очень неустойчив... Ты мой суд челове- ческий. Двое, что борются во мне, или, вернее, из чьей борьбы я весь, вплоть до последней истерзанной частички моего существа, состою, — это добрый и злой; временами они меняют свои маски, и это еще больше запутывает запутанную борьбу; но в конце концов... я все же мог надеяться, что... наконец обрету Тебя... Втайне я считаю, что моя болезнь вовсе не туберкулез, а общее мое банкротство. Я думал, что можно будет еще держаться, но держаться больше нельзя. Кровь исходит не из легких, а из раны, нанесенной обычным или решающим ударом одного из борцов.
Этот борец получил теперь поддержку — туберкулез, чего теперь хочет другой? Разве борьба не достигла блистательного конца? Что иное остается другому — слабому, усталому и в таком состоянии почти невидимому Тебе, — как не прислониться ... к Твоему плечу и вместе с Тобой, самой невинностью чистого человека, ошеломленно и безнадежно воззриться на взрослого мужчину, который, почувствовав себя обладателем любви человечества или предназначенной ему наместницы, пускается на свои отвратительные подлости. Это искажение моих стремлений, которые сами по себе уже есть искажение».
«Оставь надежду всяк сюда входящий» — начертано на вратах ада. Считается, что это лишь обращение к страху предстоящих страданий. Но отторжение надежды уже само по себе есть несчастье. Тибетцы говорят: «Теряешь жену — обретаешь свободу, теряешь здоровье — обретаешь удовольствие, теряешь надежду — теряешь все!» Отсутствие надежды нередко порождает невроз. Наверное, так было с помолвками Кафки. Все его отношения строились в надежде на близость. Надежда оказывалась важнее действительной близости, при этом всегда оставалась возможность отступления. Но душа его все более погружалась в бездну отчаяния, «в громкозвучные трубы пустоты» (запись в дневнике от 4 августа 1917 года).
Напряженно-болезненное творчество
В 30-е годы Бертольт Брехт писал, что Кафка, предвидя приближение кошмаров фашизма, с великолепной фантазией описал будущие концлагеря, будущее бесправие, будущую абсолютизацию государственного аппарата, глухую, управляемую непостижимыми силами жизнь одиночек. Действительно, в произведениях Кафки отчетливо показана беспомощность человека в XX веке. В его романах «Процесс» и «Замок» запечатлена трагичность человеческой беспомощности. В «Процессе» человек оказывается жертвой сил, преследующих его. В «Замке» те же, нелепые, но всемогущие силы препятствуют человеку в его страстном желании зажить обычной, простой человеческой жизнью.
Именно в «Процессе» Кафка, пожалуй, с наибольшей полнотой и масштабностью отразил убеждение в беспомощности человека перед всевластием неведомых, стоящих над ним сил, и мысль о фатальной виновности человека. Главный герой Йозеф К. после долгих хождений по канцеляриям суда, где его ошеломлял вид обвиняемых, подавленных собственной судьбой настолько, что они теряли всякое представление о человеческом достоинстве и правах, сам начинает сомневаться в собственной невиновности и начинает искать в своей жизни проступки, которые могли бы объяснить, почему и в чем его обвиняют. Через весь роман проходит мысль о бессмысленности сопротивления тем зловещим силам, что господствуют над человеком. Безнадежность парализует его волю к сопротивлению. Образ судейской машины, перемоловшей Йозефа К. своими чудовищными жерновами, — персонификация неведомых сил зла, враждебных человеку, их отображение в человеческом сознании. Человек не способен познать их и потому не может с ними бороться. Французский философ Жан-Поль Сартр допускал, что один из смысловых пластов «Процесса» — это еврей в качестве подсудимого в долгом судебном процессе — он ничего не знает о своих судьях и почти ничего — о защитниках; он не знает, в чем его вина.
Мир произведений Кафки — это мир странный, причудливый, неестественный. Странность эта достигается необычностью ситуаций, сюжета, персонажей. В итоге обычно лежащий на поверхности смысл утрачивается, обесценивается. Недаром французский теоретик культуры Морис Бланшо, рассматривая творчество Кафки, выводит его из мира смыслов. Для Бланшо Кафка — это писатель, воссоздающий собственный опыт и стремящийся при этом во внесмысловую область Ничто. По-иному интересуется Кафкой его друг и биограф Макс Брод, опираясь на гегелевскую формулу: «Америка» — тезис, «Процесс» — антитезис, «Замок» — синтез. Чистый и наивный юноша из романа «Америка» — это одна ипостась души Кафки. Йозеф К. из «Процесса» — другая; по мысли Брода, и процесс, и казнь при всей своей бессмысленности исполнены высшей справедливости. Йозефа К. судит его собственная совесть, а приговор выносит Бог. Наконец, полностью преодолевший сомнения, но все же к чему-то стремящийся землемер К. из «Замка» — это третья ипостась, уже окончательная.
Произведения Кафки были в значительной мере прямым продолжением, фиксацией его внутренних состояний и видений, тревожным, полным недоговоренностей и смуты рассказом о химерах и мучительных страхах, владевших его сознанием и омрачавших его безрадостную жизнь. Занимаясь писательством, он замыкался в собственной личности, все глубже погружаясь в самосозерцание.
В октябре 1911 года он записывает в дневник: «Бессонная ночь. Уже третья подряд. Я хорошо засыпаю, но спустя час просыпаюсь, словно сунул голову в несуществующую дыру. Сон полностью отлетает, у меня ощущение, будто я совсем не спал... И с этого момента всю ночь часов до пяти я как будто и сплю, и вместе с тем яркие сны не дают мне заснуть. Я как бы формально сплю «около» себя, в то время как сам я должен биться со снами... Вероятно, я страдаю бессонницей только потому, что пишу».
Одиночество, бессонница и страх смерти обратились в творческий порыв. Бессонница стала преследовать Кафку уже в молодости, но он никогда всерьез с ней не боролся. Для Кафки бессонница была прочно сопряжена с творчеством. Он часто повторял — не будь этих странных ночей, он бы никогда не писал. Усталость и отчаяние заставляли его принять отказ от тех целей, недостижимость которых его постоянно угнетала. Вероятно, в обыденной ситуации Кафка не мог достигнуть той степени отстраненности, которая его устраивала, и был способен на это, лишь оказываясь на грани саморазрушения.
Слабость после ночей, лишенных сна, заставили Кафку чувствовать к себе отвращение. Его одолевали бесконечные фантазии. Он видел сны, и были они кошмарны. Кафка чуть не сошел с ума; он утрачивал уверенность в мире, направляемом Великим Часовщиком. Почва, которую он попирал ногами, становилась все более зыбкой. Недаром Кафка говорил, что бессонница, вероятно, есть не что иное, как страх смерти.
Страницы его дневников усеяны записями: «Видение...», «Бессонная ночь. Я думаю, эта бессонница происходит оттого, что я пишу». И опять «Видение...», «Я не могу спать. Только видения, никакого сна». Какие-то из этих видений вылились в его притчи-новеллы, полные символики и иносказаний. Являясь апофеозом неуверенности человека, бессонница в то же время может способствовать творческому процессу, отрешенности и вдохновению. Чем можно объяснить этот парадокс? Очевидно, бессонница в некоторых случаях становится средством обуздать сжигающую человека надежду, трансформировать ее в творческую отрешенность.
Неуверенность появляется только как тень надежды, человек беспокоится о неисполнимости чаемого. Крайняя усталость и отчаяние заставляют изможденного человека принять отказ от тех целей, недостижимость которых его мучает. В некотором смысле творческое просветление всегда есть наслаждение подобным отказом. Но что происходит с отверженными надеждами, могут ли они совершенно раствориться в отрешенности? С ощущением творческой силы должна появиться и надежда на признание, на благотворное изменение собственной жизни благодаря творческому успеху. Таким образом, надежда не исчезает, а лишь видоизменяется.
В октябре 1911 года он пишет в дневнике: «Я ощущаю — особенно по вечерам и еще больше по утрам — дыхание, пробуждение захватывающего состояния, в котором нет предела моим возможностям, и потом не нахожу покоя из-за сплошного гула, который шумит во мне и унять который у меня нет времени. В конечном счете, этот гул не что иное, как подавленная, сдерживаемая гармония, выпущенная на волю, она бы целиком наполнила меня, расширила и снова наполнила. Теперь же это состояние, порождая лишь слабые надежды, причиняет мне вред, ибо у меня нет достаточно сил вынести теперешнюю мысль, днем мне помогает видимый мир, ночь же без помех разрезает меня на части».
Известны признания знакомых авторов о том, что, закончив очередное произведение, они чувствуют не только удовлетворение, но и приближение опустошенности, ведь творчество помогало жить, удерживало от распада. С завершением последней строки не исполнялись мечты о грандиозных переменах в жизни. И при отсутствии признания нередко подкрадывается страх, появляются сомнения в объективной абсолютной ценности произведения. Пожалуй, наиболее трагичным опытом Кафки было именно это осознание.
Одна из главных эмоций, наполняющих произведения Кафки, — это страх. Человек может бояться лишь того, что он в силах вообразить. Почувствовать, что хоть и отдаленно, но согласуется с его опытом. Но способен ли человек представить ужас небытия? Психоаналитики полагают, что страх смерти является видоизменением страха утратить в лице родителей защиту от мифа. Таким образом, напряженное предвосхищение смерти подразумевает страх остаться неоцененным, ведь тщеславие и жажда творческого успеха во многом определяются взаимоотношениями с родителями в раннем детстве. Бессонница обращает человека к творчеству, которое, оставаясь непризнанным, в свою очередь приводит к страху смерти и бессоннице.
В марте 1911 года Кафка посещает теософские доклады Рудольфа Штайнера и при личной встрече рассказывает ему:
— Я ощущаю, что большая часть моего естества тяготеет к теософии, но в то же время я испытываю перед нею сильнейший страх. Я боюсь, что она породит новое смятение, которое может быть для меня очень опасным, так как мое нынешнее несчастье как раз и проистекает из смятения. А вызвано оно вот чем: мое счастье, мои способности и возможность приносить пользу с давних пор связаны с литературным творчеством. Но я при этом переживаю, хотя и не часто, состояния, очень близкие к описанным вами состояниям ясновидения. Я живу в мире фантазий, и чувствую при этом себя на пределе сил, даже на пределе человеческих сил вообще.
В августе 1914 года началась первая мировая война. Русские войска вошли в Галицию. В Прагу тогда съехалось немало беженцев, по преимуществу евреев. Это оживило интерес Кафки к прошлому своего народа. Страницы дневника заполнены мыслями по этому поводу, но почти всегда его размышления соотносились с собственным жизненным опытом, они были заполнены грустью и чувством одиночества. Кафке представлялось, что жизнь отказывает ему во взаимности, и, подводя итоги, он отмечал одни лишь неудачи: «Без предков, без супружества, без потомков, с неистовой жаждой предков, супружества, потомков. Все протягивают мне руки: предки, супружество, потомки, — но слишком далеко от меня».
В сентябре 1917 года врачи впервые установили у Кафки туберкулез. Он принял решение расторгнуть вторую помолвку с Фелицей Бауэр, уволиться со службы и переехать в деревню к своей сестре. Кафка записывал в дневнике: «У тебя есть возможность — насколько вообще такая возможность существует — начать сначала. Не упускай ее. Если хочешь взяться всерьез, ты не сможешь обойти грязь, которая исторгнется из тебя. Но не валяйся в ней. Если, как ты утверждаешь, рана в легких является лишь символом, символом раны, воспалению которой имя Фелица, глубже которой имя Оправдание, если это так, тогда и советы врача (свет, воздух, солнце, покой) — символ. Ухватись же за этот символ».
В 1918 году он писал Максу Броду, что давно уже носит в своем бумажнике визитку, где просит его уничтожить после своей смерти все свои неопубликованные произведения. Кафка, таким образом, поставил под сомнение свой талант и свое творчество. В 1918—1919 годах он ничего не написал. Он смертельно устал. Он уже не верит в свой талант.
Милена Есенская: последняя надежда, последняя иллюзия
Любовь, ты ноги, которыми я причиняю себе боль.
Кафка
В последние годы жизни Кафка испытал большую любовь к чешской журналистке Милене Есенской, с которой познакомился в 1920 году. Памятником этой глубокой и безотрадной любви стали его «Письма к Милене». Чувства писателя были омрачены уже ставшим привычным тяжелым душевным состоянием. Сквозь полушутливый тон писем, проникнутый теплом и сердечностью, проскальзывает: «Я болен душевно, легочное заболевание есть лишь вышедшая из берегов душевная болезнь».
Милена была замужем за Эрнстом Поллаком, которого Кафка знал и уважал. Поэтому переписка идет в безличной форме, на случай, если письма попадут на глаза мужу. Но одно из писем писателя — исключение из этого правила. Милена опубликовала эссе о браке «Дьявол в семье», где писала, что каждый из супругов должен уважать свободу другого. Кафка отправил ей большое письмо, по сути дела — признание в любви. Письмо это он составил в форме диалога между ангелом (Миленой) и «иудаизмом на грани саморазрушения» (маска, за которой скрывался сам Кафка). Эссе Милены Есенской, в котором писатель нашел немало созвучных ему мыслей, стало как бы для них двоих ду- ховным браком. «Иудаизм, подошедший к своему концу, — я бы почти написал: к счастью, подошедший к своему концу, — вступает с недоступным навсегда ангелом в диалог, в котором их голоса сливаются», — говорит Кафка. «Недоступный навсегда ангел» — это Милена. Таковой она и осталась для писателя. А Кафке предстояло прожить всего четыре года.
Тогда же он принялся за свои многочисленные короткие рассказы. Большинство из них обрываются на полуслове, некоторые содержат лишь несколько фраз и только немногие имеют завершенный вид. Чаще всего это мешанина сновидений или кошмаров, смысла которых понять невозможно. В некоторые из рассказов он вкладывает личное содержание. Рассказ «Набор рекрутов»: офицеры, производящие набор в некой стране, призывают мужчин и женщин на военную службу. Женщины радостно откликаются на призыв, словно их приглашают на праздник, лишь некоторые мужчины, испуганные «устрашающим великим приказом», пытаются обмануть бдительность офицеров. Последние противопоставляют им лишь презрение — освобождение от службы само по себе есть худшее наказание. На странном и таинственном языке Кафка говорит здесь об отношении полов: он сам из тех, кто уклонился от призыва и, следовательно, обречен испытывать чувство стыда; перед лицом Милены он в завуалированной форме как бы выносит себе обвинение. Вообще, Милена довольно часто появляется в этих рассказах, обычно странным образом соединенная с образом смерти.
В 1920 году он много писал, перечитывал прежние свои заметки, размышлял, в том числе и об иудаизме. Кафка вновь обратился к Моисею: «Сущность дороги через пустыню. Человек сам себе народный предводитель, идет этой дорогой, последними остатками (большего не дано) сознания постигая происходящее. Всю жизнь ему чудится Ханаан, лишь мысль. Что землю эту он увидит перед самой смертью, для него невероятна. Эта последняя надежда может иметь один только смысл — показать, сколь несовершенным мгновением является человеческая жизнь, несовершенным потому, что длись она и бесконечно, она все равно все- го лишь мгновение. Моисей не дошел до Ханаана не потому, что его жизнь была слишком короткой, а потому, что она человеческая жизнь». Так что цели различны по намерениям, но всегда остается еще и индивидуально избранный путь».
Далекий от того, чтобы исключить себя из еврейства, он, вместе с тем, писал, что, видимо, в большей мере, чем другие, является «западным евреем», во многом лишенным жизненной силы, погруженным в повседневность без веры и надежды. Упадок западных евреев, таким образом, становится причиной его собственного упадка — как и они, сам Кафка не имеет ни прошлого, ни будущего. Как Моисей, он приблизился к Ханаану, но так в него и не вошел. Он не коснулся лона любимой женщины. Он не вошел в нее, испытывая ужас и восторг от обладания любимым телом, не испытал блаженства соединения плоти и духа.
Всегдашний страх увел его от жизни. Его грех заключался в уклонении от исполнения предписанного Законом и в бессилии. Он тот, кто не может любить, тот, кто постоянно слышал: «Ты не можешь меня любить как бы ты того не хотел, ты, на свою беду, любишь любовь во мне; любовь ко мне не любит тебя». «Поэтому неправильно говорить, будто я познал слова «я люблю тебя». Я познал лишь тишину ожидания, которую должны были нарушить мои слова: «Я люблю тебя», — только это я познал, ничего другого».
Кафка подвел итог своей жизни и осознал, что она не удалась. Невротические состояния постоянно терзали его в последние годы. 16 января 1922 года он записал в дневнике: «...бессилие, не в силах спать, не в силах бодрствовать, не в силах переносить жизнь, вернее, последовательность жизни. Часы идут вразнобой, внутренние мчатся вперед в дьявольском, или сатанинском, или, во всяком случае, нечеловеческом темпе, наружные, запинаясь, идут своим обычным ходом... Одиночество, которое давно уже частично мне навязали, частично я сам искал, — но и искал разве не по принуждению? — это одиночество теперь непреложно и беспредельно... Оно может привести к безумию — и это, кажется, наиболее вероятно».
Как в этом предельном напряжении можно избежать безумия? Он не впервые задавал себе этот вопрос. Впрочем, Кафке, который постоянно пребывал в борьбе с неврозами, безумие не угрожало. И он это хорошо знал. Возможно, он был защищен от него самой своей слабостью, «смесью робости, сдержанности, болтливости, безразличия»: «Эта слабость удерживает меня как от безумия, так и от любого взлета. За то, что она удерживает меня от безумия, я лелею ее; из страха перед безумием я жертвую взлетом». Он расценивает это как сделку, в которой он, несомненно, остается в проигрыше.
21 января 1922 года: «Уснул после полуночи, проснулся в пять. Невероятное достижение, невероятное счастье. Но счастье было моим несчастьем, ибо тут же пришла неотвратимая мысль: такого счастья ты не заслуживаешь, все боги вместе обрушились на меня, я увидел их рассвирепевшего Главенствующего, его пальцы страшно растопырены и грозят мне ими с угрожающей силой, бьют в цимбалы. Возбуждение этих двух часов, до семи утра, не только уничтожило результаты того, что дал сон, но и весь день заставляло меня дрожать и беспокоиться».
В обмен на все, в чем было отказано — предки, брак, потомки, — Кафка получил лишь «искусственную и жалкую компенсацию». Эта компенсация осознается лишь через страдание. Таким образом, литература одновременно является спасением и мукой. Он пишет Максу Броду: «Я живу над тьмой, из которой поднимается, когда захочет, темная сила».
Поскольку он как бы не жил, он вдвойне испытывал страх смерти. «То, что казалось мне игрой, оказалось действительностью. Творчеством я не откупился. Всю жизнь я умирал, а теперь умру на самом деле. Моя жизнь была слаще, чем у других, тем страшнее будет моя смерть».
Незадолго до смерти у Кафки почти пропал голос. Страдания его стали невыносимыми. Он просил лечащего врача: «Доктор, дайте мне смерть, иначе вы — убийца». Франц Кафка умер 3 июня 1924 года; тело его было перевезено в Прагу и погребено 11 июня на еврейском кладбище. Несколькими годами позднее рядом с ним оказались отец и мать.
В литературном мире уход Франца Кафки прошел незамеченным. Единственным откликом стал некролог Милены Есенской в пражской газете. Многие считают его лучшим из всего, что когда-либо было написано о Кафке. «Немногие знали его здесь, поскольку он шел сам, своей дорогой, исполненной правды, испуганный миром. Его боязнь придала ему почти невероятную хрупкость и бескомпромиссную, почти устрашающую интеллектуальную изысканность. Он был застенчив, беспокоен, нежен и добр, но написанные им книги жестоки и болезненны. Он видел мир, наполненный незримыми демонами, рвущими и уничтожающими беззащитного человека. Он был слишком прозорлив, слишком мудр, чтобы смочь жить, слишком слаб, чтобы бороться, слаб, как бывают существа прекрасные и благородные, не способные ввязаться в битву со страхом, испытывающие непонимание, отсутствие доброты, интеллектуальную ложь, потому что они знают наперед, что борьба напрасна и что побежденный противник покроет, к тому же, своим позором победителя... Его книги наполнены жесткой иронией и чутким восприятием человека, видевшего мир столь ясно, что он не мог его выносить, и он должен был умереть, если не хотел подобно другим делать уступки и искать оправдания, даже самые благородные, в самых различных ошибках разума и подсознания... Он был художником и человеком со столь чуткой совестью, что слышал даже там, где другие ошибочно считали себя в безопасности». Что же, Милена хорошо его знала и понимала.
В 1924 году это был единственный отклик. Но не прошло и года, как Макс Брод опубликовал «Процесс» и вручил, таким образом, имя Кафки последующим поколениям. Вскоре опубликовали все, включая самое личное и сокровенное. Так пожелал век, в котором мы живем. Макс Брод предпочел литературу почитанию, нарушив завещание Кафки. Но кто сегодня смог бы упрекнуть его за это?
Троцкий: поверженный кумир революции
В революции происходит суд над злыми силами, но судящие силы сами творят зло.
Н. Бердяев
21 августа 1940 года вдали от родины, почти всеми забытый, погиб человек, имя которого в пору его всесилия заставляло трепетать тысячи людей. Не каждого автора убивают во время работы над текстом книги по приказанию героя произведения. Троцкий был убит в разгар работы над литературной биографией Сталина — человека, по чьему приказу был ликвидирован. Именно последний литературный труд Льва Давидовича Троцкого послужил основанием для вердикта о смертной казни. Рукопись Троцкого была опасна не пикантными биографическими подробностями; она покушалась на сами устои сталинизма. Убийство Троцкого — это самоубийство Сталина. Он надеялся, что со смертью Троцкого исчезнет носитель тех идей и принципов, которые осуществлялись им в СССР. Поэтому убийство Троцкого, если взглянуть на проблему под тем углом зрения, который пытался задать сам Троцкий, оказывается трагедией не только его, но и его убийцы — Сталина. А трагедия троцкизма — это и трагедия сталинизма. Именно Лев Троцкий первым рассмотрел Сталина и сталинизм изнутри, подметив вырождение большевизма. Диктатор этого ему не простил.
Детство
«Как большинство грузинок, Екатерина Джугашвили стала матерью совсем в юном возрасте. Первые трое детей умерли во младенчестве. 21 декабря 1879 года родился четвертый ребенок, матери едва исполнилось двадцать лет. Иосифу шел седьмой год, когда он заболел оспой. Следы её остались на всю жизнь свидетельством плебейского происхождения и культурной отсталости среды».
26 октября 1879 года в семье мелкого землевладельца — выходца из малороссийских еврейских колонистов Давида Леонтьевича Бронштейна — родился сын. Из восьми детей Лейба был пятым. Выжили четверо: старшие брат Александр и сестра Елизавета, Лейба и младшая сестра Ольга, впоследствии жена Л.Б.Каменева (Розенфельда). Из всех Бронштейнов она ушла из жизни последней — расстреляна в Орловской тюрьме в 1941 году при отступлении Красной Армии.
День рождения Троцкого совпадает с днем Октябрьской революции. «Мистики и пифагорейцы могут делать из этого какие угодно выводы. Сам я заметил это курьезное совпадение только через три года после октябрьского переворота», — пишет Троцкий в автобиографии. И другое, если хотите, совпадение. Именно в 1879 году, когда родились и Сталин, и Троцкий, террористы взяли на вооружение взрывчатку. Два года спустя был убит император Александр II. Изуродованный труп царя стал первым страшным предупреждением, что Россия идет к пропасти.
Не только Россия, но весь мир вступали в период кризиса, эпоху мировых войн и революционных потрясений. В 1879 году были заложены первые кирпичики в создание Тройственного Союза и Антанты. В Германии социалисты попали под исключительные законы Бисмарка. За год перед этим закончилась русско-турецкая война, так и не урегулировавшая балканскую проблему, но обострившая борьбу за Черноморские проливы. Однако Яновку, небольшое селение Елисаветградского уезда Херсонской губернии, где провел первые девять лет своей жизни будущий пламенный революционер, как и маленький грузинский город Гори, где в семье сапожника Виссариона Джугашвили подрастал его убийца, ветра грядущих перемен обходили стороной.
Семья Бронштейнов не отличалась ни особым благополучием, ни привилегированным общественным положением, но и не испытывала серьезных материальных затруднений и неудобств, связанных с их еврейским происхождением. Конечно, им были известны ограничения, определенные законодательством для евреев в самодержавной России. Однако отец Троцкого был великий труженик и рачительный хозяин, в тех местах он являлся фактически единственным работодателем для беднейших крестьян. От него зависели и более состоятельные люди, так как он владел мельницей, пивоварней, осуществлял скупку и перепродажу зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Это, естественно, определяло отношение к нему и членам его семьи. Поэтому здесь у Троцкого не было условий развить в себе комплекс неполноценности.
Давид Леонтьевич Бронштейн был человеком, сделавшим себя сам. Он обладал незаурядной природной сметкой, практическим складом ума, железной хваткой. После Октябрьской революции, лишившись всего имущества — к тому времени это уже составляло около 10 тысяч десятин земли, — в разгар гражданской войны, когда опасность была и от «крас- ных» — как крупному землевладельцу, и от «белых» — как отцу одного из руководителей большевистской революции и председателя Реввоенсовета республики, 75-летний старик прошел сотни километров до Одессы пешком, откуда сумел уехать к сыну в Москву. Тот пристроил его управляющим мельницей в подмосковном совхозе. Умер Бронштейн в 1922 году, заразившись тифом.
Мать Троцкого происходила из городских мещан. Выйдя по любви за неграмотного, но красивого колониста-земледельца, она вступила в суровый мир сельского быта и в течение сорока пяти лет весьма успешно вела непростое, все разрастающееся хозяйство Бронштейнов. Может быть именно ей должен быть обязан Лев Давидович приобщению к первым азам культуры. В длинные зимние вечера, когда полевые работы заканчивались, на старом диване, доставшемся семье Бронштейнов от старых хозяев Яновки, происходило таинство общения с книгой: мать читала детям, часто запинаясь на сложно построенных фразах, почти по слогам. Но это первое знакомство с ярким, незнакомым и увлекательным миром книг навсегда осталось в памяти.
Юность
«Низший слой мелкой буржуазии знает две высоких карьеры для единственных или одаренных сыновей: чиновинка и священника. Мать Гитлера мечтала о карьере пастора для сына. С той же мыслью носилась, лет на десять раньше, в еще более скромной среде, Екатерина Джугашвили... С похвальным листом Горийского учил ища в своей сумке пятнадцатилетний Иосиф впервые очутился осенью 1894 года в большом городе, который не мог не поразить его воображение. Это был Тифлис, бывшая столица грузинских царей. Благодаря успешному окончанию духовного училища в Гори, Иосиф Джугашпили был принят в семинарию на всем готовом...».
Анна Бронштейн не только по мере возможности читала, иногда выписывала книги, но и проявила настойчивость в деле получения детьми образования.
В 1888 году Лев Бронштейн поступил в подготовительный класс Одесского реального училища и поселился в семье родственника по материнской линии — Моисея Филипповича Шпенцера — в будущем одного из крупных издателей юга России. В Одессе девятилетний мальчик оказался совершенно в иной культурной среде. Как писал в автобиографии Л .Д.Троцкий: «Мне шаг за шагом объясняли, что нужно здороваться по утрам, содержать опрятно руки и ногти, не есть с ножа, никогда не опаздывать, благодарить прислугу, когда она подает, и не отзываться о людях дурно за их спиной.
Я узнавал, что десятки слов, которые в деревне казались непререкаемыми, суть не русские слова, а испорченные украинские. Каждый день передо мною открывалась частица более культурной среды, чем та, в которой я провел девять лет своей жизни». В этом доме он увидел впервые печатные гранки и навсегда запомнил запах свежей типографской краски.
Выбор реального училища вместо классической гимназии не случаен. В 1887 году в казенных учебных заведениях для евреев была введена десятипроцентная норма. Она распространялась и на реальные училища, но поскольку желающих учиться в них оказывалось не так уж много, шансы на учебу значительно возрастали.
В училище Троцкий проявил свои честолюбивые устремления и природные способности и был первым учеником. Легкость, с которой он обгонял своих одноклассников по всем дисциплинам, незаметно отложил а отпечаток на характер. Он привык относиться к сотоварищам как к людям второго сорта, чувствуя свое интеллектуальное превосходство, был самоуверен и настойчив в поддержании своего первенства. Реальные училища от гимназий отличались тогда меньшим объемом гуманитарного образования в пользу естественных и математических наук. Тем не менее в училище Троцкий прочел многое из Толстого, Шекспира, Пушкина, Некрасова, Успенского.
После окончания шестого класса училища Лев Бронштейн перебрался в Николаев, чтобы закончить седьмой класс. 1896 год — год учебы в Николаеве — стал переломным в его судьбе. Здесь он поселился в семье, где было двое взрослых сыновей, придерживающихся социалистических народнических идей, и через них познакомился с людьми, увлеченными социальными и политическими проблемами. Среди них оказалась и его будущая жена — Александра Соколовская. Она первая познакомила юношу с идеями марксизма.
Старше Льва на шесть лет, просветленная молодая женщина, дочь народника, выросшая в атмосфере вечных русских вопросов о смысле жизни и поисках вариантов народного счастья, Соколовская смогла самоуверенность юного дилетанта, заявлявшего, что «марксизм несостоятелен», привести в состояние интеллектуального смятения. Из всего окружения она единственная читала работы Маркса и Энгельса, в то время как Троцкий основывался на логике и интуиции, не зная точно предмета дискуссии. Руководствуясь духом тщеславия, Троцкий решил «публично разгромить» марксизм, взялся написать едва ли не первую свою статью, и даже пьесу, стержнем которой должна была стать борьба марксистов и народников. Пьеса написана не была, а споры переросли в приверженность марксизму и любовь к его пропагандистке.
Природа наградила Льва Бронштейна красивой внешностью: голубые глаза, пышные темные волосы, правильные черты лица. Все это вскоре дополнилось хорошими манерами и умением со вкусом одеваться. Естественно, что любовь была взаимной.
Путь в революцию
«В 1899 году он (Иосиф Джугашвили) покинул семинарию, унося с собой злобную, лютую вражду против школьного управления, против буржуазии, против всего, что существовало в стране и воплощало царизм. Ненависть против всякой власти».
Радикализм молодого Бронштейна и его друзей углублялся. Они создали несколько кружков среди рабочих верфей Николаева, где проводили беседы, читали газеты, брошюры, прокламации революционного содержания. Свою организацию они назвали «Южно-русский рабочий союз», в честь союза, разгромленного жандармами четверть века назад. Руководство союза было неопытным, конспирация примитивной, естественно, что очень скоро его организаторы были арестованы. Из Николаева Бронштейна перевели в Херсонскую тюрьму, затем — в одесскую, где содержали около двух лет до завершения следствия. Суда не было. В административном порядке Бронштейн и три его подельника были осуждены на четыре года ссылки, другие, в том числе Соколовская, на меньшие сроки. В пе- ресыльной тюрьме в Москве он пробыл около пяти месяцев, три месяца — в иркутской. Каждый день тюремного заключения не проходил для Льва бесследно. У него была поразительная способность к самообразованию. Умственная деятельность — чтение, размыш- ление, писание — станет любимым занятием на всю жизнь. В тюрьме он выучил иностранные языки весьма оригинальным образом — по библии, изданной на четырех языках, которую по его просьбе принесла старшая сестра.
В Бутырской тюрьме Бронштейн и Соколовская решили пожениться. Лев писал своей будущей жене: «Сибирская тайга умерит нашу гражданскую чувствительность. Зато мы там будем счастливы! Как олимпийские боги!» Они испросили разрешение на брак у тюремных властей, сообщили родителям. Власти не препятствовали, Соколовские тоже. А вот родители Льва категорически возражали. Их брак в «Бутырках» скрепил раввин. Так начались «тюремные университеты» Льва Давидовича Троцкого, тогда еще Бронштейна.
К осени 1900 года молодая семья обосновалась с селе Усть-Кут Иркутской губернии. Деятельная натура Троцкого тут же нашла себе применение. Он много занимался самообразованием, впервые попробовал себя в журналистике — писал быстро, ярко, иногда легковесно. Несколько статей ему удалось отправить за рубеж. Его материалы были категоричны и бескомпромиссны. Отсутствие боязни высказать кому угодно свое особое мнение, готовность пойти против устоявшихся порядков — через всю жизнь пронесет он это качество.
Очень скоро импульсивному ссыльному опостылел Усть-Кут. Ему было тесно среди убогих домишек, ограниченного круга общения. Кипучей натуре нужны были простор и большая сцена. А это Петербург, Москва... Больше томиться в ссылке Лев не мог. Когда он сказал об этом Александре Львовне, та возражать не стала. К этому времени у Троцкого и Соколовской уже было две дочери, младшей шел четвертый месяц. Жизнь в ссылке была нелегкая. Побег мужа возлагал на Александру Львовну двойную ношу. Но она отводила эти вопросы одним словом — надо. Революционный долг преобладал у нее над всеми остальными соображениями, и прежде всего личными. Она считала Лейбу гением, который нужен революции, поэтому участвовала в подготовке побега и в течение нескольких дней после него успешно маскировала отсутствие мужа от полиции, укрывая одеялом чучело мнимого больного.
Побег из сибирской ссылки стал началом их личной трагедии. Из-за границы, куда добрался Троцкий, можно было лишь изредка переписываться. Вскоре для Соколовской началась вторая ссылка. Жизнь развела их, оставив лишь идейную связь и дружбу. Лев Бронштейн покинул жену с двумя крохотными дочками, чтобы никогда больше не вернуться к ним. Младшая дочь Нина умерла в 1928 году, старшая дочь Зина — после душевной болезни — в 1933. Сама Соколовская будет сослана Сталиным в Сибирь только за то, что тридцать лет назад она была женой тогда еще никому неизвестного Льва Бронштейна.
Рождение профессионального революционера
«Образцом для Сосо стал Коба, герой романа грузинского автора Казбеги «Нуну». В борьбе против властей угнетенные горцы терпят, вследствие измены, поражение и теряют остатки свободы, в то время как вождь восстания жертвует родиной и своей женой Нуну, всем, даже жизнью. Отныне Коба стал для Сосо божеством... Он сам хотел стать вторым Кобой, борцом и героем, знаменитым, как этот последний. Иосиф назвал себя именем вождя горцев и не терпел, чтобы его звали иначе».
Летом 1902 года ссыльный Бронштейн бежал. И с этого момента появилась новая историческая фигура — Лев Троцкий. В Иркутске друзья достали беглецу не только новую одежду, но и новый паспорт, в который он вписал свою новую, теперь уже бессмертную фамилию. У фамилии был реальный владелец — тюремный смотритель из Одессы — чья весьма представительная внешность импонировала юному Лейбе. Но, может быть, дело не только в фигуре надзирателя, а в самой фамилии, так как «тротц» в переводе с немецкого и идиш означает «вопреки», «наперекор». Такая интерпретация возможна, если учесть, что один из его первых литературных псевдонимов был Антид Отто (антидот), т.е. по итальянски — противоядие. Не только чувство справедливости, но также юношеское упрямство (тротц) превратили Льва Бронштейна в Троцкого — человека, чья жизнь целиком была посвящена борьбе, противостоянию, революции.
Заехав в Самару к Кржижановскому, который одним из первых оценил публицистический талант тогда еще ссыльного Бронштейна и дал ему кличку «Перо», Троцкий направился в Лондон, в редакцию «Искры». С фальшивым паспортом в кармане он нелегально перешел границу с Австрией и добрался до Вены. Здесь, заручившись помощью Адлера — одного из руководителей австрийской социал-демократии, он встретился в Цюрихе с Павлом Аксельродом, получил от него заветный лондонский адрес и ранним октябрьским утром постучал в дверь квартиры, где жили Ленин и Крупская. Взяв денег, он спустился вниз, чтобы расплатиться с кэбом, а затем засыпал чету Ульяновых ворохом новостей с родины.
Отныне судьбы Ленина и Троцкого свыше двадцати лет будут постоянно пересекаться. Они будут переходить от взаимной симпатии к прямой вражде и вновь к согласию. Оба в пору разлада не будут щадить друг друга. С ленинской подачи во все учебники истории партии большевиков войдет обидный эпитет «Иудушка Троцкий». Но в кульминационный момент их жизни — в ночь 25 на 26 октября, в ожидании открытия съезда Советов, они вместе будут лежать в пустой комнате Смольного на старом одеяле и ожидать исхода за- пущенных ими событий. Кто знает, может быть именно в этот момент они вспомнили и общие ботинки, которые носили в Париже, и совместное посещение Opera Comique, и лондонскую церковь, где социал-демократический митинг чередовался с пением псалмов. А может быть, воспоминаний и не было — было только будущее. Революционные отряды уже захватили Госбанк, Центральный телеграф, развели мосты, окружили Зимний дворец. Пружина начала разжиматься, уже ничего не зависело от их действий. В те дни принимались решения, определившие историческую эпоху. Эти решения почти не обсуждались. Бессознательное поднялось и подчинило себе сознание, слив их в какое-то нерасторжимое единство. И наконец знаменитое: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась!» А пока Троцкий, не дав подняться Владимиру Ильичу с постели, подвинув ближе стул, энергично жестикулируя, взахлеб говорит о Сибири, Самаре, Цюрихе. Ленин, будучи почти на десять лет старше, увидел в пылком молодом человеке одного из тех, кто может открыть новую страницу революционного движения в России.
Первая эмиграция
«Из Сибири Коба вернулся прямо в Тифлис: факт этот не может не вызвать удивления. Сколько-нибудь заметные беглецы редко возвращались на родину».
Эмиграция всегда играла заметную роль в политической и духовной жизни России. Троцкий более трети жизни провел в эмиграции. Оказавшись впервые в Европе в 1902 году, он воспринял это время как «восторженное откровение». Он писал, спорил, ездил, впитывал жизнь, знакомую раньше лишь по книгам и газетным статьям. Ему было только двадцать три года и надо было найти баланс между своим «я» и новой социальной и духовной средой.
Первое поколение русской социал-демократии, возглавлявшееся Плехановым, начало свою критическую и пропагандистскую деятельность в начале 80-х годов XIX века. Пионеры исчислялись единицами, затем десятками. Второе поколение, которое вел за собой Ленин, — он был на четырнадцать лет моложе Плеханова, — вступило на политическую арену в начале 90-х годов. Третье поколение, состоявшее из людей на десять лет моложе Ленина, включилось в революционную борьбу в конце прошлого и в начале нового столетия. К этому поколению, которое уже привыкли считать тысячами, принадлежали Троцкий, Сталин, Зиновьев, Каменев и другие.
Европа для российских политических эмигрантов была больше чем очаг культуры и приют беглецов. Здесь формировалась атмосфера, где генерировались идеи и усилия, обращенные к России в надежде свершения в ней революционных перемен. Осенью 1902 года в эту «Мекку» российских революционеров прибыл Троцкий. Молодого честолюбивого революционера, талантливого публициста влекла возможность участия в общероссийской социал-демократической газете. В редколлегии «Искры», из которой должно было разгореться пламя революции в России, «старики» — Плеханов, Засулич, Аксельрод соседствовали с «молодыми»: Лениным, Мартовым, Потресовым. Ленин быстро оценил Троцкого как человека, несомненно, с недюжинными способностями, энергией, который имеет перспективы роста таланта и «в области переводов и популярной литературы он сумеет сделать немало». По предложению Ленина в марте 1903 года Троцкого ввели в состав редколлегии газеты с совещательным голосом. Плеханов встретил новичка с настороженностью, которая очень скоро переросла в устойчивую неприязнь, сохранившуюся до конца его дней. Он упорно противился вводу Троцкого в редколлегию «Искры». При личных встречах был сух и неприветлив. Несмотря на все старания, Троцкому не удалось расположить к себе корифея русского марксизма. «Отец-основатель» не принял дерзкой бойкости молодого революционера. Троцкий скоро и сам стал отвечать тем же. В целом ряде статей о Плеханове, написанных позже, в адрес последнего будут пущены стрелы сарказма. В работе «Война и революция», написанной в 1922 году, он выразится так: «Несчастье Плеханова шло из того же корня, что и его бессмертная заслуга: он был предтечей. Он не был вождем действующего пролетариата, а только его теоретическим предвестником».
В Лондоне Троцкий поселился в доме, где жили Мартов и Засулич. По нескольку раз в день они ветречались, обсуждали новости, статьи, заметки, которые готовили в «Искру». Отношения с блестящей группой высокообразованных людей наложили неизгладимый отпечаток на духовный мир Троцкого. Общение с ними не только расширяло кругозор, но и усиливало уверенность в своих способностях, даже исключительности. Молодой член редколлегии не скрывал своего восхищения и преклонения перед прославленной террористкой. Для него Вера Засулич, участвовавшая в террористических актах еще до его рождения, была легендой революции. Она принад- лежала к тому поколению русских революционеров, для которых радикализм решений и действий был их сутью. Троцкий уже тогда начал мыслить радикальными категориями, не признавая полумер и полушагов. Ленин, привлекая Троцкого к работе в газете, вскоре стал использовать его и в качестве оратора и полемиста, затьм посоветовал не ограничиваться журналистикой и диспутами, а выступать с лекциями и рефератами. Очень скоро все это станет для него обычным делом. Троцкий, будучи, безусловно, талантливым человеком, выдающимся оратором и публицистом, всегда заботился, чтобы это было оценено другими. Он не чурался театральности жеста, экстравагантности выражений. Троцкий любил дело, но еще больше он любил себя в деле. И эту любовь к себе другие ощущали как превосходство над ними. Может быть, поэтому у Троцкого было так мало друзей и так много врагов.
Троцкий еще молодым навсегда поверил, что обязательно оставит глубокий след в истории. Он не ошибся, считая, что будет знаменитым, но это и было его жизненной целью: с очень ранних времен им сохранялись не только черновики статей, речей, проектов резолюций, но и афиши, пригласительные билеты, пометки на газетах и календарях, вырезки из периодических изданий, где просто упоминается его имя. Когда в 1903 году в Париж к сыну приехали родители, Лейба показывал им вырезки из газет со своими статьями, афиши, возвещающие о его выступлении, рассказывал о знакомых знаменитых людях. Мать вслух читала заголовки статей, отец с благоговением слушал. Уезжая из Парижа, Бронштейны оставили сыну денег и пообещали помогать двум его дочкам в России. Они теперь были уверены, что их Лейба станет знаменитым.
Враги Троцкого, от черносотенцев до современных антисемитов, всегда старались подчеркнуть его еврейское происхождение. Нередко его деяния пытаются связать с «мировым сионистским заговором», «еврейскими происками» и пр. Троцкий, конечно, не мог забыть, что он еврей, но вовсе не потому, что участвовал в некоем мифическом заговоре. Просто его враги постоянно напоминали о его еврействе. Это всегда звучало как обвинение, как подтверждение вечной ущербности, и он часто страдал от этого. Известен факт его отказа от поста наркома внутренних дел в правительстве Ленина, так как «люди не поймут назначение еврея на эту должность». Но чтобы ни говорили о Троцком, его нельзя упрекнуть в национализме или сионизме. Имеется множество свидетельств, подтверждающих интернациональный характер его мировоззрения. Поведение Троцкого, его отношение к миру является характерным для многих ассимилированных евреев, воспроизводит один из специфических вариантов еврейской судьбы. Момент кризиса Российской империи совпал со временем усиленного разложения еврейского патриархального уклада. Это привело к появлению множества молодых людей, избравших для себя путь освоения светской христианской культуры и знакомых с еврейством лишь отчасти. Они становятся чужими и там и тут и свою чуждость ощущают как объективность. В разной мере они стыдятся своего происхождения и предпочитают роль возвестителя истины, исходящей от какого-нибудь иного, несомненного авторитета, т.е. роль посланца, комиссара, воспроиз- водящую рисунок жизни Моисея. Так, Троцкий сначала ссылался на Маркса, затем на Ленина, у него не хватило цельности опереться на себя самого. В отличие от того, что думают антисемиты, евреи-революционеры не столько выражают еврейские интересы, сколько нарушают еврейские стереотипы поведения. Будучи на вершине большевистской иерархии, Троцкий отверг просьбы еврейской делегации, которая явилась к нему как к еврею, заявив им, что он не еврей, а интернационалист. Когда его отец умер в 1922 году от тифа, последнюю просьбу — похоронить его на еврейском кладбище — сын отказался выполнить по идеологическим соображениям.
Первая эмиграция Троцкого с осени 1902 до начала 1905 года была, пожалуй, самым счастливым временем в его жизни. В Париже Троцкий встретил молодую, умную, красивую женщину — Наталью Седову. Их знакомство началось в Лувре. Наташа изучала в Париже историю искусств и взялась после выступления Троцкого в русской колонии с лекцией показать ему шедевры французской живописи. Наталья Ивановна уже была замужем. Но увлечение молодым революционером было так сильно, что она оставила мужа и ушла к Троцкому. Сильные чувства сопровождали их брак до последних дней их жизни. В своем завещании, составленном в 1940 году, он напишет так: «...судьба дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти сорока лет нашей совместной жизни она оставалась неистощимым источником любви, великодушия и нежности». Наталья Ивановна разделила как триумф мужа, так и всю горечь поражения и изгнания. Последние слова умирающего были обращены к ней.
Но это будет нескоро. Впереди вся жизнь — жизнь революционера, полная превратностей и парадоксов. Первый парадокс — поведение Троцкого на II съезде РСДРП в 1903 году: будучи по убеждениям, натуре, мировоззрению ярко выраженным радикалом, он неожиданно поддержал реформистов, умеренных! Это внешне было действительно парадоксально. Троцкий, который на всю жизнь станет певцом мировой перманентной социалистической революции, вдруг поддержал — и решительно! — Мартова, о котором позже напишет «фальсификатор марксизма».
Парадокс этот только кажущийся. Троцкий, при всем своем блеске ума и интеллектуальном изяществе, во многих вопросах скользил по поверхности. Внешняя знциклопедичность не подкреплялась глубиной анализа. Голосуя против Ленина и его сторонников, он не понимал, что голосует против самого себя. За свой «небольшевизм» Троцкому в жизни придется много оправдываться. Троцкий, будучи сам «якобинцем», в начале века обвинял Ленина в радикализме. Позже, будучи сам централистом, обвинял Ленина в стремлении сконцентрировать партийную власть в центральных органах, будучи поклонником Робеспьера, бросал Ленину обвинения в диктаторстве. Этот парадокс связан, с одной стороны, с подменой идей людьми. Для него уход в тень Аксельрода и Засулич выглядел трагедией, а Ленин — виновник этого — узурпатором. Ленин пришел к выводу, что Аксельрод и Засулич становятся помехой на пути к будущему и решил устранить их с решающих постов. Как пишет сам Троцкий: «С этим я не мог мириться. Все мое существо протестовало против этого безжалостного отсечения стариков, которые дошли наконец до порога партии. Из этого моего возмущения и вытек мой разрыв с Лениным на втором съезде. Его поведение казалось мне недопустимым, ужасным, возмутительным. А между тем оно было политически правильным и, еледовательно, организационно необходимым». Яркое воображение не опиралось еще на доводы разума. Он еще был человеком с человеческими привязанностями, страстями и эмоциями, а не марксистским функционером, лишенным личных, внепартийных ощущений. Он видел, как Ленин, подминая под себя сегодняшний день, врезался мыслью в завтрашний, брал только то, что нужно и когда нужно. Троцкому же больше по душе были ажурность мартовских мыслей, его остроумие, гипотезы и догадки.
Метания Троцкого между большевиками и меньшевиками, непоследовательность позиции получат некорректную ленинскую оценку: «Вот так Троцкий! Всегда равен себе = виляет, жульничает, позирует как левый, помогает правым...» Но надо отметить, что именно тогда, может быть, Троцкий был как никогда прав, увидев в Ленине жесткого, нетерпимого человека, и увидев это, еще будучи по-юношески неискушенным, интуитивно ужаснулся и отшатнулся от прорвавшейся негуманности и бесчеловечности поведения старшего товарища. II съезд партии развел Троцкого с Лениным на несколько лет.
Первая русская революция
«Ни в конце 1904, ни в начале 1905 года нет никакой возможности открыть следы деятельности того, кого ныне изображают вождем кавказского большевизма».
Весть о кровавом воскресенье 9 января 1905 года в Петербурге всколыхнула русскую революционную эмиграцию. Однако далеко не каждый поспешил в Россию. Немало «певцов революции» жизнь за границей в качестве советчиков и обличителей устраивала. Однако Троцкий был натурой деятельной. Поэтому возвращение в Россию, в гущу революционных событий для него вполне естественно. Под именем отставного прапорщика, а ныне преуспевающего предпринимателя Арбузова он уже в феврале 1905 года приехал в Киев, а затем перебирается в Петербург. Он участвует в совещаниях забастовочных комитетов, готовит прокламации. Арест в мае 1905 года Натальи Седовой заставляет его на время укрыться в Финляндии, где он продолжает работать в качестве революционного публициста и агитатора. Но когда в столице развернулась всеобщая забастовка, он не выдержал и вернулся. Его революционное чутье подсказывает необходимость поддержать и участвовать в первом народном органе власти — Совете рабочих депутатов. Вскоре он избирается заместителем первого председателя Совета Г.С. Хрусталева-Носаря. При участии Троцкого, который сразу привлек внимание своей энергией, страстными выступлениями, радикальными предложениями, было принято решение об издании газеты «Известия» — как органа Совета, выдвинуты требования восьмичасового рабочего дня, признания Совета представительством трудящихся во властных структурах, началась подготовка боевых рабочих дружин.
17 октября царь издал «Высочайший Манифест», в котором обещал народу конституционные свободы. Народ увидел в этом свою победу, в ночь с 17(18) октября толпы народа ходили по улицам с красными знаменами, требовали широкой амнистии, смещения ненавистных правителей, наказания организаторов расстрела 9 января. Но Троцкий, как и большевики, оценивал манифест как полупобеду. Выступая с балкона университета, перед которым собралась огромная толпа, он призвал не торопиться праздновать победу: «Разве обещание свободы равноценно свободе? Что изменилось со вчерашнего дня?.. Царский Манифест всего лишь клочок бумаги... Его нам сегодня дали, а завтра порвут в клочки, как это сделаю я сейчас!» Троцкий демонстративно порвал манифест, клочки бумаги, подхваченные ветром, понесло над толпой. Масса людей горячо аплодировала новому, пока малоизвестному трибуну революции.
Троцкий был прав. Собрав силы, отколов от революции либеральную часть интеллигенции и буржуазии, самодержавие перешло в наступление. 3 декабря 1905 года жандармы арестовали весь состав руководства Совета. Но даже в такой момент Троцкий оказался верен себе: во время очередного заседания Совета жандармский офицер, грохоча сапогами, вышел на середину зала и стал зачитывать ордер на арест. Председательствующий Троцкий решительно прервал его:«Если Вы хотите выступить, назовите фамилию, я спрошу собрание, желает ли оно Вас слушать!» — и дал слово следующему оратору.
Поведение Троцкого в дни первой русской революции и на суде убедительно говорило, что на сцене истории появилась выдающаяся личность. Он оптимистично принял поражение революции, веря, что это лишь подготовка к будущей победе мирового пролетариата. Заточение в знаменитой тюрьме «Кресты», Петропавловской крепости, в Доме предварительного заключения он использовал для самообразования, написания статей и прокламаций. Именно в это время в статье «Итоги и перспективы» он впервые в достаточно законченном виде излагает свою концепцию перманентной революции, за которую его всю жизнь будут третировать: «Завершение социалистической революции в национальных рамках недопустимо... социалистическая революция становится перманентной в новом, более широком смысле слова: она не получает своего завершения до окончательного торжества нового общества на всей нашей планете».
Правительство не решилось отправить руководителей народного органа власти на каторгу. По приговору суда четырнадцать членов Совета — и в их числе Троцкий — были осуждены на пожизненную ссылку. Местом ее было определено село Обдорское на Оби, за полярным кругом, тысяча верст до железной дороги и 800 — до ближайшего телеграфа. Несмотря на то, что 14 ссыльных охраняло пятьдесят жандармов, Троцкому пришла в голову идея бежать, не доезжая до места назначения. Когда доехали до города Березова, жандармский офицер дал обозу двухдневный отдых. Троцкий решил задержаться здесь под видом приступа радикулита. Симуляция была такой естественной, что ему разрешили задержаться на несколько дней под присмотром двух жандармов. Обманув сопровождающих, Троцкий бежал. Проделав по снежной равнине более 800 километров на оленях, он добрался до Урала, затем по железной дороге до Петербурга. В этих событиях поражают две вещи: поведение Троцкого, полное риска, смелости, веры в свою счастливую судьбу, и бестолковость и неповоротливость полиции. На одной из остановок поезда Троцкий дал телеграмму жене, проживавшей с сыном в Териоках — финском селе под Петербургом, в котором назначал ей встречу на станции, где скрещивались поезда, идущие на Вятку и на Петербург. Они встретились на станции Самино. При этом Троцкий хотел даже устроить скандал по поводу искажения текста телеграммы. Как пишет Наталья Седова, она еле отговорила мужа от подобного сумасбродства. Он, конечно, отдавал себе отчет в том, что и телеграмма, и встреча, и свобода, и непринужденность поведения, с которой он держал себя в вагоне и на вокзале, опасны, могут привлечь, должны привлечь вни- мание жандармов. А это означало пожизненные каторжные работы. Но он был у всех на виду и считал, что это и есть лучшая защита.
После краткого пребывания в Петербурге, вместе с женой и маленьким сыном, который родился в то время, когда Троцкий сидел в тюрьме, беглец перебирается в Финляндию, где еще оставались в силе некоторые завоевания революции. Здесь состоялась встреча с Jleниным и Мартовым, которые давно перебрались в «ближнее зарубежье» — Финляндию. Меньшевики каялись в безумствах 1905 года, большевики затевали новую революцию. Ленин пожурил Троцкого за то, что тот так и не перешел на сторону большевиков, и дал адреса друзей в Гельсингфорсе. Гельсингфорский полицмейстер был активным революционером — финским националистом. Он покровительствовал борцам с российским самодержавием и обещал предупредить в случае опасности со стороны петербургских властей. В течение нескольких недель Троцкий написал книжку о своем приключении под названием «Туда и обратно». На гонорар он смог купить билет на пароход и выехал в Стокгольм.
Вторая эмиграция
«Если б ЦК видел в Кобе молодого теоретика или публициста, способного за границей подняться на более высокую ступень, его, несомненно, оставили бы в эмиграции... Но никто не звал его за границу. С тех пор, как на верхах партии вообще узнали о нем, его рассматривали как «практика», т.е. рядового революционера, пригодного преимущественно для местной организационной работы».
На скандинавском пароходе Троцкий вплывал в новую эмиграцию, которая длилась десять лет. Семь из них Троцкий с семьей прожил в Вене. Время это оказалось длительной паузой в биографии революционера. В это время он много писал, но это было лишь интерпретацией пережитого. Много ездил и выступал, но суть выступлений была прежняя. Обреченный на долгое выжидание, он сосредоточился на журналистской деятельности и поддержании активных связей с русскими эмигрантами, западными социал-демократами, практиками и теоретиками марксизма.
На V (Лондонском) съезде РСДРП, формально объединившем большевиков и меньшевиков, Троцкий впервые встретился с большевиком из Тифлиса Иосифом Джугашвили, присутствовавшим на съезде под псевдонимом «Иванович». Троцкий просто не заметил молодого кавказца, который за три недели ни разу не попросил слова, даже когда съезд обсуждал проблему, непосредственно касающуюся его, — партизанщину и экспроприацию, и запретил этот бандитизм от имени партии. Сталин же не мог не заметить красивого худощавого молодого человека в очках, очень уверено державшегося во время выступлений. Во время перерыва вокруг Троцкого все время собирались люди. К нему притягивало как к магниту, вокруг него кипели споры, выковывались мнения.
О положении российской социал-демократии в то время говорит тот факт, что в партийной кассе не хватило денег на доведение съезда до конца и на обратный путь делегатам. Кончилось тем, что английский либерал, фабрикант Д. Фелз дал взаймы 1700 фунтов стерлингов, при условии, что под векселем подпишутся все делегаты съезда. Англичанин получил этот исторический документ. Советское правительство выкупило вексель Лондонского съезда через пятнадцать лет.
В европейских социал-демократических кругах Троцкого знали, ценили за остроту и живость ума, энергию и самостоятельность суждений, широту взглядов, и, не в последнюю очередь, за явную близость к европейской культуре. Для Троцкого же европейский котел, в котором он варился все годы эмиграции, означал рождение способности рассматривать революционные проблемы и задачи своего отечества в связи с международным характером социалистического движения. Едва ли идея перманентной революции так укрепилась бы в его сознании, не впитай он достижения социал-демократической мысли Запада того времени. Троцкий активно общался с такими видными революционерами, как Клара Цеткин, Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Франц Меринг, Август Бебель, Эдуард Бернштейн. Большую роль в его жизни сыграл Парвус (А.Л. Гельфанд) — одиозная фигура в революционном движении. Так же как и Троцкий, Парвус был социал-демократом, выходцем из России. Как и Троцкий, он «приезжал» в Россию для участия в революции 1905 года, был осужден к ссылке в Сибирь, бежал и скрылся в эмиграции. Именно Парвусу принадлежат основные элементы концепции перманентной революции, чего Троцкий и не скрывал. Но в Парвусе не было той цельности, какую привыкли видеть в революционерах. Как пишет сам Троцкий, в Парвусе всегда было что-то сумасбродное и ненадежное. Помимо всего прочего этот революционер был одержим мечтой: разбогатеть. Первоначально эту мечту он соединял с задачами социал-демократического движения. Деньги ему были нужны для издания большой ежедневной социал-демократической газеты на трех европейских языках. Однако скоро мечта о богатстве взяла верх над мечтой о революции. Первая мировая война застала Парвуса в Константинополе. Он начинает заниматься военно-торговыми поставками Германии и Турции, выступает публично как защитник прогрессивной миссии германского милитаризма, рвет с левыми и становится идейным вдохновителем крайне правого крыла немецкой социал-демократии. Надо отметить и еще один интересный штрих к биографии Парвуса. Это он явился главной фигурой в деле о «запломбированном вагоне», в котором Ленин вернется в революционную Россию в 1917 году свергать Временное правительство, не желающее прекращать войну с Германией в одностороннем порядке, и о передаче германских денег большевикам. Все это послужит летом 1917 года поводом для выдачи ордера на арест социал-демократов и заключения Троцкого в тюрьму.
В целом вторая эмиграция Троцкого привела к заметному отрыву его от России. Все эти годы он провел в амфитеатре Европы, а события развернулись на балконе. Его интересы вращались вокруг партийных фракций, европейского парламентаризма, новых веяний немецкой социал-демократии. Критикуя европейский буржуазный парламентаризм, он не заметил рождения российского парламентаризма и возможности его использования для дела революции. Отсюда и его негативное отношение к легальной работе в России, за что Ленин подверг Троцкого критике.
В Вене семья Троцких поселилась в скромной квартире из трех комнат, заваленных подшивками газет, рукописей, журналов. Семью, в которой уже было двое сыновей, Троцкий содержал в основном за счет литературного труда. Особенно долго он сотрудничал с газетой «Киевская мысль». Заметную помощь оказывал отец. Поэтому материальное положение его можно считать, в сравнении с другими эмигрантами, благополучным. Это позволяло ему быть независимым, путешествовать по Европе.
В сентябре 1912 года газета «Киевская мысль» заказала Троцкому серию статей о Балканах, где начался международный конфликт, грозящий перерасти в мировую войну. Условия газета предложила хорошие, и Троцкий отправляется на фронт балканских войн. В своих «Балканских письмах» он показал весь блеск таланта журналиста. Но, будучи к тому же политиком, он занялся составлением рецептов будущего устройства Балкан — создания единого государства всех балканских народов на демократически-федеративных началах — по образцу Швейцарии или Северо-Американской республики. В своих очерках Троцкий отражал реальность войны, она вызывала у него ужас и отвращение. И в то же время он продолжал верить, что войну можно искоренить только войной.
Закончив свою балканскую экспедицию, Троцкий еще не знал, что очень скоро, 2 августа 1914 года, в Вене состоится разговор с шефом полиции Австрии Гейером. Гейер выскажет осторожное предположение, что завтра утром может выйти приказ о заключении под стражу русских и сербов, и порекомендует немедля, «сегодня же» выехать. Так Троцкие попали в Швейцарию, где в это же время и по тем же причинам оказались Ленин, Зиновьев, Бухарин, Радек и другие эмигранты из России, вступившей в мировую войну. Здесь Троцкий пишет брошюру «Война и Интернационал». Он еще в состоянии конфликта с Лениным, но ленинские мысли о мире без аннексий и контрибуций — вот стержень этой работы. И здесь же идея, за которую будет «побит» Ильичом, — пролетариату надо создать Соединенные Штаты Европы, а затем Соединенные Штаты мира.
Из Швейцарии Троцкий перебирается в Париж, где работает в течение двух лет корреспондентом «Киевской мысли» и редактирует собственную газету «Наше слово». В эти годы он окончательно разошелся с меньшевиками и сделал шаг в сторону большевизма. Его революционные антивоенные призывы вызвали соответствующую реакцию французских властей. Троцкого с семьей выдворили в Испанию, где через несколько дней арестовали как «известного анархиста». Пробыв несколько недель в тюрьме и протестуя против произвола властей, Троцкий добился одного — его вместе с женой и детьми выслали в Северо-Американские Штаты. Так он будет изгнан из Европы и пересечет океан в первый раз. Второй наступит ровно через двадцать один год. Тогда один сын уже будет расстрелян в СССР, а второй останется в Париже, чтобы обрести там свою скорую смерть. Но между этими событиями находится кульминация жизни — революция, и Троцкий — ее вождь!
Девятый вал революции
«Факторы мировой политики являются для Сталина рядом неизвестных величин. Он их не знал, и они его не интересовали».
После десятилетнего перерыва Троцкий вновь ступил на родную землю. Из-за канадского интернирования, задержавшего его в порту Галифакс на три недели, Троцкий приехал прямо в революцию одним из последних известных революционных деятелей. На вокзале его встречали представители большевиков, меныневиков, других партий и течений. Он пока еще не знал, с кем теперь будет. Но в одном был уверен — он будет с революцией! Помня заслуги Троцкого в первой русской революции, его ввели в состав Исполкома Петроградского Совета, пока еще с совещательным голосом. Он ищет себя среди новой русской действительности. Ему многое надо постичь и найти свое решение революционной головоломки. Сначала он примкнул к межрайонцам. Причина этого и в его центристской позиции, и в том, что среди межрайонцев были многие близкие и знакомые ему люди: Володарский, Урицкий, Луначарский, Антонов-Овсеенко. Как правило, это, как и Троцкий, интеллигенты социал-демократического настроя, прошедшие «западную» школу социалистического движения и колеблющиеся между парламентаризмом меньшевиков и радикализмом большевиков. Ленин, будучи признанным лидером самого радикального направления российских социал-демократов, тем ни менее хотел привлечь на свою сторону известных и популярных людей: Мартова, Плеханова, Троцкого. Но первые двое отпали сразу — их взгляды были несовместимы с радикализмом большевиков. Оставался Троцкий.
Личные отношения между Лениным и Троцким, вначале почти неприязненные, стали налаживаться по мере сближения Троцкого с большевиками. Из-за нерасторопности Временного правительства, не спешившего давать народу обещанные мир и землю, шел процесс радикализации и большевизации масс. Троцкий — этот барометр революции, интуитивно почувствовал настроения движущих сил революции. Особенно сблизили Ленина и Троцкого июльские события и попытка Керенского арестовать Ленина, Зиновьева, Каменева и других видных большевиков по обвинению в предательстве и шпионаже. Обсуждая вопрос, как быть с явкой в суд, Троцкий предложил использовать его как революционную трибуну. Ленин же считал, что до суда они просто не доживут — обезглавить революцию в такой ситуации можно было очень легко. После того как Ленин ушел в подполье, Троцкий опубликовал открытое письмо Временному правительству, в котором говорилось, что он в принципе разделяет взгляды Ленина, и обращал внимание правительства на то, что отстаивал их в своей газете «Вперед» и публичных выступлениях. Это был шаг смелого человека. Он продолжал публично отстаивать позицию Ленина, пока не был арестован и не попал в уже известные ему «Кресты».
Новое тюремное заключение резко прибавило ему популярности. Кроме того, пока он был в тюрьме, решился вопрос о его партийной принадлежности — на VI съезде межрайонцы вступили в партию большевиков. Авторитет Троцкого к тому времени был столь высок, что он сразу избран в состав Центрального комитета, получив всего на три голоса меньше, чем Ленин. Так завершилось превращение Троцкого в большевика. Противоречие между тягой к левому радикализму, с одной стороны, и приверженность культуре западной социал-демократии — с другой, разрешилось в пользу первого. Будущая диктатура заполучила еще одного вождя.
Власти так и не смогли доказать причастность Троцкого к «немецким деньгам» и по требованию Петроградского Совета 2 сентября он был освобожден под денежный залог в три тысячи рублей. Троцкий выходит из тюрьмы героем, и когда 25 сентября проходили перевыборы Исполкома Петроградского Совета, он избирается его председателем. В то время революция еще была «с человеческим лицом», и новый председатель Петросовета объявил, что будет вести работу в духе законности и полной свободы для всех партий. Вскоре после победы Октября Троцкий поддержит меры большевиков по ликвидации плюрализма. А через десять лет сам окажется жертвой системы, архитектором которой являлся. Троцкий в Октябре 1917 года проявил себя как один из ведущих руководителей революции. Вся работа по практической подготовке восстания проходила под непосредственным руководством Председателя Петроградского Совета.
Звездный час Троцкого пришелся на революцию и годы гражданской войны. Пик революционного кризиса, наивысший накал страстей в массах, готовых к взрыву, создаются не только экономическими, политическими, социальными процессами, но и революционными трибунами. Троцкий обладал даром несколькими страстными фразами увлечь сотни, тысячи людей. Никто не учил его ораторскому мастерству, в нем, видимо, соединились необходимые компоненты: высокая эрудиция, неподдельная личная увлеченность идеей, способность к неординарным суждениям. В его выступлениях было много картинного, театрального, это был способ воздействия на людей, попытка увлечь их в едином порыве в борьбе за то, что для Троцкого было смыслом жизни. Он был кумиром масс. Ни один руководитель революции не общался с людьми столько, сколько Троцкий. И его одержимость имела притягательную силу. События разворачивались стремительно. В ночь с 24-го на 25-е красногвардейцы заняли почтамт, вокзалы, Центральную телефонную станцию. Крейсер «Аврора» бросил якорь у Николаевского моста. Утром 25 октября Военно-революционный комитет утвердил воззвание «К гражданам России», написанное Лениным, в котором были знаменитые фразы: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-Революционного Комитета». А во главе комитета был Троцкий.
Революция победила, победила во многом благодаря сверхчеловеческим усилиям ее организаторов. Но, как известно, «удачных революций не бывает». Постепенно Россия погрузится в хаос, братоубийство и невиданные лишения. Социализм Ленина и Троцкого опирался на штыки и насилие. Многочисленные разногласия, которые сопровождали их на предыдущих этапах деятельности, ушли в прошлое. За некоторыми исключениями, например по вопросу о Брестском мире, между двумя вождями было полное взаимопонимание. Роль второго человека в революции была быстро принята Троцким. Но, признавая первенство Ленина, Троцкий никогда не делал из него иконы, выступал против его обожествления. До самой смерти Ленина они были единомышленниками. Взлеты, достижения, просчеты, насилие являлись общими. Ни тот ни другой не уловили трагизма русской революции. И тот и другой «пришпоривали» историю.
«Каин, где брат твой Авель?»
«Наряду с вождями партии и страны имелись вожди, так сказать, ведомственного значения. Таким вождем стал Сталин в области отсталых национальностей».
Народный гнев 1917 года с легкостью смел многовековые атрибуты царизма. Началось строительство новой власти. После недолгой карьеры народного комиссара по иностранным делам, от которой он был отстранен в связи с его позицией по Брестскому миру, 14 марта 1918 года неожиданно для многих, в том числе и для него самого, Троцкий стал народным комиссаром по военным (а позже и морским) делам.
Гражданская война началась, по сути, сразу после октябрьского переворота. Но главный толчок ей дал разгон большевиками Учредительного собрания в январе 1918 года. В условиях нараставшего сопротивления перед Лениным встал вопрос, кого поставить во главе вооруженных сил республики? Он понимал, что главное значение будет иметь способность политически оценить значимость военной организации как элемента выживания революции. Здесь требовалась революционная страсть, помноженная на решительность, способность воздействовать на массы, твердой рукой пресечь партизанщину и неорганизованность. Человек этот должен был обладать популярностью, партийным авторитетом и политическим весом. Нужны были революционная одержимость и уверенность в правильности выбранного решения. Такими качествами обладал Лев Троцкий — любимец революции: «Познать закономерности совершающегося и найти в этой закономерности свое место — такова первая обязанность революционера. И таково вместе с тем высшее личное удовлетворение, доступное человеку, который не растворяет своих задач в сегодняшнем дне». Так понимал свое предназначение Троцкий.
Революция — это не планы, замыслы и заговоры. Революция — это стихия, социальный разлад и смута. Уступить — значит пойти на поводу у стихии. И Троцкий, нисколько не считая себя военным стратегом и специалистом, становится военным диктатором.
Троцкий фактически создал Красную Армию и, благодаря своей неутомимой энергии и пламенному темпераменту, обеспечил ее победу над белым движением. Вообще, в борьбе против контрреволюции и иностранной интервенции Троцкий всегда был на первом плане. В то время Ленина называли «мозгом и волей революции», а Троцкого — «ее разящим мечом». И это громкое определение вполне соответствовало той несколько театральной шумихе, которой он любил окружать свою деятельность.
Троцкий занимал особое положение среди руководителей советского государства. Это чувствовалось хотя бы потому, что его появление во время заседаний немедленно прерывало намеченный порядок дня: тотчас же начиналось обсуждение вопросов, связанных с его деятельностью. Быть может, это объяснялось тем, что вопросы военные были важнее многих других; но тут сказывалось также исключительное значение Троцкого как руководителя советского государства. Любопытна еще одна деталь. На заседании все друг друга называли по имени или по партийной кличке старого времени. Что же касается Троцкого, то к нему никто иначе не обращался, как официально: Лев Давидович. У него было особое положение. Недавно еще противник большевизма, он заставил уважать себя и считаться с каждым своим словом, но оставался все же чуждым элементом на этом собрании старых большевиков. Другие народные комиссары, вероятно, ощущали, что ему можно простить старые грехи за нынешние заслуги, но окончательно забыть его прошлое они никогда не могли. Ленин, со своей стороны, уважал и подчеркивал не только военные, но, главным образом, организационные таланты Троцкого. Видно было, однако, что это вызывало подчас среди сотрудников Ленина некоторое недовольство и ревность. Ленин, вероятно, ценил революционный темперамент Троцкого и помнил о его роли в подготовке и осуществлении захвата власти в октябре 1917 года. На заседаниях Троцкий держал себя обособленно, говорил очень авторитетно, а по мере того, как развивались успехи на фронте, в его поведении появилось даже нечто вызывающее. Эти вызывающие нотки звучали в особенности по адресу так называемых хозяйственников, которые в ту пору никакими успехами похвастаться не могли. Они должны были снабжать армию, работа их оказалась неудовлетворительной с точки зрения как армии, так и гражданского населения. Стрелы Троцкого попадали главным образом в руководителей хозяйственных учреждений. Троцкий как бы говорил на этих заседаниях: «Вот, погодите, мы сначала расправимся с белогвардейцами, а тогда двинемся наводить порядок внутри страны».
Между тем Троцкий никогда не сгибался, всегда был полон уверенности в том, что он не только знает, чего хочет, но также, каким путем надлежит идти к цели. Когда докладывали Ленину — он слушал и прислушивался, Троцкий же выслушивал. Он всегда давал понять, что знает больше собеседника. Это происходило, вероятно, оттого, что он был «властителем масс», мог их поднимать на подвиги. Он сам описал подобный эпизод в своей автобиографии: «...Проезжая через Рязань, я решил посмотреть на них (дезертиров, укрывавшихся от призыва в Красную Армию). Меня отговаривали: «Как бы чего не вышло». Но все обошлось как нельзя быть лучше. Из бараков их скликали: «Товарищи-дезертиры, ступайте на митинг, товарищ Троцкий к вам приехал». Они выбегали возбужденные, шумные, любопытные, как школьники. Взобравшись на стол тут же на дворе, я говорил с ними часа полтора. Это была благодарнейшая аудитория. Я старался поднять их в их собственных глазах и под конец призвал поднять руки в знак верности революции. На моих глазах их заразили новые идеи... Я не без гордости узнавал потом, что важным воспитательным средством по отношению к ним служило напоминание: «А ты что обещал Троцкому?» Полки из рязанских «дезертиров» хорошо потом дрались на фронтах». В той же главе своей автобиографии, Троцкий вспоминает, как в феврале 1919 года он говорил молодым красным командирам в Москве: «Дайте мне три тысячи дезертиров, назовите их полком; я дам им боевого командира, хорошего комиссара, подберу начальников для батальонов, рот и взводов — и эти три тысячи дезертиров в четыре недели превратятся, в нашей революционной стране, в великолепный полк».
Гражданская война кончилась полной победой Красной Армии. Шла демобилизация, из армии возвращались сотни коммунистов, среди которых было много очень способных, подчас талантливых людей и видных деятелей. Их распределяли теперь по гражданским ведомствам, главным образом на хозяйственную работу. Но очень скоро обнаружился антагонизм между военными большевиками и теми, которые все время вели работу в тылу. Когда большевиков посылали раньше в армию к Троцкому, они обычно были исполнены некоторого недоверия к этому человеку, который до апреля 1917 года, на протяжении многих лет, вел ожесточенную борьбу с их фракцией. Но в процессе воен- ной работы они сживались, и через несколько месяцев антагонизм между Троцким и его сотрудниками-коммунистами исчезал. Все они сделались тогда «Троцкистами». Этот термин — он имел тогда иной смысл, чем впоследствии — кажется, впервые был применен по отношению к этой группе большевиков. Троцкий вернулся с фронта в Москву с идеей создания больших трудовых армий. Красная Армия должна была превратиться в рабочую организацию. Троцкий хотел не демобилизовать страну, а милитаризировать хозяйство, так как он предполагал применить свои трудовые батальоны, в частности, в лесном хозяйстве на Урале. Работа батальонов, считал Троцкий, — шаг вперед по пути завоеваний советской власти и освобождения крестьянина от его косности: мы должны показать русскому мужику, как надо работать, необходимо дисциплинировать наш аппарат, — и это будет первый шаг к истинному социализму. Однако события приняли иной оборот. Идея милитаризации была мертворожденной.
С окончанием гражданской войны исчезли военные импульсы, побуждавшие и позволявшие принимать очень решительные, суровые меры, ибо все это было «для армии». Сам факт окончания гражданской войны не позволял больше добывать из деревни продукты простым принуждением. Раньше казалось, что можно оправдать эти меры опасностями, угрожавшими революции; теперь же все сознавали, что в хозяйстве разруха и что нужны другие стимулы для оживления экономической деятельности.
Попасть к Троцкому было гораздо сложнее, чем к Ленину. Приходилось пройти через пять комнат, где у дверей находились щегольски одетые военные. В последней комнате перед кабинетом Троцкого стояло двое часовых. Во всех его движениях и словах заметно было, что он творит революцию, что на него смотрят века и народы, что он великий человек. От Троцкого исходили холод и надменность. Его облик: зачесанные назад густые, упрямые волосы, черные с проседью; подстриженная, клинообразная бородка; хорошо скроенный полувоенный костюм цвета хаки; высокие солдатские сапоги офицерского образца; нервные, с длинными пальцами, руки; жесткие умные глаза и пенсне — все это как то сразу напоминало посетителю, что он находится перед лицом министра. Он сидел за большим письменным столом, от которого веяло устойчивостью и дисциплиной. Стол был уставлен множеством всяких письменных принадлежностей; особенно поражали хорошо отточенные и в порядке разложенные разного цвета карандаши. В 1921—1923 гг. ни для кого не было секретом, что Троцкий часто бывал в оппозиции к основной линии партии, а отчасти и к Ленину, и что разногласия по ряду вопросов отделяют его от некоторых других вождей. И все же для всех, кроме посвященных, положение Троцкого в партии и правительстве казалось не только прочным, но и — после Ленина — руководящим. Поэтому, когда Ленин умирал, казалось несомненным, что либо Троцкий один займет пост вождя, либо разделит его с кем-нибудь из ближайших соратников Ленина. Дело, однако, приняло другой оборот. Когда положение Ленина было признано безнадежным — это было в конце 1923 года — ив Политбюро обсуждался вопрос о его заместителе, то предпочтение отдали другим: революция вошла в свою колею, и теперь были нужны не гении, а хорошие, скромные вожди, которые будут двигать паровоз дальше по тем же рельсам. А с Львом Давидовичем никогда не знаешь, куда он заведет. Заместителями Ленина, как известно, были избраны трое: Зиновьев, Каменев и Сталин.
Из большевистских вождей Троцкий был, вероятно, наиболее одаренным. Но справедливости ради следует сказать, что он был одарен отнюдь не всесторонне и наряду с выдающимися качествами обладал немалыми недостатками. Он был превосходным оратором, но оратором революционного типа — зажигательно-агитаторского. Он умел найти и бросить нужный лозунг, говорил с большим жаром и пафосом зажигал аудиторию. Но он вполне владел своими эмоциями и на заседаниях Политбюро, где обычно никакого пафоса не требовалось, говорил сдержанно и деловито. Он был человек мужественный и шел на любой риск, связанный с революционной деятельностью. Достаточно вспомнить его поведение, когда он председательствовал в 1905 году на Петроградском Совете рабочих депутатов. Он до конца держался храбро и вызывающе и прямо с председательской трибуны пошел в тюрьму и ссылку. Но еще более показательна история 1927 года, когда власть уже была целиком в руках Сталина. На ноябрьском пленуме ЦК, когда Сталин предложил исключить Троцкого из партии, тот взял слово и сказал, обращаясь к сторонникам Сталина: «Вы — группа бездарных бюрократов. Если встанет вопрос о судьбе советской страны, если произойдет война, вы будете совершенно бессильны организовать оборону страны и добиться победы. Тогда, когда враг будет в 100 километрах от Москвы, мы сделаем то, что сделал в свое время Клемансо, — мы свергнем бездарное правительство; но с той разницей, что Клемансо удовлетворился взятием власти, а мы, кроме того, расстреляем эту тупую банду ничтожных бюрократов, предавших революцию. Да, мы это сделаем. Вы тоже хотели бы расстрелять нас, но вы не смеете. А мы посмеем, так как это будет совершенно необходимым условием победы». Конечно, в этом выступлении много позы и наивности, но как не снять шляпу перед мужеством Троцкого?
Он был, несомненно, человеком острых критических моментов, брал на себя ответственность и шел до конца. Именно поэтому он сыграл такую роль во время Октябрьской революции. Троцкий смело возглавил задуманную акцию по завоеванию власти в условиях, когда Ленин большой храбрости не показал и уступил доводам окружающих, что ему не следует рисковать своей драгоценной жизнью, поспешив скрыться; Троцкий этим доводам не уступил; так же и до этого, после неудачного июльского восстания Ленин сейчас же скрылся, а Троцкий не бежал, а пошел в тюрьму. Но здесь надо указать и на один существенный недостаток Троцкого. Он был человеком позы. Убежденный, что вошел в Историю, Троцкий все время для этой Истории как бы позировал. Это было не всегда удачно. Иногда это была поза, оправданная важностью роли, которую играл Троцкий в событиях. К примеру, когда советская власть во время гражданской войны висела на волоске, он заявил: «Мы уйдем, но так хлопнем дверью, что весь мир содрогнется», — это тоже для позы и для истории; иногда это было менее оправдано; еще было терпимо, когда Троцкий принимал парады своей Красной Армии, стоя на броневике; но бывало и так, что поза представлялась — попросту смешной. Здесь надо отметить одну черту, характерную не только для Троцкого. В процессе управления страной, различными сферами хозяйствования способные люди быстро росли и учились. Например, Михаил Иванович Калинин, которого Ленин ввел в Политбюро отчасти ради большинства, отчасти для того, чтобы постоянно иметь под рукой человека, знающего деревню и психологию крестьян, — в этом смысле оказывал несомненные услуги. Но когда он пробовал принимать участие в прениях, требовавших некоторых знаний и культуры, он пер- вое время нес такую чепуху, что члены Политбюро невольно улыбались. И что же? Через два-три года Михайл Иванович значительно поумнел, во многом разобрался и, будучи не лишен от природы здравого смысла, часто выступал очень толково. Способный Троцкий, бывший вначале талантливым агитатором, тоже сильно вырос в организаторской и руководящей работе. Но не раз и срывался. После окончания гражданской войны, когда транспорт был совершенно разрушен и железнодорожники, не получавшие практически никакого жалованья, должны были, чтобы не умереть с голоду, разводить огороды, выращивать овощи и заниматься мешочничеством, Ленин назначил Троцкого народным комиссаром путей сообщения. По вступлении в должность Троцкий написал патетический приказ: «Товарищи железнодорожники! Страна и революция гибнут от развала транспорта. Умрем на нашем железнодорожном посту, но пустим поезда!» В приказе было больше восклицательных знаков, чем иному делопроизводителю судьба отпускает на всю жизнь. «Товарищи железнодорожники» предпочли на железнодорожном посту не умирать, а как-нибудь жить, а для этого нужно было сажать картошку и мешочничать. Железнодорожники мешочничали, поезда не ходили, и Ленин прекратил конфуз, сняв Троцкого с поста Наркомпути. Не подлежит сомнению, что первое время и организация Красной Армии Троцким шла на лозунгах и речах о солдатских комитетах, выборных командирах, на демагоги, утопая в бестолковщине и бандитизме. Но скоро Троцкий сообразил, что никакой армии хотя бы без минимальных военных знаний и без минимальной дисциплины создать нельзя. Он привлек специалистов — офицеров царской армии; одни были куплены высокими чинами, других просто мобилизовали и заставили отдавать свое умение под строгим надзором комиссаров. А добиваясь дисциплины, пришлось всю гражданскую войну бороться против неуправляемых Сталина и Ворошилова. Сам Троцкий при этом многому научился и из агитатора постепенно превратился в организатора. Правда, он считал, что самое важное в политической борьбе — это вопросы политической стратегии, «политика дальнего прицела», борьба в сфере идей.
Здесь приходится коснуться одного его слабого места. Троцкий — тип верующего фанатика. Он уверовал в марксизм. Уверовал прочно и на всю жизнь. Никаких сомнений и колебаний у него никогда не было. В вере своей он был тверд, никогда не отказывался от своих идей и до конца жизни твердо их придерживался. Из людей такого типа выходят Франдиски Ассизские, Савонаролы. Не теоретики, не мыслители, а подобные фанатики оказывают гораздо большее влияние на судьбу человечества, чем столпы разума и мудрости. Если попытаться восстановить, какова была основная политическая мысль Троцкого, то не так легко разобраться в обвинениях, которые беспрерывно громоздили против него «коллеги по партии». Во всяком случае уже в то время, когда эта борьба происходила внутри партии, было ясно, что многие разногласия надуманы. Нужно было низвергнуть соперника и завладеть властью. Надо было делать вид, что борьба высокоидейная и разногласия необычайно важны: от того или другого их решения зависит будто бы чуть ли не все будущее революции. Между тем обычно это были неопределенные споры о терминах. В особенности много таких пустых и тенденциозных споров было вокруг знаменитой теории «перманентной революции» Троцкого. На самом деле идея Троцкого заключалась в том, что с Октябрьской революцией в России началась эпоха мировой социальной революции. Имея всегда эту цель в виду, надо рассматривать коммунистическую Россию как плацдарм, базу, позволяющую вести и продолжать подготовительную революционную работу в других странах. Это совершенно не означает, что имея целью мировую революцию, можно не придавать никакого значения тому, что будет происходить в России. Наоборот, по мысли Троцкого, надо активно строить коммунизм в России; по его мнению (и следует отметить, что Ленин до революции целиком это мнение разделял), одна изолированная русская революция едва ли долго устоит перед натиском остальных «капиталистических» стран, которые постараются подавить ее силой оружия. Совершенно ясно, что хотя Троцкий был изгнан, убит, осужден и предан анафеме, эта общая идея перманентной мировой революции всегда была основной стратегической линией коммунизма.
Точно такой же надуманный характер имеют и споры о сталинской теории «построения социализма в одной стране». Сталин, желая показать, что у него тоже в основном идейные разногласия с Троцким, в начале 1925 года обвинил Троцкого в том, что он не придает значения, «не верит» в возможность построить социализм в одной стране, то есть в России, где коммунистическая революция уже произошла. Может ли быть социализм построен в одной стране? Спор, в конце концов, шел о том, свергнут ли его враги силой оружия? На восьмом году революции уже можно было разглядеть, что пока его никто свергать не собирается.
Были, конечно, и проблемы государственной важности. Самая важная, которая встала в 1925—1926 годах: продолжать ли нэп, мирное соревнование между элементами «капиталистическими» (то есть свободного рынка, хозяйственной свободы и инициативы) и коммунистическими, или вернуться к политике 1918— 1919 годов и вводить коммунизм силой? От того, по какому пути пойдет власть, зависела жизнь десятков миллионов людей. Прежде всего это был вопрос о деревне. Дать возможность медленно эволюционировать крестьянскому хозяйству, не разрушая его, или разгромить крестьянство, ведь по марксистской догме — это мелкие собственники, мелкобуржуазный элемент? Ленин опасался, что власть не обладает достаточными силами, и предпочитал решение постепенное с добровольным и медленным вовлечением крестьянства в колхозы («кооперативы»). По оценке Сталина, гигантский полицейский аппарат (с опорой на армию) достиг такой силы, что создание искомой всероссийской каторги было возможно. Но что лучше? Строго говоря, это был выбор: идти по дороге здравого смысла (и тогда эта дорога не коммунистическая), или пойти по дороге коммунистической мясорубки. Ярые фанатики, как Троцкий, или беспринципные личности, как Сталин, из разных соображений сошлись на одном: продолжать силой внедрение коммунизма. По существу, здесь пути Сталина и Троцкого сошлись.
В жаркий полдень 20 августа 1940 года в окруженном лиственными деревьями и кактусами старом доме, расположенном в тихом пригороде Мехико — Койокане, Лев Давидович Бронштейн, более известный как Лев Троцкий, пал жертвой организованного политического убийства. Щедрый и заботливый муж троцкистки Сильвии Агелофф, человек, который демонстрировал полное безразличие к политике и имевший, по его словам, богатую мать в Бельгии, а также заморского босса, платившего ему приличные комиссионные, — оказался не более чем агентом ОГПУ Рамоном Меркадером. Под предлогом работы над статьей убийца добился встреча с Троцким. Когда они остались наедине, он ударил Троцкого сзади острым стальным ледорубом с укороченной рукояткой. На следующий день Троцкий скончался. Лев Троцкий не принадлежал к разряду людей, способных мирно умереть в кровати от старости. Он покинул этот мир с неизменной безмятежностью человека, который выполнил свой долг и совершил историческую миссию.
Шагал: избранник муз
В созерцании противостоящего открывается художнику образ. Он принижает его до произведения. Произведение — не в мире богов, но в этом огромном мире людей.
Мартин Бубер
В одном из залов Третьяковской галереи внимание зрителей неизменно привлекает странная картина. На ней пара влюбленных летит над садами и домами небольшого городка. Картина называется «Над городом». Ее создатель — Марк Шагал — один из самых странных самобытных художников XX века. А изображены на картине он сам и его жена Белла. Он придерживает ее, словно оберегает от неверного поворота или движения. Она грустно смотрит вдаль и машет рукой — или прощаясь с кем-то, или кого-то приветствуя. Шагал часто изображал людей, парящих в небе, он и умер в лифте, который стремительно мчался ввысь. Было ему тогда 98 лет. На склоне своей жизни художник как-то сказал: «Ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожная сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов».
Художническая судьба Шагала сложилась своеобразно. Он фактически нигде не учился, хотя и занимался в витебской школе художника Ю. Пэна, в Петербурге в школе Е. Званцевой, где преподавали знаменитые мастера Бакст и Добужинский, в Париже в частных «академиях» «Гранд Шомьер» и «Ла Палетт». Молодой Шагал, как уверяет он сам, всюду чувствовал себя чужим. Ему претили светскость и манерность, «А я — сын рабочего, — писал он в воспоминаниях, — и меня часто подмывает наследить на сияющем паркете». И хотя позднее Шагал выставлял свои произведения вместе с Бакстом в «Мире искусства» и был вхож в дома самых утонченных интеллектуалов мира, он «следил», где мог — грубыми, как казалось многим, красками и мазками, вывернутыми линиями, перекрученными головами своих персонажей, бесстыдно раскинутыми ногами женщин. Но с миром культуры Шагал общался не в светских гостиных, а на высшем уровне. Перебравшись в 1910 году из Петербурга в Париж, обосновавшись в знаменитом «Улье» — здании бывшего выставочного павильона, где нашли себе приют мастерские парижан Леже, Модильяни, Сутина, позже ставших знаменитыми, он вошел в круг лучших поэтов и художников Франции (Робер Делоне, Блэз Сандрар, Макс Жакоб, Гийом Аполлинер). В художественной столице мира молодой витебский еврей оказался среди избранных, хотя это обстоятельство никак не изменило направления, в котором он двигался с первых шагов своей художественной деятельности. Все творчество Шагала — это «бунт против правил».
Он прожил почти сто лет, но только треть из них провел в России. Большая часть творческой жизни была отдана Франции, и во многих энциклопедиях мира после имени Шагала стоит название страны, которой он принадлежит, — Франция. По этому поводу сам художник говорил: «Меня хоть в мире и считают интернационалистом и французы берут в свои отделы, но я считаю себя русским художником, и это мне приятно» (из письма Марка Шагала Павлу Эттингеру). Когда смотришь на картины художника, сначала приходит мысль, что все свои годы он летал где-то в небесах, а если и ходил по земле, то по такой, которая живет по каким-то своим особым, неизвестным нам законам. На самом-то деле Шагал всегда пребывал в одной стране — в родном Витебске, рисовавшемся его памяти и сознанию не губернским городом старой России, а захолустным, хотя и фантастическим еврейским местечком — со своими привычками и традициями, со своими тонами, цветами и запахами. В Париже ему чудился Витебск, а когда в старости он приезжал в Иерусалим, чтобы создать там витражи для синагоги, перед его глазами вновь возникали покосившиеся строения и домашние звери из детских снов.
Слова Шагала, что он русский художник, были сказаны им неспроста. Его творчество могло возникнуть только в России. Мир его картин наполнен контрастами и противоречиями, содержит в себе абсурд в таком чистом виде, какой мог сложиться лишь на русской земле. В число свидетельств русского абсурдизма, как известно, входил еврейский вопрос. Лишенные элементарных гражданских прав, евреи в старой России жили обособленно, замкнуто, соблюдая свои обычаи, тщательно исполняя религиозные обряды, жившие в их сознании, сохраняя память о своей великой истории. Память народа и собственные впечатления легли в основу творчества Шагала. Они соединились с необыкновенной фантазией, присущей художнику, и с той прямотой взгляда на мир, которая позволила Шагалу открыть правду в самых простых и обыденных явлениях, хотя и переселенных его волею с земли на небеса. Сила его искусства была так велика, что она позволила в полный голос говорить о вкладе в мировую культуру российского еврейства, которое к рубежу столетий стало активной творческой силой.
На рубеже веков и в первые два десятилетия XX столетия мир стал иным, и виной тому был технологический прогресс. Технология XX века порождала новое восприятие мира. Эрнест Хемингуэй писал, что лишь увидев, как выглядит Земля из иллюминатора аэроплана, он понял живопись кубистов. Технические новшества меняли фундаментальные координаты человеческого бытия. Претерпела радикальную трансформацию и культура. Казалось, исчезла объективная реальность и пережившая кризис культура вернулась к исходному, нерасчлененному состоянию. Зарождается модернизм, ибо художники и поэты первыми интуитивно ощутили скрытый от других смысл технологической революции и начавшихся изменений в умах. Новая идея выразила себя в творчестве Пабло Пикассо, Марселя Пруста, Джеймса Джойса, Томаса Эллиота.
Апостол модернизма американский поэт Эзра Паунд бросил призыв «Сделать мир новым!» Уже в первом шедевре XX века — картине Пикассо «Авиньонские девушки», — проявилась абсолютная несовместимость модернизма с классическим искусством. Это был принципиально иной подход — изображать не оригинал, а свое отношение к нему. На закате своей жизни Шагал в одном из интервью говорил: «Если в произведении искусства нет чего-то ирреального, оно нереально. Я сказал это мальчишкой, в 20 лет, когда меня спросили: «Но как это понять? Почему мертвые у вас лежат на улице, а на крыше у вас музыкант?» Что я должен объяснить? Я так чувствовал. Чувствовал, что мир стоит вверх дном». Шагал создавал свой собственный художественный метод «перехода из провинциального городка в мировое пространство». Персонажи его художественного мира ведут себя очень странно — они ходят вниз головой, летают, располагаются в букетах цветов. Это совершенно иное видение мира.
В XX веке искали новый язык культуры, на котором говорит не ум, а сердце. Под лозунгом новаторства рождались кубизм и футуризм, дадаизм и фовизм, экспрессионизм и абстракционизм. В искусстве авангарда новизна и смелость становились мерилом твор- ческой одаренности и эталоном современности. Этот мощный взрыв новаторства был порожден верой в наступление новой эпохи в истории, кардинально меняющей отношения людей друг с другом и с окружающим миром.
Художественные эксперименты имели место в самых разнообразных жанрах искусства. Художники, музыканты, поэты, актеры, — все искали новый художественный язык и иные средства выражения. У Василия Кандинского — это игра цветов, у Казимира Малевича — геометрические образы, у Игоря Северянина — словотворчество.
Модернизм, оказавший влияние на все стороны культурной и интеллектуальной жизни, набирал силу из года в год. Традиционализм сопротивлялся, но уже не казался непреодолимым препятствием. В этих процессах обновления евреи и еврейство начинали играть все более заметную роль.
Уже во второй половине XIX века на западноевропейскую музыкальную сцену выдвинулось неожиданно большое количество еврейских композиторов: Оффенбах, Галеви, Мейербер, позднее — Кальман, Малер, Шенберг. Существовало широко распространенное мнение, что и многие другие знаменитые музыканты имели еврейские корни. Евреем, например, считали Россини, ведь он присутствовал в 1839 году на знаменитой свадьбе Ротшильда во Франкфурте. Сыном крещеного еврея был Иоганн Штраус.
Английский историк Пол Джонсон обращает внимание на то, что в первую очередь детищем евреев был русский балет. Леон Бакст, сын уличного торговца, привнес в это искусство ощутимый привкус эротизма. Самым знаменитым его спектаклем стала «Шехерезада», где происходит оргия с участием обнаженных красавиц из гарема и мускулистых негров, которая заканчивается кровавой резней. Именно у Бакста обучался Марк Шагал и был тогда его любимым учеником.
Уже в этот период все, созданное Шагалом, отличалось своеобразием, парадоксальностью и яркостью образов. Искусствовед Дмитрий Сарабьянов называет картины Шагала сложносочиненными. В них действие редко развивается в едином целостном мире согласно определенному сценарию. Время разламывается, единое пространство отсутствует. Эпизоды и сцены сопоставлены друг с другом скорее по внутреннему смыс- лу или символическому значению. Отдельные черты примитивизма не являются определяющими. Картины Шагала — это всегда четко выстроенные композиции, где каждая деталь и эпизод занимают определенное место. Поэт Блэз Сандрар именовал произведения Шагала «плодами исступления», а его самого — готовым «каждый день совершить самоубийство».
Марк Шагал говорил в своей книге «Моя жизнь»: «Я бы предпочел написать портреты моих сестер и брата красками. Охотно соблазнился бы гармонией их кожи и волос, так бы и набросился бы на них, опьяняя холст и зрителей буйством моей тысячелетней палитры!» Он и мемуары свои творил «как красками по холсту». Как и его живопись, «Моя жизнь» — это одновременно развернутый во времени рассказ и лирическая исповедь, где слиты воедино внешний и внутренний миры, настоящее и прошедшее, поэзия и проза. Приподнятый, эмоциональный тон. «Выплески» слов, мыслей, образов. Резко оборванные фразы и пустоты между ними, множество предложений начинаются с новой строки.
Его творчество наполнено религиозным духом. Сам Шагал не относил себя ни к какой религии. Он говорил: «Я мистик. Я не хочу в церковь или в синагогу. Моя молитва— моя работа... Я верю пророкам. Вот мое кредо». Но еврейский образ жизни, культура, проникнутая ценностями иудаизма, — все это зримо встает на его полотнах и на страницах его книги. Вот Шагал описывает религиозные бдения в Судный День (Йом Кипур):
«Торжественно, неспешно евреи разворачивают священные покрывала, впитавшие слезы целого дня покаянных молитв. Их одеяния колышутся, как веера. И голоса их проникают в ковчег, чьи недра то открываются взорам, то затворяются вновь... Я вижу шатры среди песков, обнаженных евреев под палящим солнцем, они со страстью спорят, говорят о нас, о нашей участи — сам Моисей и Бог».
Целый ряд исследователей творчества Шагала, в том числе отечественный специалист Н. Апчинская, полагают, что у него многое связано с иудаизмом — особая символическая многослойность и знаковость образов; восприятие времени как потока, где прошлое, настоящее и будущее взаимосвязаны и обратимы, и который постоянно устремляется за свои пределы (символ этого: летящие стенные часы из дома в Витебске); отождествление сущности мира с огнем и светом.
Шагал — художник, находящийся внутри еврейской религиозной традиции. Он стал предтечей экспрессионизма и сюрреализма. Во время пребывания Шагала в Париже Гийом Аполлинер назвал его искусство «сюрнатурализмом». В его картинах соединяются прошлое и будущее, мистика и реальность. Ключевым образом в искусстве Марка Шагала стал, похоже, человек, движущийся вперед, лицо которого обращено назад. Не случайно, что он в расцвете сил и творчества, будучи еще молодым, обратился к мемуарному жанру, создав самое значительное свое литературное произведение — «Моя жизнь». У него всегда были особые взаимоотношения со временем. «Моя память обожжена», — говорил Шагал. Восемьдесят лет Шагал творил свой мир, где причудливо переплетены библейские легенды, персонажи сказок и предметы быта, увиденные в новом измерении. В этом измерении возникает устойчивое, свойственное лишь Шагалу, равновесие двух миров — реального и воображаемого, которое порождает, собственно, равновесие цветовых контрастов, будоражит сознание смещением обычных логических и зрительных представлений.
Шагал пережил две мировые войны и большевистскую революцию в России. Он был современником целого ряда художественных стилей, многие из них — русский авангардизм, кубизм, футуризм и даже поп-арт — отражены в его творчестве, при этом Шагал никогда не хотел принадлежать к какой-либо определенной школе. Его можно сравнить со стивенсоновским доктором Джекиллом — мистером Хайдом: он был полон противоречий, застенчив и дерзок, сложен и прост, временами безрассудно щедр, временами скуп, как бальзаковский Гобсек. Он мог быть резким и жестким, мог обидеть человека. Однажды в Нью-Йорке Шагал отправился в галерею, к Пьеру Матиссу, сыну известного импрессиониста и агенту по продаже произведений искусства, и по ошибке забрел в другую галерею, где проводилась выставка. Художник, картины которого выставлялись, пришел в изумление, увидев Шагала. Справившись с волнением, он спросил у мэтра мнение о своих работах. «Что и говорить, жизнь тяжела...», бросил Шагал и, развернувшись, вышел из галереи. На открытие своей выставки в музее Помпиду он пришел в сопровождении молоденькой журналистки. В холле музея висел большой портрет кисти Миро. «Как тебе нравится?» — спросил Шагал у журналистки, кивнув на портрет. Та ответила, что портрет ей очень нравится. «Дерьмо!» — отрезал мэтр. На открытие выставки Миро он идти наотрез отказался, зато сходил позже, надев темные очки и несуразную шляпу, чтобы его не узнали. На вопрос о том, понравились ли ему работы Миро, Шагал ответил лаконично: «Когда человек мертв, у него не прощупывается пульс».
Шагал никогда не сказал ни одного доброго слова в адрес своих современников — коллег по искусству. Абстрактную живопись он не признавал вообще, утверждая, что у него она вызывает такие же эмоции, что и плюющий в общественном месте человек. Но при этом завидовал Пикассо и Матиссу, — не их таланту, а их популярности и престижу. Несмотря на зависть, Шагал искал дружбы с Пикассо. Они встречались несколько раз, но симпатии друг к другу не чувствовали. А после специального «дружеского обеда», который устроила по просьбе отца Ида, и вовсе перестали общаться. В чем причина? За столом Пикассо спросил Шагала, почему он не выставляется в советской России. «Только после тебя, Пикассо, — усмехнулся Шагал. — Ведь ты как-никак коммунист, а твоих работ в России тоже что-то не видно». Пикассо не остался в долгу: «Я знаю, почему ты не выставляешься в России, — там нельзя заработать», — сказал он. Взбешенный Шагал выскочил из ресторана... Больше они никогда не разговаривали друг с другом.
Самое дорогостоящее из всех проданных до сих пор полотен Шагала — «День рождения», некогда принадлежавшее музею Гуггенхайма и приобретенное японским коллекционером за 14,5 миллиона долларов. Японцы, пожалуй, самые ревностные почитатели творчества Шагала: в Стране восходящего солнца издано пятнадцать книг о нем и каталогов его работ. Вообще, современный рынок произведений искусства наводнен рисунками Шагала, причем более ранние его работы ценятся значительно выше поздних.
Яви мне мой путь
Марк Шагал родился в Витебске в еврейской семье. Его отец Хацкель (Захар) Шагал и мать Фейга-Ита, урожденная Чернина, были выходцами из Лиозно и являлись двоюродными братом и сестрой. В семье было восемь детей, Марк — самый старший из них.
В самом начале воспоминаний Шагал упоминает об обстоятельствах своего рождения, призывая будущих психологов не делать из этого надуманных выводов. Младенец родился мертвым, он «не хотел жить. Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто насмотрелся картин Шагала».
Последняя фраза звучит знаменательно. Появление Шагала-младенца на свет «мертворожденным» соотносится с его постоянным интересом к таким знаковым моментам человеческой жизни, как рождение и смерть. К тому же, в день рождения Шагала в Витебске вспыхнул пожар, охвативший весь город, — об этом позднее ему рассказала мать. Этот пожар — смутная детская ассоциация, — соотносится с пронесенным через всю жизнь пристрастием к разрушительной и творящей стихии огня.
Отец Шагала всю жизнь проработал грузчиком у торговца селедкой, получая жалкие двадцать рублей в месяц. Мать вела дом и содержала бакалейную лавку. Шагал всегда относился к ней нежно, с любовью. В своих мемуарах он пишет: «Где ты теперь, мамочка? На небе, на земле? А я здесь далеко от тебя. Мне было бы легче, будь я к тебе поближе, я бы хоть взглянул на твою могилу, хоть прикоснулся бы к ней.
Ах, мама! Я разучился молиться и все реже и реже плачу.
Но душа моя помнит о нас с тобой, и грустные думы приходят на ум.
Я не прошу тебя молиться за меня. Ты сама знаешь, сколько горестей мне суждено. Скажи мне, мамочка, утешит ли тебя моя любовь, там, где ты сейчас: на том свете, в раю, на небесах?
Смогу ли дотянуться до тебя словами, обласкать тебя их тихой нежностью?»
Шагал вспоминает в своих мемуарах, что особенно пристрастился к рисованию в пятом классе городской гимназии. Было ему тогда лет четырнадцать-пятнадцать. Однажды к Шагалу зашел приятель и, увидев увешанные рисунками стены спальни, воскликнул:
— Слушай, да ты настоящий художник!
И тогда Марк вспомнил, что видел как-то в городе вывеску: «Школа живописи и рисунка художника Пэна». Отныне одна только мысль владела им: стать художником. Именно в этой школе он вскоре начинает учиться искусству, которое прославит его на весь мир.
Юдель (Иегуда Моисеевич) Пэн был известным живописцем. Он окончил в 80-е годы Академию художеств по классу П.Чистякова. Писал пейзажи, жанровые сцены и портреты в манере позднего передвижничества. Свою «Школу живописи и рисунка» он открыл в 1897 году, и просуществовала она вплоть до 1918 года. Шагал пришел в школу в 1906 году, однако проучился здесь всего год. Затем он с приятелем уезжает в Петербург обучаться живописи. Поскольку жили они в черте оседлости и не имели права выезжать за нее, отец раздобыл Марку у знакомого купца временное разрешение: будто бы он ехал в Петербург по поручению этого купца получать товар.
В Училище технического рисования барона Штиглица Шагалу поступить не удалось, и тогда он без экзаменов поступил сразу на третий курс в школу при Обществе поощрения художников. Главной проблемой оставалось получение вида на жительство. Наконец, Шагалу удалось устроиться лакеем у адвоката Гольдберга. Тогда адвокатам разрешалось нанимать слуг и из числа евреев. Однако с видом на жительство ничего не выходило. К тому же близился срок призыва в армию.
Между тем занятия в школе Общества поощрения художников его все больше разочаровывали. «Там ничему не учили, — вспоминал Шагал. — Два года ушли даром. Я добросовестно трудился, но удовлетворения не было». И тогда он переходит в художественную школу Е. Званцевой, где его учителями становятся Леон Бакст и Мстислав Добужинский.
Уже самые ранние его работы, такие как «Смерть» (1908), «Рождение» (1909), «Свадьба» (1909), — несут в себе существенные черты шагаловского искусства. Без колебаний, без предварительных проб художник прикасается к самым главным звеньям человеческого бытия. Простая правда, без прикрас, словно продравшаяся сквозь фантастические сновидения, а скорее вызванная ими к жизни, — именно такое впечатление производят эти произведения. Уже здесь, а чем дальше, тем больше, шагаловские герои ведут себя странным обра30м: сначала они экстатично воздевают руки кверху, застывают, как каменные, в странных позах, потом выворачивают головы, эти головы отскакивают от ту- ловища, фигуры переворачиваются вверх ногами, отрываются от земли, летят. Так же ведут себя не только витебские горожане, но и артисты цирка (что более естественно), герои античной мифологии, библейские персонажи, коровы и ослы, стулья и дома. Мир быта, которым наполнены его картины, изображающие чаще всего сцены в интерьерах или на улице, оказывается наполнен сверхъестественным, необъяснимым. У Шагала — бытовой символизм. Но тем ближе он к обычным проявлениям окружающей жизни и тем острее воспринимаются в его картинах каждый персонаж и деталь.
В Петербурге Шагал знакомится с Максимом Винавером, юристом и депутатом Государственной Думы. Тот купил у молодого художника две картины, а вскоре вызвался платить ему ежемесячное пособие в 125 франков на пребывание в Париже.
Шагал чувствовал, что пора покинуть родной Витебск и познакомиться с миром: «У меня было чувство, что если я еще останусь в Витебске, то обрасту шерстью и мхом. Я бродил по улицам, искал чего-то и молился: «Господи, Ты, что прячешься в облаках или за домом сапожника, сделай так, чтобы проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других, я хочу видеть по-своему». И в ответ город лопался, как скрипичная струна, а люди, покинув обычные места, принимались ходить над землей. Мои знакомые присаживались отдохнуть на кровли. Краски смешиваются, превращаются в вино, и оно пенится на моих холстах. Мне хорошо с вами. Но... что вы слышали о традициях, об Эксе, о художнике с отрезанным ухом, о кубах и квадратах, о Париже? Прощай, Витебск, Оставайтесь со своими селедками, земляки!»
Франция и Россия
Осенью 1910 года Шагал приехал в Париж и сразу же попал под его обаяние. «Никакая академия не дала бы мне всего того, — вспоминал художник, — что я почерпнул, бродя по Парижу, осматривая выставки и музеи, разглядывая витрины».
Вначале он снимал студию в тупике дю Мэн, но вскоре перебрался на Монпарнас в знаменитый «Улей». Это была примерно сотня крошечных мастерских, расположенных в сквере возле боен Вожирар, где жила творческая богема. Здесь Шагал заводит дружбу с художниками и поэтами. «Передо мной словно открылся лик богов. Ни неоклассицизм Давида и Энгра, ни романтизм Делакруа, ни построение формы с помощью простых геометрических планов, которым увлекались последователи Сезанна и кубисты, не занимали меня больше. Все мы, казалось мне, робко ползаем по поверхности мира, не решаясь взрезать и перевернуть этот верхний пласт и окунуться в первозданный хаос».
Всю свою последующую жизнь Шагал сохранит, по его выражению, двойственность, тяготение сразу и к России, где находились корни его творчества, и к Парижу, этой «столице мировой живописи». Подобная двойственность отражалась — и преодолевалась — в образах художника; недаром его персонажи часто движутся вперед с лицами, обращенными назад.
Однажды, когда Шагал был уже стариком, журналист спросил его:
— Вы часто вспоминаете о своей молодости, наверное, это было прекрасное время?
— Конечно. Когда мне было двадцать, я тоже выкидывал номера. Я был крайне влюбчив и терял массу времени. Я влюблялся и забрасывал свои картины. Вероятно, не стоит об этом говорить.
Я был не просто романтиком, я был романтиком с головы до пят, правда, у себя в мастерской я работал...
По тем временам я был очень богат — в моем распоряжении было 125 франков в месяц. Помню, как однажды я пришел за ними в банк, и меня спросили, в каком виде я хочу их получить, в золоте или в бумагах? Я попросил дать мне их в бумагах, потому что иначе я их потеряю. В золоте это было пять маленьких монет величиной с мой ноготок. Я боялся их посеять.
Тогда в квартале Рюш жили Модильяни, Сутин и многие другие. Так как среди нас всех я был самым богатым, часто ко мне стучали в дверь и говорили: «Шагал, дай мне на маленький бифштекс». Затем шли и покупали телячью печень. Единственная вещь, которую я умел хорошо готовить, была телячья печень. Часто приходил Сандрар. Я предлагал ему завтрак. За один франк в те времена можно было позавтракать.
Ночь напролет я работал, днем вышагивал по улицам, ходил на выставки, в музеи и возвращался, чтобы ночь поработать».
В Париже Шагал испытал, как он сам выразился, «революцию видения»: он научился мыслить независимо от предметных мотивов, говорить о мире, используя язык цвета, пластики и света.
Тогдашний Париж был Меккой художественного авангарда. В искусстве Шагала парижского периода ощутимо влияние «орфизма». Так назвал это течение Аполлинер в силу его «музыкальности» и соединенности «аполлонического» и «дионисийского» начал. Шагал знакомится здесь с новейшими экспериментальными течениями — фовизм, кубизм, но формотворческие эксперименты его мало занимали. Для него не существовало разделения на видимое и невидимое — ощущения, мысли и эмоции приобретали зримую форму.
Но, соприкасаясь с различными направлениями, Шагал в искусстве оставался абсолютно самостоятельным. В его произведениях тех лет реальность бытия предстает многоплановой и единой. Каждый его образ — это одновременно и состояние души, и некая модель космоса. Но главное, что отличало его творчество от прочих художников «парижской школы», — это религиозная направленность.
Картины художника, созданные в 1910-е годы — сначала в Париже, а после начала мировой войны в России, — дают лучшие примеры его стилистики и поэтики. К числу таких произведений следует отнести «Я и деревня» (1911), «Продавец скота» (1912), «Посвящается Аполлинеру» (1911—1912), «Голгофа» (1912), «Голубые любовники» (1914) (а есть еще «Зеленые», «Серые» и «Розовые»), «Окно на даче. Заолшье» (1915), «Над городом» (1914—1918), «Прогулка» (1917—1918), «Свадьба» (1918), целый ряд автопортретов. Разумеется, этот перечень неполон, почти каждую из упомянутых вещей можно заменить другой, равноценной.
В первой из перечисленных картин зритель сталкивается с головоломным ребусом, разгадка которого вряд ли может быть точной и однозначной. Здесь собраны воедино фрагменты, эпизоды, персонажи сельской жизни, которые все вместе составляют некий символ деревенского бытия. Но они соединены друг с другом произвольно. Выдвинутое на первый план лицо художника, взятое в профиль и окрашенное в зеленый цвет, противопоставлено такому же профилю коровьей морды. Их глаза вонзились друг в друга, а носы приблизились почти вплотную. Головы скреплены единым кругом, ставшим центром композиции. Это и есть круг деревенской жизни. Возле него разворачиваются разные эпизоды. Под коровьим глазом — сама корова и доящая ее крестьянка. Рядом — косарь с косой на плече и женская фигура, повернутая вверх ногами. Улица, дома, церковь, ветка с цветами и листьями в руке художника, крупноформатные головы — все это вписано в систему линий, которые круглят землю, расширяют пространство, создают атмосферу деревенской вселенной. Каждый конкретный эпизод происходит в своем дискретном времени. Но все вместе они сливаются в общее, нейтральное время — в некое надвременье, в котором свободно сосуществуют разновременные явления.
В июле 1915 года Шагал становится семейным человеком. Со своей будущей женой он познакомился несколько лет назад в Витебске. Однажды Шагал был в гостях у своей приятельницы Теи. Внезапно кто-то позвонил в дверь. Это пришла Теина подруга. Вдруг у него возникло странное чувство: эта некстати явившаяся подруга, ее мелодичный, как будто из другого мира, голос отчего-то взволновал его. Вскоре она попрощалась и ушла, едва кивнув на прощание Шагалу. А вечером, гуляя с Теей, он снова встретил Ее. «С ней, не с Теей, а с ней я должен быть! — вдруг озаряет меня. — Она молчит, я тоже. Она смотри! — о, ее глаза! Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял: это моя жена. Тея вмиг стала чужой и безразличной. Я вошел в новый дом, и он стал моим навсегда», — писал Марк Шагал много лет спустя.
Девушку звали Белла, и она недаром носила имя, в переводе означающее «прекрасная». Белла была действительно хороша. Стройная фигура, огромные выразительные глаза, роскошная копна густых вьющихся волос... Она была словно создана для того, чтобы увлечь художника. Родители Беллы держали в Витебске три ювелирных магазина, и их, конечно, не устраивало происхождение будущего зятя, чей отец служил чернорабочим в рыбной лавке. К тому же будущий муж — художник... Более невыгодную «партию» трудно было даже представить. И хотя к 1915 году, когда состоялась свадьба, Марк Шагал был уже широко известен в Петербурге и Париже и даже выручал кое-какие деньги за свои картины, родители Беллы считали, что отдают дочь за пропащего человека. Но что же делать? Отговаривать ее было бесполезно.
Сорок лет Белла была рядом с Шагалом. Вместе с ним переносила тяготы гражданской войны: голод, холод, бытовую неустроенность. Родила ему дочь. Вместе с ним уехала в эмиграцию, где к Шагалу пришла всемирная слава. Союз с Беллой означал для художника не просто один из аспектов человеческой жизни. Он стал символом союза мужчины и женщины. Жена была его музой. Она всегда верила в него, даже когда предавали друзья и не ладилась работа. Она понимала и любила его странные, удивительные картины. Можно лишь догадываться, чего стоили ей бесконечные переезды по петербургским и московским «углам», бесконечные странствия, случалось, и в нетопленых товарных вагонах, с маленькой дочерью на руках, из города в город. Наверное, только любовь помогла Белле выдержать все это. Шагал посвящал ей стихи. Ни одной картины или гравюры он не заканчивал, не услышав ее «да» или «нет». На его полотнах Она озаряет его путь в искусстве, парит вместе с ним над городами и весями, превращая обыденность в сказ- ку. Белла Шагал умрет в 1944 году в Париже, но она останется жить в его творениях. Дама в черных перчатках, невеста, женщина с ребенком, ангел, взмывающий в небо или уютно устроившийся в букете весенних цветов, — все это Белла. И хотя в 1954 году Марк Шагал женился вторично, до конца его дней Белла оставалась для него Единственной.
Весь 1917 и первую половину 1918 года Шагал провел в Петрограде. Он был свидетелем февральских и ноябрьских событий, слышал Ленина и Троцкого. Вскоре состоялась встреча художника с наркомом просвещения Анатолием Луначарским. Шагал так описывал это событие: «Улыбающийся нарком Луначарский принимает меня в своем кабинете в Кремле. Когда-то в Париже, перед самой войной, мы с ним встречались. Он тогда писал в газеты. Бывал в «Улье», зашел и ко мне в мастерскую. Очки, бородка, усмешка фавна. Приходил он взглянуть на мои картины, чтобы написать какую-то статейку.
Я слышал, что он марксист. Но мои познания в марксизме не шли дальше того, что Маркс был еврей и носил длинную седую бороду.
Я сразу понял, что мое искусство не подходит ему ни с какого боку.
— Только не спрашивайте, — предупредил я Луначарского, — почему у меня все синее или зеленое, почему у коровы в животе просвечивает теленок и т. д. Пусть ваш Маркс, если он такой умный, воскреснет и все вам объяснит».
Позже Шагал напишет, что был полностью захвачен зрелищем идущего из глубины порыва, который принесла с собой революция. Она была близка ему как выходцу из черты оседлости и как художнику, для которого народное, стихийное начало всегда было важным элементом творчества.
Свое видение революции он воплотит в картине, написанной в первой половине 30-х годов, которую так и назовет «Революция». Толпы людей, охваченных разрушительным азартом. Ленин, делающий стойку на руке — олицетворение духа политического переворота. Здесь же — влюбленные, музыкант, животные, наконец, старик со свитком Торы в руках. В 40-е годы он переписал это полотно, разделив его на три части, при этом фигуру Ленина заменил распятым Иисусом Христом: подлинный переворот достигается только через жертвенную любовь и духовные усилия. Однако все это будет потом, а в 1917—1918 годах Шагал полностью захвачен стихией революции. Он мечтает о том, чтобы дети городских бедняков приобщились к искусству.
В октябре 1918 года Шагал возвращается на Родину с мандатом уполномоченного по делам искусств Витебской губернии. Вскоре он создает в Витебске Народное художественное училище, куда приглашает из Петрограда известных художников. Руководить училищем стал знаменитый Мстислав Добужинский.
Летом 1920 года Шагал с семьей переезжает в Москву. Здесь он знакомится с Мейерхольдом, Маяковским, Есениным, посещает многочисленные собрания — актеров, поэтов, художников. На собрании актеров громче всех кричал Маяковский. Потом он преподнесет художнику книгу своих стихов с дарственной надписью: «Дай Бог, чтобы каждый шагал, как Шагал». Есенин тоже кричал ка собраниях, со слезами на глазах, ругал себя и бил кулаком в грудь. Шагал потом напишет: «Возможно, поэзия его несовершенна, но после Блока это единственный в России крик души».
В Москве Шагал принял активное участие в создании нового Еврейского театра. Ему предложили расписать стены в зрительном зале и исполнить декорации для первого спектакля. «Вот, — думал Шагал, — возможность перевернуть старый еврейский театр с его психологическим натурализмом и фальшивыми бородами. Наконец-то я смогу развернуться и здесь, на стенах, выразить то, что считаю необходимым для возрождения театра». Здесь он сближается с Соломоном Михоэлсом.
Для центральной стены Шагал написал «Введение в новый национальный театр». На остальных стенах и на потолке изобразил бродячего музыканта, свадебного шута, танцовщицу, переписчика Торы, двух акробатов. Михоэлс долго присматривался к шагаловским панно, а потом, спустя месяц или два, сказал:
— Знаете, я изучил ваши эскизы. И понял их. Это заставило меня целиком изменить трактовку образа. Я приучился по-другому распоряжаться телом, жестом, словом.
Шагал видел этот новый еврейский театр, как и собственное искусство — укорененный в быте, но вместе с тем прорывающийся в высшие сферы; близкий народному действу, но проникнутый религиозно-мистическим чувством единства и тайны бытия. Его театр представал как целостный мир, а мир — как театр, феерический, взрывной и непостижимый. Он дробился на грани, в нем господствовал свет, окрашенный в мистические тона.
Поэт Осип Мандельштам чуть позже напишет эссе «Михоэлс» об этом «парадоксальном театре» и его актерах, «носящих одухотворенный и тончайший лапсердак». А слова Мандельштама о еврействе в полной мере могут быть отнесены и к Шагалу: «Пластическая сила и основа еврейства в том, что оно выработало и пронесло через столетия ощущения формы и движения, обладающее всеми чертами моды — непреходящей, тысячелетней... Я говорю о пластике гетто, об этой огромной силе, которая переживет его разрушение и окончательно расцветет, когда гетто будет разрушено».
Образы Библии
С 30-х годов ведущей в творчестве Шагала становится библейская тематика. Уже в его ранних работах присутствовали размышления о главных категориях бытия, о суетности всего земного, о ничтожности человека перед лицом вечности, бесконечности пространства и величия света. Религиозные сюжеты также временами возникали под его кистью или пером. И всегда пластический образ был для него не столько подобием ре- альности, сколько материализацией поэтической идеи этой реальности.
Со временем Шагал начинает все более пристально вглядываться в Библию. Он пишет: «С ранней юности я был очарован Библией. Мне всегда казалось и кажется сейчас, что она является самым большим источником поэзии всех времен. Библия подобна природе, и эту тайну я пытаюсь передать». Он читает Библию, и это чтение тут же претворяется в образы. Под его кистью или карандашом Библия становится книгой зримых образов.
После 1945 года Шагал выполнил монументальные произведения, соединяющие живопись с архитектурой: цикл живописных полотен «Библейское послание» для музея в городе Ницце; плафон для парижской Гранд Опера; панно для Метрополитен-опера в Нью-Йорке; панно для театра во Франкфурте.
Он также работает над серией витражей для храмов и общественных зданий, керамическими панно, мозаиками, гобеленами.
В 1954—1966 годах Шагал пишет серию из семнадцати монументальных панно, которую он озаглавил «Библейское провозвестие».
Французский философ Гастон Башляр, почитатель Шагала, пишет: «История Израиля — это история деяний великих фигур. Время мира запечатлено на их лицах. Труд художника посвящен именно лицам. Марк Шагал показывает нам героев судьбы; тех, кто одним горящим взором поднимает и движет целым народом. Перед нами книга поистине человеческого вдохновения. Поскольку он много рисовал и рисовал «хорошо», Шагал стал психологом: ему удалось наделить пророков индивидуальными чертами. Но каков был возраст самого Шагала, когда он рисовал пророков? В обычной жизни художник не любит, когда ему упоминают о седьмом десятке. Но с карандашом в руках, когда он один на один с тенями и тайной прошлых, далеких времен, — разве Шагалу нельзя дать и пять тысяч лет? Он живет в ритме тысячелетий. Он ровесник тех, кого созерцает. Он видит Иова. Видит Рахиль! Какими гла- зами он только не смотрит на свою Рахиль! Что же должно происходить в сердце художника, рисующего тысячелетия, чтобы столько света излучали эти черные линии?
Не листайте торопливо эту книгу. Оставьте ее открытой на любой из ее великих страниц; на странице, которая вам «что-то говорит». И вас захватят эти великие грезы времени, и вы познаете мечту тысячелетий. Шагал и вас научит возрасту; он приучит вас к мысли, что и вы можете иметь пять или шесть тысяч лет. Не с помощью цифр и не тогда, когда мы движемся по вытянутой в линию истории, мы можем проникнуть в мрак тысячелетий. Нет, нужно много мечтать, осознав, что и жизнь — это мечта, чтобы то, о чем мы мечтаем, оказалось за пределами того, что мы прожили и что является подлинным, живым — вот оно у нас перед глазами во всей своей правдивости. Собственно, я так и мечтаю перед некоторыми листами Шагала и не могу иногда понять, в какой стране я нахожусь и на какую глубину времени я погребен. Да и какое мне дело до истории, если прошлое — вот оно, передо мной, потому что прошлое, хотя и не является моим, укоренилось только что в моей душе и порождает во мне бесконечные грезы. Прошлое Библии — это история совести. Глубина времени удваивается здесь глубиной моральных ценностей. Ученые-палеонтологи говорят нам о совершенно другой истории. У них в руках цифры, соответствующие разработанному ими точному календарю жизни когда-то существовавших ископаемых; они говорят нам о человеке четвертичного периода. Я хорошо представляю себе это существо в звериной шкуре, пожирающее сырое мясо. Я могу вообразить все это. Но я не могу не мечтать. А для того чтобы начать мечтать, нужно стать человеком. Нужно быть предком, увидеть себя в перспективе предков, постепенно перемещая фигуры, которые гнездятся в нашей памяти. Все лица, представленные в книге Шагала, — характерны. И когда мы рассматриваем их, нас захватывает великая мечта о нравственности.
И если нас посещает эта мечта, мы оказываемся вне истории, мы выходим из границ психологии. Существа, изображенные Шагалом, являются моральными существами, это образцы моральной жизни. Обстоятельства, складывающиеся вокруг них, отнюдь не нарушают центрального образа. Моральная судьба человека находит здесь великих инициаторов. Подле них и мы получаем заряд судьбоносной энергии, с ними мы можем смелее принять нашу собственную судьбу. Мечты незапамятных времен производят на нас впечатление постоянства. Эти предки нравственности продолжают жить и в нас. Время не пошатнуло их. Они как бы застыли в своем величии. Легкие волны времени успокаиваются вокруг наших воспоминаний о предках моральной жизни. Время, в меру укорененности моральной жизни, устаивается в глубинах наших душ. В Библии мы открываем историю вечности».
В 1950 году, выступая в Чикагском университете, Шагал говорит о повлиявших на его творчество двух художественных традициях России — «самобытно-народной» и «религиозной». Особую ценность для него имела русская иконопись. Недаром Шагал не только часто обращался к мотивам икон, но и стремился опираться в своем творчестве на присущую иконописи систему художественного отражения реальности.
Шагал остро ощущал социальные, психологические и духовные катаклизмы XX столетия, поэтому его творчество проникнуто глубоким ощущением близкого Апокалипсиса. Шагал писал: «Бог, перспектива, цвет, Библия, форма и линии, традиции и то, что называется «человеческим»: безопасность, семья, школа, воспитание, слово пророков, а также жизнь со Христом, — все это расклеилось, вышло из колеи. Вероятно, и мною среди всего этого овладело сомнение, и я начал писать опрокинутый мир; я отделял головы от моих фигур, расчленял их на части и заставлял парить где-то в пространстве моих картин». Дух Апокалипсиса выводил его работы, как и произведения других авангардистов, с уровня обыденного существования на космический уровень. В этом — их близость к средневековому православному искусству, причем не столько к иконе, сколько, по определению В. Быкова, ко всей системе росписей византийского или древнерусского храма, заключающих в себе образ Универсума.
Шагал признавался: «В искусстве все должно отвечать движению нашей крови, всему нашему существу, включая бессознательное, но и что касается меня, то я всегда обходился без Фрейда». Шагал — художник-гуманист. В его живописи и графике, в его книге «Моя жизнь» и многих статьях постоянно звучит мысль о Добре и Любви. Для него в жизни и творчестве всегда был единственный цвет — цвет Любви: «Наперекор всем трудностям нашего мира во мне сохранились часть той одухотворенной любви, в кото- рой я был воспитан, и вера в человека, познавшего Любовь. В нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и Искусству. Цвет Любви.
В этом цвете я различаю все те качества, которые дают нам силы совершить что-либо в любой из областей.
Я часто спрашиваю себя, откуда иногда в человеке, частице такой грандиозной природы, столько жестокости. Я спрашиваю себя, как это может быть, когда рядом есть Моцарт, Бетховен, Шекспир, Джотто, Рембрандт и столько других, начиная со скромных и честных тружеников, которые воздвигли соборы, монументальные здания, создали множество произведений искусства, и заканчивая теми, кто изобрел все, что облегчает и улучшает нашу жизнь. Возможно ли, чтобы человек, обладая всеми новыми средствами, наделяющими властью над вещами, оказался не способен властвовать над самим собой? Моему пониманию это недоступно. Зачем искать где-либо вне природы? Ключи от гармонии и счастья нужно искать в самих себе. Мы держим их в собственных руках. Все, что я пытался сделать, слабая попытка бросить вызов жестокости. Искусство, которым я занимался с детства, научило меня тому, что человек способен Любить, тому, что Любовь может его спасти. Для меня ее цвет — цвет истины, истинный материал искусства. Такой же естественный, как дерево или камень».
Отношение Шагала к Израилю и иудаизму было неоднозначным. «Ни один художник не уделил столько внимания иудаизму, сколько Шагал, — пишет его биограф Бааль Тшува. — Во многих смыслах его можно назвать самым еврейским художником столетия. Он свободно говорил и писал на идише — правда, с ошибками, но все же... Он несколько раз бывал в Израиле, дружил и переписывался с израильтянами. Отношение Шагала к еврейству, к иудаизму во многом сформировано под влиянием Беллы, которая прекрасно знала идиш и обожала еврейскую литературу. Шагал часто повторял: «Не будь я евреем, я бы не стал Шагалом». Но собственное еврейство он держал в строгих рамках личных интересов».
В Палестине Шагал впервые побывал в 1931 году. Тогдашний мэр Тель-Авива пригласил художника принять участие в церемонии закладки первого камня в фундамент будущего Тель-Авивского музея — того самого здания, в котором спустя семнадцать лет Бен-Гу- рион провозгласил создание Израиля. В 1951 году Шагал вновь посетил Израиль. Его вклад в израильскую культуру ограничился несколькими работами, переданными в дар Тель-Авивскому музею. Шагаловские гобелены и мозаики, украшающие один из залов кнессета, были щедро оплачены Ротшильдами. Мечте израильских меценатов (в том числе бывшего мэра Иерусалима Тедди Колека) создать в Израиле музей Шагала не дано было осуществиться. Швейцарский архитектор Маркус Динер, коллекционировавший работы Шагала, в 1964 году даже разработал макет здания будущего музея, но Шагал решил, что Ницца для этого подходит больше. Как утверждает Бааль Тшува, Шагал считал, что если музей будет находиться в Иерусалиме, он не привлечет должного внимания со стороны международной общественности. «Шагал жаждал получить признание при жизни, и музей в Ницце обеспечивал ему это признание, — пишет Бааль Тшува. — Он понимал, что в Израиле негативно отнеслись к его решению, и это, очевидно, волновало его: он несколько раз спрашивал меня, сердятся ли на него израильтяне по-прежнему...»
С каждым годом отношения Шагала с Израилем и иудаизмом становились все более прохладными. «Во многом виновата в этом Валентина, — объясняет Бааль Тшува. — Она хотела, чтобы Шагал как можно меньше ассоциировался с еврейством. Валентина, сама принадлежала к Богом избранному народу, хотя ходили слухи, что она перешла в христианство. И все же она делала все для того, чтобы воздвигнуть стену между Шагалом и иудаизмом». Шагал, рисовавший Стену плача и синагоги, делавший гравюры по мотивам Танаха, не любил, когда его называли еврейским художником. Однажды некто, решивший издать еврейскую энциклопедию, в которую вошли бы статьи о деятелях искусства и культуры, обратился к Шагалу с просьбой разрешить включить его имя в список. Художник рассердился и написал гневное письмо в ответ, пригрозив подать в суд, если тот посмеет упомянуть его в энциклопедии. «Мы всегда беседовали между собой на идише, — вспоминает Бааль Тшува, — но стоило нам на улице поравняться с кем-нибудь из французов, как Шагал тут же переходил на французский».
Шагал был в курсе того, что его критикуют за, мягко говоря, эластичное отношение к иудаизму. Объяснял же он это свое отношение по-разному, в зависимости от ситуации.
«Как-то Жака Липшица попросили создать скульптуру для церкви, — пишет Бааль Тшува. — Он сказал, что готов выполнить этот заказ при одном условии: к постаменту скульптуры должна быть прикреплена табличка со словами: «Жак Липшиц, преданный сын иудаизма». Когда же к Шагалу обратились с просьбой еделать для церкви рисунки, он спросил мнение Хаима Вайцмана, и тот ответил, что решение целиком зависит от Шагала. Шагал, разумеется, рисунки сделал. У него всегда была наготове причина наподобие «да, я выполнил работу в церкви, но не для церкви, а для французского правительства...»
В свое время Шагал отказался выполнить декорации для спектакля «Скрипач на крыше», хотя сделать это для него было бы вполне естественным — в конце концов скрипач на крыше, в образе которого Шагал вывел своего дядюшку, присутствует на одном из самых известных его рисунков.
Зато в работах Шагала большое место занимает Иисус Христос, который воплощал для художника образ страдающего еврея. Иисус присутствует даже на полотне «Сотворение мира», хотя его там не должно было бы быть по определению.
Творческое долголетие и работоспособность Шагала во многом были обусловлены его устойчивыми и дружескими отношениями в семье. Однако в 1944 году в результате осложнения после гриппа умирает его горячо любимая жена Белла.
Утрату Шагал переживал очень тяжело; он, для которого рисовать было так же естественно, как дышать, на протяжении девяти месяцев не сделал ни единого штриха. Он целыми днями просиживал у окна, из которого открывался вид на реку. Мольберты с эскизами были повернуты к стене. Дочь Шагала Ида, тревожась за душевное здоровье отца, наняла экономку — красивую молодую женщину, чтобы та позаботилась о нем. Звали ее Вирджиния Макнелл-Хаггард. Ида вовсе не предполагала, что отношения Шагала и эко- номки перерастут в роман: Хаггард была замужем и воспитывала пятилетнюю дочь. Ее муж-шотландец, художник и театральный оформитель, временами впадал в депрессию и не мог работать, поэтому Вирджинии, дочери бывшего британского консула в США, приходилось самой обеспечивать семью. Шагалу было тогда 58 лет, Вирджинии — 30 с небольшим. Художник не мог не оценить утонченную прелесть молодой женщины, но на первых порах, очевидно, не сознавал этого в полной мере. Вирджиния была для него, скорее, лучом света, скрашивающим одиночество. Когда она подавала Шагалу еду, он всегда просил ее присоединиться к трапезе. Роман между Шагалом и Хаггард начался еще до того, как она развелась с мужем, да и Дэвид, сын Шагала, родился, когда Вирджиния все еще состояла в браке.
Биограф Шагала Яаков Бааль Тшува несколько раз встречался с Вирджинией и она рассказала, что жизнь с Шагалом была для нее нелегкой. Ее тяготила роль «незамужней» жены. Кроме того, среди свойств характера великого художника не последнее место занимала скупость: он, чьи работы при жизни выставлялись в Лувре, был одним из самых богатых художников XX столетия, с содержимым своего кошелька расставался крайне неохотно.
В 1948 году Шагал познакомился с бельгийским фотографом-портретистом. Тот стал часто захаживать в дом к художнику и постепенно завел за его спиной интрижку с Вирджинией Хаггард. Шагал, надо полагать, не подозревал о том, что его возлюбленная ведет двойную жизнь. Во всяком случае, Вирджиния только спустя три года, в 1951 году, официально развелась с Макнеллом и тогда же оставила Шагала ради возлюбленного-бельгийца. Она забрала сына и отказалась от восемнадцати работ художника, подаренных ей в разное время, оставив себе лишь два его рисунка. Шагал был глубоко ранен разрывом с Вирджинией — ведь он любил ее всем сердцем. В 1986 году, спустя год после кончины Шагала, Вирджиния опубликовала небольшую книгу о своих отношениях с художником. Книга не вызвала ажиотажа: в ней не было ни особых открытий в области искусства, ни сенсационных деталей интимного характера — Вирджиния отдавала дань уважения великому художнику.
В 1952 году Шагал познакомился с Валентиной Бродской, владелицей салона моды в Лондоне, которая была моложе его на двадцать пять лет. Валентина взяла все бразды правления в доме в свои руки и постаралась ограничить влияние на Шагала его дочери Иды.
И тем не менее Шагал был доволен своей жизнью и очень хорошо относился к жене.
Шагал скончался 28 марта 1985 года в Сен-Поль де Ванс близ Ниццы, где проживал с Валентиной с 1966 года. Вскоре его вдове позвонил главный раввин Ниццы с просьбой разрешить похоронить великого художника на городском еврейском кладбище. Валентина ответила, что она намерена похоронить мужа в Сен-Поль де Ванс. «Но ведь там нет еврейского кладбища?!» — удивился раввин. «Это не имеет значения», — сказала госпожа Шагал.
Эйнштейн: творец нового мира
Научный гений оставляет на человечестве намного более глубокий след, чем государственный деятель или полководец.
Пол Джонсон
Если Зигмунд Фрейд изменил то, как мы видим и познаем себя и свой внутренний мир, то Альберт Эйнштейн изменил наше понимание Вселенной. Недаром многие считают его центральной фигурой XX столетия, а журнал «Тайм» в 1999 году объявил Эйнштейна величайшей личностью XX века. Он пересмотрел восприятие физического мира и увеличил нашу власть над ним. Воздействие теории относительности Эйнштейна было, возможно, столь значимым, поскольку совпало с общественным признанием фрейдизма. Но его фатальное уравнение во многом предопределило появление ядерного оружия. Недаром в конце своей жизни Эйнштейн говорил, что бывали моменты, когда он жалел, что не стал обыкновенным часовщиком. Мало что зная о сущности бытия, люди уже владеют такими его силами, которые могут в мгновение ока покончить с ним, — эту истину, наверное, Эйнштейн осознал раньше других.
Свойственная великим людям свобода мышления обычно обусловлена проникновением в глубинные проблемы эволюции бытия и сознания. Великие умы не создают историю мысли. Они воплощают и выражают ее, улавливая пульсацию времени и потребности эпохи. В начале XX столетия в теоретической физике произошли великие открытия: Э. Резерфорд открыл атомное ядро, Н. Бор создал квантовую теорию атома, А. Эйнштейн разработал теорию относительности. Но именно идеи Эйнштейна изменили сам смысл понятия «преобразование картины мира». Отныне это означало не только переход к иной схеме тел, движущихся в пространстве, но иное осмысление самого пространства. Как истинный гений, Эйнштейн искал разгадку вечных проблем, синтезируя противоречивые тенденции научного развития, обычно возникающие на его «разломах». Макс Планк в 1909 году так отзывался о теории относительности: «По своей смелости она превосходит все, что было достигнуто до сего времени в спекулятивном исследовании природы и даже в философской теории познания; по сравнению с ней неэвклидова геометрия — просто детская игра... По своей глубине и последствиям переворот, вызванный принципом относительности в сфере физических воззрений, можно сравнить только с тем переворотом, который был произведен введением картины мироздания, созданной Коперником».
В результате внедрения идей Эйнштейна в научное познание мы не только стали больше знать о Вселенной, но и изменили сам облик познания. Идеи Эйнштейна величественные и вечные не только потому, что они существенно приблизили науку к истине, но и оттого, что изменили методы научного мышления.
О прежних своих занятиях физикой Эйнштейн говорил: «Я хочу знать мысли Бога, все остальное — детали». Эта связь с чем-то более значимым, видимо, и отделяет гениев от просто творчески одаренных людей.
В науке не было столь «безумного» и парадоксального перехода к новой модели мира, как переход от ньютоновских представлений к учению Эйнштейна. Более двух веков система Ньютона считалась окончательным ответом на основополагающие вопросы науки, полностью утвердившейся картиной мира. Сохранилось шутливое стихотворение тех лет:
Природа и ее законы были покрыты тьмой,
Бог сказал: «Да будет Ньютон!», и все осветилось.
Но не надолго. Дьявол сказал: «Да будет Эйнштейн!»,
И все вновь погрузилось во тьму.
Когда это четверостишие было написано, многим казалось, что отказ от устоев ньютоновской механики — это отказ от научного познания мира. Бог вызвал к жизни Ньютона и осветил мироздание, дьявол послал Эйнштейна, чтобы вновь погрузить Вселенную во тьму. Но на самом деле это был переход от света, зажженного Ньютоном, к еще более яркому освещению Вселенной. Сделал это ученый и мыслитель, один из величайших физиков мира и вместе с тем один из крупнейших гуманистов XX века.
Новые идеи в физике: волна может быть одновременно и частицей, масса — энергией, а пространство — временем, — отразились в художественном творчестве. Именно в XX веке искусство утратило уверенность в том, что следует обязательно опираться на реальность материального мира. Музыка отказывается от мелодики, литература порывает с традицией, живопись — с перспективой. Мир становится совершенно иным.
Для рядового человека под влиянием новаций Эйнштейна стало очевидным, что отныне нет вообще ничего постоянного: ни времени и пространства, ни добра и зла; нет познания, нет ценностей. А время течет вспять или движется по замкнутому кругу.
Алан Лайтман, написавший роман-эссе «Сны Эйнштейна», ставший в 80-е годы XX века бестселлером, обыгрывает понятие времени через сны великого физика. Время — это замкнутый круг, и потому мир неукоснительно повторяется. Правда, люди, по большей части, не знают, что они заново проживут свои жизни. Торговцы не знают, что они снова и снова будут заключать сделки. Политики не знают, что в круговерти времени они снова и снова будут возглашать свое с одной и той же трибуны. Любовники, любящие впервые, пугливо раздеваются, дивятся шелковистому бедру, идеально вылепленному соску. И не подозревают, что, как и в первый раз, они вновь и вновь будут заключать друг друга в объятия. В мире, где время — круг, каждое рукопожатие, каждый поцелуй, каждое рождение, каждое слово повторяются в точности.
В 1927 году в связи с 200-летием со дня смерти Исаака Ньютона Эйнштейн говорил: «Разум кажется нам слабым, когда мы думаем о стоящих перед нами задачах; особенно слабым он кажется, когда мы противопоставляем его безумству и страстям человечества», и в то же время именно на примере Ньютона мы видим, что творения интеллекта «на протяжении веков озаряют мир светом и теплом». Такой озаренной светом и теплом была интеллектуально-духовная деятельность самого Эйнштейна.
Эйнштейн — это культурный герой, в величественной фигуре которого люди ценят не столько его достижения, сколько его неповторимый образ. Историк науки Джон Хартон, изучив его личность и деятельность, выделил пять особенностей гениального ученого: 1) глубина постижения научных проблем; 2) необыкновенная ясность мысли; 3) феноменальное умение уловить почти незаметные значимые сигналы в любой экспериментальной ситуации; 4) настойчивость, энергия, полная самоотдача и абсолютная вовлеченность в излюбленную область науки; 5) умение создать вокруг себя своеобразную атмосферу, в основе которой не столько вера в свои силы и предназначение, сколько ощущение избранности, которое разделяют окружающие.
Короля играет свита! Но и короля, и «культурного героя» свита — окружение, общественное мнение, почитатели — всерьез играть не могут, если в центре этого — человек безликий, образ которого расплывчат. «Культурным героем» Эйнштейн стал после того, как в 1919 году произошло экспериментальное подтверждение его теории относительности, а президент королевского общества объявил ее величайшим достижением человеческого ума. Когда же репортеры начали выяснять, кто же этот ученый, они увидели не классического академика, а эксцентричного типа с всклокоченными волосами, саркастичного и обаятельного, дерзкого и остроумного. Для них это была бесценная находка.
Работавшая в доме Эйнштейна в течение пяти лет горничная говорила: «Ему нравились красивые женщины, а они его просто обожали». Примерно в том же духе отзывался друг великого физика: «Эйнштейн достаточно сексуален и в полной мере пользуется своим природным обаянием». В конце 90-х годов стало известно, что после смерти своей второй жены Эйнштейн сблизился с советской разведчицей Маргаритой Коненковой, женой великого скульптора, и их интимные отношения прервались лишь в 1945 году после ее отъезда из США. Впрочем, отношение Эйнштейна к женшинам было весьма своеобразным.
Он не раз удивлялся, как это Бог умудрился создать половину человечества без мозгов, но вместе с тем всегда предпочитал общество именно женщин. А оба своих брака незадолго до смерти он охарактеризовал так: «Меня дважды постигла позорная неудача». В свое время кто-то сказал о Борисе Пастернаке: «Гений не руководствуется общепринятыми сексуальными нормами, гений создает собственную сексуальную систему». Слова эти вполне применимы и к Эйнштейну. Может, этот социальный одиночка и душевный интроверт искал в браке не счастья, а чего-то иного?!
Идеи Эйнштейна в глазах ученых-теоретиков, а еще больше в его собственных глазах имели не столько утилитарный, сколько философский смысл. Приняв в качестве постулата постоянство скорости света во всех системах отсчета и выведя соотношения между энергией и массой, пространством и временем, Эйнштейн создал цельную и гармоничную картину Вселенной. Его теория — это завершение классической физики, это картина мироустройства, где все расставлено по своим местам, все ясно, объяснимо и предсказуемо.
Образ «культурного героя» требовал, чтобы Эйнштейн, при всей своей социальной автономности, постоянно обращался к общественности. Он всегда выступал как непримиримый враг нацизма. Он писал президенту США Франклину Рузвельту об опасности создания в Германии урановой бомбы. Он выступал с возвышенными проектами в либерально-социалистическом духе. Многие его идеи во второй половине XX века, уже после смерти великого ученого-гуманиста, вновь стали созвучны веяниям эпохи, когда возвратилась вера в возможность разумного и гуманного переустройства мира. Скорее всего, эти идеи, никогда не смогут одержать верх. Но они никогда и не будут побеждены.
Сегодня все более заметно меняется наша установка на бесконечный процесс познания. Более ясно обозначаются его пределы. Чем больше мы узнаем, тем больше мы не знаем. «С каждым шагом вперед, — пишет Карл Поппер, — с каждой разрешенной проблемой мы обнаруживаем не только новые и новые проблемы; мы открываем также, что там, где мы, казалось бы, стоим на твердой и надежной почве, поистине все зыбко и шатко». Наука, вместо того, чтобы преодолеть хаос, провозглашает неизбежность его. Мысль о том, что мы никогда не сможем познать Вселенную, поскольку ее устройство может оказаться намного сложнее нашего мозга, начинает звучать все более отчетливо. Идея принципиальной непознаваемости мира возрождает таинственное и иррациональное в человеческом бытии.
Впрочем, культуролог Георгий Гачев, пишет: «Чтобы могло твориться дело науки, в основании его должно лежать некое мощное мистическое проницание, озарения Галилея и Ньютона стали впоследствии внедрены во многие области знания. Эйнштейн же в теории относительности увидел конец света (т. е. предел скорости света), и таким образом, изнутри, из времени и скорости, а не извне — из сфер и пространства — положен конец мирозданию. Найдена мера этого мира и, значит, исполнение сроков.
Научное знание развивается не только через простое приращение сведений и законов, но и посредством взрывных преобразований всей системы сложившихся представлений. Такими были переходы от физики Аристотеля к физике Ньютона, от физики Ньютона — к физике Эйнштейна, от геоцентрической системы Птолемея — к астрономии Коперника и Галилея, от теории флогистона — к химии Лавуазье. Великий Эйнштейн оставил человечеству формулу, согласно которой каждая частица вещества содержит громадный запас энергии покоя. Однако физики не знают, как эту энергию освободить. Кто же будет новым Эйнштейном?! Еще Аристотель задавался вопросом: в чем отличие прошлого от настоящего? Эйнштейн связал время со скоростью света и массой. Но остается вопрос вопросов: течет ли река времени из безграничного будущего в безграничное прошлое или наоборот?! Что ж, возможно, вскоре придет новый Эйнштейн, чтобы ответить на этот вопрос.
Восхождение
Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в еврейской семье в городе Ульме, на левом берегу Дуная, недалеко от Швабских Альп. Сохранилась регистрационная книга, где записано: «К нижеподписавшемуся чиновнику городского регистрационного бюро сегодня явился знакомый ему в лицо коммерсант Герман Эйнштейн, иудейского вероисповедания, проживающий в Ульме, на Бангофштрассе, 135; он сообщил, что у его супруги, Паулины Эйнштейн, урожденной Кох, родился 14 марта 1879 года, в 10 часов 30 минут утра младенец мужского пола, который был назван Альбертом».
Едва младенцу исполнился год, семья переехала в Мюнхен, где Герман и его брат Якоб стали совладельцами небольшой электротехнической фирмы. В 1889 году Эйнштейн поступил в мюнхенскую гимназию. Помимо прочих курсов, здесь он изучал иудейский рели- гиозный закон, который преподавали для учеников-евреев. Тогда же он начинает все больше интересоваться математикой. Большое влияние на мальчика оказала книга Бюхнера «Сила и материя», чрезвычайно популярная в то время среди молодежи.
Уже в первые школьные годы Эйнштейн столкнулся с антисемитизмом. Его биограф А. Мошковский свидетельствовал: «Еврейские дети были в школе в меньшинстве, и маленький Альберт почувствовал здесь на себе первые брызги антисемитской волны, которая из внешнего мира грозила перекинуться в школу. Впервые почувствовал он, как что-то враждебное ворвалось диссонансом в простой и гармоничный мир его души».
Весной 1895 года шестнадцатилетний Эйнштейн покинул мюнхенскую гимназию и отправился в Милан к родителям, которые переселились туда за год до этого. Однако в Италии он пробыл недолго. Осенью того же года он пытался поступить на инженерный факультет Высшего политехнического училища в Цюрихе (Швейцария). Однако в училище он не попал, поскольку по современным языкам и истории получил неудовлетворительные оценки. Поэтому Эйнштейн поступает в старший класс кантональной школы в швейцарском городе Аарау, где проучился с октября 1895 до осени 1896 года.
Из всех преподавателей школы в Аарау юный Эйнштейн более всего запомнил профессора Фрица Мюльберга. Спустя много лет великий физик напишет о нем: «Какой же это был оригинальный и интересный человек!» Мюльберг считал, что «способность и стремление создавать духовные ценности и обогащать науку, т. е. познавать факты, открывать истины, а также понимать истины, открытые другим, является достоянием более ценным, чем запас недолговечных сведений, которыми можно снабдить юношу за время учения в школе».
Получив свидетельство об окончании кантональной школы, юноша в октябре 1896 года поступает в Высшее политехническое училище в Цюрихе на педагогический факультет. Он записался на курсы математики и физики, а также на спецкурсы по философии, истории, экономике и литературе. Родители мало чем материально могли помочь ему, поэтому Эйнштейн в студенческие годы бЬш вынужден отказывать себе в самом необходимом. Но на житейские неурядицы он редко обращал внимание, с головой уходя в изучение работ Больцмана, Гельмгольца, Герца, Кирхгофа, Лоренца, Маха, Максвелла. Именно тогда Эйнштейн переходит от первоначальных интересов, связанных с физикой и чистой математикой, к углубленному изучению коренных проблем теоретической физики.
Здесь Эйнштейн сблизился с сербкой Милевой Марич. Это была милая и несколько застенчивая девушка, но сверстники считали ее не очень привлекательной, тем более, что она прихрамывала. Альберт, напротив, был красивым юношей, излучающим природное обаяние, с густой копной черных волос и карими глазами. Вначале они просто дружат, обращаясь друг к другу на «вы». Но вот в письме Милевы 1900 года появляется «ты». А в августе того же года Альберт уже называет ее «милой возлюбленной малюткой». Он читал Милеве стихи из «Песни песней»: «О, юные груди, похожие на двух козлят. О, живот твой — круглая чаша, в которой не кончается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Стан твой похож на пальму, и груди твои — на виноградные кисти». Она в ответ писала ему: «Мой милый и дорогой! Я так сильно тебя люблю, а ты так далеко от меня! Как мне обнять тебя? Я хочу, чтобы ты сказал мне, любишь ли ты меня так же, как я тебя!»
Впрочем, из недавно опубликованной их переписки видно, что Милева была не просто любовницей, а затем женой Эйнштейна. Она — еще и соавтор специальной теории относительности. Эйнштейн не был силен в математике, и за него многие расчеты делала Милева. Недаром он писал тогда своей подруге: «Как буду я счастлив и горд, когда мы вдвоем с тобой закончим нашу работу по относительному движению и доведем ее до победного конца». А известный российский физик А. Иоффе вспоминал, что, работая ассистентом у В. Рентгена, видел в 1905 году рукопись статьи Эйнштейна, подписанную и Милевой Марич.
В августе 1900 года Эйнштейн окончил училище, а уже через год в журнале «Анналы физики» была опубликована его первая самостоятельная работа в области теоретической физики «Следствия из явлений капиллярности». Летом 1902 года Эйнштейн поселился в Берне и начал работать в патентном бюро в должности технического эксперта третьего класса. Вскоре он вызвал сюда Милеву Марич, и 6 января 1903 года они поженились. Весной 1904 года у молодой четы родился сын Ганс Альберт, ставший впоследствии профессором Калифорнийского университета. Однако брак их не был счастливым.
Постепенно вокруг Эйнштейна сложился круг друзей и единомышленников — Морис Соловин, Конрад Габихт, Микеланджело Бессо, Люсьен Шаван. Позднее Соловин вспоминал, как, вдоволь наговорившись и поспорив о сочинениях Спинозы и Юма, Маха и Авенариуса, Гельмгольца и Пуанкаре, они слушали скрипку Эйнштейна или отправлялись на прогулку. Вид ночного звездного неба наталкивал их на споры по проблемам астрологии. Иногда они бродили и разговаривали до утра. Видимо, в этих беседах и спорах и рождалась знаменитая теория относительности Эйнштейна.
Вселенная на кончике пера
Самое непостижимое в мире то, что он постижим.
А. Эйнштейн
В начале 30-х годов, во время поездки по США, при посещении обсерватории Маунт-Вильсон близ Пасадены, Эйнштейн долго и тщательно изучал новый телескоп с зеркалом диаметром в два с половиной метра. «А для чего нужен такой огромный инструмент?» — спросила Эльза, жена Эйнштейна. Директор обсерватории почтительно ответил: «Его главное назначение заключается в том, чтобы узнать строение Вселенной».
На что Эльза сказала: «Мой муж обычно делает это на обороте старого конверта».
Считается, что у истоков современной физики — великое свершение одного человека — Альберта Эйнштейна. К началу XX века ряд открытий физиков прямо подвели к необходимости пересмотра таких основополагающих понятий, как пространство, время, материя, энергия. Гений Эйнштейна ярко проявился в 1905 году. Год этот можно сопоставить со «взлетом» гениальности Ньютона, когда тот в 1665—1666 годах из-за чумы покинул Кембридж и переселился на время в свою родную деревню Вулсторп. Там, в уединении, он разработал дифференциальное исчисление, много сделал в развитии теории света и цвета и подошел к открытию закона всемирного тяготения. В свою очередь, Эйнштейн в 1905 году публикует знаменитые «революционные» статьи, содержащие две радикальные идеи. Одна из них стала основой специальной теории относительности, другая легла в основание теории атома — квантовой теории. Эйнштейн объединил две самостоятельные теории классической физики — электродинамику и механику в рамках своей специальной теории относительности.
Согласно теории относительности, неверно полагать, что пространство имеет три измерения, а время существует отдельно от него. Одно тесно связано с другим и вместе они образуют четырехмерный континуум. Пространство, как и время, не существует само по себе.
Изменение понятий пространства и времени повлекло за собой изменение общего подхода к описанию явлений природы. Главное здесь — осознание того, что масса — одна из форм энергии. Даже неподвижный
объект наделен энергией, заключенной в его массе, а их соотношение выражается в известной формуле E = MC2, где С — это скорость света. Тот факт, что бытие материи немыслимо вне движения, и что всякий прирост количественной меры материи должен идти вровень с приростом количественной меры ее движения, — эти положения анализировались еще задолго до Эйнштейна. Его формула облекла их в плоть и кровь. В этой формуле скрывался зародыш нового века — века внутриатомной энергии.
В мае 1909 года Эйнштейн был назначен экстраординарным (внештатным) профессором кафедры теоретической физики Цюрихского университета. Здесь, в Цюрихе, у четы Эйнштейнов в июне 1910 года родился второй сын — Эдуард. Весной 1911 года супруги переезжают в Прагу, где Эйнштейн стал работать в старейшем университете Средней Европы, основанном еще в 1348 году. Из-за межнациональных конфликтов Пражский университет в 1882 году был разделен на два — немецкий и чешский. Эйнштейн стал преподавать в немецком университете. Здесь он продолжал работу по обобщению теории относительности и созданию теории гравитации, которой занимался с 1906 года.
Один из современников, встречавший в то время Эйнштейна, так описывал свои впечатления: «С первого взгляда меня поразил его лоб, прямо-таки — неправдоподобный — сверкающий белизной. Под ним — глаза, необыкновенного коричневого цвета, внимательные, умные и добрые, серьезные, как глаза ребенка. Глаза его гораздо моложе его лба и уже седых волос. У рта какая-то грустная, мягкая черточка, как у детей, отмеченных печатью рока». Другой современник описывает его лекцию: «Вся пражская интеллигенция стеклась сюда и заполнила самую большую из всех, какие только были на естественных факультетах. Эйнштейн держался чрезвычайно скромно и завоевал этим сердца всех. Он взирал на этот мир с большой высоты. То, что казалось важным обычному человеку, не имело для него никакого значения. Поэтому он не прибегал к каким-либо ораторским приемам. Он говорил живо и ясно, не напыщенно, а совсем просто и с приятным юмором».
Частыми гостями у него были философ Мартин Бубер, писатель Франц Кафка и Макс Брод — друг и будущий биограф Кафки. На Брода Эйнштейн произвел тогда большое впечатление своей неизменной жаждой знаний и внутренней независимостью, с которой тот отвергал прежние идеи и гипотезы, если они казались ему устаревшими. Макс Брод даже взял его прототипом одного из героев своего рассказа «Искупление Тихо Браге».
Вместе с Эйнштейном в Прагу из Цюриха перебрался его ассистент Людвиг Хопф. В 1931 году он опубликовал книгу «Теория относительности», где вполне аргументированно доказал, что ни одна идея в области физики не оказала на человечество столь мощного влияния, как великое открытие Эйнштейна: «Во-первых, это открывает нам глаза на то, что природа независима от наших чувственных восприятий, и указывает нам путь к избавлению от предрассудков. Во-вторых, она так четко объединила в одну систему давно известные законы природы, что должна рассматриваться ныне как «завершение классической физики». Разумеется, под натиском новой атомной и квантовой физики она может быть дополнена и частично изменена, но не поколеблена. Более того, она освещает путь в новые области».
Ученый мир с нарастающим интересом следил за молодым талантом. Эйнштейн получал приглашения прочитать лекции из Нью-Йорка, Вены, Цюриха. Осенью 1911 года он участвует в конгрессе ведущих физиков мира в Брюсселе, который был посвящен проблеме квантов. Здесь Эйнштейн познакомился с Марией Склодовской-Кюри, глубокий ум которой его покорил. Большое впечатление на Эйнштейна произвел тогда Гендрик-Антон Лоренц. В одном из писем Эйнштейн так вскоре рассказывал о своих впечатлениях от встречи с ним: «Лоренц председательствовал с несравненным тактом и невероятной виртуозностью. Он одинаково хорошо говорит на трех языках и обладает необычайной научной проницательностью. Лоренц — это чудо интеллигентности и такта, живое произведение искусства».
Осенью 1912 года Эйнштейн возглавил кафедру теоретической физики в Цюрихском высшем политехническом училище, где он еще недавно учился сам. Руководство училища, прежде чем его пригласить, попросило отзывы об Эйнштейне у Марии Склодовской-Кюри и Анри Пуанкаре. Их свидетельства оказались более чем положительными. Оба ученых охарактеризовали Эйнштейна как ученого, обладающего глубокими знаниями и ясным умом. Пуанкаре писал: «Больше всего восхищает легкость, с которой Эйнштейн принимает новые концепции, и его умение делать из них все выводы. Он не держится за классические принципы, и если перед ним возникает классическая проблема, быстро рассматривает все варианты ее решения. В его мозгу это выливается в предвидение новых явлений, которые когда-нибудь можно будет проверить экспериментально».
В Цюрихе семейная жизнь супругов окончательно разладилась. Вскоре они с Милевой расстались. Переехав в 1914 году в Берлин, Эйнштейн сблизился с Эльзой — дочерью своего двоюродного дяди Рудольфа, которую знал с детства. К тому времени Эльза развелась с мужем и вместе с двумя дочерьми жила у отца. В 1919 году Альберт и Эльза поженились.
В 1917 году Эйнштейн, с самого начала предназначавший свою теорию для универсального применения, попытался применить ее ко всей Вселенной. Его поиск продолжили де Ситтер из Голландии и Александр Фридман из России. Постепенно в науке стала складываться новая картина Вселенной. Тогда же Эйнштейн начал размышлять над гравитационными волнами. В своей работе «Космологические соображения к общей теории относительности» он положил начало релятивистской космологии, в основе которой — идея распространения теории тяготения на строение мира как целого.
Гражданин мира
В мае 1919 года две научные экспедиции, направленные лондонским королевским обществом в Бразилию для наблюдения за полным солнечным затмением, подтвердили правильность теории Эйнштейна, изложенной в работе «О влиянии силы тяжести на распространение света». Фотографии показали, что лучи света действительно искривляются в поле тяготения.
Имя Эйнштейна, до этого знакомое лишь физикам, сразу же обретает мировую известность — пресса об этом позаботилась.
На Эйнштейна набросилась целая армия репортеров, издателей, охотников за автографами, поклонников знаменитостей. В октябре 1919 года Эйнштейн получил от цюрихских физиков открытку со стихами:
Нет сомнений и в помине.
Свет, как знаем мы поныне,
По кривой в пространстве мчит,
И Эйнштейна имя чтит.
Неожиданно для себя Эйнштейн стал всемирно известным героем, которого хотели видеть в любом крупном университете мира. Куда бы он не шел, его окружала толпа. Эйнштейн — этот скромный человек — внезапно превратился для всего цивилизованного мира в некий символ — успеха, таланта, настойчивости. Он стал предметом искреннего восхищения и уважения для одних и, увы, глубокой ненависти для других.
Конечно, во многом его славе способствовали экспедиции 1919 года, которые подтвердили общую теорию относительности. Но не только. Вот как пишет физик Л. Инфельд о причинах стремительного роста популярности Эйнштейна и его теории относительноети: «Это произошло после окончания первой мировой войны. Людям опротивели ненависть, убийства и международные интриги. Окопы, бомбы, убийства оставили горький привкус. Книг о войне не покупали и не читали. Каждый ждал эры мира и хотел забыть о войне. А это явление способно было захватить человеческую фантазию. С земли, покрытой могилами, взоры устремились к небу, усеянному звездами. Абстрактная уводила человека вдаль от горестей повседневной жизни. Мистерия затмения Солнца и сила человеческого разума, романтическая декорация, несколько минут темнеет, а затем картина изгибающихся лучей — все отличалось от угнетающей действительности».
Звездное небо, почти по Канту, восхищало, притягивало, уводило от этой тяжкой, полной проблем и горестей жизни. И верилось в то, что его исследование сулит победу разума и воцарения гармонии на земле.
В 1921 году Эйнштейн с супругой отправляется в США, где его имя уже гремело. Ректор Принстонского университета, где Эйнштейн выступил с четырьмя лекциями, провозгласил его «новым Колумбом в науке, который в одиночку совершает свое плавание по океану мысли».
Одной из причин, заставивших Эйнштейна поехать в США, стало наметившееся его сближение с сионистским движением, которое носило, впрочем, не политический, а культурный характер. Он заинтересовался мыслью о создании в Палестине университета, который стал бы культурным очагом для проживающих там евреев, и принял приглашение профессора из Манчестера Хаима Вейцмана (будущего первого президента Израиля). В ходе их совместной поездки осуществлялся сбор средств для еврейского университета в Палестине. Свой интерес к еврейскому вопросу Эйнштейн в одном из писем объяснял так: «Трагедия евреев в том, что они — народ, которому недоставало поддержки общества. Результатом явилось отсутствие солидных основ для формирования личности индивидуума, что ведет к крайним формам моральной неустойчивости... Единственный путь спасения еврейского племени — добиться того, чтобы у каждого еврея возникла связь с жизнеспособным обществом, которое защитило бы его от унижений».
В это период Эйнштейна все больше начинает интересовать еврейский вопрос. В октябре 1919 года он писал физику Паулю Эпштейну: «Можно заботиться о судьбах мира, но не забывать и о своем племени». В 1924 году Эйнштейн стал членом иудаистской общины в Берлине и исправно платил взносы.
Осенью 1922 года Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия за 1921 год. Формулировка звучала так: «Премия присуждается Эйнштейну за открытие закона фотоэлектрического эффекта и за его работы в области теоретической физики». Всю денежную премию Эйнштейн передал своей бывшей жене и детям. «Все смотрели на Эйнштейна и видели в нем олицетворение Вселенной», — писал тогда один из американских журналов.
Миф о невозможности понять теорию относительности постоянно возбуждал интерес и к личности творца этой загадочной теории. А наблюдения солнечного затмения в 1919 году окончательно придали теории относительности атмосферу таинственности и загадочности почти вселенского масштаба. Все это поражало воображение простых людей, переживающих в начале 20-х годов непростые времена.
Между тем в Германии постепенно усиливался антисемитизм. Летом 1922 года был убит министр иностранных дел, еврей по национальности Вальтер Ратенау. После этого Эйнштейн вместе с женой отправился на пять месяцев в поездку за границу. Позже он напишет: «После убийства Ратенау я был рад возможности надолго уехать из Германии, покинуть страну, в которой подверга
В начале 30-х годов, когда нацизм в Германии все более явно рвался к власти, усиливаются нападки на Эйнштейна. Один из его давних недругов физик Леонард писал: «Наиболее значимый пример опасного влияния еврейских кругов на изучение природы — это Эйнштейн со своими теориями и математической дребеденью, из устаревших знаний и надуманных добавлений. Ныне его теория разбита вдребезги — такова судьба всех вещей, далеких от природы».
Весной 1933 года Эйнштейн переселяется в Бельгию. Имущество его в Германии было конфисковано, а научные труды были публично сожжены вместе с другой «неарийской и коммунистической литературой». В годы нацистского режима некоторые профессора все же решались разъяснять студентам содержание теории относительности, но при этом они не упоминали ни имени Эйнштейна, ни названия его теории.
В октябре 1933 года Эйнштейн приступил к работе в Институте высших исследований в Принстоне в США. Принстонский период, пожалуй, стал наиболее насыщенным в его жизни. И вместе с тем, наиболее тяжелым и даже трагичным. В 1936 году после тяжелой болезни скончалась его жена Эльза, которая всегда была для Эйнштейна верным другом и помощником. После ее смерти Эйнштейн сильно изменился: он постарел, потерял былую жизнерадостность, все чаще стал чувствовать себя одиноким.
В принстонский период Эйнштейн пытается построить единую теорию поля, где все взаимодействия частиц и само их существование вытекали бы из единых законов. Его всегда привлекала идея гармонии мироздания. Однако на протяжении 30—40-х годов Эйнштейну мало удалось сделать в решении этой сложнейшей задачи. Недаром в 1949 году в одном из писем он весьма скептически оценивал эти свои усилия: «Вам кажется, что я взираю на труд моей жизни со спокойным удовлетворением. Вблизи все это выглядит иначе. Нет ни одного понятия, в устойчивости которого я был бы убежден. Я не уверен, вообще, что нахожусь на правильном пути. Современники видят во мне еретика и одновременно консерватора, который пережил самого себя. Конечно, это мода и близорукость. Но неудовлетворенность поднимается и изнутри».
В Принстоне Эйнштейна посещали Джавахарлал Неру, Рабиндранат Тагор, Альберт Швейцер и другие знаменитые современники. Он всегда считал себя соратником Махатмы Ганди, Бертрана Рассела и Ромена Роллана.
Кабинет директора института Роберта Оппенгеймера был расположен в том же коридоре, что и кабинет Эйнштейна. Они нередко заходили друг к другу. Оппенгеймер говорил об Эйнштейне: «У него исключительно развито чувство меры и представление о разумном порядке вещей — эта своеобразная способность освобождаться от всего незначительного, чтобы определить, где скрыто главное. Он вернул мне уверенность в человеческом разуме».
К своей всемирной славе Эйнштейн относился спокойно. После того, как на одном из банкетов ректор Колумбийского университета назвал его «вождем современной духовной жизни», Эйнштейн шепнул своему соседу по столу: «Ну вот, скоро я буду казаться себе таким же знаменитым, как какой-нибудь чемпион по бейсболу». В другой раз, раздосадованный тем, что даже в самых отдаленных уголках люди глазеют на него, как на диковинного зверя, Эйнштейн в сердцах обронил: «Я стал вроде короля Мидаса, с той только разницей, что вокруг меня все превращается в цирк, а не в золото».
Однажды на премьере фильма Чарли Чаплина, где присутствовал и Эйнштейн, зрители устроили долгую овацию двум великим людям. Чаплин сказал тогда великому физику: «Вам люди аплодируют потому, что Вас никто не понимает, а мне — потому, что меня понимает каждый».
Как-то, когда Эйнштейн был в гостях, одна девушка спросила его: «А кто Вы, собственно говоря, по специальности?» — «Я посвятил себя изучению физики». «Как, в таком возрасте Вы еще изучаете физику? — удивилась девушка. — Я и то разделалась с ней больше года назад».
Жители Принстона, гордые тем, что в их городе проживает один из самых великих ученых XX столетия, окружали Эйнштейна вниманием и доброжелательностью. Переброситься с ним парой слов стало для них таким же привычным делом, как беседа с давно знакомым другом или соседом. Фигура Эйнштейна, идущего из дома в институт или назад, домой, стала чуть ли не частью ландшафта. Мало кто из горожан понимал значение идей Эйнштейна, но они догадывались о величии его исторического и гражданского подвига.
Эйнштейн еще при жизни стал легендарной фигурой. Этот молчаливый седовласый человек с грустными глазами привлекал своей принципиальностью, честностью, добротой. И трудно найти человека, у которого сердечное отношений к людям, любовь к ним вытекали бы из его духовно-интеллектуальной деятельности.
Леопольд Инфельд хорошо написал об этом: «Я многому научился у Эйнштейна в области физики. Но больше всего я ценю то, чему научился у него помимо физики. Эйнштейн был — я знаю, как банально это звучит, — самым лучшим человеком в мире. Впрочем, и это определение не так просто, как кажется, и требует некоторых пояснений.
Сочувствие — это вообще источник людской доброты. Сочувствие к другим, сочувствие к нужде, к человеческому несчастью — вот источник доброты, действующее через резонанс симпатии. Привязанность к жизни и к людям через наши связи с внешним миром будят отзвук в наших чувствах, когда мы смотрим на борьбу и страдания других.
Но существует и совершенно другой источник доброты. Он заключается в чувстве долга, опирающемся на одинокое, ясное мышление. Добрая, ясная мысль ведет человека к доброте, к сдержанности, ибо эти качества делают жизнь более простой, полной, богатой... С годами я учился все сильнее ценить второй род доброты — тот, который вытекает из ясного мышления. Много раз приходилось мне видеть, как разрушительны чувства, не поддерживаемые ясным рассудком».
В конце 1952 года, после смерти первого президента Израиля Хаима Вейцмана, занять этот пост предложили Эйнштейну. Но ученый отклонил это почетное предложение, сославшись на свой возраст и пошатнувшееся здоровье.
Леопольд Инфельд так говорил об Эйнштейне в своих воспоминаниях: «Жизнь Эйнштейна — пример парадоксальности судьбы и странных противоречий. Свою важнейшую научную работу он завершил будучи мелким служащим патентного бюро в Берне. Его известность была больше, чем многих других ученых, хотя никто не относился к славе так равнодушно и к популярности так неприязненно, как он. Часто Эйнштейн давал мне понять, что он — скорее философ, нежели физик. Его исследования по физике носят совершенно абстрактный характер, а научная деятельность больше связана с экспериментами, чем с практикой. И при всем том каждый считает, что теория относительности Эйнштейна имеет какое-то отношение к атомной бомбе. Вот, наверное, самая горькая насмешка судьбы в его жизни. Этот человек, одинокий по собственной воле, этот гений абстрактного мышления, презирающий грубую силу, считается «отцом атомной бомбы».
Между тем, Эйнштейн не только никакого участия в создании ядерного оружия не принимал, но и резко осудил атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Как президент Чрезвычайного комитета ученых-атомщиков, созданного вскоре после этих бомбардировок, он заявил, что убийство — это уголовно наказуемое преступление, даже если оно санкционировано государством. Правда, в одном из разговоров он заметил, что его в крайнем случае можно считать «дедушкой атомной бомбы», если иметь в виду его уравнение эквивалентности Е = мс2, поскольку оно объясняет выделение огромной энергии при ядерных реакциях. Впоследствии Эйнштейн с грустью вспоминал, что «открыл ящик Пандоры» своим письмом президенту Рузвельту об атомной бомбе. Освобождение атомной энергии основано на закономерностях, открытых благодаря применению теории относительности в физике атомного ядра. В 1896 году французский физик Анри Беккерель открыл радиоактивные лучи. Пьер Кюри, Мария Склодовская-Кюри и Эрнест Резерфорд стали пионерами атомных исследований. Нильс Бор в 1913 году создает на базе квантовой теории новую модель атома. В 1934 году итальянец Энрико Ферми добился успеха, пытаясь активизировать нейтронами ядра химических элементов. В конце 30-х годов О. Ган и Ф. Штрассман вплотную подошли к объяснению процесса деления ядер и доказали выделение при этом энергии.
Летом 1939 года физики П. Вигнер и Л. Сцилард посетили Эйнштейна и предупредили его об опасности создания урановой бомбы в нацистской Германии. К счастью, нацисты не проявили особого интереса к созданию ядерной бомбы. Только в 1942 г. в Германии пришли к мысли о строительстве реактора.
Узнав о ядерной бомбардировке, Эйнштейн предостерегал людей и политиков: «Наш мир стоит перед кризисом, все значение которого еще не постигли те, кому дана власть выбирать между добром и злом. Освобожденная от оков атомная энергия все изменила; неизменным остался лишь наш образ мыслей, и мы, безоружные, движемся навстречу новой катастрофе». И добавил: «Решение этой проблемы — в сердцах людей!»
Смерть и бессмертие
Одиночество — удел многих. Одиночество — тяжкое бремя большинства стариков. В марте 1949 года Эйнштейну исполнилось 70 лет. Множество людей были уверены, что знаменитый ученый с удовлетворением оценивает итоги своей жизни. Сам Эйнштейн на этот счет имел иное мнение: «Вблизи все кажется совершенно иным. Нет ни одной идеи, в которой я был бы уверен, что она выдержит испытание временем, и меня охватывают сомнения, на правильном ли я пути вообще. Современники видят во мне одновременно и мятежника, и консерватора, который, образно выражаясь, пережил самого себя. Это, конечно, вызвано влиянием моды и недальновидностью, однако чувство неудовлетворенности прочно сидит во мне».
В конце 40-х годов в письмах Эйнштейна все чаще встречаются упоминания об усталости, одиночестве. Один за другим уходят друзья и близкие. Одиноким он чувствует себя и в науке. Весной 1948 года Эйнштейн пишет Максу Борну: «Мне хорошо понятно, почему ты меня считаешь закоренелым старым грешником. Но я чувствую, что ты не понимаешь, как я пришел на свой одинокий путь, и хотя никогда не согласишься с моей точкой зрения, она тебя могла бы позабавить. Я бы тоже получил удовольствие, разбив твои позитивные философские взгляды. Но в этой жизни нам, вероятно, не удастся».
Его поиски единой теории поля означали колоссальное напряжение мысли. Но он все более не удовлетворен своими научными результатами. Космическая гармония оказалась непостижимой. Недостижимой стала и моральная гармония. Поражает его фраза в одном из писем: «Терпеливо ждать и жертвовать собой без надежды — это самое тяжелое, с этим человек вообще не может справиться». Единая теория поля была еще очень далека от объяснения структуры мироздания. И тем не менее, даже в таком виде она придавал научному познанию мощный импульс.
В 1955 году исполнилось 50 лет со времени создания теории относительности. Дата эта сопровождалась широкими юбилейными торжествами в Берне и Берлине. Однако Эйнштейн был слишком стар, чтобы отправиться туда. В феврале 1955 года он направил письмо организаторам торжеств: «Старость и болезнь не дают мне возможность участвовать в торжествах. И должен признаться, что я отчасти благодарен судьбе: все хоть сколько-нибудь связанное с культом личности всегда было для меня мучением. Это углубляется и тем, что в данном случае речь идет о развитии идеи, в которой принимали участие многие и которое еще далеко не завершено. За свою долгую жизнь я понял, что мы гораздо дальше от подлинного понимания процессов, происходящих в природе, чем это представляется большинству наших современников. А шумные торжества мало соответствуют действительному положению вещей».
18 апреля 1955 года, после нескольких долгих дней тяжелых болей, в 1 час 25 минут ночи Эйнштейн скончался от прободения стенки аорты. Незадолго до этого он сумел заснуть и умер во сне. На скромной траурной церемонии его душеприказчик Отто Натан прочитал у гроба стихи Гете:
И те, кто знать при жизни не хотели Его заслуг, упорно с ним борясь,
Его могучей силой закипели,
В его волшебном круге заключись.
Он воспарил, вознесся к высшей цели,
Со всем, что ценно, тесно породнись.
Как и скончавшаяся ранее его вторая жена Эльза и сестра Майя, Эйнштейн был кремирован, а пепел развеян по ветру. «Луч света в этом мире, где тени все больше сгущаются», — так отозвался об Эйнштейне премьер Индии Джавахарлал Неру в своем соболезнующем письме.
Великий Альберт Эйнштейн ушел в Вечность. За месяц до смерти в письме родным Мишеля Бессо, своего недавно скончавшегося друга, Эйнштейн написал: «Различие между прошлым, настоящим и будущим есть всего лишь иллюзия, хотя и очень трудно преодолимая, и смерть не более реальна, чем та жизнь, которую она завершает». Великий ученый и мыслитель всю жизнь пытался найти ответы на вопросы, на которые и сегодня ответ не найден.
В пьесе английского драматурга Тома Стоппарда «Аркадия» один из героев говорит: «Это будет замечательно — жить в третьем тысячелетии, особенно в его начале. Человек каждый день будет убеждаться: почти все, что мы знали о любом явлении и считали, что это — объективная истина, — оказывается неверным». В наше время наиболее развитые отделы теоретической физики поражены иррационализмом. Физика обретает черты магического знания, демонстрируя беспомощность перед лицом собственной профессиональной задачи — построением целостной концепции реальности. Ученые спорят, сомневаются, размышляют. Точно так же спорил, сомневался и размышлял Эйнштейн.
Дунаевский: гусляр эпохи
Дунаевский жил в тяжелое и в то же время счастливое и светлое время. Оно было детством, юностью, молодостью того поколения, к которому принадлежал мой отец. Его современники кипели энтузиазмом и смело смотрели в солнечное завтра. Но оно было и глубоко трагичным, так как надежды разбивались о чудовищные деяния кулыт личности.
Евгений Дунаевский
О Дунаевском написано множество книг и статей. Для одних он — «придворный композитор», апологет социалистического реализма в музыке, художник, обласканный властью. Для других — творец мира радостных иллюзий как надежды на лучшее на фоне мрачной действительноети эпохи сталинизма. Третьи считают, что жизнерадостная музыка Дунаевского рождалась как неизбывное желание красоты.
Будучи великим творцом мифов и иллюзий, Дунаевский и сам не избежал участи героя мифа о лучезарном, обласканном почестями и привилегиями композиторе. Однако, несмотря на всенародную славу, Дунаевского вряд ли можно было назвать счастливчиком. Вначале — бытовая неустроенность, затем — сопротивление ограниченных умов, интриги бездарных и завистливых коллег, в конце жизни — антисемитские кампании, неприятности со старшим сыном Евгением, бесконечные болезни. Итог всего — остановившееся сердце. А ведь было тогда Исааку Осиповичу Дунаевскому всего лишь пятьдесят пять лет.
Друзья ласково называли его «Дуня». Музыкой Дунаевского и текстами Лебедева-Кумача была озвучена эпоха. Под их песни танцевали, маршировали, созидали и «смеялись как дети». И сегодня фильмы «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Кубанские казаки» по-прежнему собирают громадную телевизионную аудиторию.
Расцвет его творчества пришелся на эпоху Сталинского тоталитаризма, период «большого террора». Людей по ночам уводили из квартир и многие из них бесследно исчезали. Но вместе с тем это была эпоха бурного строительства, созидания новой жизни, исключительного народного энтузиазма. Многие были уверены, что впереди — счастливое будущее. Существовали одновременно два мира — реальный, мир тяжелой повседневности, нередко страха, и мир мифический, иллюзорный.
Кто-то сказал о Дунаевском, что его песни заглушали стоны репрессированных. Однако слова эти к Дунаевскому вряд ли применимы. Он просто видел радость жизни, любовался ее красотами и с восторгом воспевал их. В случае Дунаевского сработала мифотворческая функция тоталитарной идеологии, которая сформировала на основе веры, эмоций, предрассудков и надежд обыденного сознания иллюзорные представления о могуществе, народности политического режима и его вождей. Конечно, Дунаевский и Лебедев-Кумач были мобилизованы на агитацию и расположены к не знающей границ восторженности. Здесь устремления властей и творческой интеллигенции совпадали. Недаром песня «Широка страна моя родная» стала вторым гимном страны. Первую строчку этой песни придумал сам Исаак Осипович.
Дунаевский создавал музыку жизнерадостную и оптимистическую, зовущую к счастью, музыку, возвышающую и звонкую, как надежда. Мир представал как средоточие счастья, добра, веры в светлое будущее. Конечно, во многом это был миф, мираж. Но он помогал людям выживать, пробиваться сквозь завалы лжи и несправедливости. Легкая и блестящая музыка Дунаевского наполняла культуру и быт надеждой и верой. Да, она лакировала и приукрашивала помпезную парадность имперского стиля; но она вместе с тем и очеловечивала ее. Энтузиазм Дунаевского был выражением общественных устремлений. Массовая песня 30-х годов была рождена потребностями времени и, исполняя обязанности волеизъявителя «народных масс», стала характерным явлением социалистической культуры.
Повседневность несла тогда людям мало радостей, и искусство Дунаевского восполняло их нехватку. Его песни, как и брызжущие весельем и оптимизмом фильмы тех лет, были своеобразной нишей, куда люди уходили хотя бы на время. Искренне и вдохновенно создавал Дунаевский иллюзорно-абстрактный мир гармонии и согласия. Некоронованный король советской массовой песни прославил, наверное, все слои, все профессии советских людей.
Дунаевский всегда работал «по высшему классу», стараясь не попадать в зависимость от собственных, уже накатанных приемов или режиссерского диктата. Он никогда не штамповал свою музыку, но искал способы для выражения чего-то нового и оригинального. Он творил в расчете на массовый спрос, — и массы мгновенно откликались на каждую его новую песню. Но вся его феерическая и незабываемая музыка — почти всегда плод долгого, сладостно-мучительного труда; это музыка чистых рук и страстного вдохновения, замешанная на исключительной работоспособности.
Дунаевский со своим стихийным талантом мелодиста сумел придать советской легкой музыке необычайное стилевое многообразие и интонационное богатство. Наверное, он отразил далеко не все в жизни того поколения в один из самых драматических периодов нашей истории. Но радость, ощущение света и счастья, чувство праздника и веселья он сумел описать средствами музыки как никто другой. И не вина Дунаевского, что многие кинофильмы с его музыкой сегодня воспринимаются как художественно и мораль- но устаревшие. Мелодии Дунаевского отвечали надеждам поколения, принявшего революцию, идеализировавшего ее, устремленного к свету, верившего в светлое будущее Родины. Другая причина успеха композитора — начавшийся в 30-е годы расцвет звукового кино. Дунаевский, и еще, пожалуй, Шостакович первыми оценили его возможности и осознали самостоятельное значение киномузыки.
Наверное, одна из разгадок тайны Дунаевского состоит в его вышеописанном кредо: он всю жизнь исповедовал поклонение красоте, будь то утопический мир социальных киномифов, сценическое пространство непритязательной оперетты или вполне реальные отношения с женщинами. Его многочисленные любовные романы были как бы продолжением бесконечного поиска радости и красоты. Как выразился Дмитрий Минченок, один из биографов Дунаевского: «Его многочисленные романы — не следствие непорядочности, это результат губительной веры в женскую красоту».
В своих покаянных письмах к Бобочке, любимой жене и матери старшего сына Евгения, Дунаевский признавался, что у него «любовь превращается в религию», что он «целыми днями и вечерами пропадает у женщин». О «молодой ветрености» Дуни откровенно рассказывает в своих мемуарах «Моя любовь» известная актриса Лидия Смирнова. Культивировал Дунаевский и такой изысканный и своеобразный жанр, как роман в письмах. Героинь этого романа было около пятнадцати.
Плоть от плоти советской культуры Дунаевский, вместе с тем и еврейский композитор — по музыкальным корням, по интонации. Его творчество питали не только русские и украинские песни, но и еврейские мелодии, которые были «в крови» Дунаевского, выросшего в еврейской семье.
Еврейские творческие силы в то время широко участвовали в художественной жизни советской страны. Сформировавшиеся в недрах русской культуры, они, почти полностью ассимилировавшись, стали ее неотъемлемой частью. Одна лишь Одесса выдвинула целую плеяду талантов: Исаак Бабель, Леонид Утесов, Илья Ильф, Семен Кирсанов, Эдуард Багрицкий, Михайл Светлов, Давид Ойстрах. Создавая массовую советскую песню, Дунаевский умело использовал в своем творчестве традиционную еврейскую музыку, услышанную в детстве. И не случайно многие из современных песен, что поются в Израиле, так похожи на советские, — они строятся на тех же интонациях, что и песни Дунаевского.
Да, он был одним из самых благополучных советских композиторов. Дунаевский имел все — положение, признание, депутатский статус, всенародную любовь и Сталинские премии. И все же вряд ли стоит привязывать его творчество к идеологии. Просто его музыкальная гармония, «его светлое мироощущение» совпали со временем, соединившись с мифом тоталитарной эпохи. Но до сих пор остается нечто неразгаданное в музыке и личности этого маленького большелобого человека, яркой звездой сверкнувшего на небосклоне советской культуры и так рано сгоревшего.
Молодые годы
Родился Исаак Осипович Дунаевский 30 января 1900 года в городке Лохвицы на Полтавщине в еврейской семье. Отец, Цали Симонович Дунаевский, служил в банке и имел собственное небольшое предприятие по производству фруктовой воды. Мать, Розалия Исааковна, была, в отличие от отца, истово верующей и, даже живя в Москве со ставшим знаменитым сыном, активно посещала синагогу. Полное имя мальчика было Исаак Бер Иосиф Бецалея и только позднее он стал Исааком Осиповичем. Родовое же имя Дунаевских происходило от названия реки Дунай, где раньше жили их предки.
В автобиографии Дунаевский пишет, что уже в возрасте четырех с половиной лет он подбирал по слуху на рояле мелодии, услышанные в городском саду, где играл по выходным дням небольшой оркестр. В семье было семеро детей, пятеро из них стали музыкантами. Видимо, эта страсть к музыке шла от матери, которая имела хороший слух и сама музицировала на рояле. Однако имелись и более глубокие корни: дед Исаака был известным синагогальным кантором и сочинял красивые еврейские гимны, до сих пор исполняемые в США.
Большое влияние на мальчика оказал его дядя по отцу Самуил — он играл на гитаре и сочинял музыку.
К тому же Самуил владел единственным в городе граммофоном. Именно он преподал Исааку основы музыкальной грамоты.
В шестилетнем возрасте мальчик уже довольно легко раскладывал мелодию на два голоса: в басовом и скрипичном ключах, а в десять лет стал сочинять свои первые песенки.
В 1910 году Исаак уезжает в Харьков, где поступает в музыкальное училище по классу скрипки. Здесь его заметил известный скрипач и композитор Иосиф Ахрон. Одновременно Исаак учился и в гимназии, которую окончил в 1918 году с золотой медалью. Тогда же он поступает на юридический факультет Харьковского университета. Но музыка неудержимо влечет его.
Дунаевский устраивается в театр известного в то время режиссера Николая Синельникова, где сочиняет музыку, играет в оркестре и дирижирует. О его театральной музыке тогда писали, что она слита со сценой, с пьесой, с жестом и интонацией актера. Дунаевского увлекло искусство декламации и он аккомпанировал известному чтецу Эммануилу Каминке, что развило в нем музыкальное ощущение стиха.
Тонкий ценитель красоты, Дунаевский никогда не мог пройти мимо прекрасной женщины. Один из его биографов однажды обронил: «Найдите первую любовь Исаака — она, как в зеркале, будет отражать все остальные его влюбленности». Дунаевский всегда влюблялся по одному и тому же принципу. Он исповедовал поклонение женской красоте, и спустя годы, десятилетия всегда чувствовал совершенство этой красоты и не уставал восхищаться ею.
Первой настоящей любовью Дунаевского стала известная актриса Вера Юренева. Ему — девятнадцать, ей — за тридцать. Связь их длилась недолго. Страстная и увлекающаяся натура, бросавшаяся без оглядки в любовные приключения, Юренева быстро охладела к еврейскому музыканту, читавшему ей наизусть «Песнь песней». Пройдет тридцать лет, и в письме к Щепкиной-Куперник отвергнутый любовник напишет: «Это была любовь по силе более неповторимая. Мне и теперь кажется, что она забрала мою жизнь в мои двадцать лет и дала мне другую». Он всегда помнил эту свою первую юношескую любовь, а Вера Юренева всегда была для него образцом Прекрасной дамы и вечной возлюбленной. И это несмотря на то, что к началу 40-х годов Юренева превратится в плохо и безвкусно одетую старуху, всеми забытую. И когда Дунаевский увидит свою первую любовь, он будет потрясен.
Рана, нанесенная коварной Юреневой, требовала лечения. И Дунаевский женится, причем совершенно неожиданно, даже, наверное, и для себя самого. О первой его жене известно лишь, что звали ее Мария Павловна, и что она мечтала стать актрисой. Семью надо содержать, поэтому в 1921 году Дунаевский уходит из театра Синельникова и поступает на государственную службу. Отныне он — секретарь-корреспондент Наркомвнешторга Украины. Впрочем, он скоро понял, что чиновничья лямка — не его удел, и вернулся в театр.
В 1922 году Синельников предложил Дунаевскому написать музыку к спектаклю «Монна Ванна» по Морису Метерлинку. Это был его первый серьезный опыт композиторской деятельности. И уже тогда Дунаевский проявил себя как прекрасный пианист-импровизатор.
В мае 1924 года Дунаевский уезжает из Харькова в Москву и с головой погружается в музыкально-театральную жизнь. Ему приходится учиться заново, и в первую очередь следовать музыкальной моде. Нэп способствовал расцвету в Советском Союзе джаза, из которого в США родилась опера «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина.
Дунаевский начинает работать заведующим музыкальной частью театра Эрмитаж, знакомится с богемой. Вскоре происходит его встреча с балериной Зинаидой Судейкиной, ставшей вскоре женой Дунаевского. Его биограф Д. Минченок пишет: «В легенде о встрече гения и музы всегда есть место потрясению, удивлению, которое потом цементом скрепляет двоих людей. К сожалению, дата встречи Исаака Дунаевского и Зинаиды Судейкиной точно не установлена. Начало их любви останется областью художественных догадок. Реконструировать ее можно на основе косвенных свидетельств и обмолвок. Для истории любви легенды подходят в силу своей достоверности. Это единственный случай, когда документальным фактом является преувеличение, ибо любовь без метафоры немыслима».
Зиночка Судейкина была красива, с породистым, выразительным лицом. Она профессионально занималась классическим танцем, до этого три года проработав в городе Ростове-на-Дону. В 1925 году Дунаевский и Судейкина поженились. «Бобочка», как стал ласкательно называть ее Дунаевский, всю жизнь будет другом и надежной опорой композитора.
Тогда Леонид Утесов впервые встретился с Дунаевским в Москве. Он потом вспоминал: «Несколько актеров решили составить комический хор. То ли это было нужно для очередного капустника, то ли для какого-то спектакля — не помню, но встречу у рояля с Дуней не забуду никогда. Я был ошеломлен той необыкновенной изобретательностью и юмором, с которыми Дунаевский «разделывал» разные песни, внося в них такие музыкальные обороты, которые кто другой вряд ли мог и придумать. Поразительно было видеть, как работал Дунаевский. Он мог сочинять музыку, не прикасаясь к роялю. Оркестровку же писал без партитуры и со стенографической скоростью, раскладывая листы бумаги на столе. Все было весело и необыкновенно музыкально. Улыбка играла на его лице. Пальцы скользили по клавиатуре. И мне казалось, что и пальцы тоже посмеиваются».
Дунаевский пишет музыку для Театра сатиры, затем, в 1929 году, начинает работать над своей первой опереттой «Полярные страсти». Он становится все 60лее известным в музыкальных кругах. В том же году Дунаевский получает приглашение в ленинградский мюзик-холл. В ноябре премьера «Полярных страстей» прошла уже без него. Позднее в письме к своей любовнице, актрисе Лидии Смирновой Дунаевский так объяснял причины своего неожиданного переезда в Ленинград: «Почему я уехал из Москвы в 1929 году? Мне особенно тяжела пертурбация, обрушившаяся на мою голову на музыкальном фронте того времени, так как я был уже к тому времени композитором с большим именем в театральном мире, я был автором популярнейших оперетт, спектаклей, танцев и прочих произведений, и я имел такие рецензии в Москве, какие я бы хотел иметь теперь. Я вкусил настоящего успеха. Я должен был бежать, скрыться в мюзик-холле, уйти из всех композиторских объединений, где сидели ненавистники всего живого. Я сидел в гордом одиночестве и работал, не сгибая свою волю, выковывал прекрасное, доступное, демократическое искусство. Меня не любили коллеги, но не было человека, который не уважал бы меня и мою творческую гордость».
В Ленинграде Дунаевский начинает сотрудничать с Леонидом Утесовым, создателем мюзик-холла и первого советского джаз-оркестра. Утесов говорил композитору:
— Пусть в джазе звучит то, что близко нашим людям. Пусть они услышат то, что слышали наши отцы и деды, но в новом обличье. Пусть они умоются слеза- ми большевиков и перестанут совать свой красный нос в дела джаза. Давай сделаем фантазии на тему народных песен. В конце концов, негры придумали джаз для своих обездоленных братьев, потому что в душе они были большевиками.
— Какие же фантазии ты бы хотел? — спросил Дунаевский.
— Это должен быть странный мир звуков, — сказал Утесов — Как будто кто-то кого-то пилит или режет. Но при этом звучно, как у Бетховена. Вот какой джаз нам нужен! У них, там, — Луи Армстронг. А у нас я — Утесов. А теперь, может быть, ты — Дуня. Согласен?!
И Дунаевский с азартом включился в работу. В январе 1930 года в театре мюзик-холла состоялась премьера спектакля «Джаз на повороте». Затем — новый спектакль «Музыкальный магазин». Сценарий написали Николай Эрдман и Владимир Масс. Главным героем был Костя Потехин — продавец из магазина, одновременно умный и глупый, словно королевский шут. Утесов сыграл в спектакле сразу несколько ролей. «Музыкальный магазин» имел невероятный успех во многом благодаря таланту Дунаевского, сочинившему к нему великолепную музыку. Именно из этого спектакля выросла первая советская музыкальная кинокомедия «Веселые ребята».
Слава
Взлет таланта Дунаевского совпал с расцветом кинематографа, музыкальные возможности и перспективы которого Исаак Осипович быстро оценил. Недаром все лучшие его песни пришли с экрана. Эти новые песни, взбудоражившие народ, представляли собой тексты лирического склада, где слабо проявлялось эпическое начало. Вместо действующих персонажей преобладало описание эмоционально насыщенных картин и сюжетов. На смену прямолинейному культурному языку революционных песен приходит новый словесный ряд: Родина, Москва, сердце, молодость, счастье.
Дунаевский начинал творить в эпоху, когда преобладали песни манифестаций, лозунгов, призывов. Он же первым стал воспевать иной настрой чувств, создавая лирическую, сердечную, радостную музыку. Впрочем, Дунаевского не следует причислять к композиторам исключительно лирического склада. Он также немало сделал в деле развития песни-лозунга. Недаром в 1953 году Дунаевский писал: «Марш веселых ребят» зачинает новый тип советской песни: песню-плакат, песню-лозунг. Музыкально это бодрый марш с упругим ритмом, словесно это не связанные сюжетом строфы патриотического содержания, окрашенные в лирические тона. Этот тип массовой советской песни прочно утверждается в советском кино и вообще в советском песенном творчестве, надолго становясь господствующим типом песни. Одним из характернейших признаков такой песни является ее лозунг, ее идейное послесловие: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет», «Я другой такой страны не знают, где так вольно дышит человек», «Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет», «Нам нет преград на море и на суше». Невозможно перечислить множество таких стихотворных «ударов», бивших прямо в цель, входивших в души, в сознание зрителей. Песня задумывалась нами не только как песня-тема данного фильма, но и как песня, которая нужна народу. Это относилось не только к маршевой песне, выражавшей определенную общественную идею, носившей всегда ярко патриотическую окраску. Это касалось и лирических песен, не имевших такого обобщающего характера». Верил ли он сам в то, что тогда говорил и писал, тем более, что это был 1953 год — время мытарств по начальственным кабинетам, унижений, оскорблений? Сын Евгений исключен из ВГИКа, ему грозит суд. В газетах полощут имя и самого Дунаевского.
Прежде всего благодаря кинокомедии «Веселые ребята» песенное начало стало быстро вытеснять идеологически насыщенную революционную музыку. В расцвете массовой песни нашел отражение радикальный перелом в духовной атмосфере советской культуры. Миллионы строителей социализма ждали оптимистической инъекции хорошей, радостной и общедоступной музыки. И Дунаевский сумел дать им эту музыку.
Революционное искусство утверждало и воспевало новых героев — крепких, энергичных, целеустремленных, бесхитростных. Молодые инженеры и юные ткачихи, красные командиры и обветренные полярники, политкомиссары и учительницы, мудрые наставники и «сталинские соколы», — непрерывным потоком шла массовая продукция эпохи тоталитаризма. Люди тогда еще смотрели на мир с открытой душой и свежим взглядом, поэтому «социалистическое искусство» становилось для советских людей составной частью повседневной жизни.
Режим считал, что деятели культуры и искусства должны находиться под особым наблюдением, поскольку имеют дело с областью идей и человеческих душ. Советская культура опиралась на вкусы вождей и была голосом власти, которая желала иметь «придворное искусство». Культура советского общества отличалась четким подчинением режиму, опорой на всенародный энтузиазм, политической и идеологической заданностью, апелляцией к простейшим вкусам масс. Преданность режиму и его вождям сочеталась с псевдодемократизмом, с поэтизацией «простого человека» из народа, с воспеванием народных масс как «движущей силой истории».
Любимые образы социалистической культуры — вооруженный солдат, атлет, мать-героиня. И над всеми — образ вождя, «отца нации». Ликующие массы объединены в торжественной манифестации, в спортивном параде, в едином трудовом порыве. Нагнетается идеологическая ложь, помпезность, преувеличенный оптимизм. Однако в обстановке торжественной парадности жить трудно, поскольку, как подметил один из классиков, «люди не выдерживают постоянного упоения священным».
С другой стороны, масса людей убеждалась в том, что «нам нет преград ни в море, ни на суше»... И героические полярные экспедиции, и штурм неба, и появление радио, — все способствовало расширению образа Вселенной в душе человека. Это расширение мира не ограничивалось только физическими координатами. Все больше людей приобщалось в это время к высокой культуре.
Лирическая массовая песня выступала в определенной мере наследником народной песни, но меняла ее минорное настроение на жизнерадостное и оптимистическое:
Прежде песни тоска шла наша пела,
А теперь наша радость поет.
Песня моделировала советское пространство своим специфическим, лирическим образом.
Над мелодикой «Веселых ребят» Дунаевский работал вместе с Г. Александровым. Они сразу же решили, что музыка в кинофильме будет не иллюстрацией к сюжету, а полноправным участником действия. В ходе съемок Дунаевский сам руководил исполнением своей музыки, искал наилучшие варианты, проводил репетиции. Он сочинил бодрую и жизнерадостную мелодию заглавной песни-марша, но долго не удавалось найти к ней подходящие стихи. Наконец, на киностудии появился Василий Лебедев-Кумач, до того никому неизвестный поэт. Стоило Александрову взглянуть на принесенный им текст, как сразу стало ясно — это то, что надо.
Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда,
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города.
Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!
Лебедев-Кумач сразу же активно включился в работу и вскоре родилась песня Анюты.
Вся я горю, не пойму от чего...
Сердце, ну как же мне быть?
Ах, почему изо всех одного Можем мы в жизни любить?
Съемки «Веселых ребят» шли трудно. Сценарий, написанный Г. Александровым, В. Массом и Н. Эрдманом всего за два с половиной месяца, оказался очень удачным. Назывался он «Джаз-комедия». Когда в апреле 1933 года состоялась читка сценария в Доме ученых, зал почти постоянно сотрясался от смеха. Но вот подошло время съемок, и сразу возникла масса проблем. Где найти такое множество четвероногих артистов? Каким образом напоить поросенка коньяком? Как укротить буйного во хмелю быка?
Съемки были еще в разгаре, а на фильм уже начались гонения. Композитор М. Коваль, не просмотрев фильма, назвал его «неудавшимся экспериментом», а утесовский джаз — хулиганами. «Литературная газета» в запальчивости противопоставила «Веселым ребятам» кинофильм «Чапаев», в то время гремевший по всей стране: «Чапаев зовет в мир больших идей и волнующих образов. Он сбрасывает с нашего пути картонные баррикады любителей безыдейного искусства, которым не жаль мастерства, потраченного, например, на фильм «Веселые ребята».
Нарком просвещения А. Бубнов запретил показ готового фильма. Ситуация была угрожающей. Тогда создатели фильма отправились на дачу к Максиму Горькому. Тот пригласил на просмотр комсомольцев из подмосковных колхозов, школьников, писателей. Фильм понравился, после чего Горький организовал просмотр «Веселых ребят» уже для членов Политбюро. По окончании сеанса Сталин сказал:
— Хорошо! Я будто месяц пробыл в отпуске.
И все же с выпуском картины медлили. Но тут убили Кирова. Вся страна застыла в беспокойстве и растерянности. Видимо, вожди решили взбодрить людей, и музыкальная комедия Г. Александрова оказалась как нельзя кстати. В конце декабря 1934 года фильм «Веселые ребята» вышел на экраны страны.
Вскоре «Веселых ребят» представили на Московский кинофестиваль. И начинается второй этап травли. Вновь активизировалась злобная «Литературка». На первом съезде писателей поэт Алексей Сурков, ныне совсем забытый, а тогда весьма именитый и уважаемый, вещал, что «Веселые ребята» — это помесь пастушьей пасторали с американским боевиком, апофеоз пошлости, где издевательски пародируется настоящая музыка. Но сам Сталин дал фильму «добро», и поэтому по зарвавшейся «Литературной газете» дала залп «Прав- да». После этого все успокоились.
Вскоре «Веселые ребята» начинают свое триумфальное шествие по стране и миру. Венеция, страны Европы и США. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Вы думаете, что Москва только борется, учится, трудится? Вы ошибаетесь. Москва смеется! И так заразительно, бодро и весело, что вы будете смеяться вместе с ней». А Чарли Чаплин, очень высоко оценивший фильм, говорил: «Александров открыл для Америки новую Россию. До «Веселых ребят» американцы знали Россию Достоевского, теперь мы увидели большие сдвиги в психологии людей. Люди бодро и весело смеются».
Конечно, создатели фильма видели его недостатки: отсутствие выверенного сюжета, значительных идей, крупных характеров. Но главная цель творцов первой советской музыкальной кинокомедии заключалась в ином — создать фильм, на котором люди могли бы отдохнуть и развлечься. Г. Александров в своем интервьк в ноябре 1934 года говорил: «Эти фильмы должны в конечном счете занять место старых опереток, прийти на смену избитых мюзик-холльных аттракционов, музыка этих фильмов должна вытеснить распространенный жанр «жестоких романсов» и бульварно-блатных песен». Так и случилось. Народ запел песни Дунаевского и Лебедева-Кумача, стоило только «Веселым ребятам» выйти на экран.
Вторым для Дунаевского фильмом, созданным в содружестве с Г. Александровым и Л. Орловой, стал «Цирк». Задолго до начала съемок режиссер и композитор разработали подробный музыкальный сценарий и партитуру. Всего для этого фильма Дунаевский на- писал более тридцати музыкальных номеров. Почти все они — торжественный марш-антрэ, лирический «Лунный вальс», нежная «Колыбельная» и другие, — сразу же обрели самостоятельную жизнь.
Любопытная история произошла с песней о «Родине», которую еще до выхода фильма на экраны передали по радио. Услышали ее и на уральском прииске «Журавлик». Молодежь разучила песню и 7 ноября спела ее на праздничной демонстрации. Когда же несколько месяцев спустя фильм добрался до их поселка, молодежь направила на киностудию «Мосфильм» восторженное письмо: «Дорогие товарищи! Вы совершенно правильно сделали, что взяли народную «Песню о Родине» и вставили ее в свою картину». Ребята и не подозревали, что композитор и поэт перебрали тридцать шесть вариантов песни, пока не создали нужный.
Затем созрел замысел кинофильма «Волга-Волга». К нему Дунаевский почти всю музыку сочинил еще до того, как приступили к съемкам. Позднее он напишет: «Создание музыкального фильма поставило перед киностудией вопрос о высокой профессионализации всего звукового и съемочного процесса, устранения кустарщины, царившей в кинопроизводстве, мешавшей выявлению тех огромных идейных богатств, которые заключала в себе наша молодая звуковая кинематография. Огромная роль музыки, построение на ее основе больших эпизодов, целых частей фильма не могли ужиться в этой кустарщине. И вот впервые в советской кинематографии музыка рождается вместе со сценарием. Музыкальный образ порождает образ сюжетный, а процесс звукозаписи предшествует процессу съемки. Еще в «Веселых ребятах» мы это нащупывали довольно несмело, хотя и сознавали полнейшую необходимость высокой профессионализации и четкости всего процесса... Это совершенно новая специфика, это особый эмоциональный мир, в котором вынуждены жить все создающие картину, начиная от режиссера и кончая техническими работниками».
Несмотря на некоторое охлаждение отношений между Дунаевским и Г. Александровым, композитор всегда высоко ценил этого замечательного режиссера и с большой теплотой вспоминал годы их дружбы и сотрудничества. В 1953 году Дунаевский писал: «Александров встал на путь создания не просто комедии или комедии с музыкой, а именно музыкальной комедии... Он смело выдвигал музыку на передний план, делая ее основным компонентом своих картин, подчинял ей не только динамическое и эмоциональное развитие сюжета, но и весь ритм картины путем мастерского, строго соответствовавшего ритму музыки, монтажа».
Тогда же Дунаевский начинает сотрудничать с режиссером Иваном Пырьевым, к фильму которого «Богатая невеста» он написал двенадцать музыкальных номеров. Продолжалась работа и с Г. Александровым над кинокомедией «Волга-Волга», которая затем получит Сталинскую премию. Почти для каждого действующего лица Дунаевский сочинил в этом фильме свою музыкальную партию: портрет водовоза, милиционера, повара, лесоруба.
Во второй половине 30-х годов Дунаевский становится «королем» легкой музыки. Его песни поет вся страна. Служебная машина, правительственные награды и почетные звания, баснословные гонорары. В 1939 году его именем был назван пароход. До этого подобной чести были удостоены только Любовь Орлова и Валерий Чкалов. Популярность его была абсолютной. Он знал, что такое дорогие рестораны, мешки присланных со всех концов страны писем. Сам энтузиазм Дунаевского был выражением господствующего народного состояния; его песни, действительно, «строить и жить помогали», осуществляя общественную функцию. Прекрасные, сердечные мелодии выражали жизнь поколения, которое верило, что не за горами новая, светлая жизнь.
Гениальность Дунаевского была неразрывно связана с его талантом любить. Музы и музыка в судьбе композитора были сплетены воедино. Вдохновение черпалось в новых любовных романах. Сначала — Наталья Гаярова, с которой он познакомился в поезде «Ленинград—Москва». Любвеобильное сердце Дунаевского разрывалось между обожаемой женой Бобочкой и новой пассией Гаяровой. Затем начался бурный роман с начинающей хорошенькой актрисой Лидией Смирновой. Он даже предложил ей стать его женой, но та отказалась.
Они познакомились на съемках фильма «Моя любовь», который ставил режиссер Корш-Саблин. Главную роль исполняла Лидия Смирнова. Недавно, в 1997 году, в издательстве «Вагриус» увидели свет ее мемуары под интригующим названием «Моя любовь». Если верить им, в молодости Лидия Смирнова была очень сексуальна. Чтобы понравиться режиссеру, она могла прямо на голое тело надеть платье и, понадеявшись на мужскую «отзывчивость», идти на кинопробы. Смирнова с детства была очень влюбчивой. Уже в двенадцать лет девочка искала встреч с молодыми людьми, ходила на бульвар в ожидании приключений. Сначала испорченные мальчишки, а позже — самые разные мужчины, включая именитых и титулованных, роились вокруг курносой чаровницы. И так до самой ее старости. Смирновой вполне подошел бы титул пожирательницы сердец, но кому принадлежит ее собственное?!
История юношеского замужества будущей актрисы выглядит очень романтично. Смолоду Лидия Смирнова увлекалась спортом и однажды на лыжне встретилась глазами с НИМ. Молодой человек немедленно навострил лыжи в направлении румяной барышни с ямочками на щеках. Он оказался журналистом, полиглотом и первым из мужчин, кто захотел на ней жениться. Сказано — сделано, и вот счастливая семья уже карабкается по горам и путешествует на байдарках. Всем хорош был Сергей, да только не оценил нового Лидочкиного увлечения. Та бросила работу экономиста и пошла учиться в студию при Камерном театре, но — увы! — муж неизменно засыпал, едва начинающая артистка принималась оттачивать на нем монолог Федры.
Между тем девушка была принята в группу Таирова и сразу получила роль. А вскоре ее позвали сниматься в кино — в комической мелодраме Корш-Саблина «Моя любовь». Отбыв после съемок в Ленинград, Дунаевский бомбардирует очаровательную дебютантку телеграммами и письмами. Влюбленный безумец требовал и от нее такого же количества ответных посланий. Эта переписка так изматывала юную особу, что порой она поручала писать за нее любовные послания Дунаевскому своему приятелю — актеру Шишкину. И все же она была в восторге — неглупый, талантливый и знаменитый композитор повержен к ее ногам и даже намерен всерьез заняться ее карьерой.
Роман в письмах, а иногда и наяву, длился восемь месяцев. Писание любовных писем было у Дунаевского приметой любовной страсти. Всякую понравившуюся ему девушку он сражал наповал своим эпистолярным напором. Похоже, сочинять письма, обожать и любить в письмах он был способен как никто другой.
В письмах к Лидочке Смирновой Дунаевский был страстным, нежным и откровенным, как, наверное, ни с кем другим. «Ты должна знать все, все мое, что рождается во мне, что живет, дышит, хорошее это или плохое. И я только хочу призвать тебя делать то же самое. В человеке все-таки всегда, как он ни откровенен, остается кусочек секрета, уголочек души, который он никому не раскрывает, а я вот смело хочу, чтобы и этот уголочек у нас был раскрыт друг для друга. Может, это утопия, фантазерство, но я этого хочу и буду к этому стремиться. Настанет день, когда наши отношения окрепнут настолько, что не будет надобности закрывать этот уголочек от взоров любимого».
Наверное, биограф композитора Д. Минченок прав, когда пишет, что разлука их странным образом сближала. В письмах они были немного более откровенны, как две самые близкие и доверчивые души. «Я не ошибусь, если скажу, что мы, вероятно, все время находимся в процессе глубокого познавания друг друга. Разлука этому мешает и помогает. Ведь ты согласишься со мной, что любить — это же не значит только тяжело и страстно дышать при виде друг друга, говорить сплошные нежности и так далее. Любить — это значит учиться жизни, познавать человека, его душу, малейшие поступки».
В письмах к ней Дунаевский превращается в тонко чувствующего поэта любви: «Люблю тебя свято и страстно, чисто и греховно, нежно и требовательно, ревниво и доверчиво. Люблю, как солнце любит горы, как волны любят море, как звезды любят небо». Но роман их был непродолжителен. Однажды Дунаевский предложил ей стать его женой. Смирнова ответила: «Нет». Композитор затаил обиду и вскоре разорвал с ней отношения.
В 1944 году у Дунаевского во время поездки по Сибири и Дальнему Востоку возник роман с двадцатилетней очаровательной танцовщицей из его ансамбля Зоей Пашковой, которая в январе 1945 года родила ему сына Максима, будущего известного композитора. Однако Дунаевский не мог дать сыну ни отчества, ни фамилии, поскольку по тогдашнему законодательству это было бы официальным признанием двоебрачия.
Драма жизни и творчества
В 1941—1945 годах за музыку к кинофильмам Дунаевский не брался. Завистники злорадствовали: «Иссяк Осипович». А он метался по стране со своим Ансамблем песни и пляски железнодорожников. Григорий Александров и другие киношники в это время находились в эвакуации в Алма-Ате. После войны, в 1946 году, Александров собрался ставить «Весну» и пригласил Дунаевского написать к фильму музыку.
Картину снимали в Праге. Дунаевский впервые оказался за границей. Но это пребывание «за кордоном» стало, по выражению самого композитора, началом его падения. Он допустил две серьезные оплошности: во-первых, дал интервью пражской газете, настроенной не очень дружественно в отношении СССР, во-вторых, не испросил разрешения на это интервью в советском посольстве. Вскоре Сталин лично вычеркнул его из списка представленных на присуждение Сталинской премии за оперетту «Вольный ветер». Затем его вывели из состава Сталинского комитета по присуждению премий, где он состоял шесть лет. Наконец, Александров заказал музыку к кинофильму «Встреча на Эльбе» не ему, а Дмитрию Шостаковичу. Для Дунаевского наступило время разочарований.
В его письмах зачастую звучит боль человека, оскорбленного безразличием и невниманием. В феврале 1950 года он с горечью пишет одной из своих почитательниц: «Почему советская пресса ни одной строчкой не обмолвилась о моем пятидесятилетии — юбилее композитора, который, как гласили приветствия, «является запевалой советского народа»? Что это такое? Кто ответит мне на это? Невоспитанность? Хамство? Сознательное и преднамеренное нежелание афишировать непомерно популярного художника? Я глотаю эту обиду, как глотал обиды много раз за последние годы».
В последние годы жизни у Исаака Осиповича все чаще стали болеть ноги — тромбофлебит. Сдавало сердце, хотя он никому в этом не признавался. В письмах своим «возлюбленным на расстоянии» он как бы подбадривал самого себя: «Но мне хочется сказать вам, что я остался прежним. И хоть годы старят человека, но говорят, что мои глаза горят по-прежнему молодым блеском. Вам я скажу, что во мне в полной мере осталась любовь моя к Жизни, к Солнцу, к тем людям, которые хотя бы капельку берут от Солнца и света». Резко отрицательно на состояние здоровья композитора повлияло и то, что случилось с его сыном.
7 ноября 1951 года Женя Дунаевский, тогда студент первого курса ВГИКа, пригласил на дачу несколько приятелей отметить праздник. Родители были в городе, и молодые люди развлекались одни. Ночью, когда Женя уже спал, двое его пьяных приятелей со своими девушками без спросу сели в машину Евгения и решили прокатиться. Машина на обледеневшей дороге перевернулась, и сидевшая за рулем девушка погибла. Уголовное дело не стали возбуждать за отсутствием состава преступления. Но жизнь отца и сына превратилась в кошмар.
Во ВГИКе устроили показательное исключение Евгения. Закрутилась машина лжи и сплетен. Дунаевский обращался в разные вышестоящие инстанции, но все было бесполезно. В одном из писем он писал: «Все начальники были как заведенные куклы, как механические ваньки-встаньки, при моем появлении с дежурной улыбкой вскакивающие, а после ухода брезгливо морщившиеся. Каждый человек был в отдельной клетке, а все клетки — в одной большой. И это проявлялось уже не в одиночном чувстве страха, а в общей беспомощности».
В его поздних песнях все чаще звучит грусть, мысль о безвозвратных потерях. А в одном из писем он признается: «С каждым годом становится все труднее. Жизнь проходит». В это время Дунаевский особенно нуждается в человеческом участии и находит его в авторских встречах, где обычно рассказывает о себе. Когда началось «дело врачей», был арестован его двоюродный брат, известный врач-уролог Лев Дунаевский. Тогда сам композитор каждую ночь ожидал ареста. А в прессе появились инспирированные кремлевскими идеологами нападки на его музыкальные произведения.
Утром 9 июня 1955 года Дунаевский не смог встать с постели — не слушалась правая нога. Он решил, что это паралич, но вызванные домой врачи установили разрушение внутренних стенок артерий. После недолгого лечения ему стало лучше. В июле он совершил гастрольную поездку в Ригу: играл, дирижировал оркестром. Удалось немного отдохнуть и подлечиться. Здесь он встретился со своей давней любовью — актрисой Лидией Смирновой. Когда возвращался домой в Москву, в поезде ему стало плохо, пришлось принимать валидол.
В это лето его сын Евгений заканчивал художественный институт имени Сурикова, куда поступил после исключения из ВГИКа. На преддипломную практику он получил не совсем обычное задание: вместе с приятелем они должны были пройти на ледоколе по Северному Ледовитому океану и отобразить жизнь моряков ледокола. 25 июля судно затерло во льдах Арктики. А в Москве в этот день в полдень Дунаевский закончил писать письмо одной из своих многочисленных поклонниц. Вдруг у него закололо сердце. Домработница баба Нита, готовившая на кухне обед, услышала его шаги, затем — сильный шум. Войдя в комнату, она увидела лежащего на полу Дунаевского. Машины, чтобы отвезти его в больницу, не оказалось — жена Зинаида Сергеевна поехала с шофером за покупками. Когда через полчаса прибыла «скорая», он был мертв — остановилось сердце.
Евгений получил телеграмму о смерти отца на следующий день. До Москвы он сумел добраться лишь через две недели. То, что Евгения не было на похоронах композитора, отметили все. А раз сына нет на похоронах, раз он находится где-то на Севере, следовательно, отбывает срок. Ходил даже слух, что его расстреляли.
Похоронили Исаака Осиповича на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы Булгакова, с которым он дружил. По просьбе Евгения надгробный памятник отцу согласился соорудить его студенческий товарищ по Суриковскому институту Эрнст Неизвестный, но власти воспротивились и проект остался неосуществленным.
Бродский: последний классик
У всякого языка свое молчание.
Элиас Канетти
Поэт имеет право быть непонятым.
Анна Ахматова
Иосиф Бродский в массовом сознании — это некий мифологизированный образ: бог, культурный герой, персонаж окололитературных сплетен и слухов. И как поэт, и как человек Бродский — плод интеллигентского мифотворчества. Все споры вращаются не вокруг Бродского-поэта, а вокруг Бродского-мифа. Но сам он всегда ненавидел тех, кто стремился слепить из его жизни героический миф. Этот «шестидесятник» серебряного века был активным проповедником частной жизни. Он и свою блистательную Нобелевскую лекцию начал с этого: «Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего...»
Со страниц книг и воспоминаний встает образ поэта, поначалу непризнанного и гонимого, дважды судимого, побывавшего в психбольнице и ссылке, высланного из страны, затем — всемирно известного лауреата Нобелевской премии. Бродский еще при жизни стал классиком. Лауреат премии фонда Макартура для гениев, почетный доктор множества европейских университетов, кавалер французского ордена Почетного легиона. Но для Александра Солженицына Бродский — сноб и индивидуалист, для Эдуарда Лимонова — «поэт-бухгалтер». Его не принимали Василий Аксенов, Наум Коржавин, Юрий Карабчиевский. Количество мнений очень велико — от массовой экзальтации до полного отрицания. Когда старую мудрую Анну Ахматову спросили о причинах неприязненного отношения к поэту, та ответила: «К Бродскому — зависть. Ведь он — чудо!»
Об Иосифе Бродском написано много книг, статей и мемуаров. Но он по-прежнему остается самым «эзотерическим» из всех пяти отечественных лауреатов Нобелевской премии. Его образ как кривое зеркало, которое не позволяет увидеть точный, не искаженный облик того, кто в него смотрит. Просто великий поэт эпохи! Кем он назначен на эту роль — временем, людьми, судьбой, обществом?! В своей лекции в Библиотеке Конгресса в октябре 1991 года он недаром говорил о стремлении общества назначать на роль большого поэта кого-нибудь одного, либо на определенное время, либо на целое столетие. Почему? Потому что с одним легче справиться, чем с несколькими. Обществом с несколькими поэтами в качестве «светских святых» труднее манипулировать, поскольку в таком случае политикам придется изобретать систему ценностей и форму выражения, соответствующие тем, что предлагают эти поэты.
Каждый большой поэт стремится преодолеть традицию, преступая законы времени и пространства. Это преодоление традиции прежде всего ощущается в форме — новое в ритмах, размерах, рифме, метафорах. Но преодолеть привычное в поэзии — это не только обрести свой голос, но и найти самого себя как творца. У Бродского высочайший уровень владения словом, но поэт претендует и на то, чтобы слово владело им. В своей Нобелевской лекции он говорит: «Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом».
Его поэзия — это неповторимый, протяженный, волнами пульсирующий ритм: «Там нигде, за его пределом // — черным, бесцветным, возможно белым — // есть какая-то вещь, предмет //. Может быть, тело. В эпоху тренья // скорость света есть скорость зренья; // даже тогда, когда света нет». Этот ритм, то приглушенный, то взрывающийся всплесками эмоций, пронизывает все его тексты: «Твой Новый год по темносиней // волне средь моря городского, // плывет в тоске необъяснимой, // как будто жизнь начнется снова, // как будто будут свет и слава, // удачный день и вдоволь хлеба, // как будто жизнь качнется вправо, // качнувшись влево».
Людмила Штерн вспоминает, как Бродский читал свои стихи и какое страшное, почти гипнотическое действие оказывали его голос и интонации. Интонаций даже и не было, а была некая гнусавая напевность с понижением голоса в конце строчки и с нарастанием «вольтажа» с каждой новой строфой. Это было похоже на молитву или заклинание и вводило слушателей в состояние транса.
Поэзия Бродского — это попытка исследовать средствами языка различные варианты жизни, это пребывание в параллельных мирах. Ему выпал путь канонизации и адаптации художественно-изобразительных открытий первой половины XX столетия. Но на этой основе он творил собственный мир с его смысловой изощренностью, множеством поворотов мысли, игрой языка и словесных образов. Бродский создавал мир по своему образу и подобию. Чтобы проникнуть в него, надо попытаться отождествить себя с поэтом. В его Вселенной мы ищем смысл жизни. «В чем поэт может участвовать, — говорил Бродский, — так это в сообщении людям иного плана восприятия мира, плана, непривычного для них».
Избрав себе в собеседники Бродского, читатель об этом не пожалеет, но вряд ли это облегчит жизнь. «Я часто думаю, насколько все бессмысленно — за двумя тремя исключениями: писать, слушать музыку, пытаться думать. А остальное... Сколько бессмыслицы всю жизнь приходится делать, платить налоги, подсчитывать какие-то цифры, писать рекомендации, пылесосить квартиру... Помните, когда мы в прошлый раз сидели в кафе, барменша стала что-то доставать из холодильника, не важно что ... открыла дверцу наружу, нагнулась и начала там шуровать. Голова внутри, все остальное торчит наружу. И так стояла минуты две. Я посмотрел, посмотрел и вообще как-то жить расхотелось!»
Он всю жизнь обитал на Олимпе, откуда ясно видел, насколько суетна и мелочна человеческая жизнь:
Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот
не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность.
По Льву Аннинскому, вся поэзия Бродского — это бесконечное, мучительное сопоставление неуловимой Вечности — несущегося на тебя, изнуряющего потока впечатлений, реалий, фактов, которые давят видимой бессмысленностью. Напряженная аура зова — крик ястреба в пустом небе — над всякой точкой бытия. Напряженные логические цепи, звенящие от подступающего разрыва. Напряженная безнадежность неотступного выбора — между ужасным и ужаснейшим. В одном из своих эссе, относящемся к 1972 году, Бродский написал: «Писатель — одинокий путешественник, и ему никто не помощник. Общество всегда — более или менее враг».
Впечатляет социальный успех, которого сумел добиться Бродский на Западе. Он переломил устоявшуюся традицию и превратил поэта из «невольника чести» и жертвы в законодателя интеллектуальной моды, университетского профессора, лауреата всевозможных премий. Этот абсолютно нетрадиционный культурный имидж вызывает восхищение и стремление подражать ему. Сам Бродский это сознавал. «В русской изящной словесности или в Европе образ поэта или его лирического героя всегда фигура как бы трагическая, фигура жертвенная. Он у нас всегда страдает... В поэзии американской это не совсем так. Это скорее идея абсолютной человеческой автономии».
Анна Ахматова, благословившая юного Бродского, избравшего стезю поэта, сказала о «золотом клейме неудачи на еще безмятежном челе». Эту неудачу всей своей до предела насыщенной жизнью Бродский преобразил в сияние своего призвания. За ним всегда останется статус Великого Поэта в эпоху, когда поэтическое слово обесценилось и фигура поэта ушла на периферию социального внимания. Иосиф Бродский подвел итоги поэзии XX столетия.
И дверь он запер на цепочку лет.
(И. Бродский. Стихи на смерть Т. С. Элиота).
Эти слова Максимилиана Волошина в полной мере применимы к Иосифу Бродскому. Его поэтический и жизненный путь определился далеко не сразу. А травля, суд, ссылка, изгнание из страны — все это было вехами в сложной судьбе поэта. В одном из интервью прозвучал вопрос о страшном одиночестве, исходящем от его стихов. Он отвечал: «Да, так и есть. Ахматова сказала то же самое». А его друг-поэт писал в некрологе: «Иосиф Бродский обладал той артистической и этической свободой, за которую приходится платить чистоганом, то есть одиночеством!»
Извечный конфликт поэта и общества для Бродского начался в 1964 году, когда он был арестован и отдан под суд. Тогдашняя партноменклатура не могла принять эту крупную и неоднозначную личность. Охранительные силы общества всячески противились тому, что в условиях резко ограниченной свободы Бродский жил и творил как свободный человек. Это всегда пугало и раздражало.
Определяющей чертой Бродского в то время была совершенная естественность его поведения и максимальная интенсивность восприятия жизни. Это и привлекало и пугало окружающих, вызывая противоречивое отношение к нему. Известный историк и писатель, давний друг Бродского Яков Гордин вспоминает, как однажды в 1958 году, на заседании студенческого научного общества Иосиф начал свое выступление с цитирования Льва Троцкого, чье имя тогда находилось под строжайшим запретом. Он не собирался кого-либо эпатировать, это был совершенно естественный для него поступок.
Уже с конца 50-х годов Иосиф Бродский часто выступал с чтением своих стихов, в основном в студенческих аудиториях. Его непривычная манера чтения воздействовала на слушателей сильнейшим образом. Он словно жил в своих стихах. Налицо было почти абсолютное слияние личности поэта и его творчества. Вспоминают, что его уникальная ритмика порождала в слушателях мощнейшую, почти физиологическую вибрацию.
Художник и скульптор Эрнст Неизвестный как-то заметил: «Юный Иосиф Бродский отражал настроения неприкаянности, порыва в другую, неведомую мне тогда реальность». Первый громкий скандал, связанный с именем Бродского, случился в 1960 году, когда он на встрече с поэтами прочитал стихотворение «Еврейское кладбище», где были такие строки:
Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядами юристы, торговцы, музыканты, революционеры. Может, видели больше.
А возможно, и верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы и стали упорны.
И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали...
А в ответ на нападки своих критиков из числа «почтенной публики» Бродский прочитал стихи, предпослав им эпиграф «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»:
Каждый пред Богом наг.
Жалок, наг и убог.
В каждой музыке Бах,
В каждом из нас Бог
Ибо вечность — богам.
Бренность — удел быков...
Это уже был вызов тем, кто смирился с несвободой, и отныне Бродского все более явно начинают воспринимать прежде всего власть имущие, как мятежника. Так начинает складываться миф о Бродском — диссиденте.
Стихи Бродского в списках ходили по рукам. К ним писали музыку. Его слушала, затаив дыхание, студенческая аудитория. Он становился знаменитым. К 1964 году Бродский стал явлением духовной и общественной жизни тогдашнего Ленинграда. Этот неожиданный выплеск поэтического таланта многих озадачивал. Ведь Бродский начал писать стихи поздно, лет в семнадцать. А до этого, казалось, ничто не предвещало прихода в отечественную поэзию большого поэта.
Родился Иосиф Александрович 25 мая 1940 года в Ленинграде. Его отец был военным моряком, мама — преподавала немецкий язык, позднее она станет переводчицей в лагере для военнопленных. Следуя по стопам отца, Иосиф после седьмого класса попытался поступить в военно-морское училище, где готовили подводников, но не прошел по пресловутому пятому пункту — «национальность». После этого он проучился в школе еще год и, закончив восемь классов, в пятнадцать лет пошел работать фрезеровщиком на завод «Арсенал»
В шестнадцать лет ему захотелось стать нейрохирургом, и для начала он стал помощником прозектора в морге. Затем — перешел работать истопником котельной. А спустя несколько месяцев — ушел в геологическую экспедицию. С 1957 по 1961 год он исходил с геологами почти весь Север, ежегодно уезжая в экспедиции на два-три, а то и на четыре месяца. Пожалуй, в то время это была единственная возможность увидеть мир. К тому же геологам всегда был присущ некий дух свободомыслия и либерализма, ведь в тайге или в тундре их политическое лицо и «идеологическая закалка» мало кого интересовали. Среди его приятелей по экспедиции было немало пишущих стихи, и от них он узнал о литературном объединении при ленинградской газете «Смена». Именно там он обрел свой первый опыт поэтического общения.
Бродский всерьез начал, как он выразился однажды, «баловаться стихами» с шестнадцати лет, после того, как прочел поэтический сборник Бориса Слуцкого. Затем, уже будучи в геологической экспедиции в Якутии, он познакомился с поэтом Владимиром Британишским. Своему близкому другу Евгению Рейну, отвечая на вопрос: что же его подтолкнуло к стихам? — Бродский говорил: «Году в пятьдесят девятом в Якутске, гуляя по этому страшному городу, я зашел в книжный магазин и в нем надыбал Баратынского. Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что Евгений Абрамович как бы во всем виноват».
Знаменательным в его судьбе стало знакомство с Анной Ахматовой, после чего окончательно у Бродского сформировалось ощущение поэтической правоты, чувство избранности. Царственная Ахматова воспринималась ее окружением как хранительница очага классической русской культуры.
В первый раз Бродский был арестован в связи с выходом в свет журнала Александра Гинзбурга «Синтаксис». Произошло это в конце 50-х. Затем он дважды принудительно направлялся психбольницу на психиатрическую экспертизу — в декабре 1963 и в феврале—марте 1964. Воспоминания об этом у Бродского остались довольно мрачные. В беседах с Соломоном Волковым он рассказывал о нравах, царивших в психбольнице.
Когда Анна Ахматова говорила, что власти делают Бродскому биографию, она была права лишь частично. Несомненно, поэт и сам активно творил собственную биографию, свою жизненную и поэтическую судьбу. Его талант прорастал сквозь суровую обыденность, а врожденное мастерство, казалось, было не в его власти, а во власти той стихии образов, ритмов, слов, музыки, которой он дышал. Его изобретательный мозг был переполнен идеями, и он стремился воплотить их в строфы.
На начальном этапе своего творчества Бродский еще следует в русле традиции: Мандельштам, Ахматова, Анненский, Пастернак, Слуцкий. В восемнадцать лет он написал своих знаменитых «Пилигримов»:
Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни, вспыхивают зарницы, звезды встают над ними, и хрипло кричат им птицы: что мир останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным, мир останется лживым, мир останется вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка от веры в себя да в Бога.
...И, значит, остались только иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
Людмила Штерн утверждает, что Бродский уже в 1958 году прославился благодаря своим «Пилигримам» и «Еврейскому кладбищу около Ленинграда».
Осенью 1961 года Бродский был погружен в написание своей первой поэмы «Шествие». Людмила Штерн вспоминает, как он читал ей свои главки: «В заставленной картинами полукомнате я присутствовала при гуде: вызванная к жизни чуть гнусавым, почти поющим голосом его автора, герои-мертвецы «Шествия» торжественно проходили пред моими глазами».
Вперед-вперед, отечество мое, куда нас гонит храброе жулье, куда нас гонит злобный стук идей и хор апоплексических вождей.
Или:
Это плач по каждому из нас, это город валится из глаз, это пролетают у аллей скомканные луны фонарей.
Это крик по собственной судьбе, это плач и слезы по себе, это плач, рыдание без слов, погребальный звон колоколов.
А завершая свою поэму, Бродский писал в «Монологе Черта»:
Потому что в этом городе убогом,
Где погонят нас на похороны века,
Кроме страха перед дьяволом и Богом существует что-то выше человека.
Это ощущение, что существует нечто «выше человека», и устремленность к нему живут во многих стихах Бродского.
Позднее он все более явно начинает ориентироваться на Марину Цветаеву и англо-американских поэтов. Его поэзия усложняется и по форме, и по содержанию. Он пробует составлять сложные, до того не применявшиеся строфы. Его друг Владимир Уфлянд писал: «Иосиф Бродский начал работать, когда казалось, что ничего нового создать в технике русской словесности уже невозможно. Но он обнаружил, что вне поля практики русской (в то время советской) литературы, отделенная железным занавесом, существует западная литература.
Эллиот, Оден и Фрост были экзотичны для русского, особенно советского читателя не только смыслом, как, например, Джон Донн. Новая западная литература была удивительна и формой.
Иосифу пришла идея соединить русский смысл и форму, русский образ мысли с западным смыслом и формой и образом мысли. Когда его выслали из Петербурга, эта идея стала вполне осуществима. В Америке Иосиф Бродский совершил великую работу новатора в поэзии. До него такую работу успешно совершали разве что только Пушкин или Тютчев. Он, как и они, соединил русский и западный образ мысли. Это еще уменьшило число читателей Бродского в России.
А его чисто петербургская тщательность и изощренность еще более ставила возможных читателей в тупик».
В 1963 году, после встреч Никиты Сергеевича Хрущева с творческой интеллигенцией, начинается «закручивание гаек». Партийные власти Ленинграда сразу же активно включились в этот процесс. Иосиф Бродский становится главным объектом политико-идеологического прессинга. В конце ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» был напечатан фельетон «Окололитературный трутень». Позднее на суде Бродский скажет, что в этом пасквиле только его имя и фамилия правильны; все остальное ложь. В фельетоне говорилось: «...Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем... Приятели звали его запросто — Осей. С чем же хотел прийти этот самоуверенный юнец в литературу? На его счету был десяток-другой стихотворений, переписанных в тоненькую тетрадку, и все эти стихотворения свидетельствовали о том, что мировоззрение их автора явно ущербно... Он подражал поэтам, проповедовавшим пессимизм и неверие в человека, его стихи представляют смесь из декадентщины, модернизма и самой обыкновенной тарабарщины. Жалко выглядели убогие подражательные попытки Бродского. Впрочем, что-либо самостоятельное сотворить он не мог: силенок не хватало. Не хватало знаний, культуры. Да и какие могут быть знания у недоучки, не окончившего даже среднюю школу? ...Этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден». В конце фельетона звучала прямая угроза: «Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде... Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути... Пусть окололитературные бездельники вроде Иосифа Бродского получат самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду».
Это был прямой призыв к гонениям и расправе. 13 февраля 1964 года вечером Бродский был задержан прямо на улице. Родители-пенсионеры провели весь день 14 февраля в поисках исчезнувшего сына и только вечером случайно узнали, что он находится в заключении. 18 февраля в Дзержинском районном суде началось слушание дела по обвинению в тунеядстве Иосифа Бродского. Процесс вела судья Савельева. В итоге было вынесено постановление о выселении Бродского из Ленинграда с обязательным привлечением к труду на пять лет. Молодежная газета «Смена» откликнулась на это решение обширной статьей, еще раз заклеймившей «тунеядца» и «любителя порнографии» Бродского. Статья заканчивалась так: «Постановление суда было встречено горячими аплодисментами людей с честными рабочими руками».
Но Бродского раздражало пристальное внимание к этим достаточно привычным для того времени событиям, и он опасался, что они могут заслонить более важное и значимое. Конечно, он понимал, что журналистка и писатель Фрида Вигдорова, записавшая почти весь ход судебного процесса, совершила гражданский подвиг. Но сознавая все это, Бродский подходил к событиям с совершенно иных позиций: «Я отказываюсь все это драматизировать!» И затем следует идеально точная реплика Волкова: «Я понимаю, это часть вашей эстетики». Ключ здесь. Не только к вышеупомянутым суждениям, но и ко всей картине суда, которая через два десятка лет представлялась главному действующему лицу как некое ритуальное действо: «...зал-то наполовину состоял из сотрудников госбезопасности и милиции. Такого количества мундиров я не видел даже в кинохронике о Нюрнбергском процессе. Только что касок на них не было!»
Реальная картина по части мундиров была несколько скромнее, но для Бродского этот суд «по делу о тунеядстве» в соответствии с его общими представлениями постепенно превратился в фантасмагорию столкновения частного человека и тоталитарной системы.
Восприятие Бродским картины суда трансформировалось вместе с его эстетическими и философскими установками, вместе с его стилистикой. Чем реальнее становилось ощущение трагичности бытия, ощущение, лишенное уже защитной романтической взвинченности раннего периода, тем сильнее у зрелого Бродского оказывалась потребность снять это ощущение — во всяком случае, во внешних его проявлениях — иронией и самоиронией.
Вот некоторые фрагменты из бесед Бродского с Соломоном Волковым:
Волков. Иосиф, я хотел расспросить вас о вашем процессе 1964 года, о ваших арестах и пребывании в советских психушках. Я знаю, что вы об этом говорить не любите и чаще всего отказываетесь отвечать на связанные с этим вопросы. Но ведь мы сейчас вспоминаем о Ленинграде, и для меня «дело Бродского» и процесс — это часть ленинградского пейзажа тех лет. Так что если вы не против...
Бродский, Вы знаете, Соломон, я ни за, ни против. Но я никогда к этому процессу всерьез не относился — ни во время его протекания, ни впоследствии.
Волков. Почему вдруг вся эта машина раскрутилась? Почему именно Ленинград, почему вы? Ведь после кампании Пастернака в 1958 году советские власти некоторое время громких литературных дел не затевали. Что, по-вашему, за всем этим стояло?
Бродский. Сказать по правде, я до сих пор в это не вдавался, не задумывался над этим. Но уж если об этом говорить, то за любым делом стоит какое-то конкретное лицо, конкретный человек. Ведь любую машину запускает в ход именно человек — чем он, собственно, и отличается от машины. Так было и с моим делом. Оно было запущено в ход Лернером, царство ему небесное, поскольку он, по-моему, уже умер.
Волков. Это тот Лернер, который в ноябре 1963 года написал в ленинградской газете направленный против вас фельетон «Окололитературный трутень»?
Бродский. Да, у него были давние «литературные» интересы. Но в тот момент главная его деятельность заключалась в том, что он руководил народной дружиной. Вы знаете, что такое была народная дружина? Это придумали такую мелкую форму фашизации населения, молодых людей особенно.
Волков. Я знаю. У меня даже был один знакомый дружинник, редкостный идиот.
Бродский. Главной сферой деятельности этой дружины была гостиница «Европейская», где останавливалось много иностранцев. Как вы знаете, она расположена на улице Исаака Бродского, так что, может быть, это господин стал проявлять ко мне интерес именно из этих соображений? Охотились они главным образом за фрицами. И, между прочим, когда эти дружинники фарцовщиков шмонали, многое у них прилипало к рукам — и деньги, и иконы. Но это неважно...
Далее Бродский вспомнил дело У майского, с которым он тогда был хорошо знаком, и свою идею угнать самолет и улететь в Афганистан.
Волков. А когда на вас все это свалилось — третий арест, процесс, — как вы все это восприняли: как бедствие, как поединок, как возможность выйти на конфронтацию с властью?
Бродский. На этот вопрос очень трудно отвечать, потому что трудно не поддаться искушению интерпретировать прошлое с сегодняшних позиций. С другой стороны, у меня есть основания думать, что именно в этом аспекте особенной разницы между моими ощущениями тогда и сейчас нет. То есть я лично этой разниць! не замечаю. И я могу сказать, что не ощущал все эти события ни как трагедию, ни как мою конфронтацию с властью.
Волков. Неужели вы не боялись?
Бродский. Вы знаете, когда меня арестовали в первый раз, я был сильно напуган. Ведь нас берут обыкновенно довольно рано, часов в шесть утра, когда вы только из кроватки, тепленький, и у вас низкий защитный рефлекс. И, конечно, я сильно испугался. Ну представьте себе: вас привозят в Большой дом, допрашивают, после допроса ведут в камеру. (Подождите, Соломон, я сейчас возьму сигарету.) <... >
Волков. А как менялись ваши эмоции от первой к третьей посадке?
Бродский. Ну, когда меня вводили в «Кресты» в первый раз, то я был в панике. В состоянии, близком к истерике. Но я как бы ничем этой паники не продемонстрировал, не выдал себя. Во второй раз уже никаких особых эмоций не было, просто я узнавал знакомые места. Ну, а в третий раз это уж была абсолютная инерция. Все-таки самое неприятное — это арест. Точнее, сам процесс ареста, когда вас берут. То время, пока вас обыскивают. Потому что вы еще ни там ни сям. Вам кажется, что вы еще можете вырваться. А когда вы уже оказываетесь внутри тюрьмы, тогда уж все неважно. В конце концов, это та же система, что и на воле.
Волков. Что вы имеете в виду?
Бродский. Видите ли, я в свое время пытался объяснить своим корешам, что тюрьма — это не столь уж альтернативная реальность, чтобы так ее опасаться. Жить тихо, держать язык за зубами — и все это из-за боязни тюрьмы? Бояться-то особенно нечего. Может быть, мы этого ничего уже не бздели потому, что мы были другое поколение? Может быть, у нас порог страха был немножечко ниже, да?
Волков. Вы хотите сказать выше?
Бродский. В общем, когда моложе — боишься меньше. Думаешь, что перетерпеть можешь больше. И потому перспектива потери свободы не так уж сводит тебя с ума.
После суда и недолгого пребывания в «Крестах» Бродский был отправлен этапом через Вологду в Архангельск. В итоге он обосновался в селе Норенское Коношского района Архангельской области. Позднее поэт с теплотой вспоминал это время, говорил, что вся деревенская публика была совершенно замечательная. Именно в это время — позорного судилища и пересыльных лагерей — Бродский в мае 1964 года написал пронзительные строфы:
Звезда блестит, но ты далека.
Корова мычит, и дух молока мешается с запахами козьей мочи, и громко блеет овца в ночи.
Шнурки башмаков и манжеты брюк, а вовсе не то, что есть вокруг, мешает почувствовать мне наяву себя — младенцем в хлеву.
Суд и ссылка Бродского были крупным событием в 60-е годы. В защиту поэта выступили Корней Чуковский, Самуил Маршак, Анна Ахматова, Константин Паустовский. Ходил слух, что Маршак заплакал, когда узнал о суде над Бродским: «Когда я начинал жить — кругом была эта мерзость, и вот теперь, когда я уже старик, опять!» Имя Бродского становится все более известным на Западе. В конце концов на исходе 1965 года ему разрешили вернуться в Ленинград. Тогда же на Западе выходит первая книжка поэта «Сти- хотворения и поэмы».
В Советском Союзе Бродского все эти годы практически не публиковали. С его стихами люди знакомились только через самиздат. В глазах властей поэт оставался антисоветчиком и диссидентом. Сам Бродский все более отчетливо сознавал, что впереди никаких перспектив для него не существует. В конце 60-х — начале 70-х годов он получил несколько вызовов из Израиля, но никак на них не реагировал.
Людмила Штерн в своих мемуарах пишет: «В конце 1971 года Леонид Ильич принял историческое решение — обменивать евреев на зерно. Воздух наполнился эмиграционными флюидами, и многие евреи, как, впрочем, и неевреи, решили в одночасье, что больше в родной стране им жить невмоготу.
На самом деле всем, кто не был открытым диссидентом и не писал упаднических стихов, жить было вполне вмоготу. Конечно, не печатали, и рукописи десятилетиями лежали в столах; конечно, не выпускали за границу; конечно, о творческих свободах в любой сфере искусств нечего было и думать...
Но все же время было сравнительно вегетарианское, а в памяти еще был жив разгул каннибализма.
Это я к тому, что если бы Брежнев не принял исторического решения обменивать евреев на зерно, и возможность вырваться на свободу из недосягаемой мечты не превратилась в реальность, все мы не рыпались бы и жили в родной стране как миленькие.
Но уже с осени 1971 года на кухнях только это и обсуждалось. Вместо гаданья «любит — не любит» в обиход вошло «ехать — не ехать».
В начале 1972 года Бродского пригласили в КГБ и предложили выехать из страны. Известно было, что президент США Ричард Никсон во время своего визита собирался обсуждать с Брежневым судьбу советских диссидентов, в том числе Иосифа Бродского. Видимо, от Бродского решили избавиться, чтобы не привлекать к нему еще большее внимание».
Утром 4 июня 1972 года, перед выездом в аэропорт Пулково Бродский написал письмо, которое как бы подвело предварительные итоги его жизни в России:
«Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому.
Я хочу просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны.
Переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти — пусть именуемыми праведными — никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать дело. Условия сушествования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять.
Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. В любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему пригодится».
Бродскому разрешили эмигрировать в Израиль. Однако в Вене его встретил Карл Проффер, профессор русской литературы из Мичиганского университета, специально прилетевший в австрийскую столицу, и пригласил его в США. Вскоре после прибытия Бродского в Америку в газете «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано его большое эссе, где содержались многие мысли, изложенным в письме к Брежневу. Бродский писал: «Возможности сострадания чрезвычайно ограничены, они сильно уступают возможностям зла. Я не верю в спасателей человечества, не верю в конгрессы, не верю в резолюции, осуждающие зверства. Это все лишь сотрясение эфира, всего лишь форма уклонения от личной ответствейности, от чувства, что ты жив, а они мертвы... Если уж устраивать съезды и принимать резолюции, то первая, которую мы должны принять, это резолюция, что мы все — негодяи, что в каждом из нас сидит убийца, что только случайные обстоятельства избавляют нас от разделения на убийц и на их жертв.
Что следовало бы сделать в первую очередь, так это переписать все учебники истории и выкинуть оттуда всех героев, полководцев, вождей и прочих. Первое, что надо написать в учебниках, — что человек радикально плох».
Так начался новый этап в жизни и творчестве поэта.
«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать...»
Приехав в Америку, Бродский первые два года провел здесь в одиночестве. Привыкание к новой жизни, к иной культуре происходило медленно и трудно. В 1974 году он стал преподавать в Массачусетсе. Так началась его профессорская карьера.
Бродский преподавал в американских университетах в течение двадцати четырех лет. Начинал он в большом Мичиганском университете, затем преподавал в Колумбийском и Нью-Йоркском, а с 1980 года принял постоянную профессорскую должность в «пяти колледжах» в штате Массачусетс. Преподавательская деятельность стала важной частью его жизни. Каждый год он регулярно появлялся перед студентами и говорил с ними о том, что сам любил больше всего на свете — о поэзии. Его эрудиция была огромна. Чаще всего его курс назывался «Сравнительная поэзия», и если он, к примеру, читал стихи Пушкина, то неизбежно привлекались тексты Овидия или Цветаевой. Он буквально превращал каждое занятие в интеллектуальный пир.
Впрочем, относился он к преподаванию без особого восторга. Бродский любил литературу и умел говорить о ней, но он с трудом принимал жесткое академическое расписание. Раздражало его и невежество многих студентов, их готовность пользоваться заученными формулировками и устоявшимися подходами. Причем это свое раздражение он не скрывал. Про одну особенно неудачную группу он рассказывал: «Я вхожу в класс и говорю: «Опять вы?» — они смеются, думают, что я так шучу». Но любовь к поэзии всегда брала в нем верх.
Александр Батчан, вспоминая Бродского 1982 года, когда тот преподавал в Колумбийском университете, пишет: «В нем чувствовалось почти мистическое отношение к языку, и не только к поэтическому. Ведь в его поэзии барьер между языком поэзии и языком улицы окончательно исчез. Язык для Бродского был первичнее истории, географии, культуры и других факторов, формирующих сознание. Используя марксистский жаргон, можно сказать, что язык для Бродского был «базисом», а библейское «в начале было Слово» он, похоже, воспринимал буквально».
Находясь перед студенческой аудиторией, он думал, размышлял и фантазировал вслух. И всегда ставил перед студентами самые сложные задачи. Один из студентов Бродского позднее вспоминал: «В первый день занятий, раздавая нам список литературы, он сказал: «Вот чему вы должны посвятить жизнь в течение следующих двух лет». Далее прилагается список: «Бхагаватгита», «Махабхарата», «Гильгамеш», Ветхий Завет... И еще сто книг. Тридцать из них греческая и латинская классика (трагики, поэты, философы). Далее — Блаженный Августин, Св. Франциск, Св. Фома Аквинский, Мартин Лютер, Кальвин... Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес, Челлини... Декарт, Спиноза, Гоббс, Паскаль, Локк, Юм, Лейбниц, Шопенгауэр, Кьеркегор... (но не Кант и не Гегель). Де Токвиль, Де Кюстин, Ортега-и-Гассет, Генри Адамс, Оруэлл, Ханна Арендт... Никакого пристрастия к соотечественникам, в списке только «Бесы» Достоевского, проза Мандельштама и мемуары его вдовы. Из прозы XX века — «Человек без свойств», «Молодой Торлесс», «Пять женщин» Музиля, «Невидимые города» Кальвино, рассказы Притчетта, «Марш Радецкого» Йозефа Рота. Отдельный список 44 поэтов XX века. Он открывается именами Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, Заболоцкого.
Важнейшей темой Бродского был язык. «Язык — начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык». Он был буквально одержим языком. Для него и поэзия — это не «лучшие слова в лучшем порядке», но «высшая форма существования языка». Из диалогов с Соломоном Волковым:
«У поэта перед обществом есть только одна обязанность: а именно — писать хорошо. То есть обязанность эта — по отношению к языку. На самом деле, поэт — слуга языка. Он и слуга языка, и хранитель его, и двигатель. И когда сделанное поэтом принимается людь- ми, то и получается, что они, в итоге, говорят на языке поэта, а не государства... На сегодняшний день русский человек не говорит на языке передовиц. Думаю, и не заговорит. Советская власть торжествовала во всех областях, за исключением одной — речи».
В одном из интервью Бродский утверждал: «Если то, что отличает нас от остального животного царства, — речь, то поэзия — высшая форма речи, наше генетическое отличие от животных. Отказываясь от нее, мы обрекаем себя на низшие формы общения, будь то политика, торговля и прочее».
Для литературного критика Владимира Новикова слово Бродского «несет весть о вязкости мироздания». В этом мире даже полет птицы — метафора несвободы: «Он опять // Низвергается. Но как стенка — мяч, // как паденье грешника — снова в веру, // его выталкивает назад». Сравнения Бродского обычны. Они всегда продуманы, мотивированы, даны в лоне культурной традиции, но не являются вызывающе-парадоксальными.
Бродский в своих стихах и эссе не стремится вписаться в уже существующую картину мира, а переосмысливает и переписывает этот мир, по-своему творит его. Для него здесь тоже были образы и авторитеты. Датируя начало своей англоязычной литературной деятельности летом 1977 года, он говорил, что обратился к английскому не «по необходимости, как Конрад», не «из жгучего честолюбия, как Набоков», и не «ради большого отчуждения, как Беккет», — а из стремления очутиться в большой близости к Уистену Хью Одену, — человеку, которого он считал величайшим умом XX столетия. «Есть что-то потрясающее в первом чтении великого поэта. Ты сталкиваешься не просто с интересным содержанием, а прежде всего — с языковой неизбежностью», — так Бродский отзывался о поэзии Мандельштама. Неизменно высок был для него и авторитет Марины Цветаевой, которую он ценил выше всех других поэтов.
Вся поэзия Бродского — это философский поиск ответов на вечные вопросы жизни и смерти. Цвет времени — серый, говорил он; но это цвет смерти. Поэт — это существо, стоящее с глазу на глаз не с историей и культурой и даже не с временем и вечностью, а с бытием и небытием, то есть с Богом. Что мы, смертные, знаем о Вечности? Только то, о чем поведали нам поэты. Недаром Бродский написал в своем эссе о поэме Цветаевой «Новогоднее»: «...тот свет достаточно обжит поэтическим воображением». Именно поэма Цветаевой пред оставила Бродскому возможность наслаждаться «высшим», которое он в поэзии ценил превыше всего. По его словам, «Новогоднее», — это встреча поэта «с идеей вечности».
А Вячеслав Иванов так описывает свои впечатления от первого знакомства с «Большой элегией Джону Донну»: «Я помню ту зиму 1964 года, когда написанная двадцатитрехлетним Бродским «Большая элегия Джону Донну» попала в списках в самиздат и стал широко читаться в Москве. Я был дома на пирушке у известного переводчика и замечательного мемуариста Н. М. Любимова. Кто-то из гостей принес эти стихи и прочитал вслух. Общее впечатление было ошеломительным... Мы услышали текст, в котором говорилось о самом главном в человеческом существовании. Списки обыденных предметов со всеми подробностями понадобились для заземления того голоса души спящего поэта, который иначе прозвучал бы слишком уединенно возвышенно. Разговор поэта с Богом, составлявший основное (не всегда явно выраженное) содержание лучшего из того, что было в русской поэзии «серебряного века», продолжился на ноте, прерванной слишком сиюминутными и искусственными настроениями последующих десятилетий».
Валентина Полухина считает, что Бродский в классический треугольник «вещь — человек — дух» добавил «слово». Это позволило ему посмотреть на мироздание под новым углом. Он смотрит на мир с точки зрения Времени. С этой точки зрения иерархическое построение любой философской системы рушится. В этом отношении Бродский дерзок, беспощаден к читателю, к самому себе, к любой вере. Любая философская система, в том числе христианская, создана главным образом для защиты отдельного человека. Но с точки зрения Времени все смертно, и в системе Бродского это отражено в трансформации реального мира в поэтический следующим образом: любой конкретный человек превращается у него в человека вообще. Дожив до того времени, когда человека больше любить нельзя, и брезгуя плыть против общего течения, поэт прячется в перспективу — возникает обобщенный Человек, за которым стоит и Бродский, и читатель, и все человечество. А затем и человек умирает. Сначала он превращается в вещь, потом в символ, в знак (у Бродского идет отождествлеиие, сравнение со словом, буквой, звуком). Следующая ступень абстракции — математическая категория: «Это просто вектор в Ничто». Иметь такую беспощадную, некомфортабельную, неуспокаивающую философию страшно. В этом смысле Бродский поэт очень неудобный, он все время вас беспокоит. Нельзя его читать для того, чтобы быть счастливым. Он тормошит, заставляет думать, додумывать до конца — «до логического конца и дальше».
В его стихах постоянно живет ощущение трагизма существования: смерть, разлуки, катаклизмы, несчастья. Он словно чувствует пределы своего пребывания в этом мире, безысходность человеческого времени. «Мир меня давно не удивляет, — говорит Бродский. — Я думаю, что в нем действует один-единственный закон — умножения зла. По-видимому, и время предназначено для того же самого... Когда мы наблюдаем, в каком направлении все движется, картина получается мрачноватая. Меня при сегодняшних обстоятельствах удивляет только одно: сравнительно частые проявления человеческой порядочности, благородства, если угодно. Потому что ситуация в целом отнюдь не способствует порядочности, не говоря уже о праведности».
Стихи его трагичны. Он как бы избрал трагический метод познания и отображения действительности как основной. Его новаторство еще и в том, что он лучше кого-либо другого ощущал трагичность индивидуального и общественного бытия.
В конце 1979 года, давая интервью Свену Биркертсу, поэт говорил:
«— Я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала. В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно подвести меня к иррациональному. Когда рациональное вас покидает, на какое-то время вы оказываетесь во власти паники. Но именно здесь вас ожидают откровения. В этой пограничной полосе, на стыке рационального и иррационального. По крайней мере, два или три таких откровения мне пришлось пережить, и они оставили ощутимый след.
Все это вряд ли совмещается с какой-либо четкой, упорядоченной религиозной системой. Вообще я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения. Я придерживаюсь представления о Боге как о носителе абсолютно случайной, ничем не обусловленной воли. Я против торгашеской психологии, которая пронизывает христианство: сделай это — получишь то, да? Или и того лучше, уповай на бесконечное милосердие Божие. Ведь это в сущности антропоморфинизм. Мне ближе ветхозаветный Бог, который карает...
Мне больше по душе идея своеволия, непредсказуемости. В этом смысле я ближе к иудаизму, чем любой иудей в Израиле.
— Знаете ли вы, что в Бостонском университете ваши стихи входят в список обязательного чтения по курсу «Новейшая европейская литература»?
— От души поздравляю Бостонский университет! — отвечал Бродский. — Не знаю, право, как к этому отнестись. Я очень плохой еврей. Меня в свое время корили в еврейских кругах за то, что я не поддерживаю борьбу евреев за свои права. И за то, что в стихах у меня слишком много евангельских тем.
— Кстати, ваше имя фигурирует в справочнике «Знаменитые евреи».
— Здорово! Вот это да! «Знаменитые евреи»... Я, выходит, знаменитый еврей! Наконец-то я узнал, кто я такой... Запомним!»
О мере соотношения у Бродского «еврейства» и «христианства» написано немало. Одни напрочь отвергают присутствие «еврейского» в его творчестве. Шимон Маркиш пишет: «В этой уникальной поэтической личности еврейской грани не было вовсе. Еврейской темы, еврейского «материала» поэт Иосиф Бродский не знает — этот «материал» ему чужой». Он никогда не выступал с литературными вечерами в синагогах. Бродского неоднократно приглашал Еврейский университет в Иерусалиме выступить с лекциями, — тот неизменно отказывался.
Однако когда Бродскому задавали прямой вопрос, еврей ли он, неизменно в ответ звучало «еврей», поскольку его родители были евреями. Бродский считал и называл себя евреем. Но ощущал ли он себя евреем? — таким вопросом задается Людмила Штерн в своих мемуарах. — Чувствовал ли свою причастность, принадлежность к еврейству? Скорее всего, нет. Уже в юности он видел себя «гражданином мира». Более того, у поэта, выросшего в антисемитской стране, был страх, что его могут отождествить с распространенным стереотипом еврея, исторически сложившимся в умах, глазах и душах людей. Но влияние еврейской культуры на Бродского очевидно. Чеслав Милош, например, усматривает тесную связь Бродского с Шестовым и Кьеркегором.
Признанием вклада Бродского в духовную культуру XX столетия явилось присуждение ему в 1987 году Нобелевской премии по литературе. В своей знаменитой Нобелевской лекции Бродский говорил, что жизнь у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается. Одна из заслуг литературы в том, что она помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных. Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно спасти.
«Бессмертия у смерти не прошу...»
Полная драматизма жизнь Иосифа Бродского, совершенный им прорыв в философско-поэтическом осмыслении мира, — все это вызывало нарастающий интерес к личности поэта. Присуждение Бродскому Нобелевской премии означало его всемирное признание. Исключением была Россия. Отечественный читатель не имел возможности знакомиться с его стихами. Российских наград и российских званий Бродский так и не получил.
По существу, его первой публикацией на родине стала подборка стихов в декабрьском номере «Нового мира» в 1987 году. Несколькими месяцами позже поместила стихи Бродского ленинградская «Нева». А в августе 1988 года его стихотворения опубликовали одновременно «Огонек», «Дружба народов», «Юность» и «Литературное обозрение». Так началось приобщение широкого читателя к творчеству Иосифа Бродского.
Между тем в США весной 1991 года Бродскому был присужден титул американского поэта-лауреата. Одновременно это была и должность, которая предусматривала жалованье в 35 тысяч долларов в год, офис в библиотеке Конгресса и некоторые весьма необременительные обязанности. Раньше все было иначе. Первый в истории поэт-лауреат, назначенный в 1619 году английским королем Яковом Первым, получил 200 фунтов стерлингов и бочку испанского вина. За это сей поэт, имя его Бен Джонсон, должен был сочинять стихи к торжественным датам и событиям. В США таковая должность-звание появилась в 1985 году, поэтому у Бродского было лишь четыре предшественника — Роберт Пенн Уоррен, Ричард Уилбур, Говард Немеров, Марк Стрэнд. Свое лауреатство они воспринимали как очередное почетное звание.
Иначе повел себя Бродский. В октябре 1991 года, на пятом месяце лауреатства, он выступил в библиотеке Конгресса с программной речью, озаглавив ее «Нескромное предложение». Предложение Бродского сводилось к тому, чтобы резко увеличить тиражи поэтических сборников и расширить их распространение, продавая, в частности, в супермаркетах и в аптеках, поскольку в Америке существует давняя традиция торговать книгами и в таких местах, а не только в книжных магазинах. Только теперь на этих полках рядом с обычным набором любовных романов и приключенческих боевиков должны встать столь же дешевые и доступные сборники стихов.
Бродский разворачивает свой проект со всей основательностью, начиная с исторического экскурса. На протяжении истории поэтическая аудитория не превышала одного процента по отношению ко всему населению. Подобный расчет покоится не на специальном исследовании, но принимает во внимание духовный климат мира, нами обитаемого. В общем, состояние этой погоды всегда было более или менее одинаково. Во всяком случае, ни греческая или римская античность, ни прославленный Ренессанс, ни Просвещение не оставляют впечатления, что поэзия управляла огромными аудиториями, не говоря уж о легионах и батальонах.
Поэты льстили покровителям и стекались ко двору, подобно тому, как теперь они стекаются в университет. Прежде всего, обуреваемые надеждой на благодеяния, но не менее таковой — тягой к слушателю. Поскольку грамотность была привилегией немногих, где еще мог поэт встретить сочувственный слух и внимательный взгляд? Средоточие власти часто оказывалось и средоточием культуры, кормили там лучше, да и компания выглядела менее бесцветной и более чуткой, нежели в других местах.
Прошли века. Центры власти и центры культуры разделились. Этим вы расплачиваетесь за демократию — народную власть народа для народа, коего лишь один процент читает стихи. Если у современного поэта и есть нечто общее с собратом по перу эпохи Возрождения — это мизерное распространение его трудов.
Далее Иосиф Бродский переходит к конкретной теме своего доклада.
«Коль скоро я в этом году нахожусь на жалованье библиотеки Конгресса, то соответствующим образом отношусь к своей работе как к общественно полезной деятельности. Вот это слуга общества в вашем покорном слуге и склонен счесть показатель в один процент возмутительным и скандальным, чтоб не сказать — трагичным.
Стандартный тираж первого или второго сборника американского поэта — от двух до десяти тысяч экземпляров. Последняя попавшаяся мне на глаза перепись определяет население Соединенных Штатов в 250 миллионов или около того. Сказанное означает, что издательства рассчитывают лишь на одну тысячную процента всего населения. Что до меня, это абсурд».
Бродский считает, что тиражи поэтических сборников в США должны быть по два с половиной миллиона экземпляров.
И далее Бродский говорит о высоком авторитете и статусе поэзии США:
«Американская поэзия суть главное достояние страны. Количество стихов, на берегах этих в последние полтора века сложенных, превосходит представительства прочих видов литературы, равно как джаза и кинематографа, чрезвычайно почитаемых во всем мире. Смею сказать, то же самое относится и к качеству.
Стихи эти одушевлены пафосом личной ответственности. Нет ничего более чуждого американской поэзии, чем все эти знаменитые европеизмы: чувствительность жертвы с ее вращающимся на 360 градусов обвинительным перстом, возвышенная невразумительность, Прометеевы претензии и слепая убежденность.
Американская поэзия — совершенно замечательное явление. Много лет назад я принес Анне Ахматовой несколько стихотворений Роберта Фроста и через несколько дней спросил о ее мнении. «Что это за поэт? — сказала она с притворным негодованием. — Он все время говорит о том, как продают и покупают! О страховках и тому подобном!» И после паузы добавила: «Какой ужасающий господин».
Замечательно выбранный эпитет отражает различные позиции Фроста и традиционно трагической позы поэта в словесности европейской и русской. Дело в том, что трагедия — всегда свершившийся факт, взгляд в прошлое, тогда как ужас связан с будущим и с пониманием, или умением сказать, распознаванием собственного негативного потенциала.
Я бы сказал, что вышеупомянутый «ужасающий аспект» — чрезвычайно сильная сторона Фроста и всей американской изящной словесности вообще. Поэзия, по определению искусство глубоко индивидуалистическое, и в этом смысле Америка — логичное поэзии местопребывание.
На мой взгляд, равно как и на слух, американская поэзия суть неуклонная и неустанная проповедь человеческой автономии. Если угодно — песнь атома, не поддающегося цепной реакции. Ее общий тон определяем упругостью и силой духа, пристальным взглядом в упор, встречающим худшее, не мигая. Она в самом деле держит глаза открытыми — не столько в изумлении или в ожидании откровения, сколько настороже ввиду опасности. В ней весьма немного утешительства (к чему столь склонна поэзия европейская, в особенности русская); она богата и чрезвычайно красочна в деталях; не отягощена ностальгией по некоему золотому веку; воодушевлена стойкостью и стремлением вырваться, верней — прорваться. Понадобись американской поэзии девиз, я предложил бы строку Фроста: “И лучший выход — только напрямик”».
Реакцией на предложения Бродского было изумление. Он что, всерьез?! Однако скептическое отношение к его идее поэта не смутило; он продолжал настаивать на своем. И вот первый результат — к началу 1994 года более двенадцати тысяч поэтических книг были размещены в нескольких сотнях американских отелей.
Важным событием в культурной жизни стала публикация бесед Иосифа Бродского с Соломоном Волковым — плод многолетней совместной работы. «Диалоги» состояли как бы из двух культурных слоев; один — интеллектуально-философский: беседы об Одене, Цветаевой, Фросте; другой — автобиографический. Для нас в данном случае важен именно этот слой. И здесь отчетливо просматриваются отношение зрелого Бродского к событиям своей прошлой жизни. Из всего хода его воспоминаний видно, что он категорически против того, чтобы события осени 1963 года — весны 1964 годов рассматривались как определяющие в его судьбе. Понять его можно: к этому времени Бродский уже был состоявшимся поэтом, и вне зависимости от того, были бы травля и суд, или нет, он все равно остался бы в русской и мировой культуре. В данном случае Бродский воспроизводит прошлое как художественный текст, отсекая все лишнее, по-своему конструируя ситуацию. Недаром в «Диалогах» Бродский говорит: «У каждой эпохи, каждой культуры есть своя версия прошлого». Это, возможно, значило и то, что у каждого из нас есть своя интерпретация прошлого.
Бродский и в последние годы жизни оставался прагматиком и реалистом, объективно-жестко оценивающим окружающую действительность. Выступая перед выпускниками Мичиганского университета в «Анн Арбор» в 1988 году, Бродский говорил:
«Мир, в который вы собираетесь вступить, не имеет хорошей репутации. Он лучше с географической, нежели с исторической точки зрения; он все еще гораздо привлекательней визуально, нежели социально. Это не милое местечко, как вы вскоре обнаружите, и я сомневаюсь, что оно станет намного приятнее к тому времени, когда вы его покинете».
Он также советовал: «Старайтесь не обращать внимание на тех, кто попытается сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много — как в официальной должности, так и самоназначенных. Терпите их, если вы не можете их избежать, но как только вы избавитесь от них, забудьте о них немедленно».
И еще: «Всячески избегайте приписывать себе статуе жертвы. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы: историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу Луны, детство, несвоевременную высадку на горшок и т. д. Старайтесь уважать жизнь не только за ее прелести, но и за ее трудности».
За этими формулировками — здравый ум и годы общения с американским студенчеством.
И вместе с тем Бродский, как и всякий настоящий поэт, — это мыслитель и философ. Ему хорошо известно пространство философствования, но он и здесь в первую очередь новатор, ибо все стремится увидеть своими глазами и объяснить своим языком. Поэт Александр Кушнер именует Бродского поэтом безутешной мысли, едва ли не романтического отчаяния. Для Бродского характерно длинное стихотворение с множеством строф; даже внешний, графический вид этих сложных строф с их разностопными, изломанными стихами говорит о той трансформации, через которую прошел русский стих в его руках.
А если стихотворение короткое, то все равно оно поражает громоздкостью и сложностью речевых конструкций, синтаксической запутанностью, нагромождением придаточных, обилием обособленных обстоятельств и определений. Такое впечатление производит обломок скалы, далеко откатившийся от нее.
Виртуозность стиха бросается в глаза, интонационная, синтаксическая, речевая изощренность как нельзя лучше соответствует небывалому лексическому богатству и разнообразию, связана с колоссальным количеством подробностей, деталей: обвал не спрашивает, что перед ним, куст или каменная кладка, заблудившаяся корова или линия электропередачи.
Все богатство мира проходит перед глазами, циклопическая строфа набита вещами и понятиями — впечатление такое, что читаешь зарифмованный энциклопедический словарь, — и это ощущение, пожалуй, даже угнетало бы сознание, если бы то и дело через строку не пробегала дрожь подавленной скорби, или прекрасной печали, или холодного гнева, а то и отвращения.
И преобладает мысль, но не обыденная, прозаическая, которой пользуемся в повседневной жизни, а поэтическая мысль, не отделимая от мелодии, ритма, разогретая им мысль метафизическая, образная, не чуждающаяся иронии, а и прелестной, очень тонкой, очень «бродской» игры ума.
Однако всемирное признание, слава, Нобелевская премия, — ничто не могло заглушить его сердечную боль. Он перенес три инфаркта и операцию на сердце. В начале 1996 года на 56-м году жизни «всемирный поэт» покинул земной мир.
Откликнувшись на смерть Бродского, Томас Венцлова сказал:
«Он умер в январе, в начале года. Эти слова, написанные Бродским более тридцати лет тому назад, в стихах Томасу Стернсу Элиоту, оказались словами о себе самом. Повторяя их, мы лишний раз осознаем, что поэты не умирают. Иосиф Бродский просто ушел туда, где он встретит Элиота и Одена, Ахматову и Донна, Овидия и Проперция — тех, с кем он на равных разговаривал при жизни».
У него была поразительная судьба — возможно, наиболее поразительная в русской литературе. Иосиф Бродский рос в ту пору, когда высокая трагедия, на которую была столь щедра первая половина XX столетия, казалось бы, сменилась сокрушительным безвыходным абсурдом. Приняв абсурд как данность и точку отчета, он сумел построить на пустоте огромное поэтическое здание, восстановить непрерывность убитой культуры, более того — снова открыть ее миру. В этом ему, несомненно, помог родной Петербург — единственный, пожалуй, город Восточной Европы, жителю которого трудно ощущать свою второсортность перед лицом Запада или испытывать к нему высокомерную враждебность, а вести с Западом диалог естественно. Он принял как свои Венецию, Рим и Нью-Йорк, и эти города приняли его как своего достойного гражданина, но он до конца остался петербуржцем, как Данте остался флорентийцем.
На бредовую систему, окружавшую его в юности, он с самого начала реагировал наиболее достойным образом, а именно — великолепным презрением. Он твердо знал, что империя культуры и языка есть нечто несравненно более могущественное, — да и более требовательное, — чем любые исторические империи. Поэтому он оказался несовместимым с той империей, в которой ему пришлось родиться. Это кончилось изгнанием — что, возможно, не менее трудно для поэта, чем физическая гибель, но всегда предпочтительнее для его читателя. В изгнании Бродский написал свои главные вещи. Он был окружен друзьями, в последние годы судьба дала ему и личное счастье. Одиночество все же сопровождало его. Он постоянно уходил — от литературных клише, от своей прежней манеры, от многих читателей и почитателей — и, наконец, ушел из мира. Не ушел он только от русского языка.
Строки его, с их звуковым напором, разнообразием словесных регистров, сложностью и утонченностью синтаксиса, поражают даже на фоне русской поэзии XX века — а уж ей-то великолепия не занимать. В нем соединились две ее главные традиции: с одной стороны, строжайшая выверенность Ахматовой и Мандельштама, с другой — отчаянное новаторство, которое обычно связывается с футуризмом, но которое сам Бродский связывал скорее с Цветаевой. Его стихи суть серии почти математических приближений к бесконечно малому и бесконечно большому — к небытию и к тому, что отрицает небытие. Это речь, которая остается, когда нет ничего, кроме полной темноты.
Язык долговечнее человека, а ритм и вовсе неистребим. В январе 1996 года Иосиф Бродский окончательно ушел в мир языка и ритма, тот мир, который он всегда ощущал своим — куда более обширным и ценным, чем мир истории. За семь лет до своей кончины, в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» Бродский сказал:
Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова прощенья и любви, как собственный свой голос.
В них бьется рваный пульс, в них слышен
костный хруст, и заступ в них стучит; ровны и глуховаты, поскольку жизнь — одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.
Великая душа, поклон через моря За то, что их нашла, — тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.
Философ в поэзии и поэт в философии, Иосиф Бродский говорит с нами о смысле жизни и смерти, о сути мироздания, о величии и низости человека, и разговор этот — в расчете на Вечность. Как тут не вспомнить Кьеркегора: «Что такое поэт: Несчастный человек, носящий в душе тяжкие муки, с устами, так созданными, что крики и стоны, прорываясь через них, звучат как прекрасная музыка».
Содержание:
Предисловие
Вступление. Вечные странники
МОИСЕЙ: освободитель и законодатель
НОСТРАДАМУС: великий провидец
СПИНОЗА: Бог един и вечен
РОТШИЛЬД: патриарх и его династия
МАРКС: идеолог Новейшего времени
ФРЕЙД: между Я и Оно
КАФКА: гений безумного мира
ТРОЦКИЙ: поверженный кумир революции
ШАГАЛ: избранник муз
ЭЙНШТЕЙН: творец нового мира
ДУНАЕВСКИЙ: гусляр эпохи
БРОДСКИЙ: последний классик
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
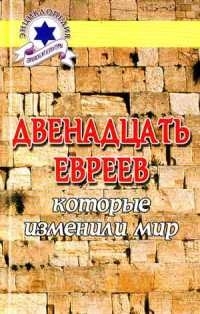

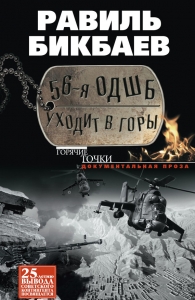


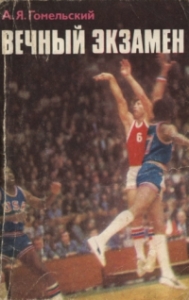
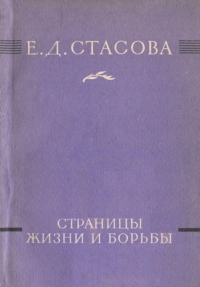
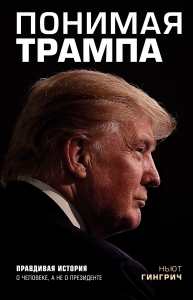
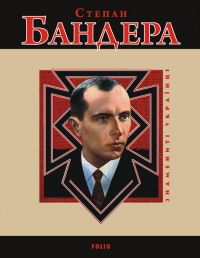
Комментарии к книге «Двенадцать евреев, которые изменили мир», Владимир Николаевич Шевелев
Всего 0 комментариев