А. А. Андреева Плаванье к Небесной России
ПЛАВАНЬЕ К НЕБЕСНОМУ КРЕМЛЮ АЛЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АНДРЕЕВОЙ Вступительная статья
В православной литургии есть ектенья, начинающаяся так: «О плавающих, недугующих; о вдовицах и сиротах; о в пленении сущих, в судах истязуемых…»
Эти слова, каждое, о них — о поэте Данииле Андрееве и его вдове. В их судьбе все это было. Дороги, смертельные болезни, неправый суд, тюрьма, сиротство и вдовство. Все то, что досталось на нашем веку многим и многим, чье плаванье совершалось меж островами известного архипелага. Моление это о них. Так я думаю.
О своей жизни Алла Александровна Андреева рассказала в книге «Плаванье к Небесной России». «Плаванье к Небесному Кремлю» — название поэмы, которую Даниил Андреев написать не успел.
Книга похожа и не похожа на «вдовьи» мемуары. В них нет ни частой в таких мемуарах (иногда увлекательных) болезненно-мелочной сосредоточенности на своей роли в жизни поэта, ни ядовито-кокетливого, с поджатием сухих губ, сведения женских счетов. Ее интонация почти безоглядной исповеди искренна, то по-детски простодушна, то возвышенна, но без выспренности.
Это рассказ о прожитом, темпераментный, иногда безоглядно резкий — таков характер — и артистичный. А Даниил Андреев — и есть ее жизнь, судьба, главное в ней.
В сущности, их совместная жизнь была недолгой — несколько лет тревожного счастья, страшное десятилетие разлуки. Познакомились в 37-м, поженились в 44-м, в апреле 47-го арестованы. После освобождения Даниил Андреев прожил 23 месяца. Это были месяцы бездомности, смертельной болезни, больничной тоски, послетюремного мучительно-хлопотливого обустройства и беспрестанной работы над чудом вырученными из застенка рукописями. Но это жизнь поэта, в которой все приобретает иное значение, другим становится само время. И это жизнь, превращающаяся в житие.
А их переписка — письма из тюрьмы в лагерь, из лагеря в тюрьму — роман о любви и роке пятидесятых?
А многолетняя, полная драматических перипетий жизнь Аллы Александровны с рукописями и именем Даниила Андреева: с «Розой Мира» и «Навной», «Железной мистерией» и «Рухом»? Все это поэт знал наперед:
Нудный примус грохочет, Обессмыслив из кухни весь дом: Злая нежить хохочет Над заветным и странным трудом. Если нужно — под поезд Ты рванешься, как ангел, за ним; Ты умрешь, успокоясь, Когда буду читаем и чтим… Еще до встречи у них было общее.Общее счастливое детство («младенчество было счастливым…» — писал Даниил Андреев). У нее в Кривоколенном переулке, потом на Плющихе, в семье отца, доктора Бружеса. У него в Малом Левшинском, рядом с домом, где когда-то жили Аксаковы, в семье доктора Доброва. Потому, несмотря на почти десятилетнюю разницу в возрасте, говоря о себе, она что-то видит его глазами, а о его детстве рассказывает, как о собственном.
Детство обоих овеяно музыкой.
О пылком музицировании доктора Доброва кто только не вспоминал, кто только не слышал в его исполнении «обрывки вагнеровской увертюры, чаще всего тягучие басы „Тангейзера“». Отец Аллы Александровны учился у Римского-Корсакова. Мать мечтала стать певицей. Брат стал музыкантом.
Обоих завораживала Москва их детства и отрочества. Москва с извозчиками, в белом сугробистом снегу в нетронутых арбатских переулках. Москва, не искалеченная сталинской «великой реконструкцией», со звонящими колоколами, среди которых и колокола храма Христа Спасителя, слышимые в Малом Левшинском.
Но все же от рассказов Аллы Александровны остается ощущение, что чего-то главного мы не знаем, и, конечно, никогда не узнаем. Некая тайна остается, потому что это детство поэта. Поэта-мистика, духовидца, показавшего изнанку нашего мира и множество миров, то и дело пересекающихся с нашим. А свое мифостроительство он начинает в хлебосольном, кого только не видевшем, от Горького до Белого, добровском доме. Об этом свидетельствуют уцелевшие трогательные две его детских тетради. Десятилетний автор сочинения «Юнона», еще вряд ли осознающий, на какой путь он вступил, в предисловии объявляет, что «имел целью позабавить молодежь своеобразной и оригинальной выдумкой „мой собственный мир“».
Память Аллы Александровны и цепко подробна, и музыкально прихотлива, но все вспоминаемое связано, как мне кажется, с главной темой, которую можно было бы обозначить словом, мелькнувшим у Пушкина, — самостоянье.
Самостоянье, несмотря ни на что, перед безбожной, бесчеловечной властью, перед сминающей душу советской обыденностью, устоять перед которой труднее всего.
Самостоянье это не было целеустремленной, сознательной, тем более политической, борьбой за что-то или против чего-то. Нет, оно было всего лишь естественной формой самозащиты человека, не могущего жить, не мысля и не творя. Жить без литературы, без искусства. То была попытка жить более-менее нормальной духовной жизнью в ненормальном, отрицающем ее времени «войн и тираний». Потому в повествовании Аллы Александровны нет политического пафоса.
Уже у сегодняшнего читателя часто возникает недоумение перед иными, некогда крамольными, текстами. Что тут было запрещать? Но нет, система не перестраховывалась, а безошибочно чувствовала инородность, чужекровность живой культуры. Тем более культуры, связанной с ее христианскими основами, с духовными блужданиями и порывами, которыми жил оборвавшийся Серебряный век.
В чем и в каком кругу утверждалось самостоянье Аллы Александровны Андреевой?
До знакомства с Даниилом Андреевым, еще без настоящего понимания что вокруг творится, это было семейное увлечение музыкой, потом — живопись, художники, по ее словам, «очень узкий круг людей, с головой погруженных в искусство».
А для Даниила Андреева самостоянье неизбежно стало одиноким противостоянием. Поэт, утверждавший «непримиримое „нет“ \\ Богоотступничеству народа», в своих прозрениях и исканиях понимал то, что мы начали понимать нескоро.
И все, что рассказывает Алла Александровна, трогает тем непосредственным ощущением воздуха времени, которое передать всего труднее.
Вот она вспоминает: «В 1929 году смолкли церковные колокола. О том, что это было в том году, мне говорил Даниил. Тем летом он уехал специально поближе к Радонежу, чтобы слышать колокольный звон, там остался последний храм, где еще звонили».
В 29-м году ей было 14 лет. То, что колокола умолкли, тогда она словно бы не запомнила. Но дело не в том, сколько ей было лет. И не в том, что семья ее (прежде всего отец-физиолог) была не религиозна. А, видимо, в том, что она принадлежала к поколению все же иному, чем Даниил Андреев, так или иначе уже подготовленному к тому, что колокола умолкнут, крестьян разорят, чаще и чаще будут арестовывать «ни за что».
В повествовании Аллы Александровны нет ни страдальческого придыхания, ни нарочитого (потому что задним числом, как бывает) философического углубления в суть пережитого.
Вот она признается: «Мы еще настолько ничего не понимали, что написали с Сережей письмо Сталину». Что ж, и Даниил Андреев в письме к брату (1937 год) сообщает: «…я напишу Иосифу Виссарионовичу, и, думаю, он сочтет возможным помочь нам».
Субъективность ее рассказа искренна, неизбежные умолчания понятны. Кого-то осуждая, она и себя не отъединяет от них, осуждает и себя.
«Все, за единичными исключениями, голосовали за смертную казнь», — утверждает она. И признается: «…преступное голосование… мы в нем все участвовали… В этом одна из очень страшных черт советской власти».
Так или иначе, главное событие книги, и жизни, определившее ее, с кровью разрезав надвое, это — арест, «знаменитое» «Дело Даниила Андреева». Оно переломало жизни всех, волею судьбы и «органов», вовлеченных в него.
В порывистом рассказе Аллы Александровны есть поразительные подробности.
Вот она сообщает о том, как ее муж встретил приговор: 25 лет тюрьмы (смертная казнь тогда была ненадолго отменена). Он «рассмеялся, потому что подумал: „Они воображают, что продержатся 25 лет“. Даниил был из тех людей, что слышат Божье время, а там коммунисты давно кончились». (Некогда, рассказывая мне об этом, она заметила, что Даниил Андреев путал два времени — реальное и мистическое).
О советских лагерях и тюрьмах уже немало написано. И кое-кто любит при случае заявлять, что, мол, хватит «лагерной» литературы. Но нет, когда видишь, насколько податлива историческая память, насколько люди не желают помнить страшного, творившегося и при их безмолвствующем участии, то убеждаешься, что далеко не всех свидетелей и страдальцев советчины мы выслушали.
Говоря о следствии, о страшной Лефортовской тюрьме, о лагере, Алла Александровна старается рассказать о себе тогдашней, наивной и все же мужественно цельной, как бы и в чем бы сама себя она ни обвиняла, не замечавшей (вместе с многими!) очевидного, и удивительно проницательной. Как-то в разговоре она призналась: «Человеком меня сделал лагерь. До лагеря я была просто красивая дура».
Категоричная в приятии и неприятии людей, повествуя о своей лагерной жизни, она делает беглые зарисовки своих солагерниц, если не с любовью, то с участливостью.
Беспечно доверчивая, безоглядная в своих дружбах, она и резко их рвала, иногда несправедливо строгая в своей непримиримости.
Все мы читали воинственных публицистов перестройки, все и вся клеймивших без снисхождения к человеческой греховности и слабости. Непримиримые борцы, конечно, не изведали никаких лагерей, имея, в лучшем случае, выговор по партийной линии.
Алла Александровна не преминула помянуть хоть беглым, но добрым словом всех, как она их называет, «хороших начальников». Низко кланяется она начальнику режима владимирской тюрьмы Давиду Ивановичу Кроту, сохранившему и отдавшему ей рукописи мужа!
В ее плаванье к Небесному Кремлю снится ей замечательный в своей картинной выразительности сон о Кремле нашем, земном. «Я несколько раз видела один и тот же сон: мы стоим пятерками, как на поверке, пятерками идем через Кремль. Впереди не видно начала этой шеренги и пятерок, а когда я оглядываюсь, не вижу конца. Колонна заключенных идет через Кремль».
Кремль детства — торжественно праздничный, волшебный, Кремль стихотворений Даниила Андреева — величественная святыня, над которой он видит Кремль небесный, и этот Кремль лагерных снов — вот главный образ-символ и книги Аллы Александровны Андреевой, и поэтической вселенной «Русских богов» и «Розы Мира».
Алла Александровна рассказывает, как, совсем недавно, она услышала из своих окон в Брюсовом переулке звон Ивана Великого из Кремля, который напомнил пасхальный благовест детства. И под этот благовест ей, кажется, легче вспоминать, заново переживая и страшное, и радостное.
Огонь жизни Даниила Андреева высветил окружающих его, одних — лишь силуэтом выхватив из забвения, других — заставив светиться рядом. И для вдовы его он, конечно, не просто любимый, муж, нет, в ее жизни все озарено его светом и словом. Она нигде не говорит об этом, чуждая театральности или велеречивости в своем прямодушном, не избегающем самоиронии, рассказе. Пафос у нее появляется лишь там, где он уместен, где она говорит о Боге, о Божьем промысле. Прямое ощущение промысла, кажется, сопровождало ее всегда, давая ту силу, бодрость, без которых ее путь непредставим.
Рассказывая о себе, она не может не говорить о Данииле Андрееве, даже тогда, когда вспоминает о годах до их знакомства, словно бы ее жизнь неисповедимо была с ним связана и раньше.
Среди многочисленных стихотворений Андреева с посвящением «А.А.» есть несколько, где ее образ он рисует таким, каким он и останется. Большинство из них написаны во Владимирской тюрьме, в 1950 году, когда он не знал о сидевшей в лагере жене ничего, спрашивал: «В какой же ты ныне \\ Беспросветной томишься глуши»?
В стихах он сказал о сокровенном:
Все безвыходней, все многотрудней Длились годы железные те, Отягчая оковами будней Каждый шаг в роковой нищете. Но прошла ты по темному горю, Легкой поступью прах золотя, Лишь с бушующим демоном споря, Ангел Божий, невеста, дитя… С недоверием робким скитальца, Как святынь, я касался тайком Этих радостных девичьих пальцев, Озаренных моим очагом…Рассказы Аллы Александровны о своем «плаванье» — рассказы о живой жизни, о женской судьбе. Поэтому из обрывистых рассказов, реплик, из вспомнившегося между прочим, за чашкой чая, можно было бы узнать не меньше, хотя в книге о главном и заветном она что хотела — сказала. Но книга всегда меньше человека.
«Мой папа был к религии равнодушен. А у Даниила мистика — структура души, в „Странниках ночи“ мистики было очень много. Но отношения между ними были высокими. Как-то в Задонске, захожу — они сидят и молчат. А я вспыльчива. Я потом его спрашиваю, почему ты молчишь? Тебе не о чем говорить с папой? А он мне ответил, да, мне с ним говорить трудней, чем с какой-нибудь верующей дурой…» Нет, не случайно запомнился ей этот ответ.
Не слишком много Алла Александровна говорит о своем призвании, о пути художника. И как художник, живописец и график, она жила столь же безоглядно, легко расставаясь со своими работами, словно бы не придавая серьезного значения своему дару. Боюсь, что сегодня многое из сделанного ею в искусстве мы просто не сможем увидеть. Одни работы, видимо, пропали безвозвратно — слишком долго она ютилась по коммунальным углам, мастерской никогда не было, другие — в провинциальных музеях и где-то, у кого-то.
Как лирически точны ее иллюстрации к книжечке стихов Даниила Андреева «о природе»! Иллюстрации, в которых нет ничего от тех многозначительно вычурных вариаций на темы «Розы Мира», не замедливших появиться. Ее рисунки, естественно свободные, завораживают лаконизмом и богатством живой линии, безошибочным ощущением равновесия белого и черного, выразительностью графического жеста и пространства. А главное в них — то нежное чувство природы, которое было так внятно поэту.
О своем понимании искусства Андреева говорит в книге немного, просто, но о главном. Она признается в любви: «Я очень люблю пейзаж. Когда я пишу, то хочу, насколько хватит сил, передать Божий замысел этого пейзажа, ту гармонию, которую Творец вложил в него. Каждая складка падающей ткани в натюрморте, каждый блик хрусталя или металла — тоже Божий мир, красота нашего мира. И работа над портретом — это попытка проникнуть в замысел Творца о человеке…»
Даниил Андреев сказал о ней:
Ты проносишь искусство, Как свечу меж ладоней, во тьме, И от снежного хруста Шаг твой слышен в гробу и тюрьме.Стойкая, почти инстинктивная верность искусству, себе, своей любви, поэзии Даниила Андреева, верность до самозабвения, и представляется главным мотивом ее жизни, книги, который звучит в ней иногда и помимо воли автора. Как вера в Божий промысел, в судьбу, подтвержденная жизнью.
Мог ли Андреев избежать ареста, читая своих «Странников ночи» еще более узкому кругу друзей или же таясь ото всех? Могли ли они не встретиться в 1937 году и разминуться в 1944?
Нет, все это, так или иначе, неминуемо должно было случиться. И без этой любви, без пламенных дружб, без сиротства и теплоты добровского дома, без трубчевских круч и брянских немереч, без фронта и без тюрьмы не представима ни поэзия Даниила Андреева, ни его жизнь, становящаяся, ставшая житием. Без всего, что ими вместе пережито, не представима и судьба Аллы Александровны Андреевой — неровная, страстная, выразительная.
Изысканная красавица, профессорская дочка, художница становится женой нищего, чудаковатого для стороннего взгляда, с его непонятным стихописанием и диким босиком-хождением поэта-мистика, не опубликовавшего ни строки, идет с ним в тюрьму, выхаживает его, безнадежно больного, хранит десятилетиями его опасные рукописи, и потом, даже ослепнув, на девятом десятке едет в какую угодно даль, где готовы слушать стихи Даниила Андреева. И вдохновенно, с духоподъемной силой и страстью доносит до нас, может быть, заветные интонации самого поэта.
Я вспоминаю, как мы с Аллой Александровной ехали в Саратов, к читателям и почитателям Даниила Андреева.
Она уже почти не видела. Но была бодра, в ее лице не сквозило и тени покорной беспомощности и неуверенности, обычной у ослепших людей.
В купе с нами ехали два старика. Как это водится, с попутчиками мы перекидывались какими-то словами. Им было куда меньше семидесяти. И я поймал себя на мысли, что Алла Александровна, которая старше их лет на десять-пятнадцать, которая слепа, куда моложе этих скучных, одряхлевших не столько телом, сколько душой людей, и вообще не имеет ничего общего с их унылой старостью.
И вот она читает стихи Даниила Андреева. Лицо ее приподнято, устремлено куда-то вверх, словно обращено не только к слушающим ее, но и к стоящему где-то за последним рядом (он и на большинстве известных групповых фотографий в последнем ряду) высокому, смуглому, с огромным ясным лбом, похожему чем-то на индуса, поэту. И в чтении ее угадывается его голос, как свидетельствуют слышавшие чтение самого Даниила Андреева.
Она всегда мечтала быть актрисой. Страстная детская мечта никуда не исчезла. Она упоенно играет в лагерной самодеятельности, и уже там, в бараке, подругам читает стихи Даниила. Без своих чтений она не представляет вечеров памяти поэта, конференций, научных собраний, ему посвященных. Сказав несколько слов, чаще всего, поспорив с невменяемыми любителями мистического тумана и оккультных бредов, она читает стихи. Стихи — присутствие самого поэта. Каждый раз она тщательно продумывает программу, репетирует, сомневается, волнуется, советуется. Она читала стихи Даниила Андреева, не отказываясь ни от одной возможности, перемогая болезни и немощи, по всей стране, в Париже, в Германии, на Мальте. Я был с ней лишь в нескольких поездках, но и я слушал ее в Новосибирске, Екатеринбурге, Смоленске, Брянске, и, конечно, в Трубчевске.
Помню, мы только познакомились, я только принялся читать эти удивительные рукописи, которые не сразу, частями, кусками приносила она мне в издательство — «Я вас ужасно боялась вначале, как всех редакторов!» — как в один ясный летний день увидел из окна своей толстопальцевской избушки, что у калитки стоит, нетерпеливо вглядываясь, Алла Александровна. Она торопилась узнать судьбу будущей книги, с которой начались мои занятия наследием Даниила Андреева. Шёл 88-й год, Алла Александровна была полна упрямой энергии, готова бежать и ехать куда угодно — нестарчески легкая, стройная, нервно-стремительная.
Болезни, слепота, годы не сделали ее другой. Она та же, неосмотрительная в увлечениях, резкая в неприязнях, спорах, иногда и несправедливая, готовая идти и ехать, ведомая кем-нибудь за руку, но все так же прямо держащая седую, с летящим профилем, голову, четко и молодо рассуждающая. Видимо, она в свою бабушку, в ту, что с цыганской кровью, которая дожила в полной ясности ума до 94-х. И я с ней спорил, даже ссорился, обижаясь на напраслины, но всегда дорожил и дорожу нашим знакомством. Ведь и вправду, таких женщин, как она, нет.
В ее утонченном и строгом скандинавско-северном облике чувствуется, что среди ее предков были датчане, литовцы, новгородцы. И есть в ней нечто от того любимого вагнерианцем Даниилом Андреевым образа Кримгильды, о котором он писал в своей поэме:
Летят года в беспламенные дали, Но красоты не скроет вдовий плат…В тюрьме, не зная где она, в каком лагерном краю, жива ли, Даниил Андреев писал:
Врозь туманными тропами Бытия Пронесем мы нашу память, Наше я. Если путь по злым пустыням Мне сужден, Жди меня пред устьем синим Всех времен! …Груз греха отдав возмездью И суду, За тобою все созвездья Обойду. Дней бесчисленных миную Череду, — Я найду тебя! Найду я! Я найду!Опять я прихожу в Брюсов переулок, поднимаюсь на седьмой этаж, выходя из лифта, вижу, как она ждет меня, неизменно широко распахнув дверь, и спрашивает: «Это вы, Борис Николаевич?» И мы опять говорим о делах поэта, которые все еще непросты, которых много, которые не дают ей успокоиться.
Книга «Плаванье к Небесной России» — увлекательнейший рассказ о необычной женской судьбе, о необычной любви, о необычном, не только для русской, но, видимо, и для мировой литературы, поэте и… о самой обычной для двадцатого века и нашей России доле. Литературный дар и чувство слова рассказчицы несомненны. Но книгу она из-за обрушившейся на нее слепоты уже не писала, а наговаривала, надиктовывала. Это сказалось на стилистике, на прерывистом, разговорном дыхании повествования. Но все равно — в книге звучит неповторимый голос Аллы Александровны, видны ее своенравная порывистость и нервный темперамент.
Даниил Андреев, в сущности, лишь недавно «вошел» в нашу литературу — наступило его мистическое время. А книга «Плаванье к Небесной России» — бесценное свидетельство его земного времени.
«По матери я — Никитина. Так вот, — сказала мне Алла Александровна как-то, — в мамином роду считали, что они происходят от того самого Афанасия Никитина, тверского путешественника в Индию». Я в это вполне верю. Поэтому ее не удивляла таинственная любовь Даниила Андреева к Индии, поэтому она так точно назвала и его, и свою жизнь плаваньем.
Борис Романов
ПЛАВАНЬЕ К НЕБЕСНОЙ РОССИИ Вступление
Начать эту книгу я хотела бы с объяснения ее названия. Оно может показаться претенциозным, самонадеянным. Это — название ненаписанной поэмы Даниила Андреева. Вернее, точное название поэмы Андреева «Плаванье к Небесному Кремлю».
История возникновения замысла поэмы такова. Шел 1958 год, минуло чуть больше года с тех пор, как Даниил вернулся из тюрьмы, вернулся умирающим. Мы только что обвенчались. Произошло это так поздно, лишь незадолго до его смерти, по самой простой причине: раньше у нас не было денег на кольца. Мы едва сводили концы с концами и просто не могли обвенчаться до ареста из-за своей бедности. После освобождения нам тоже приходилось очень нелегко материально. Наконец, в 58-м году, Даниил получил гонорар за тоненькую-тоненькую книжечку — маленький сборник рассказов Леонида Андреева (в то время его уже вновь начали издавать), и тогда же ему определили персональную пенсию. До этого мы попросту жили на помощь моих родителей и друзей, потому что оба были тяжело больны.
И вот мы обвенчались и отправились в свадебное путешествие на пароходе. Был тогда чудесный рейс — не из Северного порта большими теплоходами, а из Южного, и пароходы были небольшие. Рейс назывался «Москва — Уфа». Он проходил по Москве-реке, Оке, Волге, Каме, Белой и обратно. Возвращаясь, мы снизу подплывали к Ярославлю. Было раннее утро. Даниил вышел на палубу, я что-то делала в каюте. Он сидел на палубе под нашим окошком и вдруг закричал: «Иди скорей сюда!». Я испугалась, потому что «иди скорей сюда» обычно означало одно — сердечный приступ. Состояние его было безнадежным, и становилось ясно, что жить ему осталось очень недолго. Я выскочила на палубу, подбежала к Даниилу, но, слава Богу, испугалась я напрасно. Дело было совсем в другом. Если рано утром снизу подплывать к Ярославлю, то первое, что видишь, — это дивные ярославские храмы. Так как они стоят на высоком берегу реки, а утром от воды поднимается туман, то кажется, что храмы эти появляются в небе, прекрасные, белые, совершенно неземные. Чтобы увидеть это, нужно подниматься к Ярославлю по Волге снизу и обязательно очень рано утром. Оба мы радостно замерли и долго молча сидели, пока не миновали это чудо.
Потом мы вернулись в Москву. Скитались по чужим домам. Время от времени Даниил попадал в больницу. Он работал над книгой «Русские боги», которую назвал поэтическим ансамблем. Одной из последних глав этой книги должна была стать поэма «Плаванье к Небесному Кремлю». Замысел поэмы родился в то самое раннее июньское утро на Волге, чуть ниже Ярославля.
Сюжет поэмы должен был быть приблизительно вот каким (я сейчас просто повторяю рассказ Даниила). Происходит реальное плаванье по настоящей реке вдоль изуродованных берегов со сломанными колокольнями, обескрещенными куполами, разрушенными церквями. И вот пароход плывет, плывет, и пейзаж медленно начинает смещаться. Река становится чище и яснее, берега поднимаются светлее и радостнее. Вздымаются ввысь кресты на куполах, с колоколен доносится перезвон. И так вот корабль вплывает в сияющий, наполненный благовестом Небесный Кремль.
Прошу простить мне, что взяла название этой поэмы для книги о собственной жизни, но ведь каждую жизнь можно сравнить (и очень часто сравнивают) с плаваньем. И, вероятно, многие из нас так или иначе всю жизнь плывут к своей Небесной Родине. Дай Бог, чтобы и я в конце своей жизни — сложной, грешной, длинной и очень-очень разной — все-таки причалила бы к Небесному Кремлю.
Я думаю, что это ощущение течения жизни как плаванья подсказало Александру Исаевичу Солженицыну название потрясающей его работы, одной из самых значительных книг XX века — «Архипелаг ГУЛАГ». Лагеря-то были расположены не на островах, а на русской земле. И все-таки это был архипелаг ГУЛАГ. Еще глубже — молитва, которой Православная Церковь провожает нас в последний путь: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек…».
Ну что же, отправимся в плаванье.
Глава 1. АНГЕЛ
Первая гавань, которую я помню, тихая и теплая. Мне меньше трех лет, и мы живем в Кривоколенном переулке в двухэтажном доме, который стоит там и до сих пор. Это — белая детская кроватка с пологом, похожим на парус, из соседней комнаты доносятся звуки рояля и мама поет.
Воду — проливной теплый дождик — я помню очень рано. Перед подъездом дома, в котором мы жили, большая лужа. Папа раздевает меня и совершенно голенькую ставит в эту лужу под дождь. В неописуемом восторге я прыгаю в луже и громко кричу, как маленький звереныш, а брызги воды разлетаются во все стороны. Время от времени я поглядываю вверх, на окно второго этажа, в котором стоят папа и мама и хохочут, глядя на уморительную картину.
Вот кухня того же дома. Я сижу у няни на коленях, и она поет: «Среди лесов дремучих разбойнички идут, в своих руках могучих товарища несут». У няни был хороший голос, и она много пела. Я рыдаю над разбойничком, которого несут, с таким отчаянием, с такой пронзительной жалостью и протестом, что в кухню вбегают испуганные родители. Эта способность к сопереживанию была у меня, видимо, изначально.
Вот еще одно из важных и странных ранних воспоминаний. Вероятно, это уже 1918 год, потому что вся наша семья — папа, мама, няня и я — большую часть времени проводит на кухне. В квартире холодно, и вечером папа кутает меня в одеяло и завязывает его тесемочками. Я всегда была очень подвижной и все разбрасывала, поэтому одеяло приходилось завязывать, чтобы ночью я не раскрывалась. Папа несет меня по коридору в дальнюю комнату. Это детская. Он укладывает меня в постельку с пологом и уходит. Долго сидеть с ребенком перед сном у нас не полагалось. Обычно меня просто укладывали и уходили. А у меня, как это ни странно, — бессонница. И вот я лежу в кроватке под белым пологом. В углу висит икона Божьей Матери. Семья наша не была агрессивно атеистической, просто далекой от религии. Папа был ученым, отошедшим, как многие в то время, от веры. Мама считала, что, конечно, «что-то там есть», но можно об этом и не думать. Няня тоже всерьез никогда со мной о Боге не говорила, может быть, только отвечала на какие-то детские вопросы. Именно поэтому мое воспоминание странно.
Так вот, папа, уложив меня в кроватку с белым пологом и сеточкой, ушел. Я не сплю. Мне хорошо и тепло, но одеялу — холодно! И я мучаюсь: как быть? Потом я догадываюсь, что полог закрывает одеяло, поэтому одеялу тепло. Но пологу холодно! Потом я решаю, что полог ведь закрыт потолком, потолок — крышей. Но крыше холодно! Я не могу спать, я не могу жить — крыше холодно! И наконец мне приходит в голову все разрешающая мысль: все, все укрыто Святым Духом. И я, счастливая, засыпаю.
Откуда пришли эти слова?
Много лет спустя я рассказала об этом переживании Даниилу, и оно так его поразило, что вошло в роман «Странники ночи», где нечто подобное происходит с одним из персонажей.
За окном кухни, о которой я уже говорила, цветет груша. Это было большое дерево, потому что вершина его доходила до второго этажа. Конечно, цвела она весной, но память и детство имеют свои законы, и я помню эту грушу как бы всегда цветущей. И цветущие деревья, именно большие цветущие деревья, имеют какую-то особенную власть надо мной.
По-видимому, три года — особый возраст для ребенка. В душе как будто зарождаются крохотные жемчужинки — зернышки основных черт личности. Удивительной особенностью души ребенка является бесконечная доверчивость. Слова, сказанные взрослыми, не подвергаются сомнению.
Вот два эпизода из жизни в Кривоколенном переулке.
Я сижу все в той же кухне и с упоением раскрашиваю контурные картинки — рисунки лошадей в книжке. У нас живет мамин младший брат, дядя Жоржик. Увидев плоды моих «вдохновенных трудов», он смеется: «Ну что это такое! Розовых и зеленых лошадей не бывает». Мама, заметив мою растерянность, подходит и спокойно говорит: «Ляля права, в Англии лошадей красят». Не помню до какого, но вполне серьезного возраста я была твердо уверена, что в Англии красят лошадей.
А вот второй случай. У нас в доме стояла маленькая статуэтка — папа сидит в глубоком кресле, положив ногу на ногу. К сожалению, статуэтка — работа папиного друга — была гипсовая, и уже тогда одна нога у нее отбилась. Конечно, я спрашивала няню, где нога. Нянин ответ: «Папа был на войне, ногу ему оторвало, а потом она отросла» — убедил меня настолько, что уже в школе я, захлебываясь, спорила и доказывала, что ноги отрастают, ссылаясь на ту статуэтку.
А вот и первая встреча с обманом.
Тогда же я страшно хотела ребенка — не куклу, а живого маленького ребеночка. «Откуда берутся дети?» — «Их покупают у цыган». И вот однажды на Чистых прудах, где мы всегда гуляли, появились цыгане. В Москве их всегда было много. Я тут же отправилась в табор и заявила, что мне нужен ребенок. Няня была рядом и, видимо, обо всем успела цыган предупредить. Те ответили: «Ладно. Нет сейчас ничего хорошего, завтра мы тебе принесем ребеночка». Назавтра я опять побежала к ним, сказала: «День добрый», и та же сцена повторилась. И так каждый день я неслась на Чистые пруды в надежде, что вернусь с маленьким ребеночком. И вот однажды мы пришли — а цыган нет. Это была первая встреча с обманом в моей жизни!
Дом в Кривоколенном переулке стоит до сих пор, и мне всегда тепло и радостно проходить там. Он стоит в глубине небольшого двора, а на домике, выходящем в переулок, установлена мемориальная доска — профиль поэта Веневитинова. В этом доме А. С. Пушкин читал «Бориса Годунова». Смеясь, мне говорили, что мой профиль напоминает профиль Веневитинова, и много было шуток на эту тему, только гораздо позже.
В той же милой первой гавани произошло мое вхождение в мир, навсегда, до слепоты, ставший любимым миром, смыслом и спасением, как и музыка. Она со мной и теперь. Это мир книг. Читать я научилась сама по вывескам. Мы гуляли с няней по Мясницкой, няня была грамотна, а я любопытна. Я спрашивала, что написано на вывесках, и так запоминала буквы. Потом в семье долго потешались над тем, что первыми прочитанными мной словами были газета «Известия», «аптека», которое я выговаривала как «аптэка» (а за мной в шутку и все домашние), и «Чичкин и Бландов» — это был известный молочный магазин на Мясницкой.
Но таким было только начало. Эти забавные слова открыли дверь в дивный мир книг. Читала я много. Больше всего запомнилась толстая книга со многими сказками. То ли вся книга, то ли какая-то часть ее называлась «Детки, птички и зверьки», и внизу каждой страницы шла полоска из маленьких птиц или белок. Книга была замечательно оформлена. Многое я запомнила навсегда, особенно очень красивый рисунок облаков. Позже я иногда старалась вспомнить и повторить эти облака в своих гравюрах. Мир сказок, позже легенд и мифов, навсегда стал для меня миром настоящей действительности, в которую можно уходить, чтобы отдохнуть, обрадоваться и понять эту кажущуюся реальность жизни.
Мои братья — родной Юра и сводный Андрей — научились читать так же, как я: сами и очень рано. Вероятно, с таким ранним приобщением к книге связана общая для нас троих забавная черта: мы с детства грамотны, с первых классов школы писали без ошибок, но не имеем никакого понятия о грамматике. Мы не знаем, почему правильно пишем, и нет для меня более таинственного понятия, чем «деепричастие».
Я не была избалованным ребенком — с моей мамой это было невозможно, — но строптивой и неугомонной осталась на всю жизнь. Лучше всех справлялся со мной папа, всегда находивший своеобразный и ненасильственный выход из любого конфликта. Женские черты во мне тоже проявились рано, думаю, как и у всех девочек в мире. Мама очень хорошо шила и себе, и мне. Я однажды устроила ужасный рев по поводу широкого платья на кокетке, тогда как у принцесс в книжке были красивые пояса.
Революцию я помню так: в голубом небе извивается дымовое коричневое кольцо. Оно похоже на змею, вцепившуюся в собственный хвост, и все время меняет очертания. Это — кольцо порохового дыма. Издалека доносятся какие-то глухие звуки. Взрослые говорят: «Стреляют на Кузнецком». В квартире беспорядок. В той самой квартире, где всегда царили мамина почти аскетическая чистота и устроенность. Мы собираемся уезжать в Орловскую губернию. Там, в барском доме в имении Соллогуба, расположенном под Мценском, устроен военный госпиталь, и папу, окончившего медицинский факультет Московского университета, посылают туда начальником госпиталя.
Конечно, трехлетняя девочка не могла понимать тогда, что такое революция, что будет дальше. Но, по-видимому, дети в глубине души видят и понимают нечто, для взрослых непредставимое, потому что я и сейчас вижу эту жуткую коричневую змею, поедающую нечто невидимое, извиваясь в голубом небе, и ощущаю, как что-то замерло в тот момент в детской душе. Теперь я понимаю, что это был образ гибнущей прежней России.
Но мне не хочется отплывать из первой моей милой гавани так тревожно. Поэтому вернусь к своим любимым очень-очень ранним воспоминаниям.
Меня уложили спать. В соседней комнате — это гостиная — звучит рояль и мама поет «Колыбельную» Гречанинова «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю…» Младенец, то есть я, не спит, но раз поется колыбельная, значит, надо спать. И я притворяюсь спящей, чтобы все было, как полагается. Пение кончается, мама входит в мою комнату, садится рядом с кроваткой и говорит мне всякие ласковые слова. Я внимательно слушаю, но мама пропустила то, что мне очень важно: «рыбка, птичка». Притворство мое тут же кончается, я открываю глаза и возмущенно подсказываю: «А рыбка! А птичка!..» Мама ахает: «Да-да, конечно… как же я забыла: рыбка, птичка…» Я опять закрываю глаза и притворяюсь спящей. Так повторялось каждый вечер. Видимо, это было маминой и папиной игрой.
А для меня осталось на всю жизнь: музыка, папа играет на рояле и мама поет…
Еще очень важное воспоминание — мой изумительный сон. Я увидала крылатое существо, имевшее очертания человека, но существо это было из радуги. Утром я в восторге помчалась на кухню с криком: «Я видела фею!» — и принялась рисовать. Но чем больше я рисовала, тем хуже у меня получалось. Более того, образ из сна как бы расплывался и таял. Это была моя первая творческая неудача.
Может быть, я видела своего Ангела? Он и сейчас у меня всегда перед глазами. Но тогда я еще не знала о существовании ангелов, а про фей уже слышала. Дети видят ангелов, это известно. Мой Ангел не имел ничего общего с традиционным рисунком из книжек — прекрасным юношей с птичьими крыльями и в белом одеянии. Он был из радуги. Радуга — символ Святой Софии. Кого же я видела?
Может быть, поэтому я так люблю радугу…
Глава 2. ВСТРЕЧНЫМ КУРСОМ
На другом конце Москвы — той Москвы, настоящей, обозримой, не расплывшейся, подобно опухоли, — в другом маленьком переулке, Малом Левшинском, тоже в маленьком двухэтажном доме рос живой, быстрый, смуглый, очень худенький мальчик. К тому времени, когда я, трехлетняя, отплывала в жизнь из первой своей гавани в тревожно несущийся поток, ему было уже одиннадцать лет. Он писал стихи, сочинял истории о неведомых планетах, строил религиозные системы этих планет.
Когда Даниилу — а это был он, будущий поэт Даниил Андреев, — было много меньше одиннадцати лет, впервые проявилось его отношение к слову. Он хорошо говорил, будучи еще совсем маленьким. Тогда в среде интеллигенции не было так называемого детского языка. Мы не знали никаких «пуф-пуф», «чап-чап», «ням-ням». С нами говорили на четком и ясном русском языке. Дамы в те годы носили на шляпках вуали. Даня упорно, не слушая замечаний старших, говорил не «вуаль», а «валь». И только вечером в постельке, обняв белого плюшевого медвежонка, погибшего при нашем аресте в 1947 году, мальчик восторженно и тихо шептал: «В-у-аль…». Это слово было таким красивым, что его нельзя было произносить вслух на людях.
За плечами у мальчика оказалось уже неблизкое плаванье. Оно началось далеко от Москвы, в Берлине, 2 ноября 1906 года. И началось трагически.
Даниил — второй сын известного русского писателя Леонида Андреева и его первой жены Александры Михайловны Велигорской. Вскоре после его рождения двадцатишестилетняя, совершенно здоровая, любимая мужем Шурочка умерла от того, что тогда называлось послеродовой горячкой. Во многих воспоминаниях современников остался ее милый светлый облик, осталось и описание того, какой трагедией стала эта смерть для Леонида Николаевича. Иногда он предстает просто обезумевшим от горя. Сына — причину смерти жены — он не мог видеть. Казалось, что ребенок обречен. Но новорожденного взяла к себе прекрасная московская семья Добровых.
Родная сестра матери Даниила была замужем за известным московским врачом Филиппом Александровичем Добровым. Помимо прекрасных профессиональных качеств доктора Доброва вся эта семья была известна в Москве еще и полным соответствием своей фамилии. В доме жила мать сестер Велигорских Евфросинья Варфоломеевна Шевченко-Велигорская. Эта бабушка, которую все звали Бусинька, стала основной воспитательницей маленького Дани. Когда мальчику было шесть лет, бабушка умерла, то ли простудившись, то ли заразившись от внука дифтеритом. Двоюродная сестра Даниила Шурочка, Александра Филипповна Доброва, понимая, что ребенку надо сообщить о смерти Бусиньки как-то очень осторожно, говорила, что та лежит в больнице, что она очень соскучилась по своей дочке, Даниной маме, и хочет отправиться к ней. У людей это называется умереть, и Бусинька не может так поступить без его разрешения. Даня написал такое разрешение, он отпустил бабушку к маме, но сделал для себя очень неожиданный вывод. Летом, когда семья Добровых вместе с ним поехала в Финляндию к Леониду Андрееву (тогда это была еще Россия), Даня попытался утопиться, чтобы повидать бабушку и маму. Его поймали на мосту над Черной речкой в последний момент.
Необыкновенным образом сохранились детские тетради Даниила. Из них возникает облик удивительного мальчика. Я сейчас не стану рассказывать здесь подробно об этих тетрадях, а коснусь только одной черты. Даниилу восемь-десять лет. Он сочиняет стихи, рассказы, романы о планетах, существующих где-то в глубинах мироздания, придуманных им самим странах, каждая со своей историей, географией, языком, и во всех рассказах неизменно присутствует — но как-то не страшно — смерть. Чувствуется, что образ смерти глубоко его занимал, что уже тогда этот интерес был вполне осознанным, может быть, это — тема всей его жизни.
Мне кажется, вот откуда все это шло. Мать Даниила, Александра Михайловна, умерла от послеродового заболевания. Таких случайностей не бывает. Сохранилась фотография, где она на последних месяцах беременности, может быть, и на самом последнем, стоит вместе с Леонидом Николаевичем. Лица у обоих удивительные: он встревожен до последней степени, хотя тревожиться, казалось бы, было не о чем. Жене, совершенно здоровой женщине, двадцать шесть лет. Она нормально родила старшего сына Вадима. О чем беспокоиться молодому отцу? А у Александры Михайловны лицо еще удивительнее: ее уже как бы и нет. Она просто все отдала тому, кто готовится выйти в мир из ее лона. Я думаю, что такие события, как смерть матери после родов или при родах (она прожила, по-моему, еще недели две), решаются заранее и уж, конечно, не нами, и не проворонившими болезнь врачами. Все было предрешено. И эта смерть, и мысль о смерти, и образ ее — все это развивалось одновременно с формирующимся в чреве матери ребенком. Ребенок как бы уже развивался с образом смерти. Хочу подчеркнуть, что для него ничего страшного в этом не было, даже ничего грустного. Даня был веселый, озорной мальчишка. Кстати, его бесконечное озорство и шалости известны не только по рассказам близких и его собственным воспоминаниям. Они отражены в тех самых детских тетрадях, где им посвящено много рисунков. Мысль же о сопутствии иного мира, о смерти как ином мире присутствует и в этих тетрадях.
А если продолжить разговор о фантазиях Даниила, то в них как бы опять видна его отмеченность. Отношение Даниила к звучанию слова, которое проявилось в эпизоде со словом «валь» — «вуаль», видно и из тетрадей. Дело в том, что, сочиняя свои эпопеи о жизни на других планетах, истории выдуманных им стран, рисуя карты этих стран и портреты их правителей, Даниил придумывал огромное количество названий материков, стран, городов, рек. Он давал имена богам, императорам и мореплавателям. В тетрадях подробно описаны целые династии властителей. Причем это не было теми выдумками, которые дети иногда сочиняют для секретного общения между собой. Нет, это уже было жизнью будущего поэта в мире звуков, звуковых сочетаний и необычных слов, в каком-то необыкновенно личном и таинственном мире. Поток звукообразов и словообразов, который потом воплотился в зрелом поэтическом творчестве, уже тогда изливался на ребенка. Когда знакомишься с детскими тетрадями Даниила, то создается четкое впечатление, что мальчика готовили иные силы, что его ранняя, буквально внутриутробная, встреча со смертью — это ранняя близость к иному миру, оставшаяся навсегда. И его, казалось бы, забавные игры со словами тоже были сложными упражнениями в слышании иных миров. Направленность к иным мирам проявилась в нем необыкновенно рано. В повседневной же реальности детство Даниила в семье Добровых было очень счастливым, он благодарил за это Бога до последних дней и помнил много веселых и забавных эпизодов из своего детства. Например, к Дане приходил домашний учитель, который установил две награды, вручавшиеся в конце недели за успехи в учении и поведении. Вручались одна буква санскритского алфавита и одна поездка по Москве новым маршрутом — сначала конки, а потом трамвая. Санскритские буквы околдовали мальчика любовью к Индии, а поездки по Москве укрепили врожденную любовь Даниила к родному городу.
Очень далеко в детстве остался и вовсе юмористический эпизод. Совсем маленькому Дане очень хотелось иметь… хвост. Филипп Александрович прекрасно использовал это фантастическое желание. У ребенка был плохой аппетит, и дядя прописал ему капли. Капли были невкусные, но они назывались «хвосторастительные». Однако для того, чтобы отрастить хвост, капель было недостаточно, следовало еще и хорошо себя вести, а вот это-то у живого и шаловливого мальчика никак не получалось. И появлявшийся, по словам дяди, росточек хвостика исчезал из-за очередного озорства.
А вот теперь, в то время как мой кораблик, полный забот мамы и папы, плывет товарным вагоном в Орловскую губернию, одиннадцатилетний Даниил увлекся астрономией, он часами просиживал на крыше двухэтажного «донаполеоновского» домика, в первом этаже которого жили Добровы. После следствия и приговора «органы» вместе с произведениями Даниила сожгли и письма Леонида Андреева к Добровым, его очень близким друзьям. Привожу по памяти кусочек одного письма, очень нас развеселившего: «Даня совсем как мой герой из драмы „К звездам“: кругом бушует война и революция, а он пишет мне целое письмо — только о звездах…»
Глава 3. ПЕРВЫЕ ВОЛНЫ
Дом соллогубовского имения, в котором разместили папин госпиталь, был длинный одноэтажный светло-желтый. Вероятно, фасад его выходил в сторону зеленого сада, где летними ночами заливались соловьи. А меня больше занимала другая сторона дома, где летом открывалась целая страна; очень большой фруктовый сад. Его я освоила мгновенно, и каждый день к завтраку папа снимал меня с очередного дерева. Первыми поспевали крупные светлые черешни, потом поочередно все остальное. К концу лета по маминому распоряжению на большой крытой веранде со стороны двора собиралась огромная куча яблок. Мама считала, что больные питаются недостаточно хорошо, и фрукты, которые поспевали в саду, не запасали и не продавали, а сваливали на террасе для всех, кто пожелает. На этой веранде обычно сидели выздоравливающие раненые солдаты и те больные, которые еще не уехали домой.
Папа был единственным врачом на все очень большое пространство вокруг госпиталя. Когда я много лет спустя читала «Записки юного врача» Михаила Булгакова, передо мной очень живо вставала атмосфера, в которой мы жили.
В соллогубовском доме мы занимали залу, потому что мама любила большие помещения. За залой была маленькая комната, где дамы в былые времена поправляли бальные платья и прически, мне там устроили детскую.
Если летом самым интересным в жизни был сад, то зимним развлечением — катание на розвальнях, на которых подвозили больных У госпиталя мы, дети, дожидались, пока приедет кто-нибудь, доставивший больного, и бежали за ним, крича: «Дяденька, подвези!». Нас высаживали на краю сада, а там мы поджидали, пока не появятся другие розвальни, которые подвезут нас обратно к дому. Но иногда папа выходил на крыльцо и строго говорил: «На этих не поедешь!». Это означало, что привезли какого-нибудь заразного больного.
Папа рассказывал, как шел однажды ночью пешком по зимней дороге из дальней деревни от больного. В рюкзаке он нес свой гонорар — телячью ногу, а в поле со всех сторон вокруг него блестели волчьи глаза.
Деревня того времени еще не была разгромлена революцией. Однажды нас всех троих — папу, маму и меня — на розвальнях привезли в крестьянский дом, по-видимому, папа кого-то там вылечил. Помню идеальной чистоты избу с выскобленным полом, большую божницу с лампадкой. Под образами стол, накрытый белой скатертью и заставленный угощеньем. Все это было замечательно, особенно езда на розвальнях, лучше которых нет средства передвижения. Но потом и у меня, и у мамы настроение было испорчено, хоть и по разным причинам. Из-за детского роста мое лицо утыкалось как раз подбородком в стол, где перед самым моим носом стояли сало и кислая капуста — и то и другое приводило меня в ужас. Хозяин и хозяйка в чистой светлой одежде стояли около стола и непрерывно кланялись в пояс, повторяя: «Кушайте, пожалуйста, гости дорогие!». У мамы от такой торжественности еда застревала в горле. Этим выражением в нашей семье потом долго дразнили друг друга.
Я не помню, сколько времени мы жили в этом имении: два лета и зиму? Два лета и две зимы? В детстве время течет совсем иначе, и его очень много. Родители, которые жить не могли без искусства, организовали в госпитале то, что позже стало называться самодеятельностью. Что за спектакли исполнялись — не помню. По-моему, это были «Ведьма» Чехова и «Женитьба» Гоголя. Я сидела в зале, заполненном солдатами, ходячими больными и обслугой госпиталя, а увидев маму на сцене, завопила: «Это моя мама!» — и полезла на сцену, с которой меня стащили.
До ближайшего города — Мценска — было далеко, и за покупками туда не ездили, жили, как на острове, но елки-то были, и Рождество, конечно, праздновали. Папа пришел однажды и сказал, что Дед Мороз не может пробраться к нам из-за больших сугробов, и на этот раз мы будем сами делать для меня подарок. Он принес вырезанную откуда-то из бумаги оранжевую лисичку с пушистым хвостом, положил ее на блюдце вниз изображением. Блюдце, вероятно, было смазано жиром, сверху налили гипс, в который заделали петельку. Когда гипс застыл, получилось настенное украшение — лисичка на белом гипсовом фоне.
В госпитале не было не только врачей, но и квалифицированных медсестер, уколы больным делала моя мама. А о внутривенных вливаниях никто тогда и не слышал.
И вот среди этого «райского сада», то занесенного снегом, то усеянного яблоками, впервые явились мне образы зла. Жилось мне в имении довольно скучно. Из детей там были только двое мальчишек лет восьми-десяти, сыновья женщин, которых взяли в обслугу, совершенно случайных людей. Маме не хотелось, чтобы я играла с ними. А я была общительная, очень живая и, конечно, лезла к мальчишкам, не понимая, почему это меня к ним не пускают. Как оказалось, права-то была мама Я тогда уже свободно читала книжки — сказки. И вот как-то летом мальчишки останавливают меня около дерева, на нем вырезаны три буквы. Мальчишки старше меня, но неграмотные и не верят, что я умею читать. «Врешь ты все», — говорят они и потом, чтобы проверить меня, а заодно и поиздеваться, предлагают:
— Умеешь — прочитай!
И я громко, вслух читаю слово из трех букв, конечно, то самое. Мальчишки гогочут и восторженно вопят:
— Вот теперь тебе от мамы попадет! Это поганое слово.
Я возражаю, что слово не может быть поганым, раз оно написано. Мимо проходит женщина из обслуги, на плечах два ведра воды на коромысле. Увидев эту сцену, она прикрикнула на мальчишек, а мне ласково сказала:
— Лялечка, не говори ты этого слова, оно плохое, и мама рассердится, не говори.
Тут я уже расшумелась:
— Плохих слов не бывает. Ведь это слово написано! Таким было мое искреннее отношение к слову, к книге. Каким-то образом мама все узнала, я оказалась у нее на коленях, и она очень ласково объяснила:
— Доченька, знаешь, бывают на свете плохие слова, и родителям неприятно, когда дети их говорят. Это слово — плохое. Ты его забудь.
Я и сейчас помню свое тогдашнее ощущение какой-то космической катастрофы, как я сказала бы теперь. Книжки — самое лучшее, что есть на свете. И вдруг оказывается, что существуют плохие слова, которые не надо говорить! Оказывается, есть что-то плохое. Плохое — само по себе живущее, непонятное!
Вторая встреча со злом оставила гораздо более глубокий след в душе. Мне подарили утенка. Не совсем кроху, но еще желтенького, пушистого. Мы чудесно играли с ним в саду, в том, где не было фруктов, зато была высокая трава. Я неслась изо всех сил, падала в траву и, притаившись, лежала. Утенок бежал по траве — она была для него, как высокий густой лес, — и всегда находил меня, подбегал на коротких лапках, издавая уморительные звуки. В доме жила большая серая хищная кошка. Она загрызла утенка. Это было далеко не единственное ее преступление, и кошку приговорили к смерти. А я ухитрилась выбежать во двор именно в то мгновение, когда один из приезжих, схватив кошку за задние лапы, размозжил ей голову о колесо телеги.
Тогда же произошел случай, казалось бы, касавшийся меня гораздо больше. Маме удалось где-то добыть индюшек, и по двору разгуливал очень важный индюк в сопровождении своих скромных спутниц и сереньких индюшат. Мальчишки, все те же, подучили меня дразнить индюка. Надо было кричать: «Индя, индя, красны сопли!». Я тут же решила попробовать, и результат не заставил себя ждать: индюк взъерошил перья, распустил хвост, раздулся, став величиной чуть ли не с меня. Красные части на голове и под клювом его напряглись и налились кровью. Он взлетел мне на голову и начал клевать в темя, сильно и больно. На мой оглушительный вопль прибежал папа, индюка скинули с моей глупой головы. Конечно, я никогда больше не дразнила индюков, но никакой царапины это вот приключение на душе не оставило. Совсем не так, как история с утенком и кошкой.
К тому времени я уже молилась на ночь, лежа в постельке, потихоньку от родителей. Никто не запретил бы мне молиться, и я не знаю, почему молитва эта была тайной. Вероятно, какое-то совсем иррациональное ощущение тишины и святости, не имевшее для ребенка объяснения, заставляло меня так поступать. Думаю, что я молилась за папу, за маму, но этого не помню, зато хорошо помню, что за моего погибшего утенка и за казненную кошку молилась несколько лет.
Это детское по времени переживание, мне кажется, соединилось с тем отчаянием из-за «разбойничка» из няниной песни, над которым я так рыдала совсем маленькой. Так складывалась одна из черт характера — странная способность к сопереживанию, к отождествлению себя с тем, кому плохо, и настойчивое стремление изменить несчастную судьбу, исправить ее. Позже я не дочитывала книг с плохим концом, иногда зачеркивала такие концовки в книгах или изменяла на хорошие.
Глава 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Мы вернулись в Москву к зиме 1920/21 года, то есть в Москву эпохи военного коммунизма. Но прежде чем писать об этом, я расскажу, что знаю о своих корнях. Знаю я немного — новая власть учила скрывать, не помнить, молчать о предках. Мой папа — Александр Петрович Бружес — был наполовину датчанин, наполовину литовец. Линия его матери шла от остзейских баронов фон Дитмаров и была, видимо, обедневшей ветвью этого рода. Бабушка, папина мать, Елена Александровна, совсем юной вышла замуж за сына жемайтийского мельника. Жемайтия — это та часть Литвы, которая была крещена лишь в XVII веке, но еще и в начале XX века там пылали ритуальные костры вайделоток, языческих жриц огня. Кем был человек, за которого вышла моя бабушка, тогда шестнадцатилетняя красавица? Все эти вещи при советской власти рассказывать было не принято. Насколько я могла судить, брак оказался неудачным, сын литовского мельника, выдававший себя за сына помещика, был унтер-офицером. Бабушка ушла от него. Он умер, когда папе было три года. Бабушка вновь вышла замуж за ростовского бумажного фабриканта Степана Ивановича Панченко, стала очень богата, путешествовала по всему свету, побывала даже в Австралии. Эту красивую русскую даму знали в Париже. Революция застала их за границей. Папин отчим, потеряв все свое состояние, умер от горя. Бабушка не стала впадать в отчаяние, пошла в гувернантки, воспитывала чужих детей и так вот прожила жизнь. А мой папа всегда оставался в России.
Когда мне было десять лет, бабушка отыскалась в Чехословакии. Позднее она не писала, знала: сюда писать нельзя. Связь с ней возобновилась уже после войны, и в 1962 году папа успел съездить в Чехословакию, повидаться с ней, а я не успела: бабушка умерла. Умерла она 94 лет с совершенно ясной головой.
Мама моя русская, Юлия Гавриловна Никитина. Семья ее происходила из Новгорода, но судьбе, наверное, показалось мало для меня этой смеси, и она прибавила маме еще и цыганской крови. История эта очень бесхитростная. Мамины прадед и прабабушка жили под Петербургом в Колпине. Он был богатым подрядчиком, и не хватало им, как в сказке, только детей. Как-то мамина прабабушка нарядная, в прекрасной шали, сидела на скамейке у ворот и болтала с приятельницами. Мимо шли цыганки, одна из них — с ребенком на руках. Конечно, они окружили скамейку, началась обычная история с золочением ручки и гаданием. Вдруг та цыганка, что была с ребенком, говорит моей прапрабабушке:
— Слушай, дай мне твою шаль.
— Отдай ребенка — получишь шаль.
— Да на!
Больше та цыганка никогда не появлялась. Отдала ребенка, взяла красивую шаль и пошла дальше.
Я как-то в шутку сказала своим подругам, что во мне нет ни единой капли рабской крови: в Литве не было крепостного права, в Дании тоже, и потом датские мои предки были баронами; цыгане уж, конечно, жили без крепостного права; и русская кровь у меня новгородская — вольная. Этим, может быть, объясняется многое в моем характере.
Эта цыганочка, выменянная за шаль, моя прабабушка. Она была красива, богата, хорошо выдана замуж, и единственное, что мы с братом о ней знали, это ее страсть к посуде. Как-то я пожаловалась ему на глупую привычку постоянно покупать ненужные чашки и кружки, а брат, засмеявшись, сказал:
— Разве ты забыла мамины рассказы о нашей прабабке-цыганке, которая с ума сходила по посуде, только покупала она не чашки и кружки, а сервизы.
Маминых родителей я видала, но не помню. Они жили в Петербурге, а мои отец и мать переехали в Москву. Отец — типичный интеллигентный атеист начала века. Многие ученые тогда были такими. Я за всю свою жизнь не встретила человека более христианского поведения и большего благородства, чем этот неверующий физиолог. Папа был очень музыкален, он учился у Римского-Корсакова и долго колебался между наукой и музыкой, но выбрал науку. У мамы был от природы поставленный прекрасный голос — драматическое сопрано очень красивого тембра и большого диапазона. Поэтому музыка в нашей семье была всегда, как если бы мы жили на берегу большой прекрасной реки, все время слыша ее течение. Папа закончил в Питере биологический факультет Петербургского университета и поступил в Военно-медицинскую академию. А потом произошло вот что: студентов академии обязали носить форму и отдавать честь высшим чинам. Группа питерских студентов, по-видимому, прирожденных демократов, демонстративно перешла на медицинский факультет Московского университета, в их числе и мой папа. Я как тогда, так и сейчас не понимаю, что оскорбительного в обязанности отдавать честь высшему офицерству, но из-за этого я и мои братья родились в Москве, которую я очень люблю, даже и такую изуродованную, как сейчас. А мама так и не смирилась с переездом в Москву. Ее мечта стать певицей не осуществилась. В Петербурге она начала понемногу выступать, в Москве же ее никто не знал, да тут еще я родилась, уж не говоря о революции… В нашей совсем не религиозной семье вкусно и красиво праздновали Рождество и Пасху. И меня, а позже брата Юру, конечно, крестили. Мама была живой, веселой, темпераментной, очень доброй, вспыльчивой, никогда никому не сделавшей ни капли зла, но нелегкой в жизни.
Итак, мы вернулись из Орловской губернии в голодную, заснеженную послереволюционную Москву. Советская власть уже начала показывать свою страшную личину: уже гибли священники, дворяне, офицеры; начался разгром Церкви — так называемое изъятие священных предметов из храмов. Уже появились коммунальные квартиры — дьявольское изобретение большевиков, не менее страшное, чем концлагеря. Последние тоже уже были — 5 сентября 1918 года Ленин подписал указ об их учреждении. Но я, шестилетняя, ничего этого не знала. Сейчас странно даже подумать, что такой ребенок спокойно ходил один по городу. Мы поселились на Плющихе, а детский сад, в который меня отдали, находился на Девичьем поле, и я каждый день ходила туда одна. Да и гулять по городу меня спокойно отпускали, и я много бродила по той Москве.
Одна я ходила и на Спиридоновку, где жила семья тети — маминой сестры. История этой семьи — тоже штрих того времени, военного коммунизма. Мой дядя, Кениг Евгений Леонидович, был очень крупным и знающим мелиоратором. Он женился на одной из маминых сестер, а когда она умерла от тифа, женился на второй сестре. Первой, умершей, тети Оли я не помню, а она была моей крестной матерью. Мой крестный отец, папин двоюродный брат Евгений, пропал без вести в первую мировую войну. Это тоже рука судьбы, что я осталась в жизни без крестных, Ольги и Евгения. На Спиридоновке, когда я приходила туда, жили уже вторая сестра, тетя Аля, дядя Женя и их дети — Галя и Леонид. А попала эта семья в Москву так: петербуржцы, как и мои родители, они пытались в гражданскую войну эмигрировать и добрались до Крыма, чтобы бежать с Врангелем. Но не успели — в Крым вошли красные. Дядю арестовали и несколько раз выводили на расстрел, но потом вдруг пришла телеграмма от Ленина, который распорядился поименно привезти в Москву нужных новой власти специалистов, а остальных пленных расстрелять. Так вместо эмиграции и казни семья Кенигов очутилась в Москве.
В переулках Москвы стояли огромные чаны, в которых варился асфальт. Видимо, целый день под котлами горели костры. Вечером же и ночью никто не работал. И вот под чанами ночевали беспризорники, в основном брошенные дети. Их было много. Я ясно помню их лица, совершенно черные от сажи. Потом эту проблему решили, во всяком случае так считалось. Была книга А. Макаренко об одной из колоний, кинокартина «Путевка в жизнь». Сколько в этом правды — не знаю. И, собственно говоря, куда дели этих детей — никто не знает. Мне кажется, что это тоже одно из темных деяний советской власти.
Мои бесконечные хождения по городу продолжались несколько лет, и я не могу различить по годам облик той Москвы. Но облик этот был прекрасен и больше всего запомнился зимним, наверное, потому что летом мы всегда уезжали в какую-нибудь деревню. Я бродила по Москве бессознательно, подчиняясь какой-то неясной потребности, Даниил же, которому в то время было лет 14–15, тоже странствовал по Москве, но совсем не так, как я — вроде киплинговской кошки, а нащупывая в этих скитаниях черты своего будущего Пути и своей будущей личности.
Это различие не было связано только с разницей в возрасте. Это и разница масштабов личности, различное строение мужской и женской, даже в шесть лет, души и предуготованность к разной работе души в этой жизни.
И жили-то мы тогда недалеко друг от друга: я на Плющихе, Даниил — в Малом Левшинском. Потом мы переехали на Петровку, и этот многолюдный «морской порт» стал моим пристанищем надолго. На углу Петровки и Рахмановского стоит и сейчас большой дом с серыми колоннами. Тогда это был ЦИТ — Центральный институт труда. Папа там работал сколько-то лет. Он был одним из основоположников физиологии труда, а директором института был поэт Алексей Гастев. Его потом расстреляли, а сына, моего ровесника, посадили. Через много лет мы с ним вспоминали наш двор, по которому бегали — тогда Ляля Бружес и Ляська Гастев. Во дворе был дом, принадлежавший институту, и мы занимали три комнаты в коммунальной квартире в бельэтаже. Эта роскошь — три комнаты, две смежных и маленькая за кухней, бывшая комната для прислуги — оказалась нашей вследствие трагедии. Издевательское «уплотнение», лишавшее людей умственного и творческого труда, всякой возможности таким трудом заниматься, привело к самоубийству очень известного скрипача Крейна (я могу путать фамилию, но факт не путаю). Это самоубийство и оставленная скрипачом записка, объяснявшая причины ухода из жизни, послужили поводом для образования ЦЕКУБУ — Центральной комиссии по улучшению быта ученых. Среди прочего комиссия разработала льготы — 20 квадратных метров дополнительной площади для ученых и артистов. Поэтому папа и получил эти комнаты.
В 1922 году родился мой брат, и он с няней жил в комнатке за кухней. Кроме нас в квартире было еще две семьи, и мама нахлебалась коммуналки во всей полноте.
Мы вернулись в Москву зимой, и такой она больше всего мне запомнилась. Зимняя Москва вся белая. Мостовые и тротуары в снегу, по сторонам улиц — большие сугробы. Всем хватает места, никто не толпится. Конечно, нет ни одной машины, зато есть извозчики, слышно цоканье копыт, и на улицах стоят невысокие фонари. Даниил застал еще голубоватый свет газовых фонарей и конки. А я уже только трамваи.
Все дома в Москве тогда отапливались печами, и на каждом была не одна труба. Очень часто шел снег. Он падал белыми крупными хлопьями, и над всеми домами из труб валил дым. Мы, дети, всегда смотрели на этот дым, потому что, если все столбы поднимаются из труб прямо к небу, — это к морозу. Тогда мы ждали, когда верхний кончик дымового столба «сломается», пойдет книзу, — значит, мороз «сломался».
Этот образ города моего детства спит в душе, как огромная тихая радость.
Глава 5. ДОБРЫЙ ДОМ
Семья Добровых, как я уже говорила, жила в Малом Левшинском переулке, на Пречистенке. До 60-х годов там стоял двухэтажный, ничем не примечательный домик. Он был очень стар и пережил, как говорили, еще пожар Москвы при Наполеоне. Такие дома в Москве называли «донаполеоновскими». На месте этого снесенного в 60-х годах дома так ничего и не построили.
Квартира, в которой жили Добровы, занимала весь первый этаж дома, а кухня и всякие подсобные помещения были в подвале, куда шла узкая и крутая лестница. Входная дверь в квартиру вела прямо из переулка, большая, высокая, с медной табличкой «Доктор Филипп Александрович Добров». Кстати, на двери коммунальной квартиры, где мы жили, висела табличка «Доктор Александр Петрович Бружес».
Войдя в дом, надо было подняться по небольшой лестнице с широкими деревянными ступенями, которая упиралась в огромное, во всю стену, очень красивое зеркало. Дальше большая белая застекленная дверь вела налево в переднюю. Направо из передней был вход в кабинет Филиппа Александровича, в котором позже жил его сын Саша и где Филипп Александрович раз в неделю принимал больных. Позднее, когда Саша женился и уехал жить к жене, это была комната Даниила, а еще позже наша с ним, любимая. В книге «Русские боги» она присутствует в названии одной из глав: «Из маленькой комнаты». Левая дверь из передней открывалась в зал. Я застала его уже по-советски разгороженным занавесками на клетушки, в которых ютилось все старшее поколение семьи: Филипп Александрович, Елизавета Михайловна и еще одна сестра Велигорская — Екатерина Михайловна, по мужу Митрофанова. Елизавета Михайловна по профессии была акушеркой, хотя к тому времени уже давно не работала, Екатерина Михайловна — медсестрой. Она добровольно пошла работать в психиатрическую клинику, так как считала, что душевнобольным помощь нужнее всего.
В детстве Даниила зал играл важную роль. Дом Добровых был патриархальным московским домом, а значит, хлебосольным и открытым для множества самых разных, порой несовместимых друг с другом людей. Он остался гостеприимным, открытым и после революции, хотя, конечно, уже не тем, что прежде. Приходили те, кто уцелел, не уехал в эмиграцию. После уплотнения передняя часть зала стала общей для семьи столовой, и там спал Даниил. С тех пор на всю жизнь у него сохранилась привычка спать, затыкая уши двумя руками.
Из передней шел длинный коридор, упиравшийся в так называемый совмещенный санузел, как их потом стали называть. В обыкновенном туалете была установлена ванна, и это послужило местом действия одной из «удачнейших» шалостей мальчишки Даниила. Самой дальней от ванной по коридору была комната Александры Филипповны — Шуры, старшей дочери Добровых. Шура Доброва была яркой, интересной, темпераментной и очень своеобразной женщиной. Она крайне заботилась о своей внешности, и частью ее ежедневного, точнее еженощного, ритуала было очень долгое принятие ванны, которую она занимала, когда все уже спали. Свет в коридоре зажигался на другом его конце, в передней. И вот однажды Шура, выйдя из ванной и потушив там свет, наткнулась на стул. Сначала на один, а потом совсем запуталась: весь коридор до самой ее комнаты был заставлен стульями, перевязанными веревкой. Свет, конечно, не горел, и из темноты доносилось еле сдерживаемое мальчишечье хихиканье, особенно в ответ на ее возмущенные и очень несдержанные вопли. Ну, конечно, утром взрослые сурово отчитали Даню за такое безобразие, но скрыть сочувственных улыбок не могли, а он с удовольствием рассказывал мне об этой своей проказе в 1945 году, то есть спустя 30 лет.
Эта история совсем не означает, что он не любил сестру. Он очень ее любил, Шура много значила в его жизни, но не озорничать Даня просто не мог, как я не могла не лазить с мальчишками по крышам и не плавать на обвалившейся двери в подвале нашего дома, заливаемом водой из Неглинки.
Отголоски прежнего быта я еще застала, как застала огромный стол в передней части разгороженного зала. По праздникам его раскладывали при помощи раздвижных досок, по-моему, метров до пяти в длину.
Соседней с залом комнатой в прежние времена была спальня Филиппа Александровича и Елизаветы Михайловны. Из-за двери, разделявшей эти две комнаты, точнее сквозь замочную скважину, маленький Даниил разглядывал Шаляпина и Бунина, Скрябина и актеров Художественного театра, Горького и многих еще гостей Добровых.
С Художественным театром семья была связана и через Леонида Андреева, и через дочь Добровых Шуру, которая была подругой Аллы Тарасовой и сама стремилась стать актрисой. Другом дома была актриса Художественного театра Надежда Сергеевна Бутова. Она сыграла несравненную по своей значимости роль в жизни Даниила. Ему было 15 лет, когда Надежда Сергеевна принялась за его религиозное воспитание, ввела его в ритм церковной жизни, помогла понять глубокий смысл православного богослужения.
Избалован Даня был невероятно. Потому что был младшим, любимым — ну и потому что сирота. Он иногда слышал за спиной шепот: «Бедный мальчик, сиротка!». Это сердило его и раздражало, ведь на самом деле он был очень счастлив. Даниил не только любил Добровых — их любили все, — не только воспринимал эту семью как родную, но и не раз повторял: «Как хорошо, что я рос у Добровых, а не у отца».
Меня часто спрашивают о связи отца и сына. Связи реальной было очень мало. Леонид Николаевич года через два после смерти Александры Михайловны женился. У него была другая семья. И Анна Ильинична, его вторая жена, для Вадима, старшего брата Даниила, стала мачехой. А у Даниила, к счастью, мачехи не было.
Маленьким мальчиком его иногда привозили к отцу. Даниил помнил, как они за ручку с отцом шли по Петербургу, вдруг остановились и отец заговорил с каким-то высоким человеком. Даниил сначала стоял смирно, потом начал скучать. Наконец взрослые распрощались, и, отойдя немного, Леонид Николаевич сказал:
— Это был Александр Блок.
— Как? Он не умер? — удивился Даня.
— Да почему умер? Он жив.
Даниил ответил:
— Я думал, что все великие поэты умерли.
После одного случая Даню перестали привозить в дом отца, а если привозили на Черную речку — «на дачу», то снимали отдельный дом. Дело в том, что однажды зимой Анна Ильинична приказала няньке пустить трехлетнего Даниила на саночках с горки. А под горой была прорубь. Историю эту я слышала от Елизаветы Михайловны Добровой и от самой няни Дуни, которая Даниила спасла. Ей тогда было шестнадцать лет. Она говорила, что не хотела пускать санки, но «барыня приказали». Тогда няня отпустила их, но бежала рядом с санками. Она была совсем молоденькой девушкой и примчалась вовремя. Ребенок уже упал в прорубь, но она выхватила его из воды. Сам Даниил об этом помнил смутно: мокрую варежку на берегу и разгневанную бабушку.
Нельзя сказать, что Даниил не любил отца, но настоящим отцом был для него муж тетки, Филипп Александрович Добров, а родной отец — далеким дядей. Отношение Даниила к отцу изменилось после тюрьмы. Он глубже понял его душевный облик. Очень любил рассказ «Иуда Искариот», который считал лучшей вещью Леонида Николаевича. И еще я помню, как он читал мне вслух «Рассказ о семи повешенных». Закончив, он сказал: «Слушай, что за безобразие: апология терроризма! Полное сочувствие семи повешенным, но никакого понимания, что это же убийцы, что они-то убили!». Его страшно возмутила такая постановка проблемы, кстати, характерная для интеллигенции того времени.
И все же между отцом и сыном существовала связь генетическая, более глубокая. Леонид Николаевич, несомненно, обладал способностью слышать иной мир. Двум своим сыновьям от первого брака, Вадиму и Даниилу, он очень интересно передал свое дарование: Вадиму — большой талант писателя-реалиста, Даниилу — эту способность слышания иного мира. Но у Даниила она была уже иной, откристаллизовавшейся и сознательной. И если Леонид Николаевич воспринимал темные миры, то Даниил слышал и светлые, и темные. Я думаю, что это различие связано с неопределенной религиозностью Леонида Андреева и совершенно определенным православием Даниила.
Детскую Даниила я уже не застала, только из его рассказов знаю, что по всей комнате на уровне детского роста были развешаны нарисованные им портреты правителей выдуманных династий — отголосок поразившего детскую душу впечатления от кремлевской галереи царей. На потолке этой галереи были выложены мозаикой замечательные портреты великих князей и царей московских.
В школе Даню называли королем игр. Он в любую игру вкладывал все воображение, способность к полной самоотдаче. Вот еще одна чудесная шалость. Даниил учился в частной гимназии сестер Репман, потом ставшей советской школой. Она находилась в Мерзляковском переулке. Как-то ребята страстно заспорили о том, сколько груза поднимут воздушные шарики, и решили это проверить. Сложив деньги, выданные родителями на завтраки, они купили связку воздушных шаров и привязали к ним маленькую дворовую собачку. Спор-то шел всего-навсего о том, приподнимут шары песика или нет. Каково же было изумление ребят, их восторг и страх за бедное животное, когда шарики подняли собаку на высоту второго этажа и она с громким лаем понеслась вдоль переулка, задевая по дороге окна.
Не так ли и не тем же ли переулком летела на метле Маргарита, разбивая окно негодяя Латунского? Кстати, одно время Михаил Афанасьевич Булгаков жил в Малом Левшинском напротив добровского дома. Но знакомы они не были.
В крови Даниила не было такой смеси, как у меня. В его жилах текла русская, польская и украинская кровь. Бабушка, Евфросинья Варфоломеевна Шевченко, была дочкой Варфоломея — троюродного брата, свояка и побратима Тараса Шевченко, который очень любил племянницу и звал ее по-украински Прысей (это по-русски Фрося). А Велигорские — боковая ветвь графов Виельгорских, потерявшая титул и состояние за участие в польском восстании. По отцу Даниил был правнуком орловского дворянина и крепостной, внуком польской дворянки из обедневшей семьи.
Доктор Добров — врач потомственный. Его отец был врачом в Тамбове, где его звали не «Добров», а «доктор Добрый». Хоронил его весь Тамбов. У Филиппа Александровича были брат юрист и сестра органистка.
В семье был еще один брат, странный человек, все время уходивший из дома бродяжничать «на дно», на Хитровку. Каждый раз, возвращаясь, он бывал принят Добровыми с величайшей любовью и терпением, но опять уходил и в конце концов там сгинул.
В семье Добровых старшему сыну полагалось наследовать профессию врача, поэтому Филипп Александрович и стал врачом, хотя страстно любил историю и музыку, которую хорошо знал, прекрасно играл на рояле. У очень музыкальных людей бывает особое глубокое и чуть отстраненное выражение глаз, а на лицах их лежит как бы тень легкого светлого крыла. Таким было лицо доктора Доброва. Елизавету Михайловну, которую Даниил называл мамой, и другую его тетю — Екатерину Михайловну я застала уже старыми, очень добрыми женщинами. Такими и хочу их оставить с благодарностью на этих страницах.
Преизбыток Александров в семье всегда был предметом шуток, но объясняется это очень просто. Традиционными именами Добровых были Филипп и Александр. Когда первой родилась девочка, ее назвали Александрой — вдруг не будет мальчика! Но вслед за ней появился мальчик, получивший имя Александр, а девочка, Шурочка, со временем вышла замуж за поэта Александра Коваленского. Шура с ее бурной молодостью и ее муж — интереснейший, но очень сложный человек, ради которого она оставила театральную карьеру, их любовь и совместная жизнь всегда были предметом совершенного благоговения Даниила. Саша Добров, брат Шурочки, получил архитектурное образование, но, переболев энцефалитом, уже не смог работать архитектором и стал художником-оформителем. Он был красив, пережил период наркомании, но вышел из него, хотя иногда пил. Он был очень хорошим, порядочным и добрым человеком. Из наркотического плена его сумела вывести Галина Юрьевна Хандожевская, вторая жена, художница, которая прошла с ним весь его трудный жизненный путь.
Все они были представителями того, что сейчас с восторженным придыханием называют Серебряным веком. Я не хочу ни одного недоброго слова сказать об этих людях, так любимых Даниилом. Но через них чувствую тот тонкий ядовитый аромат, которого сейчас не ощущают в столь превозносимом Серебряном веке. Да, этот век дал нам удивительные цветы — великих поэтов и художников, но дурманящий запах неверности, расшатывания глубоких устоев, по-своему обаятельная, болезненно прекрасная недостоверность — все это тоже вплелось в трагедию революции, а платила за все — Россия. И — мистически — правильна, справедлива была наша личная расплата собственной жизнью в лагерях и тюрьмах. Расшатывать устои нельзя, нельзя играть с отравой, а этого хватало в Серебряном веке. Этого тонкого, дурманного веяния не было в старших — ни в Добровых, ни в моих родителях. Не было его и в Данииле. Он проходил своими темными тропами юности, страшнее заплатил за это и вышел к Свету полнее, чем творцы Серебряной измены.
Глава 6. ДАЛЕКОЕ ЛЕТО
Зимой 1924 года умер Ленин. Но для нас, детей, это событие прошло совершенно незамеченным. Смутно помню, как наш класс таскали в Мавзолей, который сразу соорудили на Красной площади. Там были какая-то тяжелая странная атмосфера и желтое лицо под стеклом. Это показалось совершенно неинтересным и никому не нужным. Гораздо больше мне хочется вспомнить Хотьково, в котором мы жили летом в 1924 и 1925 годах, Хотьково — зеленые луга, леса — было тем, что ложится в детскую душу и остается на всю жизнь. Мама сняла новый недостроенный дом на краю леса. Это было прекрасно. Каникулы тогда были длинными, и для беготни по лесу и по лугам, для купанья в речках времени было много.
Помню, что я все лето хромала, потому что наступала то на осу, то на железную банку, а может, откуда-нибудь сваливалась. Родители относились к этому спокойно, папа мазал ранки иодом и, видя, что безнадежно запрещать мне что-либо, просто очень рано научил правильно делать перевязки, промывать раны, вытаскивать занозы, вообще уметь оказывать первую помощь и другим, и себе.
После обеда мы ходили купаться на Ворю в Абрамцево. Это было довольно далеко от Хотьково, но, Господи, какая же была Воря! Кристально чистая, ключевая, холодная, окруженная дивными деревьями…
Я немного помню Хотьковский монастырь. В Хотьково бывали по определенным дням большие ярмарки, и монахини подрабатывали тем, что шили и продавали маленьких тряпочных куколок. Мы их называли куклятами. Куколки, вероятно, были дешевые, нам их покупали сразу по несколько штук, и мы их очень любили. А кто такие эти «мы»? Да я и все, кто жил в деревне. Я была очень общительной и не то чтобы легко сходилась с детьми, это неверное выражение, просто, приезжая на дачу, на следующий, а то и в тот же день выходила на улицу, оглядывалась по сторонам и подходила ко всем девочкам, какие попадались, со словами: «Девочка, давай дружить!». И мы дружили, целыми стадами бегали купаться… С родителями мы ходили на Ворю, а с девчонками — купались в маленькой Паже. У крошечной речушки нам было весело и хорошо.
С Хотьковским монастырем у меня связано такое воспоминание. Как-то мама познакомилась с двумя монахинями. Их звали матушка Смарагда и матушка Маргарита. Они жили вместе в келье, где я бывала. С монахинями жил очень большой и пушистый белоснежный кот. Я хорошо помню эту келью и запах в ней, совершенно особый запах деревянного лампадного масла, восковых свечей, вероятно, и ладана. В келье был поразительной чистоты выскобленный белый пол, две кровати. На одной из них сидела, видимо, очень больная, старшая из монахинь. По-моему, это была матушка Маргарита. Вторая, более молодая и подвижная, за ней ухаживала. Я обычно садилась на скамеечку, поэтому, во-первых, келью помню как бы немножко снизу, а во-вторых, ясно вижу кота — значит, он ходил близко от моего лица.
Почему я так это запомнила? Вероятно, это был первый год нашей жизни в Хотькове. Меня очень волновала тогда идея греха, ада, посмертного воздаяния — все эти очень серьезные вещи. Я спросила об этом матушку Маргариту. Она мне спокойно сказала: «Ну что же тебе об этом беспокоиться? Ты хорошая девочка, слушаешься маму и папу, можешь не волноваться». Милая, милая старая монахиня даже не подозревала, что значили для меня эти слова, подо мной как бы разверзлась преисподняя, потому что я ведь никого не слушалась: ни маму, ни папу. И даже когда они не замечали этого непослушания, то я-то знала! Это было одним из очень сильных переживаний. Передо мной впервые встала проблема греха и посмертия.
И последний взгляд на Хотьково: Троица, по шоссе гуляют жители окрестных деревень. Девушки в праздничных платьях из очень яркого атласа — зеленых, розовых, алых, голубых, плавно двигаются по шоссе, как пестрые разноцветные гирлянды цветов.
У нас жила няня. Она была именно такой, какими няни должны быть. Она воспитывала мою двоюродную сестру, потом двоюродного брата — детей маминой сестры, возилась со мной, а следом растила моего брата Юру. А затем нянчила дочку той самой двоюродной сестры. И умерла она в их семье как родной человек. Няню звали Евдокия — няня Дуня Карасева. Она была из Новгородской губернии. Деревня ее называлась Березовский Рядок, это около Бологого. Когда-то у нее был жених, солдат. Его убили в первую мировую. И няня осталась старой девой. Ее «личной жизнью» были мы, дети, которых она воспитывала.
Няня в нашей семье имела полное право голоса. Например, когда я захотела стать художником, больше всех против этого восставала она: «Барышне не годится ходить с грязными руками! У нее ручки должны быть беленькие и чистенькие. А это что? Вся в краске!»
Очень трудно было отучить няню называть маму Юлию Гавриловну барыней. Для нее это было естественно.
Маме не сиделось под Москвой — наверное, сказывалась цыганская кровь. Осенью 1925 года мы втроем — папа, мама и я — поехали на юг. Брату Юре было 3 года. Папа считал, что трехлетнему ребенку нельзя менять климат, и маленького Юрика отправили с няней в ее деревню, в тот самый Березовский Рядок.
В то время поезд на юг, а мы ехали до Туапсе, шел пять суток. Я спала на верхней полке. Это сейчас с таких полок ничего не видно, а тогда окна в вагонах были более узкими и высокими, и, лежа на животе на верхней полке, можно было прекрасно смотреть в окошко.
Однажды ранним утром папа тихонько трясет меня, спавшую на верхней полке, за плечо и молча, чтобы не разбудить маму, показывает в окно. На горизонте блистала сверкающая длинная-длинная серебряная полоса. Она была похожа на блистающий рыцарский меч — море! Сколько раз и каким разным я видела море потом: синим, голубым, желтым, серым, на Севере — почти белым. А это длинное серебряное сверкание навсегда осталось для меня образом моря. И второй момент — также в окне папа показывает мне на горизонте еще одно чудо: плавную, сложную, красивую, мягко-синюю линию гор.
Мы приехали в Туапсе и сели там на пароход. Это была древняя посудина, называвшаяся «Игнатий…» — фамилию я забыла. И вот мы поплыли. Дальше были ночь, шторм, качка. Кругом черным-черно, только грохочут волны с белыми верхушками. Глубокой ночью мы прибыли в Гагру. Пристать корабль не мог, поэтому к нему подъехали турецкие фелюги, большие широкие лодки, в которые помещалось много народу. Женщин швыряли в руки турецким гребцам, мужчины по очереди спускались по трапу. В эту очередь, конечно, встала и я, поскольку, начитавшись приключенческих романов, считала, что должна спускаться вместе с мужчинами. Из моего замысла ничего не вышло. Мужчинам я доходила до пояса, и матрос, увидев меня, взял на руки и бросил через борт, где меня подхватили другие сильные руки — турка-гребца. Мама была уже в лодке.
Вероятно, мы были после революции первыми «дачниками» на весь этот прелестный маленький городок. Никого не было, на пляже мы оказались совсем одни. Я уже хорошо плавала, научилась лет в шесть-семь. Мы с папой много гуляли. Позже, читая Александра Грина, я представляла именно таким гриновский городок, может быть, Зурбаган? Мы с папой поднялись наверх в полуразрушенный дворец принца Ольденбургского. Но папа сразу меня оттуда увел, потому что все стены были изрисованы непристойностями и все загажено. Так освобождающиеся трудящиеся расправлялись с тем, что не умели хранить. Но и без этого мест для прогулок было достаточно. Напоследок я получила что-то вроде теплового удара, а чуть раньше у меня по лицу проползла сколопендра, оставив красный след на щеке. Но это все — пустяки по сравнению с морем, с горами и очарованием этого городка.
А потом был Звенигород, где мы жили, по-моему, лета три подряд. Хочу рассказать, как мы туда ехали. Теперь ведь этого никто не знает. Переезжали на дачу так: нанималась подвода с лошадью или лошадьми — это такая гладкая без краев очень большая деревянная платформа на колесах. На нее грузились все вещи, которые надо было взять с собой. Мы брали даже рояль и еще много всякой всячины. Среди всего этого хозяйства садилась няня, и подвода отправлялась с Петровки в Звенигород. А мы в это время ехали поездом. В Звенигороде от вокзала добирались на извозчике. Обычно мы приезжали первыми и встречали няню с вещами. Пока мама, иногда папа, няня и все, кого нанимали, разгружали подводу, я уже пулей летела на улицу посмотреть, где есть девочки, мгновенно завязывались самые дружеские отношения, и следующим утром я уже носилась по Звенигороду во главе небольшого табуна девчонок.
Мы пели, гуляли по лесу, собирали грибы и ягоды, играли в городки. Это чудная игра, я ее очень люблю. Причем игра-то мужская, поэтому плохо играть невозможно. Того, кто плохо играл, просто больше не брали. И я лет в 12–13 научилась одним ударом выбивать фигуру.
А еще были спектакли. Для них находился то какой-нибудь недостроенный дом, то другая площадка. Спектакли наши были плохими: мы никак не могли понять, почему, пока мы репетируем на чердаке, скажем, «Золушку» или какую-нибудь сказку Андерсена, все прекрасно, а как только попадаем на такую импровизированную сцепу, никто не может слова выговорить. А все было просто. Мы не давали себе труда учить пьесу, просто брали тему и упоенно импровизировали на чердаках. А когда попадали на сцену, то все, что мы репетировали, вылетало из головы. Но как-то мы все-таки играли, пели, танцевали, публика сидела спокойно и была к нам снисходительна. А потом нас вели пить чай с пирожками или вареньем.
Хорошо помню, как мы жили на соседнем с Городком холме, где мама сняла прекрасный дом. Городок в Звенигороде — это Звенигородский Кремль, на верху которого стоит дивный маленький белый храм XII века. Храм интересовал нас мало, больше — откосы Городка, на которых росло много так называемой русской клубники. Это очень вкусные ягоды, крупнее земляники и мельче клубники, зеленые с розовым бочком и очень душистые. Мы с мамой, Юрой и няней жили на даче постоянно, а папа приезжал в субботу на воскресенье. В доме были две комнаты и веранда, я плохо помню дом, потому что прибегала только спать, да обедать обязана была являться вовремя.
В субботу я, не умеющая медленно ходить, бросаю все свои занятия. Никто меня не заставляет, никто не спрашивает, пойду ли я встречать папу, это ясно и так. И вот я бегу, как песик, с совершенно собачьим выражением, не дорогой, где извозчики, а поперек луга, к поезду. А папа стоит на подножке в светлом пальто и уже смотрит, уже машет. В руке у него торт. Я прыгаю безостановочно, потому что просто не могу стоять на месте от восторга. Обратно мы едем на извозчике или идем по лугам. А дома мама уже приготовила что-нибудь невероятно вкусное. В воскресенье мы отправляемся гулять или купаться. Вместе с папой. Ни городков, ни приятелей, причем я даже не думаю, что чем-то поступилась.
В том же доме жила очень тихая женщина. Были такие тихие женщины, старые дворянки, потерявшие всех и вся. Они иногда доживали свой век где-то в маленькой комнатке, вот как та женщина в Звенигороде. И я помню, как однажды она сказала маме: «Знаете, Юлия Гавриловна, когда-то в Институте нам задали сочинение на тему „Как ведут себя люди в доме, когда появляется хороший человек“. Было очень трудно его писать, мы много думали. А вот сейчас я увидала то, что должна была писать в сочинении. Достаточно посмотреть на вашу семью в тот день, когда вы ждете Александра Петровича».
Свой отпуск папа, естественно, проводил в Звенигороде. И тут я уже была свободна, бегала везде, и на вечер меня тоже отпускали. Часов не было. Часами служили мне коровы. Стадо шло домой — я шла домой. Но поскольку мне было все-таки лет двенадцать тогда, меня после общего ужина отпускали еще в Солдатскую слободу, где жили мои подружки. Так называлась часть Звенигорода, ни одного солдата там давным-давно не было. Там уже я должна была узнавать время и к десяти возвращаться домой.
Мама и Юра к этому времени ложились спать, няня тоже. Папа сидел на веранде под керосиновой лампой-«молнией», работал. А меня ждал стакан молока, накрытый блюдечком от комаров и мошек.
Сначала я приходила в десять, потом в пять минут одиннадцатого, в десять минут одиннадцатого. Потом начала «заматывать». Папа на это очень спокойно сказал:
— Ровно в десять я снимаю блюдечко. Всех мошек, которые нападали в стакан, ты пьешь с молоком.
Он так и сделал. Я пришла — стакан открыт, в нем полно мошек. Папа говорит:
— Вот, пожалуйста, это то, что нападало с десяти. Еще бы опоздала, было бы больше.
Я с хохотом выпила молоко вместе с мошками.
И все следующие дни… Я никогда не забуду этого: вот я бегу, бегу, бегу — сосны, холмы, уже видно веранду, лампу, папа смотрит на часы и снимает блюдечко. Я врываюсь — мошек еще нету! И нам обоим было весело; папа никогда не ругал меня.
Там, в Звенигороде, до меня первый раз в жизни дотронулся мужчина. Его звали Гриша. Он был очень высокий, симпатичный. По-моему, молодой учитель. Почему мы с ним пошли в лес из Солдатской слободы — не помню. Просто переступили через ручей и пошли в лес. В лесу он меня обнял за плечи, и так мы шли. Иногда останавливались и слушали, как шелестят листья. Дело было к осени. Стояла особенная осенняя тишина в лесу, и в ней звук шуршащих листьев. Так вот мы походили по лесу, послушали листья и вернулись. А когда переступили через ручей, он просто снял руку с моего плеча и мы пришли обратно в Солдатскую слободу.
Зачем я рассказываю об этом случае? Больше ничего не было. Но я до сих пор с благодарностью помню мужскую руку на моем плече и шелестящие высоко в небе, начинающие желтеть деревья.
Глава 7. ПЕРЕУЛКИ
Еще, еще немного побыть в этой удивительной стране детства. В моей жизни странную роль играют переулки. Родилась в Теплом. Первые воспоминания — Кривоколенный. Веселая детская беготня — Колобовские переулки, около которых сейчас стоит любимый театр — Новая опера Евгения Колобова. Отрочество — школа в Кривоарбатском. Лучшие годы жизни — Малый Левшинский. Большие, широкие, красивые проспекты ничего не говорят моему сердцу, где бы они ни находились: в Москве, Петербурге или в Париже. Сразу, с первого взгляда, я влюбилась в Прагу и часами бродила по ней, упиваясь поворотами, проходными дворами, закоулками. И так было везде.
Так вот, школа в Кривоарбатском… Сначала меня отдали в обыкновенную советскую школу, но там, по словам мамы, училось «жуткое хулиганье». Научные работники объединились и организовали на базе бывшей Хвостовской гимназии школу для детей ученых. Программа, по которой тогда учились, была ужасной. Например, литература: мы потом совершенно не могли читать русскую классику. О Достоевском вообще ни слова, Лермонтова «проходили» только «Мцыри», причем с богоборческой точки зрения. Татьяна из «Евгения Онегина» преподносилась исключительно как «продукт дворянского воспитания», а «Мертвые души» давали так, что после школы я не скоро к ним вернулась.
И, несмотря ни на что, педагоги Хвостовской гимназии были настоящими. То, что они ухитрялись сделать в рамках школьной программы, мы смогли оценить только став взрослыми. Они ужимали программу, чтобы оставались пустые уроки, на которых нам читали вслух. Я почему-то запомнила, как преподаватель литературы Георгий Иванович Фомин читал «Аттические сказки» Зелинского. Нас водили в Музей изящных искусств, в который вообще-то водить «не полагалось». Биолог устраивал выездные экскурсии. Нам давали списки книг, и мы упоенно читали их под партами. Тогда еще можно было достать книжки.
Мне повезло, потому что у папы были друзья Бернштейны. Один математик, другой физиолог. У них была библиотека юношеской литературы, и я имела к ней полный доступ. У Даниила книги оставались с прежних времен, потому что он был на восемь лет старше меня, и добровский дом хранил многое из «мирного времени» — как тогда говорили. Существовала такая серия «Золотая библиотека». Позже советская власть добралась и до нее. Потом произошло то, чего уже никто не помнит: были запрещены сказки. Запретила их лично Крупская, потому что в сказках Иван-царевич подвигами добивается царевны, классовой борьбы вообще нет, а побеждает добро. Поэтому образовалась «дыра»: есть сказки, изданные до революции, а потом — Чуковский и Гайдар. Сказки, с которыми мы жили, росли, постигла печальная участь. А потом постепенно запрещенным оказалось все.
Историю мы не изучали. Вместо нее был такой предмет — обществоведение, точнее, перечисление революционных движений. История в нем представлялась так: сначала Спартак, потом, кажется, крестьянские войны в Германии, потом промышленный переворот в Англии, Французская революция, революция 1905 года и великая революция 17-го года в России, которая все привела в порядок. Так и выглядела бы для нас история, если б мы не вырывали друг у друга из рук, зачитывая до дыр, книжки — от Вальтера Скотта до Соловьева, того, что писал исторические романы, Всеволода. Вот так мы учились. Благодаря родителям, книгам и умным педагогам все-таки окончили школу с какой-то, пусть сумбурной, суммой знаний.
В годы моего детства мы, дети, жили не так, как современные бедолаги. Телевизора не было. Радио не было. Бесконечных каких-то кружков и занятий с нами не вели. Конечно, обязательный урок музыки — никто на него не водил, ходила сама. Обязательный урок какого-либо языка — немецкого или французского — жуткая скука. Домой приходила какая-то дама, и надо было терпеть. Но это не было занятиями с нами, это было моей обязанностью.
Понятия не имею, как и когда я готовила уроки. В школу ходили сами, никто не водил. И ходили не рядом с домом, а довольно далеко: я, например, с Петровки на Арбат, пешком больше часа. Много времени мы были предоставлены самим себе — соседские мальчишки и девчонки, одноклассники, с которыми я подружилась. И мы с этим временем прекрасно справлялись.
Моя подростковая жизнь была не то что полна, а переполнена. Чего только не было в моей фантастической голове! Конечно, была школа, и она занимала немало времени, тем более, что с пятого класса, то есть с 10–11 лет, у нас была вторая смена. Мы начинали учиться где-то часа в два и учились до вечера. Дорога — час туда и час обратно. Училась я, как теперь понимаю, весьма неважно. Выручало то, что можно назвать общим уровнем, развитостью, начитанностью. Такими были почти все в классе. Но были и очень хорошие ученики — не я. Были в школе и очень интересные уроки, на которых можно было сидеть и слушать с неподдельным вниманием. Конечно, были физика и математика, тут уж хоть слушай, хоть не слушай, понять все равно ничего нельзя. И еще это обществоведение, где все мы с трудом пробирались между Спартаком и крестьянскими войнами в Германии.
Я не прогуляла ни одного дня в школе. Не только не прогуляла, но даже такая мысль никогда не приходила в голову. Не знаю, чем это объяснить. Может быть, мама сумела как-то в подсознание, в самую глубину, вложить строптивой девчонке элементы дисциплинированности. Другого объяснения не нахожу. Я училась в период так называемого совместного обучения — девчонки и мальчишки вместе. Знаю, что на этот счет существуют очень разные мнения. Я с радостью вспоминаю школьные годы и думаю, что благодаря этой совместности мне было в детстве хорошо с мальчиками и всю жизнь легко и хорошо с мужчинами. Мальчишки нашего класса были умными и недаром стали образованными людьми. Один из них — известный поэт Евгений Долматовский, с которым мы были младшими в классе, — как-то, много лет спустя, проследил судьбы всех наших одноклассников и выяснил, что многие из них стали серьезными учеными. Особенно в области тех самых физики и математики, на школьных уроках которых они присылали мне потихоньку решение всех уравнений.
В том же переломном пятом классе я предложила всем перейти на имена, — полагалось до этого называть друг друга по фамилиям. Предложение было принято, но в жизнь прошло с трудом, несмотря на то, что невыполняющего «постановление» сильно хлопали книгой по голове, да и обращение было не Боря, Ляля, Коля, Галя, а Борька, Лялька, Колька и т. д. Но все же справились, и, кажется, наш класс был если не единственным, то первым в этом невероятном по тем временам нововведении. Озорства тоже хватало. Но мы озорничали не злобно. Любимой выдумкой была следующая. Два раза в неделю, были уроки физкультуры, их назначали или до, или после большой перемены, чтобы мы успевали переодеться из платья в физкультурный костюм или наоборот (формы не было). Костюм состоял из очень коротких сатиновых шароварчиков и белой блузочки, на ногах — короткие носочки и спортивные тапочки.
Вот в таком виде мы, три-четыре девчонки, выскакивали зимой на улицу и бежали по Арбатской площади. Прохожие шарахались от нас. Мы вбегали в канцелярский магазин в начале Арбата, покупали у остолбеневшего продавца один карандаш или резинку и бежали обратно. Врывались в маленькую булочную, где продавали очень вкусный «хворост» в виде больших ажурных шаров, посыпанных сахарной пудрой, потом бежали через дорогу в молочную, где тоже все перед нами рассыпались в стороны, покупали по бутылке кефира и тут же этот кефир выпивали, хрупая хворостом, и бежали обратно в школу. Было и еще одно удовольствие — моссельпромщицы. Это были женщины в шапочках с козырьком и надписью: МОССЕЛЬПРОМ, торговавшие с лотков. Кажется, они продавали папиросы, которые нас совсем не интересовали. Но что было замечательно — это ириски. Те, что по три копейки пара, были светло-коричневые, вкусные, но обыкновенные. А вот по пять копеек пара были чудо: большие, квадратные, темно-коричневые и очень твердые. Купив эти ириски мы успевали ворваться в школу, переодеться в платья, если физкультура была до большой перемены, в последнюю минуту влететь в класс и сесть за парту, лучше за предпоследнюю, впереди я никогда не сидела. Вот тут и наступало блаженство. От беготни по морозу было весело и все кругом полно свежести. Под партой интересная книга, а во рту ириска, в которую сверху и снизу влеплены зубы. Единственная опасность — если вызовут к доске, разлепить зубы и что-нибудь сказать почти невозможно. А потом кончаются уроки, и бежим домой — переулками, бульварами, всегда разными путями.
Был чудесный зимний праздник. Рождество. Конечно, в России были семьи, и немало, которые праздновали его во всей полноте и величии, как Рождество Христово. У нас этого не было, не было и у тех, кого я знала. Даже и название-то — не Рождество Христово, а просто Рождество — говорит само за себя. Но и та теплая семейная традиция все равно была прекрасна. Елку покупали очень большую, пышную, и, конечно, не на Новый год, а в Сочельник. Новый же год был совсем другим, светским и внешним праздником, лишенным всякой таинственности, которая Рождество все же окружала. Вечером в Сочельник нас с братом закрывали во второй комнате, а в большой, где рояль, папа и мама устанавливали елку ростом до потолка и наряжали ее игрушками, яблоками, мандаринами, конфетами, шарами и свечами — живыми свечами, а не мертвой гирляндой из лампочек. Под елку клали подарки, папа садился за рояль и играл «Гусиный марш». Дверь в комнату открывали, мы вбегали, замирали от восторга перед красотой елки, потом лезли под нее вытаскивать подарки. Вероятно, там были разные вещи, но, главное, навсегда запомнились книги. Помню, как маленькому брату, увлекавшемуся географией и удивительно для малыша много знавшему, подарили глобус. Юрка, ошеломленный радостью, стоял с ним в руках и долго молчал, не в силах не только произнести хоть слово, но даже улыбнуться.
Как хорошо было спать в рождественской ночи в большой комнате втроем: рояль, душистая елка и я на диване. А потом еще кот, игравший лапочками со всем, что откуда-нибудь свисало. Потом было хождение в гости к другим детям. Вероятно, родители заранее обо всем договаривались. В одной профессорской семье каждое Рождество устраивали детский маскарад. У них была величайшая редкость по тем временам: большая отдельная квартира. Детей собиралось много, и бежали мы цепочкой под папин «Гусиный марш» уже по всей квартире и коридорам. На одном из таких маскарадов я танцевала с высоким мальчиком в костюме Пьеро. Он был родственником Станиславского, свой лагерный путь начал в 22 года на Беломорканале, а умер в Воркуте, оставшись там после освобождения. Я встретилась с ним, приехав уже в вольную Воркуту к своим друзьям, тоже оставшимся там после освобождения. Под завывание полярной вьюги вспоминали далекий детский маскарад в Москве.
Раза три в год мы, дети, попадали в театр, остальное время между спектаклями переживали увиденное или повторяли представления, как умели. В Художественном театре, как все московские дети, я смотрела «Синюю птицу». И вот опять особенность детского восприятия: лет через десять после увиденного спектакля я читала Метерлинка. Читала и «Синюю птицу». Очень хороший писатель, написал очень хорошую пьесу. Только это было совсем не то, что я видела в театре маленькой. Там не было ни автора, ни пьесы; и режиссеров не было, и никакие актеры никого не играли. Была самая настоящая правдивая история, более реальная и правдивая, чем сама жизнь. Ведь она была красивее и серьезнее этой окружающей жизни.
Вахтанговскую «Принцессу Турандот» я видела несколько раз и помню очень хорошо. Это был дивный спектакль, совсем не та гальванизация, которую можно видеть сегодня. Всегда трудно искать слова для рассказа о спектакле, а еще трудней, если хочешь объяснить отличие одного спектакля от другого, да еще если этот другой — повторение первого. Тот первый, вахтанговский, был, конечно, ювелирно сделан, но казалось, что никто ничего не придумывал, а просто каждый вечер на сцене весело валяют дурака, привязывая белые салфетки и полотенца вместо бород, как будто только что это придумали, и, двигаясь под музыку так, точно это и есть естественное движение. Прелестная Мансурова в совсем европейском бальном платье (китайская принцесса) с полумаской на лице, потому что ее красоты нельзя выдержать, несмотря на все «Мудрые» загадки, была очаровательно глупенькой, от чего все получалось еще смешнее. Калаф-Куза, восточный принц, у которого восточного было только тюрбан на голове, во всем остальном это был блистательный европейский фрачный герой-любовник, элегантный до совершенства. И во всем легком веселом представлении Орочко, игравшая Адельму, — настоящая трагическая актриса. Это несоответствие стилей было подчеркнутым, преувеличенным, что еще добавляло веселья. Веселая доброта оказалась основным звучанием спектакля. Публика в зале чувствовала себя полностью втянутой в то, что происходит на сцене, чему много способствовали четыре маски. Только они с самого начала выходили загримированными и одетыми в яркие театральные костюмы. Шутки их казались по тем временам очень актуальными. Удивительно, что уже надвигалась тьма, а люди от души смеялись над этими злободневными остротами. Например, четыре маски всякими ухищрениями стараются вызнать настоящее имя Калафа и приходят к нему с анкетой, а это — время первых советских анкет, но тогда еще никто не догадывался, как они будут страшны. Один из вопросов анкеты стал притчей во языцех, его повторяла вся Москва, по-моему, несколько лет: «Была ли у вас бабушка и, если нет, почему?». Зал смеялся, смеялась Москва, а через двадцать лет сколько ночных лефортовских допросов было потрачено на выяснение моих предков со стороны отца — датчан. Их фамилия была фон Дитмар. И один из генералов Гитлера носил эту фамилию. Для меня это стало лишь небольшим осложнением в следствии, а сколько людей в связи с такими вопросами и такими фамилиями погибло в советских лагерях!
«Турандот» стала знаменитым спектаклем, ее видели многие. А вот один концерт мне хочется описать, вряд ли кто-нибудь еще это сделает. Малый зал консерватории, и я, девочка, на концерте одна. На сцену выходит немолодая некрасивая плотная женщина. Это цыганка, по-моему, ее имя Мария Христофорова. Она одета в длинную одежду, темно-серую, никакой «цыганской» пестроты нет. На плечах — шаль, причем совсем не яркая. Грима нет, его в то время и на других певицах не было, во всяком случае, казалось, что не было. Она садится на стул лицом к зрителям, положив руки на колени. Поет сидя, очень спокойно сидит, без всяких жестов, без всякой аффектации. А вот аккомпаниатор с гитарой стоит на шаг позади нее, за ее плечом, склонившись в почтительном полупоклоне. Он тоже не молод, одет в темное, тоже без всяких эффектов. У него прекрасные полуседые, крупными волнами лежащие волосы. Очень плохо, что не помню, как его звали, ну не помню. Он отдан ей, ее пению, почтительно отдан. Она не обращает на него никакого внимания, только поет очень низким, очень красивым голосом. И пение тоже без эффектов, ни придыхания, ни длиннющих фермат, все в звуке голоса и в том, что не поддается словам, в огромном, все возрастающем, иногда почти пугающем темпераменте, не рвущемся истерически, а льющемся из бездонной глубины души.
Я всей душой была в театре. При школе в одной из комнаток жила Ольга Алексеева, актриса, родственница Станиславского. Она вела драмкружок. Помню два спектакля. Первый — «Люлли-музыкант», где я играла Люлли. Мне было лет одиннадцать. Мы с увлечением репетировали пьесу, но нам ее запретили! Герцог де Гиз брал там Люлли к себе, и, стало быть, не было настоящего классового подхода. Не разрешали тогда не только сказки, но и спектакли. Потом оказалось, что я знаю наизусть целиком «Бориса Годунова» и «Горе от ума». Я никогда не учила эти вещи, просто читала, как читают в детстве то, что особенно любят: по десять-двадцать раз. И вот мы с классом (это был пятый или шестой) решили поставить «Бориса Годунова». Я играла Самозванца. Костюмов мы не достали, играли в своих платьях, кто в чем. Меня долго потом поддразнивали. Длинноногая растрепанная белобрысая девочка в коротеньком бумазейном платьице тоненьким голоском упоенно восклицала: «Тень Грозного меня усыновила».
Через двадцать с лишним лет в мордовском лагере мы играли пушкинскую «Сцену у фонтана» в очень страшный день. У нас отобрали свои платья и выдали казенные, с номерами на спине, на подоле, на телогрейке и на косынке. Как будто отнимали имя. Человека уже больше не было, оставался только номер. Но Пушкина у нас отнять было нельзя. И все прекрасное на свете сконцентрировалось в пушкинских словах, и было с нами.
Моя детская способность к сопереживанию имела странное последствие. В двенадцать лет из-за нее я получила заболевание — тик. Я иногда возвращалась из школы трамваем, выскакивала у Петровских ворот, вприпрыжку бежала домой по Петровке, мимо Петровского монастыря. В этот раз у монастыря на земле сидел нищий. Голова у него дергалась. Меня залила такая отчаянная жалость, что мгновенно я как бы всего его вобрала в себя. Я стала этим нищим. Домой я пришла уже больной. И как меня ни лечили, тик остался на всю жизнь. Позднее я уже знала за собою эту особенность и, встречая на улице человека, например, с болезнью святого Витта, переходила на другую сторону. Эта странная способность острого сопереживания через много лет обернулась хорошей стороной, когда мы жили уже вместе с Даниилом и он работал над романом «Странники ночи», но об этом позже.
Существовало во время юности Даниила и моего детства пространство, где еще в 28-м или 29-м году мы могли бы встретиться. Тогда, на протяжении всего Тверского бульвара от Никитских ворот до памятника Пушкину, который стоял там, где ему и полагается, тянулся книжный развал. Там располагались продавцы, перед ними, кажется, на каких-то подстилках, лежали книги. А между ними торговали мороженым. Часто, возвращаясь из школы, я ходила вдоль этих развалов, жадно разглядывая книги. Книг лежало множество, они были разные, иногда и очень хорошие. Даниил в это время учился на Высших литературных курсах, помещавшихся посередине Тверского бульвара, где сейчас Литературный институт им. Горького, и где 21 июня 2000 года установлена мемориальная доска памяти Даниила Андреева. Кроме того, многое и в его жизни было связано с окрестными переулками. Он, конечно, тоже ходил вдоль этих книжных развалов. Наверняка мы проходили мимо одних и тех же книг. Может быть, даже стояли рядом над какими-то из них — худенькая длинная девочка, всегда растрепанная, с мороженым в руке, и стройный, смуглый, красивый молодой человек с очень необычной внешностью.
Часто, возвращаясь из школы домой Вознесенским переулком, я проходила мимо англиканской церкви. До ушей начитавшаяся Вальтера Скотта, я замирала перед этим прекрасным зданием и горячо мечтала, как бы я хотела жить где-нибудь поблизости! Теперь я живу в соседнем переулке.
Глава 8. КОЛЬЦО НИБЕЛУНГА
Мое детство было наполнено музыкой и книгами. Первое, что я помню — была музыка, но не та ритмизованная бесовщина, которая обваливается сейчас на нас с каждого угла, а море настоящей музыки, Божьего голоса. Книги же наполняли мой мир волшебными образами принцесс и рыцарей. Даже простоватые герои приключенческих романов тоже были образцами смелости, чести, порядочности и верности. Все они молча жили рядом и требовали равнения на них. В этих романах обычно были две героини. Одна черноглазая, смуглая, смелая, она отважно скакала на коне. У Эмилио Сальгари это была дочь предводителя индейского племени, ее звали Миннегага и она была совершенно великолепна. Вторая героиня всегда была голубоглазой блондинкой, все время плакала и падала в обморок. Конечно, моей героиней была первая. Я подходила к зеркалу, и оттуда на меня смотрело круглое светлое личико с голубыми глазами, и хоть бы косы на голове, а то нет — белобрысые лохмушки! Как меня это расстраивало!
Со временем, зачитанных до дыр Жюля Верна и Сальгари сменили — и уже навсегда — Шекспир, Гофман и Диккенс. Пушкин, Лермонтов и Гоголь казались чем-то органически живущим рядом, как воздух, деревья, рояль. Начитавшись Шекспира, я влюбилась в Марка Антония. Забавно, что мне совсем не мешало ни наличие Клеопатры, ни даже то, что он жил много веков назад.
Живущую в мире фантазий девочку трудно было назвать христианкой, хотя я себя таковой считала при полной неграмотности во всем, что касалось религии. Около меня не было ни одного не то что воцерковленного, а просто реального христианина. К заутрени мы ходили к храму на углу Столешникова переулка и Петровки — стояли с огромной толпой на улице. Теперь я знаю, что это был храм Рождества Богородицы. Думаю, благовест Москвы, начинавшийся с колокольни Ивана Великого, и подхватываемый всеми недоразрушенными, недовзорванными и недозакрытыми московскими церквями, делал с моей душою то, что не удавалось никому из людей. В церковь я не ходила, как и все, кого я знала. Но без слов этот светлый и магический звон делал свое Божье дело. Это принято называть неосознанным стремлением ко Христу, что, конечно, было творчеством моего Ангела Хранителя. Ведь потому колокола и сбрасывали — уничтожали голос Бога. Но не уничтожили. Это невозможно.
Мои попытки читать самостоятельно Евангелие были неудачными, а книга «Мифы и легенды Древней Греции» казалась понятнее и увлекательней. Соперничать с ней могли разве что рыцари Круглого стола. А потом произошло следующее. Я прочла книгу — по-моему, автором был Эберс, — а книга называлась «Серапис» и кончалась тем, что христиане разбивают статую бога Сераписа. Я со всей страстью пережила гибель статуи и решила стать язычницей. Никому ничего не говоря, я бегала в Музей изящных искусств молиться статуям греческих богов.
Откуда у меня возникло и вовсе странное желание стать ведьмой, я уж совсем не знаю. Оно было очень сильным, и я, со всей своей наивностью, стала искать в советских библиотеках книги с руководством по колдовству. Их я не нашла, но хорошо помню одну ночь. Все выглядело совсем буднично, у меня, как всегда, была бессонница. Я лежала и размышляла… И в потоке мыслей, как молния, мне ясно открылась греховность и недопустимость желания быть ведьмой. И я всей душой и навсегда от этого отказалась. Так прикоснулась ко мне рука моего Ангела Хранителя. Он был со мною всегда, и, конечно, это он вывел меня из того неописуемого душевного нагромождения, которое я только что попыталась описать. Конечно Ангел, но как? Но чем?
Сколько бы я ни всматривалась в то время, я вижу три опоры: невидимое присутствие в моей жизни Ангела Хранителя, книги и, конечно, музыка.
Если говорить о книгах, то совершенно особое место в моей жизни занимают легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Образ короля-рыцаря Артура проходит через всю мою жизнь. В 1994 году — в последний год, когда я еще видела — я была в Англии и работала в русском архиве университета города Лиддс. Создатель и заведующий этим архивом Ричард Дэвис, вместе с которым мы приводили в порядок тюремные черновики Даниила (я их передала туда), в свободное время возил меня по Англии. Все, что я видела: старинный Йорк, его древняя римская стена, длинные пологие холмы Англии — казались ждущими своего короля, который придет из Небесной Англии-Логриса, когда исполнится срок.
Мне, девочке, уже тогда стало ясно, что смысл жизни женщины — любовь. Какая любовь? Что касается вопроса о модном сейчас сексуальном воспитании, так у меня этого воспитания не было вовсе. Дома на эту тему никто и никогда не говорил ни слова, хотя отец был физиологом. Все, так сказать, «необходимые» сведения я получала во дворе в самом уличном изложении. Они не произвели на меня никакого впечатления. Думаю, что должна благодарить за это рыцарей и принцесс. Больше того, мои царевны и герои не только не свалились в подворотню, а наоборот — возникли сомнения в правильности сведений, полученных в подворотне. Что-то в них было не так, потому что к Тристану и Изольде они отношения иметь не могли. А в истинности Тристана и Изольды сомнений не было никаких.
Откуда у десяти-двенадцатилетней девочки, только что лазавшей с мальчишками по крышам, родилось это четкое представление о том, что ее назначение в жизни — любить, абсолютно ничего для себя не требуя? Что однажды я встречу того, кто будет предан какому-то важному делу, то есть рыцаря-крестоносца, и буду рядом с ним ради него и его дела.
Интересно, что я и мои подружки читали одни и те же книги, позднее вместе слушали «Лоэнгрина», но только я так представляла себе свою будущую любовь.
Сейчас мне иногда задают вопрос, почему же я подробно не расспрашивала Даниила о том, откуда он получал сведения, какие у него были состояния, из которых выросла «Роза Мира». А все очень просто. С тех самых пор и на всю жизнь я поняла, как трагически неправа была Эльза из «Лоэнгрина», как она потеряла любимого. И слова: «Ты все сомнения бросишь, ты никогда не спросишь, откуда прибыл я и как зовут меня» — выжжены в моей душе навсегда. Поэтому я не расспрашивала мужа о том, о чем не следовало. Такое понимание родилось тогда, у той растрепанной девочки.
Даниил тоже любил детство. И мне хочется задержаться в этом времени по нескольким причинам. Одна из них то, что я знаю, в какой штормовой океан вынесет уже скоро наши корабли. Другая — когда с конца жизни всматриваешься в начало, то видишь, как основные черты, кирпичики в фундаменте личности, закладывались там. А третья причина — забавная. У нас с Даниилом, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, какие-то вещи проходили параллельно, конечно, учитывая эту разницу. Вот об этих, немного смешных вещах я и расскажу.
Музыке тогда обучались все дети в так называемых интеллигентных семьях. Нас усаживали за рояль и учили играть. Со мной все было в порядке благодаря папе. Когда мне было, вероятно, лет пять, он посадил меня за рояль, подложив множество нотных папок, мы с ним играли в четыре руки. Происходило это так: вторая часть дивной Первой симфонии Калинникова очень проста — в правой части партитуры это терция, которую играют двумя пальцами. Это я и играла, а все остальное — папа. А я была безумно горда — мы с Дюканушкой (так я звала папу) играем в четыре руки! Со временем мы подошли к тому, что могли играть все, что хотели: вплоть до симфоний Бетховена. Благодаря этому я жила в музыке.
У Даниила с музыкой дело обстояло несколько хуже и быстро кончилось. Его тоже усадили за рояль. И вот однажды, спустя какое-то время, Филипп Александрович, сидевший в том же большом зале, где стоял рояль, несколько раз остановил его: «Ну ты же неправильно играешь, ты же фальшивишь! Ты ошибаешься!». Даниил продолжал ошибаться. Тогда Филиппу Александровичу это надоело, он ссадил мальчика с табуретки, сел за рояль и сказал: «Послушай, я сейчас тебе сыграю так, как должно быть». Он заиграл, увлекся, продолжал играть и играть. Через какое-то время из-под рояля донесся восторженный вопль: «Дядюшка! У рояля ноги, как у динозавра!». Хорошо, что Добровы вовремя поняли, что не надо ребенка мучить. Музыкой он больше не занимался, а вот динозавров обожал. Все его тетрадки покрыты изображениями доисторических животных.
Другой забавный случай произошел у нас обоих с оперой «Евгений Онегин». Тоже, конечно, в разное время. Тогда дети очень часто ходили в театры и на концерты. Причем нас отпускали в одиночку; просто давали в руки билет и говорили: «Вот иди в Художественный, Малый зал Консерватории или еще куда-нибудь». Так мы ходили, иногда на детские утренники, но часто и на настоящие вечерние спектакли. На «Евгения Онегина» меня взяла с собой мамина приятельница, у которой были две дочки. Сидели мы на галерке. А у меня — боязнь высоты, о чем никто тогда не подозревал. Уже из-за этого мне было скверно. Кроме того, в семь-восемь лет меня абсолютно не заинтересовало то, что происходило на сцене. Поэтому дома я заявила, что в оперу я больше не пойду, мне там не понравилось. Папа выждал время и, когда мне было лет десять, поступил очень просто и умно. Он купил билеты на хорошие места в ложу бенуара и взял с собой партитуру. Я сидела с папой на прекрасных местах и слушала «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». И так это сказание вошло в мою душу на всю жизнь. Кроме того, папа показывал мне, как написано в партитуре то, что происходит на сцене: «Смотри: то, что поют, вот здесь написано». И это удивительным образом закрепило впечатление от спектакля уже навсегда и определило мое отношение к опере, которую я особенно люблю.
У Даниила история с «Евгением Онегиным» получилась другая, но тоже забавная. Его отправили в театр одного. И он пришел неожиданно рано. Взрослые удивились: «Почему так рано? Разве спектакль уже кончился?». Даня ответил: «Да». Взрослым это показалось странным, и они принялись расспрашивать:
— Ну а что же там все-таки происходило, расскажи.
— Ну как, что там было? Убили его и все тут, чего же еще?
Для мальчика после того, как один герой убил другого, сюжет оперы был исчерпан. Он просто повернулся и пошел домой, считая, что это конец.
В 29-м году я окончила семилетку, и в этом же году были разогнаны Высшие литературные курсы, на которых раньше учился Даниил. Дело в том, что эти курсы были прибежищем молодежи из интеллигентских и дворянских семей. Этих молодых людей не принимали в университет именно из-за такого неподходящего происхождения. И преподаватели Курсов были такими же. Конечно, советская власть не могла долго терпеть такого гнезда «чуждой культуры» и это «злокачественное образование» было закрыто.
А окончание школы и для меня, и для Даниила было похожим. Я совершенно ничего не понимала в математике. Преподавал ее Константин Львович Баев, он работал еще и в планетарии, и сносно относился ко мне только потому, что я увлекалась астрономией, которую он же и ввел как школьный предмет. Про нас, девочек, он говорил, что у нас ушки — только красивые раковинки и больше они ни для чего не годны. На выпускной экзамен, последнюю контрольную по математике, я опоздала. Константин Львович рассердился и дал мне отдельное задание. Когда я взглянула на него, то сразу поняла, что нечего и пытаться решать. Я тут же переписала задание на листочки и разослала нескольким лучшим ученикам, тем, кто обычно мне помогал. Но, увы, от всех получила ответы: «Не могу, ничего не понимаю». Видимо, рассердившийся Константин Львович выдал мне такое, что вообще не имело решения. Я подумала, подумала, написала стихотворение и подала его вместо контрольной. И получила отметку успешно!
С физикой дело обстояло хуже. Последним заданием по физике была динамомашина. Как она работает, объяснял мне очень хороший преподаватель. Много раз объяснял папа. Объясняли все лучшие ученики класса. Пять минут, пока длилось объяснение, казалось, что все понятно. А еще через пять минут я опять ничего не соображала. Каким-то образом, не знаю как, но я все-таки сдала физику уже осенью. Это была переэкзаменовка. Но что такое динамомашина, как она работает, так до сих пор и не знаю.
Даниил тоже ничего не понимал в математике и не в силах был высидеть на уроках. И хотя он всячески пытался совладать с собой и приняться за дело, каждый раз уходил с урока и прятался. В конце-концов наступил последний урок, тот самый, контрольный. Он решил остаться. Но, как потом говорил мне, «как только раздался звонок, ноги сами вынесли». Он рассказывал об этом так: «Проторчал весь урок в соседнем пустом классе, к тому же на меня напал кашель, и я простоял урок на подоконнике, высунув голову в форточку и кашляя в переулок, чтоб не было слышно». Даниил был старостой класса. Это происходило уже при советской власти. Вместо частной Репмановской гимназии была советская школа. И вводились всякие новые порядки: старосты классов присутствовали на педагогическом совете, когда объявлялись отметки всех учеников. Даниил — староста, да еще фамилия Андреев — на «А». С него начинается обнародование отметок всего класса. Преподаватели по очереди называют свою отметку каждому ученику. Когда дело доходит до математика, он, не поднимая глаз, говорит: «Успешно».
Через несколько лет Даниил специально пошел домой к этому учителю, чтобы спросить: «Почему вы так поступили?». И вот что услышал в ответ: «Вы были единственным учеником, о котором я не имел ни малейшего представления. Я просто вас никогда не видал. Меня это заинтересовало, и я стал осторожно расспрашивать остальных преподавателей об ученике Данииле Андрееве. И из этих расспросов я понял, что все ваши способности, интересы, все ваши желания и увлечения лежат, так сказать, в совершенно других областях. Ну зачем же мне было портить вам жизнь?». Вот всем бы таких педагогов…
Кончилось мое детство, а юность Даниила была в самом разгаре. Юность трудная, сложная, многомерная и такая необходимая для всего, позже воплощенного им в его творчестве.
И вот опять мы, ничего друг о друге не зная, одновременно подошли к черте, которая оказалась очень значительной в жизни каждого из нас.
В середине двадцатых годов, как мне кажется, на Москву обрушилось кино. Кинотеатры возникали в самых неожиданных местах. Вряд ли кто-нибудь, кроме меня, помнит, что кинотеатром с названием «Колосс» был Большой зал Консерватории, и не такое уж короткое время. Кино было немое. На углу Тверского бульвара был маленький кинотеатрик, который так и назывался «Великий немой». А напротив, наискосок, где сейчас «Известия», только ближе — теперь там пустое место — был кинотеатр «Ша Нуар». По-французски это «Черная кошка», но написано было русскими буквами и произносилось попросту в одно слово — «Шинуар». Там, где сейчас театр Ленинского Комсомола, был кинотеатр «Малая Дмитровка». А на Тверской, где сейчас Драматический театр имени Станиславского, был кинотеатр «Арс». Вот тут и произошло событие. Сеансы сопровождались музыкой. В дешевых кинотеатрах на рояле играл тапер, в тех, что подороже — маленький оркестр. Во многих кинотеатрах шла немецкая двухсерийная картина «Нибелунги». В «Арсе» ее сопровождал оркестр, игравший Вагнера. Фильм и вправду был прекрасным. Первая серия называлась «Зигфрид», вторая — «Месть Кримгильды». Я, конечно, влюбилась в Зигфрида: он был само совершенство. Кримгильда тоже была прекрасна, особенно ее длинные белокурые косы — несостоявшаяся мечта всей моей жизни. Мне очень жаль, что я не могу вспомнить имени очень хорошей актрисы, которая ее играла, зато помню, что Зигфрида играл Пауль Рихтер. Потом мне попала в руки открытка — их в то время продавалось много. Это был очень красивый мужчина в изысканном европейском костюме, чуть ли не во фраке. Он не произвел на меня никакого впечатления. Не нужен мне был никакой Пауль Рихтер, никакой красивый мужчина, никакой актер. Нужен был только Зигфрид. Для меня музыка и смысл вагнеровской тетралогии, черты и образы рыцарства, верности, чести, рассыпанные повсюду, соединились в одном — в Зигфриде. Он был идеалом мужчины — рыцаря, отдающего себя всего и свою жизнь служению Свету. Музыка Вагнера вошла в мою жизнь еще и потому, что папа играл мне всю тетралогию, рассказывая обо всем, что там происходит. Он говорил, что Вотан положил любимую дочь валькирию Брунгильду на скалу и окружил ее огнем. И скала эта — Исландия, а огонь, ее окружающий, — северное сияние. С этих детских лет я страстно мечтала увидеть Исландию и северное сияние. Исландию я уже не увижу. А северное сияние увидела на Воркуте, и это чудо превзошло все мои ожидания.
Даниил, тогда уже взрослый юноша, тоже смотрел этот фильм. Естественно, у него все было гораздо глубже и сложнее. Он влюбился в Кримгильду, да так, что каждый вечер ездил в кино, чтобы ее увидеть. Так было, пока в Москве, хоть где-нибудь, шла «Месть Кримгильды». Он видел ее 70 раз! К тому времени относится замысел «Песни о Монсальвате» — ранней, юношеской неоконченной поэмы, которую он даже восстанавливать не стал ни в тюрьме, ни после освобождения. Ее сохранила семья историка Степана Борисовича Веселовского. В этой неоконченной, неровной работе есть удивительные места. Эти фрагменты замечательны и сами по себе, и еще потому, что в них, как в зернах, дремлют многие будущие темы и образы его творчества. Образ любящей и верной жены проходит через все творчество Даниила. Юношеская влюбленность в язычницу Кримгильду претворяется в «Песне о Монсальвате» в образ уже христианской королевы Агнессы:
И нежная, как голубиные крылья, Скрестилась под брачною епитрахилью, Ненарушимую верность суля, Рука королевы с рукой короля.Своей вершины женский образ в творчестве Даниила достигает в погибшем романе «Странники ночи». Героиня Ирина Глинская жертвует своей любовью и личным счастьем, внутренне протестуя против замысла любимого человека усилием воли умереть, чтобы воскреснуть для созидания нового совершенного мира.
Непосредственно к теме королевы Кримгильды Даниил вернулся во время войны. Поэма была сожжена «органами» после приговора. Как все сочинения Даниила. В тюрьме он ее восстановил. Но один из самых теплых и душевных фрагментов поэмы, который ее заключает, вспомнил не он, а я, чему забывчивый автор очень обрадовался. Вот он:
В горном лесу тропинка, Ручей подо льдом бежит… Убийства, а не поединка Земля здесь память хранит. Покров разорву я снежный, Земную персть оголя — Земля Бургундии нежная. Родная моя земля. Спит он, неотомщенный, В мягкой ее груди. Мой вечный! Мой обрученный! Спи, мой любимый, жди! Меч несвершенной мести Между тобой и мной. Жди меня, будем вместе В земле родной. Станем, чистые, оба Перед судом Отца. И жизни счастливой за гробом Не будет конца.Глава 9. «ПО ГОРОДУ БЕСЦЕЛЬНО СТРАНСТВУЯ…»
Пора оторваться на время от себя, от своих воспоминаний, мыслей о пути Даниила и немного рассказать о том, что нас окружало.
За те годы — 20-е, когда я училась в школе, а Даниил проходил, как сам он потом писал, «мятежную пору своей юности», военный коммунизм сменился нэпом. А в 1929 году, когда я закончила семилетку, начался следующий этап гибели прежней России — разгром крестьянства, опоры страны.
Ничего этого я, конечно, тогда не знала и не стану, да и не могу заниматься здесь анализом нашей истории. Расскажу о Москве времени нэпа, такой, какой ее воспринимало сознание ребенка.
Я помню Москву главным образом зимней, ведь ранней весной мы уезжали куда-нибудь в деревню, а возвращались осенью. Я уже говорила о том, как она была хороша. Не знаю, чистили ли на улицах снег. Дворники были — в белых фартуках с металлическими бляхами на груди — значит, наверное, чистили. А вот теплотрасс не было, поэтому не было и нынешней непролазной грязи, которая то тает, то обледеневает. Москва была белая, засыпанная пушистым снегом. Снег звонко хрустел под ногами, мы бегали по нему, катались, кувыркались, носились бульварами, чудными переулками старой Москвы. Одной из любимых игр было заблудиться, а потом, обязательно никого не спрашивая, найти дорогу домой.
Что же касается весны, то, по-моему, атмосферу весенней Москвы прекрасно передал А. Майков:
Весна. Выставляется первая рама. И в комнату шум ворвался. И благовест ближнего храма, И говор народа, и стук колеса.Это так точно, что и прибавить нечего. А осенью, когда первую раму вставляли обратно, наступала какая-то особая зимняя тишина. Сейчас нет ни того, ни другого.
Сегодня, вспоминая отдельные картины тогдашней жизни, могу сказать, что нэп нисколько не походил на те реформы, которые сейчас идут в России, начиная с конца 80-х годов. Суть нэпа была в том, что решили поставить на ноги страну, которую сами разрушили, руками людей, привыкших работать. Дали возможность развернуться энергичным предпринимателям, а потом всех их уморили в ГУЛАГе.
Я же, девочка, видела и запомнила отдельные картинки тех времен.
В самом начале Петровского пассажа стоял длинный стол. За ним — картинный малоросс, иначе его не назовешь. Это был именно человек из Малой России, основной, чистой, той России, которую крестил Владимир. Он был крупный, красивый, с длинными висячими усами, в меховой шапке набекрень и, конечно, в том самом малороссийском костюме. И торговал он замечательными сладостями, вкус которых я до сих пор помню. Там были и маковники, и заливные орехи, и еще невесть что. Все это делала его семья. Над столом красовалась от руки написанная вывеска «Ось Тарас з Киева». Я считала, что это его так зовут — Ось Тарас. Родители нарочно меня не поправляли, и, когда я просила: «Ну пойдем к Ось Тарасу», их это ужасно смешило. В 49-м году, когда я уже имела возможность получать в лагере краски и кисти для работы, папа познакомился с продавщицей из магазина художественных принадлежностей, что на Пушкинской улице (теперь снова Большая Дмитровка). Продавщица, которая особенно заботливо подбирала для папы краски и кисти, зная, куда они пойдут, оказалась дочерью того самого Ось Тараса.
А еще я застала крохи того, что было нормальным и приличным для барышень и дам до революции. Мне уже лет пятнадцать. В Салтыковском переулке жила модистка Елтовская, которая делала головные уборы. И мне три таких шляпы достались, прежде чем все это уничтожили, а сама модистка исчезла, Бог знает куда. Она жила на первом этаже в большой, пустой и неубранной комнате. У нее в подручных работали одна или две девушки. И каждая ее шляпа это была в своем роде поэма, поэтому я их помню.
И таким было все и везде. Еще на Петровке находился магазин «Эйнем», так называлась известная шоколадная фабрика. Мы с подругами не были заброшенными детьми, которые не имеют представления о конфетах, конфеты в доме были постоянно. Но в этот магазин мы бегали, чтобы понюхать. В нем стоял изумительный запах шоколада — он был чуть ли не лучше самих конфет. Немножко дальше располагался нотный магазин. Все эти крохотные магазинчики как бы сужали Петровку там, где сейчас какие-то скверы от Столешникова до Кузнецкого. В нотном магазине продавщицей была очень, как мне тогда казалось, старая дама. Она носила блузку со стоячим воротничком, какую-то необыкновенную, всю в кружевах. Ее маленькая головка была в круглых буклях. Я тогда не знала, что это называется буклями. Дама была удивительно милой и приветливой. У нее я уже сама покупала ноты, по которым училась. Еще дальше, на углу Кузнецкого — фотография Паоло Свищова. Думаю, Свищов — это была настоящая фамилия, а Паоло — так, для вывески. Одна фотография, где мне шестнадцать лет, сделана у него. Позднее старший Свищов, видимо, умер, а сын встретился на одной из пересылок с Женей Белоусовым, однодельцем Даниила. Он рассказал Жене, что в их фотографии как-то снималась Надежда Аллилуева. Спустя некоторое время раздался звонок, и у Свищова-старшего потребовали отдать все негативы ее фотографий. На возражение, что это не принято, что негативы — собственность фотографа, прозвучало: «Говорит Иосиф Сталин». Разумеется, ошалевший от ужаса фотограф отдал беспрекословно негативы тем, кто за ними явился.
Вот еще маленькая вставная новелла. На Петровке, само собой разумеется, были нищие, и одна из них очень интересная — молодая женщина с темно-рыжими волосами в голубом платье с большим шарфом из аптечной марли, покрашенной в темно-голубой цвет. Ее всегда сопровождал мальчик с длинными прямыми волосами, что тогда было совершенно необычно. И одет он был тоже картинно: в коротких штанишках и тирольской шапочке на голове. Конечно, они обращали на себя внимание. Милостыню женщина просила как-то театрально. Я видела их в течение нескольких лет. Мальчик подрастал, а потом они куда-то делись. И вот много позже, наверно, мне было уже лет четырнадцать, я как-то шла по Каланчевской площади на поезд и замерла от изумления. Передо мною шагали двое: женщина в голубом платье с голубым шарфом из марли на голове и бережно и как-то даже торжественно ведущий ее под руку высокий длинноволосый молодой человек в брюках до колен, в тирольской шапочке и с большим новым чемоданом в руке. Они направлялись на вокзал, видимо, уезжали из Москвы. Такими я их и запомнила.
Помню еще вкусные лакомства на столе, мамино красивое платье, обшитое понизу пушистым мехом, извозчиков…
В середине 20-х годов вся Москва танцевала шимми из кальмановской «Баядерки». Эта музыка звучала повсюду, и, когда я сегодня слушаю эту пластинку, кажется, что опять бегу по Арбату в свою школу. Потом шимми сменил вальс из чудной вахтанговской «Принцессы Турандот», ничуть не похожей на современную реставрацию. Его напевала вся Москва. С этим вальсом мы заканчивали семилетку.
Помню такой смешной эпизод. Мне уже шестнадцать лет, я работаю, и у меня одна из невероятных шляп, сделанных Елтовской: из белой и голубой соломки с бантом на боку. Мама сшила мне белое платье с голубыми оборками, и вот я хожу нарядная по Петровке. И если на меня не оборачиваются — то день пропал даром. Я должна идти так, чтобы на меня все смотрели. Однажды в этой шляпе я забрела куда-то далеко от центра. Навстречу мне — лошадь, тогда в Москве еще были лошади. Наверное, лошадь была деревенской, ведь городским надевали шоры. При виде моей необыкновенной шляпы лошадь испуганно шарахнулась в сторону. Это было ужасно смешно, и я поняла, что в таком виде ходить можно только по центру.
Так на смену моей бестолковой ребячьей беготне по Москве пришли прогулки нарядной барышни.
Я помню и люблю Москву тех лет зимней, тихой, снежной. Даниил же вообще зимы не любил, его захватывал летний город. Никогда и ни у кого я не встречала такого глубокого, мистического отношения к Москве, вообще к городу. У Даниила это не было простой привязанностью к месту, где он родился и вырос. Нет, он любил Москву как сложное живое существо — я настаиваю на этом — живое существо.
Мне кажутся неправомерными попытки излагать своим языком то, что написано самим поэтом, например, в триптихе «У стен Кремля»:
Час предвечерья, светло-розовый, Бесшумно залил мостовые. Где через камни вековые Тянулась свежая трава, И сквозь игру листвы березовой Глядел в глаза мне город мирный, Быть может, для судьбы всемирной Назначенный… Москва, Москва! <…> Но — что это?.. Ведь я бесчисленно Все эти камни видел с детства: Я принял в душу их наследство — Всю летопись их темных плит… …Час духа пробил: с дрожью мысленной Я ощутил, как вихорь новый, Могучий, радостный, суровый, Меня, подхватывая, мчит. И все слилось: кочевья бранные Под мощным богатырским небом. Таежных троп лихая небыль И воровской огонь костра, В тиши скитов лампады ранние, И казнь, и торг в столице шумной, И гусли пиршеств, и чугунный Жезл Иоанна и Петра. <…> Казалось — огненного гения Лучистый меч пронзил сознанье, И смысл народного избранья Предощутился, креп, не гас, Как если б струи откровения Мне властно душу оросили, Быть может, Ангелом России Ниспосланные в этот час.Ребенок, сдергивавший, несмотря на протесты няни, шапочку с головы у входа в ворота Кремля, — мужчина должен входить туда с непокрытой головой; мальчик, который столько часов провел у белого храма Христа Спасителя и в лежащих вокруг него тихих переулках, стал юношей. И на него жарко дохнула другая Москва — темная, душная, полная затягивающих соблазнов. Не дорогая, привычная картина из знакомых домов, быта, друзей, — нет, живое существо, которым был для Даниила город, обернулось к юноше ликами городских демониц. Не знаю, видел ли, чувствовал ли их кто-нибудь где-нибудь еще:
Глухую чашу с влагой черною Уносит вниз она и вниз, На города излить покорные. На чешую гранитных риз. Пьют, трепеща, немея замертво, Пролеты улиц влагу ту, И люди пьют, дрожа, беспамятство, Жар, огневицу, немоту.Неминуемый мятеж наступил скоро. Почему неминуемый? Да потому, что столь рано проявившаяся отмеченность Даниила силами Света, его явная предназначенность высокой цели должны были вызвать нападение темных сил и вызвали. Мятеж Даниила ни в коей мере не был отрицанием Бога. То, что он осознал еще в юности, осталось на всю жизнь:
Это — душа, на восходе лет, Еще целокупная, как природа, Шепчет непримиримое «нет» Богоотступничеству народа.Это осталось на всю жизнь. Даниил говорил мне, что у него ни на одно мгновение не возникало и тени сомнения в бытии Божьем. Но в чем-то его мятеж был страшнее припадка атеизма или моего детского язычества. Из каких древних глубин его личности поднялся тот ответ на призыв демонических сил?
Внешне в его судьбе сплелись два течения, две линии сложного узора жизни. Одна из них — несчастливая, сначала почти детская, а потом юношеская, нежная и очень романтическая любовь. Ее звали Галя, и она сидела на соседней парте. В Галю влюбились одновременно и Даниил, и его самый близкий друг. Милая, умная, красивая и какая-то особенная Галя, конечно, не была причиной тяжелого душевного кризиса юности Даниила. Но неразделенная любовь стала толчком к тому, что он пережил в той жаркой, темной, летней Москве, и внесла свою мелодию в печальную поэму его юности.
И вновь меня останавливает нежелание пересказывать написанное поэтом. Я знаю все факты, в которых выразился тот мятеж. Даниил обо всем мне рассказал, и я читала его дневники тех лет, сожженные после приговора «органами». Вся суть того, что происходило, описана Даниилом в трех циклах стихотворений, объединенных названием «Материалы к поэме „Дуггур“». Они опубликованы в третьем томе собрания сочинений. Свойственное Даниилу ощущение как бы двух полюсов — вершины Света и миров Тьмы, проснувшееся в нем восприятие темных, затягивающих вниз сил города давали мятежу содержание и форму:
Предоставь себя ночи метельной, Волнам мрака обнять разреши: Есть услада в тоске беспредельной, В истребленьи бессмертной души.Стремление познать смысл истории, прежде всего истории России, открыло для него еще одну бездну, и это видение много лет спустя вылилось в поэмы «Гибель Грозного», «Рух», «Изнанка мира», в некоторые страницы «Розы Мира». Даниил, не заглянувший в бездну, не испытавший притяжения страшных сил, зовущих к самоуничтожению, никогда не написал бы этих строк, посвященных Тьме и важных для нас, чтобы осознать, что именно мы нужны тем силам в их темной борьбе. А это осознание необходимо для того, чтобы осмысленно им противостоять.
Мой стих — о пряже тьмы и света В узлах всемирного Узла. Призыв к Познанью — вот что это, И к осмысленью корня зла.Когда произносишь слово «соблазн», напрашиваются привычные ассоциации с набором недостойных поступков, совершаемых человеком, поддавшимся ему. Ничего этого в жизни Даниила не было: он не пил, не употреблял наркотиков, не предавался и не помышлял ни о каких извращениях, не касался женских объятий. Было сложнее и страшнее. У Даниила все и всегда уходило из реального плана в бесконечность. Так было и в темном периоде юности: да, есть и факты, о которых я знаю и не стану рассказывать, потому что дело не в них, немногих, а в том, что он слушал тот призыв к гибели. И это тем более страшно, что ему, верующему православному христианину, вся греховность этого зова и собственной готовности слушать его, поддаваться ему была вполне ясна.
Тогда же начал спиваться школьный друг Даниила, как и он, влюбленный в Галю. Ему посвящены стихи «Другу юности, которого нет в живых».
Люблю тебя любовью раненою, Как не умел любить тогда, В ту нашу юность затуманенную, В непоправимые года.Даниил считал, что виноват, и притом сознательно, в пьянстве друга. Тот погиб во время войны: гасил зажигательные бомбы и пьяным упал с крыши. Много позже, в начале войны, Даниил и Галя все же были близки, а дружба их, окрашенная каким-то глубинным отсветом, продолжалась всю жизнь. И у гроба Даниила Галя стояла рядом со мной.
Даниил считал, что в план его гибели обязательно входил брак с нелюбимой женщиной. Этот брак, это венчание должно было преградить путь той, которая может прийти потом, чтобы спасти его. Он женился на Шурочке Гублер. Они учились вместе на Высших литературных курсах. Шурочка стала потом хорошей журналисткой и писала под псевдонимом Горобова. Они венчались, кстати, в том храме, рядом с которым я теперь живу, — Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Но мужем ей Даниил не стал и совершенно измучил Шуру, которая такого издевательства, конечно, не заслужила. Много лет спустя она первой начала хлопотать о его освобождении, когда я была еще в лагере. И потом была рядом, помогала — до последнего часа.
Даниил рассказывал мне, как удивительно произошло его освобождение от той темной руки. Это случилось буквально в одно мгновение. Он прекрасно помнил, как вошел в переднюю часть бывшего зала квартиры Добровых и с него внезапно просто как бы спало что-то темное. Все стало совершенно четким и легло по местам. Даниил говорил, что Филипп Александрович присутствовал в это время в комнате, он увидел и понял, что происходит. Они не сказали друг другу ни слова, но оба все поняли. Это кажется мне необыкновенно важным.
В 1929 году замолкли церковные колокола. О том, что это было именно в том году, мне говорил Даниил. Тем летом он уехал специально поближе к Радонежу, чтобы слышать колокольный звон, там остался последний храм, где еще звонили. А московские колокола в это время уже молчали. Раньше в Москве церквей было очень много, они звонили каждый праздник. Особенно изумительно было на Пасху. На углу Петровки и Столешникова переулка была небольшая церковь. И довольно долго прихожане ходили по домам и собирали подписи, потому что при наличии какого-то количества прихожан церковь не ломали. Мой атеист папа всегда подписывался как прихожанин, которому эта церковь необходима. В Пасхальную ночь мы шли не в церковь, а на улицу, около нее — переулок и вся Петровка были полны людей, которые ждали первого удара колокола Ивана Великого.
И вот когда он раздавался, этот первый удар, то ему отвечала колокольным трезвоном вся Москва. Услышав «Христос воскресе!» и ответив «Воистину воскресе!», мы шли домой и разговлялись, это мама очень любила — делала и куличи, и крашеные яйца, и изумительную пасху. Я до сих пор делаю пасху по маминому рецепту.
С тех пор прошло почти 70 лет. Я живу теперь недалеко от Кремля. И вот недавно летом окно было открыто и я проснулась от удивительного звука. Я узнала его — это был колокол Ивана Великого. Оказывается, память об этом звуке жила во мне все эти десятилетия, и я узнала его мгновенно.
Глава 10. БУРЯ ЕЩЕ ЗА ОКНОМ
Хочется еще немного побыть дома, вспомнить, каким он был. В большой комнате у нас была столовая, и там стоял круглый стол. На диване около него я спала. Над столом висела лампа, вместо абажура тогда были модными шали с бахромой, и у нас висела такая шаль, желто-оранжевая с кистями. Вечером няня приносила самовар, настоящий, круглый. Конечно, ставить его уже не могли — угля не было. Поэтому воду кипятили отдельно, наливали в самовар и бросали несколько угольков, чтобы он хотя бы шумел. И он шумел, как настоящий.
За столом — мама с папой, я и младший брат Юра. Он на восемь лет младше меня. Юра всегда читает. Я иногда читала, но больше участвовала в том, что делали мама с папой: изредка играли в карты, а чаще раскладывали пасьянсы, и, конечно, я вместе с ними. С тех пор я знаю и люблю несколько пасьянсов. Иногда папа читал вслух что-нибудь веселое и смешное. И еще рядом всеми любимое существо — светло-рыжий, почти розовый кот, пушистый, ласковый и избалованный. После того как он появился, мама, смеясь, говорила, что мы больше друг друга не любим, а все любим кота. Его назвали было Альмавивой, но звали в конце концов Котей и Вишенкой. Меня он обожал. Мы засыпали, положив головы на одну подушку, а утром кот нежился, раскинувшись на постели, а я висела там, куда он меня столкнул.
Когда на столе появлялся самовар, кот затевал игру, которая ни ему, ни нам никогда не надоедала. Кран у самовара подтекал, и на подносе появлялась лужица. Наш кот, всегда сытый и капризный, делал вид, что умирает от жажды. Ему подставляли стул, он залезал и, прижав уши, с вороватым видом принимался лакать воду с подноса. Через какое-то время на затылок ему капала из крана горячая капля. Кот кубарем слетал со стула, ничего не понимая, под общий хохот. А через минуту снова был на стуле и снова лакал.
И так всегда: круглый стол, лампа над ним, мама с папой за пасьянсом, брат за книжкой. Никого из них больше нет на свете, и меня скоро не будет. Но я вижу эту теплую-теплую картину, слышу и сейчас, как шумит самовар и мурлычет наш милый котяра.
И еще наша няня, я уже писала, что она была членом семьи с полным правом голоса во всем. Мы никогда не смели ей грубое слово сказать. А у Юры еще была любимая кошка из серой байки и три деревянных лопаточки, на одной он написал «Юра Бружес», на второй — «Няня Бружес», на третьей — «Коша Бружес», потому что «кошка» — это казалось грубо. «Коша Бружес» вообще стало у нас семейным обращением друг к другу.
Конечно, не все было безмятежно. Существовали, например, торгсины, куда ушло все, что представляло какую-то ценность: кольца, цепочки, папина замечательная золотая медаль, полученная при окончании университета, большая, тяжелая, какого-то особенного червонного золота в лиловом бархатном футляре. Все ушло туда, и не только у нас, просто на еду. Это было уже в 30-х годах, шло второе десятилетие советской власти…
В тринадцать лет я закончила седьмой класс, и дальше надо было идти учиться «с уклоном». Я совершенно не знала, чем хочу заниматься, и папа уговорил меня пойти в восьмой и девятый класс с химическим уклоном, почему-то химия тогда оказалась в моде, считалось, что за ней будущее, это — обеспеченная работа, дорога в безбедную жизнь. Летом перед восьмым классом папа, увидев, что я «пень» в математике, занялся со мной тригонометрией. Как только я увидела знак бесконечности, что-то откликнулось в душе, я пришла в восторг и вдруг все поняла. В восьмом классе я стала одной из лучших по математике благодаря папе, который нашел какой-то особый подход к ней и… знаку бесконечности. И до сих пор формулы, какие-нибудь корни квадратные ничего мне не говорят, но понятно и близко то, что уходит в бесконечность.
Я оказалась человеком до того «ненаучным», «нелабораторным», что бестолковее, чем мои занятия химией, ничего и не придумаешь. Чтобы поскорее вырваться на волю, я по пояс залезала в вытяжной шкаф, сливала там невесть какие химикаты, и это просто чудо, защита моего Ангела Хранителя, что мне удалось ничем не облиться, не обжечься. Я ненавидела химию, ненавидела лабораторию. И вот что забавно. Мы проходили качественный анализ. То есть нам давали какую-то жидкость и путем целого ряда реакций нужно было определить ее состав. Я всегда писала состав правильно, хотя и сейчас не понимаю, как мне это удавалось, просто верно угадывала. Так я прозанималась год, и папа тоже увидел, что химия не для меня.
Я тогда уже начала рисовать и очень хотела стать художником. Но учиться было совершенно негде: ВХУТЕМАС был закрыт за формализм, никаких студий не существовало, оставался только Полиграфический институт. Чтобы пытаться в него поступать, нужен был двухлетний производственный стаж.
Что делать? К тому времени Институт труда уже разгромили, и папа перешел в Институт техники управления в Хрустальном переулке. Меня он устроил в издательство «Техника управления», которое существовало при институте. Я работала сначала подчитчиком, потом корректором. Материалы, которые мы читали, были неописуемо скучны, но я довольно скоро стала хорошим корректором: грамотна была от природы и, кроме того, обладала точным зрением на «чужие» буквы. Тогда набор был ручной, и меня даже опытные корректорши спрашивали: «Посмотри, где тут „чужая“ буква». То, что я их видела, оказалось потом зрением художника.
Я проработала так года два, скука была зеленая, но я очень неплохо зарабатывала. Мама не брала у меня денег, и я оказалась свободной «обеспеченной» девушкой. Все деньги тратила на ноты, потом на книги, одежду, но больше всего — на билеты в Большой театр. Мы ходили туда с подругами два-три раза в неделю. Знакомые капельдинерши за умеренную плату пускали нас в ложу. Мы, конечно, не садились, пока не займут места те, кто с билетами. Если мест не оказывалось — стояли в ложе, но чаще всего мужчины с билетами уступали места хорошеньким девушкам, и мы спокойно сидели в первых рядах ложи. К чести мужчин того времени должна сказать, что ни разу за этот жест вежливости от нас ничего не потребовали, даже не попытались проводить до дома. Просто было совершенно естественным, что мужчина не может сидеть, если сзади него стоит девушка.
Я слышала многих прекрасных певцов, опера и концерты в Большом зале Консерватории были содержанием нашей жизни. Не стану говорить о музыкальной сути спектаклей, мы, конечно, воспринимали происходящее без всякой критики. Вспомню один немузыкальный эпизод, произошедший у меня на глазах в Большом театре во время спектакля «Кармен». Кармен пела Максакова, а Хосе — Евлахов. В последнем действии, когда Кармен поет: «Убей или дорогу дай!», оба выхватывали ножи — она из-за подвязки чулка, он откуда-то из-за голенища, — шли друг на друга, и он ее, естественно, убивал. На этом спектакле Максакова выхватила нож, а ее партнер, схватившись за ногу, ножа не обнаружил, то ли тот упал, то ли костюмеры забыли. Хорошо помню растерянное лицо Евлахова и то, как он судорожно шарил рукой в поисках ножа. Но Максакова была не только певицей, но и замечательной актрисой. Поступила она так: через всю сцену Большого театра швырнула нож под ноги Хосе ручкой вперед, да так точно, что он мгновенно его подхватил, а она, раскинув руки, устремилась навстречу ножу и смерти. Весь зал ахнул.
Машин у артистов тогда не было, они ходили в театр пешком, и мы их часто встречали. Хорошо помню очень красивую Гоголеву и то, как видела Прокофьева около Консерватории.
Мы все, постоянные посетительницы Большого театра, были знакомы и знали, какие у кого наряды, потому что это было всегда одно и то же платье. Мы не были богаты и ходили в Большой театр «полузайцами», но в лучшем платье и с хорошей прической. Все это входило в понятие «выхода в театр». Никакой косметикой не пользовались. Никогда! Если барышня шестнадцати-восемнадцати лет красилась, на нее косились. Помню, что одна из посетительниц Большого театра красила губы. Это все знали. Это была «та, которая красит губы!».
Никаких пластинок и патефонов не было. У нас дома стоял рояль, у подружки, где чаще всего собирались, — пианино. Кто-то садился за инструмент, а остальные пели. Мы целыми вечерами пели и играли оперы целиком — «Царскую невесту», «Снегурочку». Пели, конечно, очень плохо, но зато оперы знали наизусть, жили и дышали музыкой. А дома мы с папой играли в четыре руки или папа играл вещи, ставшие навсегда любимыми, а мама пела. А иногда он играл вальсы Штрауса, а я часами танцевала одна в комнате.
В семнадцать лет я ушла из издательства и совсем уже перестала слушаться родителей. Я познакомилась с художниками и начала у них учиться. Больше было негде. Руцай, Арон Ржезников. Как я с ними познакомилась, теперь уже не помню. Они меня рисовали — портреты, конечно. Никому бы в голову не пришло предложить мне позировать обнаженной. А мне ставили в углу натюрморт и учили писать. Основу наших отношений составляла живопись. Это был очень узкий круг людей, с головой погруженных в искусство. Больше всего я училась у Арона Ржезникова, он был очень хороший художник и потом погиб на войне.
Это общение с художниками дало мне какую-то основу будущей профессии. Дома мама постоянно убирала мои натюрморты: они портили вид комнаты. Я познакомилась с Соней Витухновской и Ирмой Геккер. Соня снимала маленькую комнатку, и мы приходили к ней писать друг друга. Мы втроем попытались поступить в Полиграфический институт, но все срезались на экзаменах. Провалившись, вернулись к своим натюрмортам. В то время в Москве проходило много интересных лекций. Мы бегали повсюду, где только можно было что-то послушать, проникали зайцами на любые лекции, особенно по истории искусств, когда узнавали, что где-то их читают. Даже на марксизм-ленинизм зачем-то просачивались. Нас ловили, выгоняли, а мы лезли снова…
В то время шли дискуссии о формализме, никто тогда не понимал, что из этого выйдет. То есть, наверное, люди масштаба Михоэлса или Мейерхольда о чем-то догадывались, но не мы. Дискуссии эти были закрытыми, и мы просто лезли на них через все щели: окна, туалеты, подвалы. Пробирались и слушали, слушали… И кого только мы не слышали: и Михоэлса, и Таирова, и Эренбурга, и Михалкова, и Фаворского. Мы тогда не понимали, что присутствуем на последней схватке людей культуры с теми, кто эту культуру вскоре задавит. Даже когда сами уже учились, не понимали, что происходит, в голове были только живопись, только искусство…
В 35-м году был организован Институт повышения квалификации художников-живописцев, чтобы переучивать художников, испорченных ВХУТЕМАСОМ и желавших «покончить с формализмом» и стать реалистами.
Мы с Соней Витухновской, две девчонки, притащили туда свои работы (мне было двадцать, ей — двадцать два). Все остальные были настоящими художниками. Мы попросили: «Ну, пожалуйста, посмотрите…». И расставили работы перед членами приемной комиссии. Те посмотрели, помолчали, потом вдруг спрашивают: «Девочки, а вы хотите учиться?». Мы онемели. Нас выручила одна женщина из приемной комиссии: «А зачем они, по-вашему, показывают работы? Вы что же думаете — они принесли работы и учиться не хотят?». И нас приняли.
Так наступили три года моей учебы в институте. Эти три года — вся моя профессиональная подготовка. Дома я рассказала о своем поступлении в институт только тогда, когда все уже произошло. А у папы была своя мечта.
Дело в том, что он, будучи человеком необыкновенно талантливым, просто из любви к предмету разработал свой собственный, очень интересный подход к пластической анатомии. Это была динамическая анатомия в отличие от той, статической, которую обычно преподают. Знать, как расположены мышцы, кости, как они называются, недостаточно. Важно, как они работают, когда какая мышца напряжена, а какая — ослаблена.
Папа подал документы в тот же институт. Он решил преподавать там этот курс. Узнав об этом, я расплакалась: я очень гордилась, что поступила в институт сама, а теперь мне никто не поверит, все будут показывать на меня пальцем: «Вот дочка нашего профессора!». Папа забрал документы. Он понял, что поступление было для меня актом самоутверждения. В результате я лишила папу его мечты, а художников — необыкновенно интересного преподавателя и совершенно нового принципа пластической анатомии.
В институте я попала в мастерскую к Василию Бакшееву. А когда я оказалась там из немногих лучшей, меня перевели к Борису Иогансону — для народного художника Иогансона собирали из разных мастерских группу лучших учеников. Бакшеев возражал, говорил, что в мастерских должны быть разные люди, поскольку более слабые ориентируются на сильных, и был прав. Но его не послушали.
Не стану говорить об Иогансоне как художнике, это дело искусствоведов. Но педагогом он был никудышным. Спасибо ему просто за то, что не мешал нам учиться самим. Положение Иогансона оказалось непростым. Собрались люди не намного моложе его, половина из них закончила ВХУТЕМАС. Поэтому он дал нам полную волю, и мы ею воспользовались. Мы же учились не для того, чтобы отбыть определенное количество часов, сдать экзамены и уйти. И очень много работали сами, в том числе над фактурой. Писали не только кистью, а рваными бумажками, куриными перьями, сочетали это с гладкой фактурой. Решали какие-то невероятные, чисто формальные задачи. Иогансон подходил, смотрел — и уходил, за что я ему благодарна.
Эти вот бумажки и перья, наши радостные приходы в институт, отчаянные споры, а потом примирения и составляли как раз ту атмосферу, какая была нужна. А кроме мастерской Иогансона были лекции. Замечательно преподавал у нас Сидоров историю искусств. Мы с упоением его слушали, ничего не записывая. А потом пришла пора сдавать экзамены. Времени на подготовку не оставалось. И мы целой компанией пошли на Большую Дмитровку, кажется, в архитектурную библиотеку. Мы там просто пересмотрели множество репродукций по древнему искусству и Возрождению. Сидоров принимал экзамен так: он клал перед студентом репродукцию. Соне достался средневековый профильный портрет. Она рассказала, как в эпоху Возрождения условный профильный портрет превратился в портрет реалистический. И получила «отлично». Передо мной оказалась фотография какого-то собора. Я посмотрела и сказала: «Это очень похоже на собор Айи-Софии, но это не он. Не знаю, что это». Сидоров ответил: «Правильно. Это Миланский собор, который в значительной степени выстроен как подражание Айи-Софии». Мы с ним долго беседовали, и я тоже получила «отлично». Ему было важно, что я смотрела, думала, заметила архитектурные параллели. Ведь не дети, а взрослые художники пришли сдавать ему экзамен, и для них главное — понять что-то в истории искусства, а не просто выучить даты.
Я с трудом сдала цветоведение: любая наука мне всегда давалась плохо. Зато ко всеобщему восторгу и смеху блестяще сдала марксизм, не прочитав ни единой строчки из «классиков». Объяснение очевидное: основные постулаты этого, с позволения сказать, «учения» очень просты. В то время эти «основы» лезли в глаза и уши отовсюду. Понимать там нечего, тем более обдумывать. Но если принять эти основополагающие установки за некие правила игры, обязательные для соблюдения, то никакого труда не составляло все что угодно излагать в соответствии с этими правилами. Что я и сделала, развлекаясь и ни во что не вдумываясь.
Пожалуй, от марксизма уместно перейти к тем страшным вещам, первопричиной которых он и был. Для этого следует вернуться на пять лет назад, потому что первый удар прогремел в 30-м году.
Первым он был, естественно, для меня, потому что на самом деле еще с 1917 года удары по русскому народу, Церкви, по лучшему, что было в России, не прекращались. Просто до меня, девчонки, не доходило. Впервые я столкнулась с этим вот как. Я уже писала о самых наших ближайших родственниках, маминой сестре тете Але и ее муже, крупном мелиораторе Евгении Кениге. Однажды ранним утром в конце 30-го года я проснулась от отчаянного плача тети Али, которая с рыданиями прибежала к маме. В ту ночь дядю арестовали. Это начинался процесс Промпартии. К тому времени уже была гнусно разгромлена Русская Православная Церковь. Символом расстрелянной поэзии стал Николай Гумилев. Убито было честно служившее Родине русское офицерство. В 1929 году сломали, уничтожили крестьянство. Ну а теперь дошла очередь до интеллигенции. В чем заключался процесс Промпартии, думаю, известно. Все было таким же враньем, как и последующие процессы. Меня же это коснулось впервые. Я, проснувшись от тетиного крика, страшно испугалась за папу. Мы жили так: я спала в большой комнате, столовой, а соседняя была папиным кабинетом и спальней родителей. Каждый вечер мы ложились спать, а папа садился за письменный стол и работал допоздна. Я тихонько вставала, подходила к окну и стояла там, в ужасе ожидая, что вот сейчас во двор въедет машина. Так продолжалось полгода. Каждую ночь я стояла у окна, пока уже на рассвете, совершенно валясь с ног от усталости, не ложилась и не засыпала. И однажды машина действительно въехала. Я похолодела и застыла. Машина развернулась и оказалась грузовиком. А у меня началась истерика! Я хохотала и рыдала так, что папа, услышав, прибежал из соседней комнаты. Он мгновенно все понял, потому что я помню его фразу: «Боже мой! Ты же каждую ночь так!» Он взял меня на руки, отнес в постель и долго сидел около меня, уговаривал, успокаивал, как-то успокоил. Но все равно это было первым ударом.
Нашему институту отдали церковь XVII века на Басманной улице. Мастерские занимались в разных местах, а там собирались на общие для всех лекции. С этим храмом, со страшной зимой 36/37-го года связаны для меня очень важные воспоминания. Уже шли те самые знаменитые показательные процессы всяких крупных партийных деятелей. Их обвиняли во всем на свете. Это известно. Думаю, тогда многие понимали, что все это не так. И я подозревала, тем более что мой дядя к тому времени попал на Беломорканал. Инженеров-мелиораторов сначала арестовали, и они находились на Лубянке в доме с круглыми окнами, их заставили работать над проектами этих самых плотин. Там были серьезные гидрологи. Кстати, одним из пунктов обвинения у них было то, что многие категорически выступали против строительства Днепрогэса. Говорили, что это преступно и ничего не даст, как и вышло. Так вот, к 36-му году дядя был на Беломорканале и я уже многое стала понимать.
А самое страшное заключалось в следующем. По всей Москве, да также и по всему Союзу на предприятиях собирали людей в какой-нибудь конференц-зал, красный уголок или, как нас, в помещение, где читали лекции. Дверь закрывалась, и зачитывался из газеты протокол очередного судебного заседания, а за столом президиума сидели люди, которые работали у нас, но мы-то прекрасно знали, откуда они. Они очень внимательно наблюдали за всеми, сидящими в зале. Когда дочитывался очередной протокол с признаниями во всяких невероятных преступлениях, кто-нибудь из заранее подготовленных студентов выходил, выражал возмущение и предлагал потребовать смертной казни для врагов народа. И все голосовали. Мы прекрасно знали, что тот, кто не поднимет руку, сам сегодня же отправится на ту же Лубянку. И все поднимали руки, голосовали за смертную казнь.
Самое удивительное, что через много лет я обнаружила: многие люди этого не помнят. Конечно, помнил отец. Мама моя не голосовала, потому что не работала. Вся Москва говорила, что Пастернак отказался ехать на голосование и не был арестован, но у Сталина к Пастернаку было, говорят, какое-то особое отношение.
Но вот как-то я разговаривала со своей подругой. Она, конечно, голосовала, как и все. Просто случайно зашел об этом разговор, и моя подруга, человек идеальной честности и абсолютно правдивый, изумленно глядя на меня, сказала: «Как! Я ничего не помню». Я сказала: «Ну как ты не помнишь, Галя, ну как ты не помнишь? 37-й год, эти голосования, их было столько, сколько процессов. Потому что каждый процесс, каждый протокол — всенародное голосование за смертную казнь. Так оно и организовывалось. В закрытых комнатах под взглядами тех, кто отмечал каждую неподнятую руку». Потом я поняла, в чем дело. Когда человек делает что-то скверное, противоречащее его складу, душе, это так страшно, что память как бы сама выбрасывает такое воспоминание, просто отключается. Тогда в разговоре с подругой я поняла, что люди, выходя с собрания, выбрасывали происшедшее из памяти.
А меня Господь лишил этой способности. Я помню все и навсегда. И этого, страшного, конечно, никогда не забуду. Те, кто сейчас пытается обвинить кого-то из священнослужителей, подозревая в связи с КГБ, пусть вспомнят, что их родители, люди моего возраста, и те, кто был старше меня и много младше, — все, за единичными исключениями, голосовали за смертную казнь. У меня нет теплых чувств к губившим Россию Рыкову, Бухарину и другим деятелям советской власти, которые проходили по тем процессам, но преступное голосование остается преступным, и мы в нем все участвовали. В этом одна из очень страшных черт советской власти.
Глава 11. В ОТКРЫТОЕ МОРЕ
Пора рассказать о моем замужестве. В любом институте или школе, где угодно люди собираются в группы. Так было и у нас. Так сложилось, что несколько человек начали становиться вместе перед натурой, беседовать о том, что мы делаем, вместе готовиться к лекциям. И так образовалась небольшая группа. Мы вели бесконечные споры, но больше всего на свете были увлечены искусством, с головой уходили в эту изумительную стихию живописи, которая сродни стихии музыки.
И замуж я вышла за человека нашей маленькой группы. Сережа, Сергей Николаевич Ивашов-Мусатов был по образованию математиком, но все бросил ради живописи. Старше меня на 15 лет, он был очень интересным и огромного таланта человеком и притом педагогом Божьей милостью. Он удивительно умел заражать любовью к искусству. Я знаю людей, которые, не став художниками, благодаря ему навсегда сохранили глубокую любовь к живописи. Поэтому наша компания группировалась вокруг Сережи, даже те, кто работал в другой манере. На меня, конечно, это тоже действовало, но я, воспитанная Ароном Ржезниковым на западной живописи, на принципах Сезанна, привнесла в нашу компанию кое-что от школы импрессионизма и по-своему влияла на Сережу.
Все началось, как полагается, с живописи. Сережа был учеником Ильи Машкова, а потом Михаила Ксенофонтовича Соколова. Я как художник сформировалась благодаря Музею западной живописи.
Музей западной живописи был, я думаю, одним из лучших музеев в мире. Дело не только в том, что из двух прекрасных коллекций — щукинской и морозовской, сделали одну, уникальную по полноте собрания произведений эпохи импрессионизма, но и в том, что сам небольшой двухэтажный особняк на Пречистенке (теперь там Академия художеств) относился к тому же времени. Небольшие залы, высота потолка, форма и размер окон и дверей идеально соотносились с картинами, которые написаны были для людей, живших в таких домах. Работы Матисса «Танец» и «Музыка» располагались именно так, как задумал автор: «Танец» — на лестнице, чтобы входящий поднимался по лестнице как бы вместе с танцующими фигурами, а «Музыка» встречала посетителей на верхней площадке лестницы. В музее были комната Ренуара, комната Сезанна, комната Ван-Гога и так далее. Александр Герасимов, ярый противник западной живописи, поклялся уничтожить этот музей и сделал это очень просто: во время войны картины и скульптуры (Родена, Майоля) надо было спасать. Их или эвакуировали, или спрятали — не знаю. А потом по приказу Герасимова разбросали по разным музеям и городам. Нигде, ни в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, ни в Эрмитаже, импрессионисты и все, близкие к ним по эпохе художники не воспринимаются так «у себя дома», как это было в уничтоженном музее.
И вот мы с Сережей, обладая такими разными подходами к живописи, исступленно спорили. А еще, конечно, ходили на концерты, поскольку оба любили музыку. Ходили мы в Большой зал Консерватории, во второй амфитеатр, где билеты стоили копейки, потому что денег у нас не было. Мы вместе занимались, готовились к экзаменам. Потом стали вдвоем читать вслух «Введение в философию» Трубецкого. По-моему, дальше предисловия дело не пошло, но читали его бесконечно долго. Всего этого абсолютно недостаточно для замужества. Но я была наивна, несмотря на свои 22 года, была такой безнадежной девчонкой, что все-таки вышла за Сережу замуж в феврале 1937 года, чего делать не следовало.
Родителей я просто поставила перед фактом. Это было проявлением того же «я сама». Я сама все решаю: сама поступаю в институт, сама выхожу замуж. Конечно, это было безобразие. Самое удивительное, что я очень любила родителей. Как можно было так себя вести с любимыми людьми?
Наш брак продолжался семь лет и развалился. Но тогда оба мы искренне считали друг друга мужем и женой, и в общем-то сначала все было как будто хорошо. Я переехала жить к Сереже в Уланский переулок в маленький двухэтажный домик, которого давно уже нет. Перед домиком, как раз под нашим окном, росла липа. Сережа занимал маленькую, метров 14, комнату в коммуналке, и я ни тогда, ни сейчас не могу точно сказать, сколько же там жило народа — очень много. Квартира была совершенно запущенная, со множеством семей, которые, как во всех коммуналках, друг с другом не ладили. Конечно, без ванной, с закопченной кухней.
Удивительно, что меня все они приняли хорошо. Хотя я, собственно, по-житейски не стоила такого приема. Дело в том, что мама была прекрасной хозяйкой и матерью, но ненавидела хозяйство. Она так и не смогла забыть, что из-за семьи ей пришлось расстаться с мечтой о сцене. И, как это часто бывает, все, что не удалось в своей жизни, она перенесла на меня, решив, что я должна стать или актрисой, или юристом. Это звучит странно, но мама полагала, что у меня актерские способности, а еще считала меня умной и говорила: «Ну ладно, уж если не актрисой, пусть тогда будет юристом». Я не стала ни тем, ни другим, но чтобы мне не погрязть в семье, которую мама считала страшным злом, стоящим на пути всего, что есть в человеке интересного и яркого, она категорически запрещала мне заниматься хозяйством. Если я на минуту появлялась на кухне в коммуналке, где мы жили, меня тут же выгоняли из нее. До замужества я не вымыла за собой ни одной чашки и, ясное дело, ни разу ничего не приготовила.
И вот, представьте, такая барышня выходит замуж и появляется в обычной советской коммуналке. Я ходила к соседкам и на бумажке записывала, как готовить суп и как вообще что-то делать. Смешно, что раньше всего я научилась двум вещам: печь пироги и варить борщ. Мыть посуду долго не умела. Мама присылала свою домработницу раза два в неделю, и та мыла за мной посуду, пока, наконец, я не научилась. Дело в том, что и Сережа, мой муж, тоже ничего не умел.
Вот такими мы были. И я медленно-медленно входила в этот быт. Как же коптила моя керосинка! Сколько у меня всего убегало, а сколько я еды выливала! Плит тогда не было. В кухнях, закопченных, грязных и страшных, стояли на столах керосинки, на которых готовили. Белье стирали тут же, на кухне, и там же соседки его развешивали, а у меня вечно коптила керосинка. Я выхожу, а в черной кухне — закопченное белье. И соседки его перестирывали.
Мне прощали все, может, просто видели, что я не со зла так делаю, правда — не умею. Кроме керосинок на кухне было ужасное количество крыс. Если выходишь ночью, — а мы часто это делали, потому что подолгу готовились к экзаменам, читали вслух, — из помойного ведра на тебя выскакивает огромная крыса. Наша попытка завести кошку окончилась ничем: кошка родила котят и разместилась с ними у того самого помойного ведра, вполне мирно сосуществуя с крысами.
Жили мы крайне бедно. Зарабатывали не живописью — неправда, что при советской власти ценились художники, — а оформительской работой и писали лозунги, делали оформление для демонстраций 1 мая и 7 ноября, изредка для каких-то выставок. Сейчас уже никто не помнит того, что холодильников, например, тогда не было ни в одном доме. О том, что они существуют на свете, я услышала в тюрьме в 47-м году от одной иностранки. Просто о степени нищеты страны сейчас не хотят вспоминать. Покупали сто граммов масла и держали в банке с соленой водой, редко покупали маленький кусочек колбасы или сыра, а хлеб — самый дешевый. Почти все так жили. Два раза в неделю мы ходили обедать к моим родителям. Они жили чуть лучше нас благодаря папе, который надрывался на работе. Он потерял голос — до хрипоты читал лекции, чтобы прокормить семью.
Однажды по какому-то делу я попала в совершенно чужой дом. На улице мороз градусов тридцать — тех времен мороз! В доме на верхнем этаже вопил не своим голосом крохотный черный котенок. Увидел меня, перестал кричать, кинулся навстречу — нашел «маму»! Конечно, пришлось его подобрать, закутала в пальто и привезла домой. У котенка оказался стригущий лишай, и он заразил им и меня, и всех детей в нашей коммуналке. Я пошла с котенком к ветеринару, который выдал мне два пузырька йода: один для кота, другой для всех остальных. И вот я мазала котенка, затем выстраивала в очередь всех ребят, мазала их, последнюю — себя. Все выздоровели, а котик зажил с нами, и обнаружилось, что это удивительное существо: он понимал все, что ему говорили, и просто чувствовал себя хозяином в нашей маленькой комнате. Причем великолепно понимал разницу между мной и Сережей. Я вхожу в комнату — кот на столе, смотрит на меня эдак презрительно и снисходительно и не спеша сходит. Стоило войти Сереже — слетал кубарем.
Ели мы кое-как, и котик лакал вместе с нами подобие супа. Но вот однажды мы получили небольшие деньги и купили сосиски. Пришли домой, приготовили их. Кот вопит. К тому времени мы его уже прозвали Профессором. Сережа говорит коту: «Поди доешь суп, тогда получишь сосиску. Но если ты это сделаешь, ты не Профессор, ты — Академик». Кот идет, оглядываясь то и дело, доедает суп и смотрит вопросительно на Сережу. Конечно, после этого он получил целую сосиску и стал зваться Академиком.
В нашей комнате стоял скелет, принесенный папой для занятий пластической анатомией. Мы с ним вполне сжились, а череп часто лежал на столе, за которым обедали. По стенам висели наши работы, в основном обнаженная натура, которую писали в институте. Приходили друзья, мы вместе готовились к экзаменам, спорили об искусстве.
Тогда же в институте я узнала, что красива. Наш институт был вузом художников, у них особый взгляд на внешность женщины. И как-то собрались мужчины и разбирали всех нас, женщин, кто каков. Мнение обо мне не было единогласным. Мне с хохотом передавали возражения одного из художников: «Алла Бружес красива?! Кол, на колу мочало». С моей точки зрения, основания, чтобы так считать, у него были, но победило большинство, и я попала в тройку самых красивых вместе с дочерью поэта Сергея Городецкого и еще одной дамой с классическими чертами лица. Так переплетались в буднях института очень забавные вещи с приближением очень страшного.
В начале марта, вскоре после того как мы поженились, Сережа повел меня знакомить со своим самым близким другом — Даниилом Леонидовичем Андреевым. Сережа был давним другом не только Даниила, но и всей семьи Добровых и семьи Коваленских. Я была второй женой Сережи. Первый брак развалился по Сережиной вине. Он встретил девушку, прекрасную девушку, и полюбил. Она тоже его любила, но была из очень строгой православной семьи, принадлежавшей к подпольной тихоновской Церкви, и ей категорически было запрещено даже думать о браке с женатым, венчанным, человеком. Роман оказался трагическим. Подробности его знали и Коваленские, и Добровы, и Даниил. Эта история довела Сережу до неудавшейся попытки самоубийства. Потом, через какое-то время, он встретил в институте меня. А я вообще всю жизнь поступала странно: как бы открывала дверь и входила в какую-то очередную комнату в своей жизни. Просто, повинуясь импульсу, открывала дверь и входила, не очень думая о том, надо это или не надо.
Так вот, первый человек, с которым Сережа меня познакомил, был Даниил. Он хотел показать ему меня как свое спасение. Произошло это так: Сережа позвонил и вызвал Даниила на улицу. Мы пришли в Малый Левшинский переулок. Начало марта. Было темно, крупными-крупными хлопьями шел снег. Стояла чудесная зимняя погода, когда холодно, но не мороз и не оттепель, а белые мостовые и падают мягкие хлопья снега. Такая погода мне всегда казалась блоковской…
И вот мы пришли в Малый Левшинский переулок, где стоял тот самый некрасивый маленький домик, дверь которого выходила прямо на улицу. Даниил был всегда очень точен. Поэтому в назначенное время, когда мы подошли, дверь открылась, и из нее вышел стройный высокий человек.
С тех пор прошло 60 лет. А я помню — рукой — теплую руку Даниила, его рукопожатие. Помню его очень добрый радостный взгляд, необыкновенную легкую походку. Он был рад за Сережу. Так, под этим мягким падающим снегом, началось наше с ним знакомство на всю жизнь. Больше от того вечера в памяти ничего не осталось.
А вскоре Сережа привел меня в дом Добровых. Когда мы пришли туда в первый раз, он заставил меня надеть летнее белое платье, в котором я была на нашей свадьбе. Свадьба-то была какая? Мы расписались, а потом отметили это за тем самым круглым столом с мамой, папой, несколькими друзьями и котом. Я была в летнем белом платье, оно и было у меня одно-единственное. И вот Сережа настоял, чтобы я надела его к Добровым. Художники же видят все иначе, чем остальные люди. Образ, сложившийся в Сережином восприятии, был таким: светлая девушка в белом платье. И в таком виде он заставил меня явиться.
Я, конечно, послушалась. Мне и холодно не было, несмотря на март месяц. Но я погибала от смущенья: белое летнее платье в марте месяце — это ужасно. Я вообще была очень застенчива. И, войдя в дом, едва нашла в себе силы поздороваться, а потом сидела, не смея поднять головы и совершенно онемев. Это белое платье меня прямо-таки сгубило на целый год.
Потом оказалось, что платье всем понравилось. Много лет спустя я узнала, что Даниил воспринял его как самый светлый знак. У него есть даже стихотворение, посвященное мне, где такие строки:
Расцвела в подвенечном уборе Белой вишнею передо мной. И казалось, что южное море Заиграло сверкнувшей волной.Я так вошла в его жизнь — в подвенечном платье.
Старики Добровы были чудесные и ласковые. В Филиппе Александровиче соединялись такой ум, музыкальность, знание истории и открытость людям, что я просто не знаю другого такого человека. И дом был совершенно открытым. Елизавета Михайловна и Екатерина Михайловна приняли меня сразу как «нашу Аллу», но все равно мне было очень страшно сидеть за огромным столом, где постоянно кто-то бывал. При виде чужого человека я смущалась еще больше.
А уж у Коваленских было безумно интересно, но и совсем беда. Их комната, соседняя с комнатой Даниила, была синей со старой ампирной мебелью, с картинами на стенах и камином. Настоящим камином! Александр Викторович Коваленский ухитрился сделать этот камин работающим, и он топился всю зиму. Никакого центрального отопления не было. У нас в Уланском переулке была маленькая печка, которую я топила, в комнате Даниила — стенка голландки, топившейся из передней. А у Коваленских — настоящий камин!
Александра Филипповна оставалась по-прежнему яркой, парадоксальной, совершенно особенной и очень эмоциональной. Александр Викторович был человеком громадного ума, но он еще и очень хорошо об этом помнил. Даниила он в какой-то степени подавлял, а обо мне уж и говорить нечего. Я была просто прикончена в первые же пять минут. И весь следующий год мы с Сережей ездили в гости к Добровым таким образом: доезжали на метро до Пречистенских ворот и как только поднимались вверх, чтобы идти пешком до Левшинского, я начинала дрожать — буквально, а не в переносном смысле слова. Сережа останавливался и говорил:
— Ну я просто не могу! Давай пойдем домой.
Я отвечала:
— Н-нет, д-давай п-пойд-дем к-к ним…
И так, дрожа, я молча сидела сначала на диване у Коваленских, а потом за столом у Добровых, где собирали очень скромный чай.
Единственным человеком, около которого я могла хоть как-то говорить, был Даниил. С ним у нас необыкновенно быстро установились прекрасные отношения. Было взаимное тепло, и я совсем его не стеснялась. Но, как правило, приходя к Добровым, мы не заставали его. Даниил вел свой особый образ жизни: днем работал художником-шрифтовиком дома, вечером уходил к кому-нибудь из друзей, которых было много, а возвращаясь домой, садился по ночам за свою настоящую работу: стихи, роман. Часто, уходя от Коваленских и Добровых, мы с ним встречались. И, когда мы попадали уже к нему в комнату, сразу становилось легко. Если мы приходили при Данииле, он очень любил меня разувать. Мы надевали тогда на туфельки ботики, и он снимал с меня ботики, а потом обычно уходил. Иногда Даниил возвращался рано, и, если мы все еще сидели у Коваленских, он присоединялся к нам или мы заглядывали к нему, а когда уходили, он обязательно меня обувал.
Порой, зная, что мы придем, Даниил оставался дома, но больше любил приходить к нам: без Александра Викторовича он чувствовал себя свободнее. Дружил Даниил и с Сережиной мамой. Раз в неделю они обязательно встречались и читали друг другу: он — стихи, а потом роман, она — свои рассказы, которые писала без всяких надежд на публикацию. К тому же она в основном воспитывала Олега, Сережиного сына от первого брака, а Даниилу всегда не хватало ребенка. Девочки представлялись ему чем-то недосягаемо прекрасным — цветами, феями, на которых можно смотреть только издали. У него была потребность в духовном общении с мальчишкой, и очень серьезная, в результате Даниил оставил о себе глубокую память в сердце мальчика.
Коваленский был очень интересным поэтом и писателем. Спустя какое-то время, когда я уже отсидела свое на диване в молчании, он стал читать нам с Сережей свои новеллы. Чтение начиналось уже после полуночи. Новеллы были замечательные, весьма мистического содержания. Когда Александр Викторович был арестован по нашему делу, все его произведения погибли.
У Добровых бывало и много других гостей. За столом велись очень интересные разговоры (которых я никогда не слышала раньше) обо всем: о философии, православии, католицизме. Бетховене… Не могу припомнить прямых антисоветских высказываний, но вся атмосфера была такой. Я окунулась в эту атмосферу, правда, от смущения, только ушами, если можно так выразиться (потому что только слушала, а сама молчала), и чувствовала, что это моя среда.
Люди тогда редко собирались помногу — это одна из характерных черт времени. Добровский дом был исключением. К ним приходили помногу на Пасху, на Рождество. Раздвигался стол, и без того большой, и за ним легко умещалось человек двадцать. Накрывался он изумительной красоты скатертью, когда-то привезенной из Финляндии. Теперь я понимаю, каких стоило трудов содержать ее в чистоте. Но клеенка на праздничном столе была совершенно недопустима. Дверь из столовой всегда была открыта в переднюю, и, когда семья собиралась за столом или приходили гости, дверь не закрывали, хотя уже было известно, что одна из соседок получила ордер на комнату от НКВД. К моменту моего знакомства с семьей Добровых многие из их друзей были арестованы, в том числе по «делу адвокатов». Но люди с трудом отвыкают от прежних привычек, и за столом все так же говорили то, что думали, несмотря на распахнутую в переднюю дверь.
В романе Даниила «Странники ночи» была глава, которая называлась «Мортиролог». Там мать одного из героев, Саши Горбова, перечисляла ему, вернувшемуся из экспедиции под Трубчевском, всех арестованных. Это были настоящие имена и факты из реальной жизни.
Филипп Александрович не был арестован, хотя потом, уже в 1948 году, на Лубянке — не мне лично, но другим, попавшим по нашему с Даниилом делу, — говорили: «Этого вашего старика Доброва первым надо было „пристроить“!» Там прекрасно все знали. Почему уцелел Добров?
Очень много лет мне понадобилось, чтобы понять, в чем было дело. Мне нужно было отсидеть лагерь и после еще много передумать и пережить. Иногда на свободе оставляли заведомо порядочных людей, но таких, у которых в доме, зная их порядочность, все раскрывались. Полно народу, и среди всех какой-нибудь тихий скромный мальчик… Им на Лубянке это было важнее. Добровых оставили как приманку. Вот в чем дело. Открытая дверь! Думаю, что поэтому же уцелел Павел Корин.
А волна уже дошла и до нашего института. С нами учился болгарин Мирчо Коленкоев, сын коммунистки, бежавшей с двумя сыновьями из Болгарии в Советский Союз. Мирчо был очень талантлив, и в голове у него была одна живопись. Совершенно неожиданно для нас его арестовали. Что произошло — мы не знали. Правда, вместе с нами училась одна женщина, замужняя, которая была его любовницей. Но нас это тогда не касалось. С ней ли был связан его арест, с ее ли мужем — неизвестно, но ту женщину арестовали тоже. Мы еще настолько ничего не понимали, что написали с Сережей письмо Сталину. Мы писали, что знаем Мирчо, что для него ничего на свете не существует, кроме живописи, что это честный человек и прекрасный художник.
Получили это письмо, конечно, в НКВД, и Сережу стали без конца вызывать. Я видела в окно, как он выходил из дома, а к нему подходил какой-то человек и передавал записку или просто что-то говорил. Одеты все эти люди были совершенно одинаково — в темно-синие бостоновые костюмы, и в руках — желтый портфель с двумя замками. Почему меня не таскали в НКВД, объяснить не могу; видимо, решили, что дура. Все-таки мне было двадцать три, а Сереже уже тридцать восемь.
У Добровых мы в это время не бывали, потому что, если уж Сережа под ударом, значит, под наблюдением каждый наш шаг и каждый человек, с которым мы встречаемся.
Мы с Сережей работали в то время в Останкинском музее, делали большую выставку, посвященную крепостному театру. В ней были макеты спектаклей. Помню, я лепила Парашу Жемчугову в роли Элианы в опере Гретри «Самнитские браки». А Даниил работал с нами как шрифтовик. В Останкине мы виделись, поскольку он привозил работу, которую делал дома.
С Останкинским дворцом связан для меня один важный личный момент. Время было страшное. Сережу уже таскали несколько раз в НКВД и вызвали еще на какой-то день. Мы находились в помещении церкви, что рядом с Шереметьевским дворцом. Теперь это Оптинское подворье, а тогда там располагалась канцелярия музея. Я выхожу из комнаты, поговорив с директором, и вижу — на скамейке сидит Даниил. Это было внутри церкви. Сидит он на скамейке и ждет, когда мы выйдем. И вот когда я попадаю в его поле зрения, он вздрагивает, и лицо у него делается совершенно странным. Я подхожу и спрашиваю:
— Что с вами?
Мы были тогда еще на «вы». Отвечает:
— Ничего, ничего.
И мы разговариваем уже о том, что нас так волнует, мучает, о том, как Сережу таскают в НКВД. Много лет спустя, в 45-м году, когда он вернулся с фронта и мы уже были вместе, я спросила:
— Ты помнишь тот момент в Останкине? Он ответил:
— Еще бы не помнить!
— А что это было? Почему ты тогда так вздрогнул? И вообще так реагировал на меня?
— А потому, что я увидал, что это — ты. Та, которую я встретил. Но ты была женой моего друга.
А со мной было так. Из Останкина мы с Сережей ездили на трамвае. Там было кольцо, мы садились на места против друг друга и долго ехали. Я задумалась, как-то ушла в себя, пыталась разобраться в своем отношении к Даниилу. Оно было очень глубоким, никакого определения ему я не находила. Сережа, сидевший напротив меня, вдруг проговорил:
— Я знаю, о чем ты думаешь. Тебя тревожит то, как ты относишься к Даниилу.
Я сказала:
— Да.
А он мне на это ответил:
— Я очень высоко ставлю дружбу. Ничуть не ниже любви. Так что не беспокойся.
Интересно, что Сережа был невероятно ревнив и страшно изводил меня этим. Причем ревновал без всякой причины. А тут ответил так. Думаю, что этот ответ на несколько лет задержал выяснение наших отношений с Даниилом. Между нами легла эта преграда. Для него я — жена друга, для меня я — замужняя женщина, и муж мне доверяет.
И еще однажды мы с Даниилом вместе ехали к нам в Уланский переулок. Мы где-то встретились, не помню, где, почему-то доехали на метро до Лубянки, а дальше отправились пешком. Даниил взял меня под руку, и я вдруг почувствовала, как легко нам идти вместе: у нас полностью совпадали шаги! У Сережи была совсем иная походка, и я с трудом приноравливалась к его шагу. А тут мне стало казаться, что мы всю жизнь так идем — под руку, с абсолютным совпадением ритма.
Даниил часто бывал у нас. Он приходил сначала со стихами, потом с очередными главами романа «Странники ночи», так что мы жили в двойном мире: в реальном 37-м году и в мире его романа об этом же времени. Содержание романа, я, как могла, пересказала в третьем томе собрания сочинений Даниила. Сейчас повторять не стану. Герои романа были для нас такими живыми, что мы попросту жили с ними. Я и сейчас вспоминаю Олега, Сашу, Адриана и других героев романа как ушедших либо умерших друзей или добрых знакомых.
Вся история с Сережей, слава Богу, закончилась ничем. Когда его наконец отпустили, он позвонил Добровым из автомата. И Александра Филипповна, которая подошла к телефону, восприняла его голос так, как воспринимают музыку: не пытаясь разобрать слова. Просто услышала голос друга — значит, цел. Мирчо получил десять лет без права переписки. В 38-м году это означало расстрел. Думаю, так оно и было.
В институте у нас начались снова перетасовки, и мы с Сережей попали в мастерскую Льва Крамаренко. Соня, моя подруга, вышла замуж и уехала в Комсомольск-на-Амуре. Ну а в 1938 году нас с Сережей вызвали и сказали, что больше нам учиться нечему. Институт дипломов не дает, а мы его, по словам руководства, закончили, и притом очень хорошо. Нас попросту отправили на все четыре стороны и слава Богу.
Конец 30-х годов. Женщины в то время ночи напролет сидели на постелях и прислушивались: идут, идут!.. Нет… И — падали, засыпали: слава Богу, еще одна ночь прошла. Александр Викторович рассказывал: «Я просыпаюсь ночью, а она (Шурочка) сидит с огромными глазами на своем диванчике, потому что шорох у двери».
Если кто-то опаздывал — сейчас этого не понимают, а у меня осталось до сих пор, — начиналась паника: взяли на улице. Тогда уже все знали, что для ареста ничего не требуется.
Как передать этот страх? Не было человека, который с ужасом не оглядывался бы утром: кого взяли этой ночью? Не было ночи, когда спали бы спокойно.
Мы продолжали бывать у Коваленских. Уходили от них в четыре-пять часов утра. Метро еще не работало, домой шли пешком: по Пречистенке, Моховой, вверх по Театральному проезду — и оказывались перед зданием НКВД. Белая, заснеженная спящая Москва. Темные окна. И если где-то горит свет, то это очень страшно: значит, там берут человека. И посреди темной, притихшей, притаившейся Москвы надо всем сияет окнами дом НКВД — всеми до одного, снизу доверху! За каждым окном — допрос. Там кабинеты следователей. Этот страшный дом, как огромное чудовище, множество глаз которого следят за сжавшейся и онемевшей от ужаса Москвой.
Глава 12. ТАК МЫ ЖИЛИ…
Я уже рассказала о том, что в 1938 году из института нас отпустили на все четыре стороны. Мне, как и многим художникам, пришлось зарабатывать копиями, которые я делала для копийного комбината.
Тогда же в районе станции метро «Парк культуры» открылась огромная выставка «Индустрия социализма». На ней я копировала портрет Калинина. Работали мы по выходным, потому что в остальное время приходили все-таки какие-то посетители — немного, но приходили. А тут все залы полностью были нашими, и в каждом сидели художники и копировали.
И вот однажды я пришла, начала и замечаю, что люди почему-то не работают, а ходят туда-сюда и атмосфера какая-то странная, возбужденная. Потом и ко мне кто-то подошел:
— Пойдем.
— Куда?
— Пойдем, пойдем.
Приходим в центральный зал. В нем висит огромная картина, изображающая сдачу какой-то плотины. По стройке идет группа — Сталин и члены Политбюро. Они принимают работу. Тогда подобных картин было много. Все молча смотрят на картину, потому что становится очень страшно: на ней нет Ежова, который был еще вчера вечером.
Стали вспоминать, где висят другие картины, на которых он должен быть. Оказалось, что в одну ночь вызвали авторов и велели до утра убрать Ежова отовсюду. Это был конец «ежовщины». Потом уже мы прочитали в газетах, что он «враг народа» и прочее. Конечно, работать уже никто не стал. Все мы развеселились, потому что показалось, что вот все изменится, — людям свойственно всякий раз надеяться. Но можно себе представить, что пережили те художники, когда их ночью сдирали с постелей.
Забавный случай произошел и со мной. Я считалась хорошим копиистом. Как-то меня вызывает директор комбината и говорит:
— Знаешь, в Академии имени Фрунзе что-то случилось с копией какой-то картины. Они звонили, поезжай и посмотри.
Приезжаю я с этюдником. Меня встречают военные — громадные, хорошо одетые, сытые и… совершенно растерянные. Они мне чуть ли не шепотом говорят:
— Может, вы что-нибудь сделаете?
А была такая картина, кажется, ее автор тот же Александр Герасимов. У копиистов она в просторечье называлась «Полсобаки». На веранде усадебного дома на фоне красивой подмосковной природы за столом, на котором стоят ампирные синие с золотом чашки, сидят и беседуют Сталин и Горький. По-моему, сидели они в плетеных креслах, а в углу лежала собака — не целиком, а передняя часть — отсюда и «Полсобаки».
Меня приводят в буфет, где лицом к стене стоит картина вся в белых пятнах. Военные и сами все белые с перепугу. А я вижу, что ничего страшного не произошло: белили потолок и забрызгали полотно, только и всего. Но я же не могу сказать, что все так просто. Говорю: «Хорошо, попробую что-нибудь сделать».
Картину разворачивают, чтобы я работала у стенки. Посетители буфета видят только заднюю сторону. То есть даже курсантам академии нельзя показать этот ужас: Сталин в белых пятнах!
У меня с собой краски, смесь: масло, лак, скипидар. А как мне попросить воды и для чего? Или как мне отсюда вылезти? Я поступила просто: плевала на картину, плевала на тряпку и так без труда вытерла все пятна. А потом моим составом, который употребляют в живописи, все очень аккуратно протерла. Закончив, показала военным. Те просто засияли и говорят: «Знаете что: тогда поправьте нам еще одну вещь». Ладно. Я и сама развеселилась. И вот мне приносят небольшую картину художника Котова. По лесу едет наш танк, изображена какая-то танковая операция. Я спрашиваю:
— А что тут не так?
Мне объясняют:
— Да тут танк-то стреляет по своим.
— А как же быть? — говорю.
И мне совершенно профессионально и доходчиво начинают рассказывать, как и что надо сделать: вот это развернуть в ту сторону, это — в другую. Я беру краски, спокойно наношу мазки, убираю деревья, поворачиваю пушки. Военные остались довольны:
— Ну вот, слава Богу, теперь то, что надо.
Тут мы случайно переворачиваем картину — а это подлинник! Теперь я в ужасе:
— Слушайте, что мы наделали! Это же не копия! Это картина самого художника, а я ее всю перемазала.
Но военные оказались на высоте и сказали:
— А, подумаешь, раз там было неправильно. Нельзя же людям показывать, как танк стреляет по своим!
Долго я писала копии, и мы на это жили. Каждый клуб, каждый завод, имевший столовую, заказывал «Трех богатырей», «Мишек в лесу», «Аленушку» или портреты вождей. Я ни разу не копировала Сталина, один раз картину с Лениным, сидящим в библиотеке, а больше всего специализировалась на «мишках».
Делать копии в Третьяковке было очень сложно, для этого требовалось разрешение. А у комбината заказы на двадцать «мишек»! Поступали следующим образом: картины мы копировали не в Третьяковке, а в комбинате с эталона. Эталоном считалась хорошая копия, проверенная по подлиннику или репродукции. Писать эталон поручали тем, кому доверяли, бывало, что и мне.
Никогда не забуду одного художественного совета. Он как раз принимал с десяток «мишек». Их выставили в ряд — и все покатились с хохоту: и художники, и совет. Там были «Мишки на рассвете», «Мишки в полдень», «Мишки в полночь», «Мишки зеленые», «Мишки голубые»… Мы же, конечно, халтурили. Я копировала «мишек» за четыре дня. Ну что можно сделать за это время? Мишки стояли на месте, и деревья лежали на месте, а остальное каждый изображал по-своему.
Перед войной мы с Сережей снимали комнатку в Подмосковье, я отправилась писать пейзаж и вдруг почувствовала, что у меня больше нет глубинного зрения. Я пейзаж вижу как эталон, который должна скопировать, и если я все-таки еще хочу быть художником, то копии надо бросать. И я перестала этим заниматься.
Году в 38-м было еще такое приключение. В Клубе Октябрьской революции (сокращенно КОР) на Каланчевской площади устроили выставку женщин-художниц. Четыре женщины получили премии как лучшие участницы выставки. Среди них были я, Любочка Геворкян, с которой мы учились в институте, фамилии остальных двух я забыла. Мы получили по тысяче рублей с условием, что через год отчитаемся в том, как использовали деньги. Сумма была по тем временам хорошей, и все, кроме меня, распорядились ею совершенно разумно. Кто-то поехал в деревню, Любочка, естественно, в Армению. Они привезли нормальные этюды, сделанные с натуры, похожие на те, что выставляли раньше. А меня занесло, правда, с помощью моего мужа Сережи, за что ни его, ни меня осуждать нельзя. Мы решили, что все-таки у нас тысяча рублей и чем писать натюрмортики, можно позволить себе несколько месяцев серьезной работы и сделать что-то более значительное, на что в других обстоятельствах не было никакой возможности.
И я начала писать портрет брата. Но не просто портрет, а картину размером 1,5 на 2 метра. Брату было лет пятнадцать — подросток. Он уже тогда был музыкантом. Тоненький, в темном костюме, с пионерским галстуком на шее (мне нужно было здесь яркое пятно), брат стоял на фоне раскрытого рояля. А что такое раскрытый рояль? Это распахнутая крышка, в которой отражается все его золотое, сказочное содержание. Рояль был настоящий, с которым мы прожили всю жизнь. Он стоял в комнате родителей на фоне темно-терракотовых обоев, а над ним висела маска Бетховена. Свет из окна падал на маску, на мальчика у рояля и на таинственную глубину этого сказочного мира, который был выражением музыки.
Результатом моих трудов стали небольшой эскиз, этюд головы брата, вероятно, этюды рояля, Бетховена и… неоконченная работа. Холст был раскрыт, но не закончен. И, конечно, мне тогда не по силам было сделать эту работу по-настоящему. Сережа, наверное, мог бы закончить ее за меня, но нам и в голову не приходило, что кто-то может делать работу за другого.
И вот через год в чьей-то очень большой мастерской неподалеку от теперешней Октябрьской площади устроили выставку-отчет для нас четверых. Три участницы были обсуждены в течение получаса, все очень мягко и доброжелательно приняты, всех похвалили и сказали, что премию они полностью оправдали. Все остальное время, часа полтора-два, громили меня: молодой советский художник пишет черный рояль! Это при счастливой-то советской жизни — черный рояль! Очень странно. Клянусь, это было единственным обвинением — черный рояль. Основным обвинителем был художник Невежин.
Что они чувствовали — не знаю. Может, то, что красный галстук для меня был не более чем цветовым пятном. Может, какую-то большую значительность, чем в этюдах милых, хороших художниц.
Прозвучали два выступления в защиту моей работы. Одним из этих людей был искусствовед, который меня совершенно не знал. Я, к сожалению, не запомнила его фамилию и больше его никогда не встречала. Вероятно, потом он погиб. Он очень резко говорил о том, что автор писал этюдики, пейзажики, а теперь захотел сделать вещь более значительную. Вторым человеком, выступившим очень горячо в мою защиту, была художница Надежда Удальцова, жена художника Древина, к тому времени арестованного, а может, уже и расстрелянного. Ее выступление в мою защиту в той мастерской было актом настоящего героизма. Ей было что терять — у нее был маленький сын… Она говорила:
— Эта талантливая молодая женщина попыталась писать то, что надо. Как вы не видите, что она пишет значительную вещь?!
Когда обсуждение закончилось полным разгромом, меня подозвал Фальк. Возможно, та мастерская принадлежала ему. И вот, когда мы все уходили, он сказал мне шепотом:
— Вы очень талантливый человек. Вы исключительно талантливый человек. Не слушайте всего, что они вам тут наговорили. Все неправда. Работайте и помните о своем таланте.
Сережа был рядом со мной и молчал. Выступила Любочка Геворкян, единственная из всех участниц: «Я надеюсь, я от души надеюсь, что Аллочка не повесится». А мне это и в голову не пришло. Я вернулась домой, взяла кисть и продолжала писать дальше.
Когда мне было десять лет, возраст, когда тогдашние дети хотели быть летчиками или пожарными, я говорила, что хочу стать солдатом. И папа мне объяснял: «Теперешний солдат — это не то что рыцари Круглого стола. Теперь война не такая, и все уже иначе». Тогда папа меня отговорил от желания быть солдатом, но похоже, что я все-таки им стала! И остаюсь всю жизнь, во всяком случае тем, «оловянным».
В 1939 году в Доме художников на Кузнецком проходила какая-то большая выставка, на ней был мой лесной пейзаж, написанный с применением наших фактурных изысканий. Они не были рассудочной выдумкой — надо было искать прием, передающий живую трепетность леса. Сдавая пальто в гардероб, я оказалась в очереди за Сергеем Сергеевичем Прокофьевым и его милой женой Линой Ивановной, которая позже выхлебала полную лагерную чашу.
Естественно, я оцепенела от смущения уже в раздевалке. Потом был вернисаж, как и полагается: кто-то что-то говорил и все беспорядочно ходили по залам. И вдруг я с другого конца большого зала увидела, что Прокофьев с кем-то стоит перед моей работой и очень живо ее обсуждает. Он стоял довольно долго, и по жестам было видно, что ему она нравится. Всякий нормальный автор подошел бы и представился, а я прилипла к полу на другом конце зала и не могла пошевелиться.
Перед самой войной наш домик в Уланском переулке снесли, а нас выселили в Коптево. Ехать туда надо было до метро Сокол и потом трамваем. Некоторые маршруты шли прямо, и тогда еще приходилось добираться к дому через огромное поле (однажды я заблудилась в этом поле в густом тумане). Некоторые трамваи поворачивали, и тогда можно было подъехать поближе.
Мы попали в коммунальную квартиру, состоявшую из четырех комнат, выходивших в переднюю. Все помещения в квартире были очень маленькие. Туалета не было, его не успели достроить: нас попросту выбросили в недостроенные дома. Жили в квартире четыре абсолютно чужие друг другу семьи. Больше всего нас с Сережей мучило радио. Соседи любили включать его на полную мощность да еще распахивали двери. Причем в каждой из трех комнат радио было настроено на свою волну. В одной коммуналке с нами оказался сосед по Уланскому переулку Саул. Однажды вечером, когда мы в полном ужасе уезжали из дома к кому-то в гости, потому что вынести какофонию было невозможно, в передней сияющий Саул, стоя в распахнутых дверях своей комнаты, встретил нас словами:
— Как хорошо! Весело, как на площади!
Соседи довольно рано ложились спать и часов в одиннадцать вечера радио отключали, но до того можно было спятить от шума. Хотя относились к нам хорошо, тем более что я ни с кем не ругалась и не ссорилась. В этой квартире мы встретили предвоенную зиму. И было в нашей тогдашней жизни нечто очень странное. Я просыпалась ночью с криком: «Кто входит? Кто входит?». Одновременно просыпается Сережа. Ему кажется, что все кругом горит, он видит единственную тропинку, по которой можно пройти, а я, дура, иду прямо в огонь, и он кричит на меня: «Куда ты? Куда ты?» Я догадалась, что надо делать. Как только Сережа вскакивал с криком: «Огонь!», я тоже вскакивала и включала свет. Тогда он видел комнату. Не знаю, как это объяснить. Видимо, уже надвигалось что-то страшное, и мы, как люди очень нервного склада, чувствовали это.
Сережа был удивительно талантливым человеком. Его живописный талант был сродни дивной красоты голосу. Одаренность художника вообще сходна с одаренностью музыкальной, а у Сережи к тому же эти таланты совпадали. Он был очень музыкален, неплохо играл, любил импровизировать.
Инструмент мы приобрели забавно. К тому времени нам удалось поменяться, и мы переехали, конечно, тоже в коммуналку, но тихую — это была маленькая комнатка на Никитском бульваре. Там два гоголевских дома. Посередине сейчас стоит великолепный старый андреевский памятник Гоголю. Если стоять лицом к нему, то справа — дом, в котором жил и умер Гоголь, там сейчас библиотека его имени, а слева — такой же двухэтажный дом попроще, где жила гоголевская прислуга. Вот там, в одной из комнат, мы и жили.
Уже не помню, каким образом мы узнали, что продается фисгармония. О пианино нам и думать было нечего, рояль занял бы всю комнату. Мы пришли в рабочую семью. Каким образом инструмент оказался у этих людей, конечно, не спрашивали, ясно, что он был не их. В углу стояла маленькая фисгармония, кажется, орехового дерева. На ней — швейная машинка, навалены нитки, тряпки. Разумеется, она не работала. Когда мы увидали этот заброшенный инструмент, то сразу поняли, что надо выручать друга. Тут же заплатили, сколько запросили, все, что смогли собрать, и потом на санках привезли это израненное существо домой. Назанимали еще столько же денег, сколько стоил инструмент, чтобы починить его.
Господи, какое это было счастье! У нас был инструмент. И мы играли в четыре руки. Приспособились играть очень просто: в четыре руки играли то, что полагалось в две. Иногда Сережа просто садился и импровизировал. И еще у него была удивительная особенность: для него и люди, и пейзажи, и натюрморты, которые он очень любил писать, легко перекладывались на музыку. Вот, скажем, я что-то пишу, хотя бы натюрморт. Он говорит: «Ну как ты ничего не понимаешь! Ну что ты делаешь? Положи кисть и слушай!». Он садился за фисгармонию и играл то, что я должна написать, а я по музыке понимала, в чем была не права. Я не могу этого объяснить, но он попросту играл то, что нужно писать. Он играл меня, Даниила, любых людей, которых он знал, и делал это абсолютно точно. Человек, которого он изображал, был узнаваем.
А еще у Сережи всегда были очень интересные эскизы. Был эскиз моего портрета, неосуществленного. Квадрат, почти целиком занятый женской фигурой в светлом розовом платье со светлым раскрытым зонтиком в руке. Женщина, я, сидела у самой воды, в которой отражались белые облака. Другим моим любимым эскизом был «Конец Византии». Передать все трагическое величие переливов золота на этой работе невозможно. Даниил описал этот эскиз как работу одного из второстепенных героев «Странников ночи» — художника Ростислава Горбова. Образ этот должен был более полно развернуться в продолжении романа. Недавно я слышала, как удивительный музыкант говорил, что репетиции любит больше концертов, а мгновение, предшествующее рождению звука, для него дороже звука, уже извлеченного. Может быть, это тождественно тому, что делается с эскизами художника.
Потом происходит как бы заземление замысла, все становится тяжелее и конкретнее, исчезает нечто «оттуда», самое драгоценное.
Из наших общих занятий живописью запомнились два случая. Не помню, почему оба мы решили изобразить обращение апостола Павла. Повернули холсты так, чтобы один не видел, что пишет другой. Сережа писал свое, я — свое. Кончив, мы поставили холсты рядом и залились смехом. У Сережи во весь небольшой холст — упавший, заслонивший лицо руками человек с характерным горбоносым профилем, на него льется золотой свет, которого он не может вынести. А я написала пейзаж: холст расположен вертикально, в небе у меня — гроза и туча, и молния, и дождь, ниже — деревья, которые гораздо меньше неба, а совсем внизу, на дороге, лежит упавший ничком на землю очень-очень маленький человек, на которого с неба льется поток света. Нас это ужасно рассмешило. Даниил пришел к нам, увидел и тоже смеялся.
Этот забавный случай не единственный. Вот еще один: мы также решили не глядя на то, кто что делает, написать работы на тему пушкинского «Моцарта и Сальери». Результат тоже получился выразительный. Сережа, прекрасный рисовальщик, увлеченный изображением человеческих лиц, все внимание отдал очень интересному облику Сальери, именно его лицу. Мой Сальери остался едва заметным где-то в углу кабачка, а вся суть работы была в том, что отравленный Моцарт, широко распахнув дверь, выходил навстречу сияющему свету.
Конечно, как «Введение в философию» Трубецкого не могло быть основанием для вступления в брак, так и разница в видении образов святого Павла и Моцарта не могла стать основой для развода, но все произошло именно так. А я еще увлеклась графикой, что Сережа воспринял как измену главному — живописи. Все это на самом деле следствие раннего — для меня — брака с большой разницей в возрасте. Как правило, в таких случаях старший и более значительный ломает младшего, а при своенравии и неломкости, подобных моим, результат — разлука. Хорошо, что хватило душевных сил на всю жизнь сохранить уважение и доброжелательность друг к другу. Сережа умер в 1992 году, ему было 92 года.
Сережа мог увлечься какой-то работой, а потом оказывалось, что все сроки сдачи заказа прошли, а у него ничего не готово. Тогда он устраивал чудовищные сцены, кричал, что так жить невозможно, что советская власть невыносима, а жить без творчества он не может. Сначала я подолгу утешала его, уговаривала. А потом вдруг возник совершенно неожиданный поворот. Правда, это произошло через несколько лет, и что-то в отношениях уже надломилось. Однажды в ответ на очередную истерику я спокойно сказала: «Ну так и что? Давай повесимся. Только так: выберем срок — месяц, два, сколько хочешь, но назначим точное число. Если не удастся переломить жизнь, чтобы заниматься творчеством, то мы с тобой кончаем самоубийством, только больше не ори». Он остолбенел. Ему-то хотелось другого — выплескиваться, и чтобы я при этом плакала и умоляла. А я, догадавшись, что, слава Богу, можно обойтись без сцен, говорила, как только начиналась истерика: «Ты о чем? Какое число? Ну, осталось три недели, и все, и разговоров больше не будет». В какой-то мере это оказалось выходом. Назначенное число проходило незамеченным.
Дружба наша со всем домом Добровых продолжалась. Я к тому времени уже освоилась, что-то лепетала, могла даже поспорить, и меня там очень любили.
Я впервые попала в среду верующих. В первую очередь это были Добровы. Сережа тоже был верующим, но столь же искренне и расплывчато, как и я. В институте на эти темы вообще не говорили. Все тогда было гораздо проще, чем сейчас. Общество делилось на атеистов, говорящих кто громче, кто тише, и верующих, которые молчали, потому что говорить было нельзя — уже само признание в религиозности или крестное знамение могли рассматриваться как антисоветская агитация и подлежать репрессии. О конфессиях споров не было: русский, значит, православный; татарин, естественно, мусульманин: потомки давно обрусевших немецких семей зачастую были лютеранами, и для всех это было естественно и понятно.
В том кругу русских, в который я попала, в церковь почти не ходили. Не знаю почему. Упаси меня Бог не только от слова, но даже от мысли об осуждении за что-нибудь Церкви. Сейчас с расстояния многих прожитых лет я думаю, что более героического отрезка времени — и это ведь 70 лет — не было в истории Русской Церкви.
Наша же оторванность от храма Божьего скорее всего была вызвана тем проклятием молчания и разобщенности, которое лежало на всей стране. И на нас тоже. Не знаю, будет ли понято то, что скажу сейчас. Мы ходили не в храм, а в Большой зал Консерватории. Концерты были прекрасные, и мы ходили слушать музыку с совершенно религиозным чувством. Я знаю, что существует точка зрения людей, считающих себя ортодоксальными православными и отрицающих все человеческие проявления, кроме строго религиозных: поста и молитвы. Эта точка зрения равносильна отрицанию культуры, и я, конечно, далеко не единственная, для кого отрицание культуры равно отрицанию религии. Религия и культура — два крыла, а с одним крылом полет невозможен. И как существует религиозное подвижничество, так же существует равное ему подвижничество в области культуры.
Много лет спустя, когда Даниил вернулся из тюрьмы и было уже ясно, что ему не жить, мы пошли на концерт в Большой зал Консерватории. Зная, что ему нельзя подниматься по лестнице, мой брат, работавший тогда в консерваторской администрации, получил разрешение, чтобы больной поднялся на лифте. Господи, как Даниил рассердился! Он сказал мне:
— Ну как ты не понимаешь, что не нужно мне этого лифта! Как ты не понимаешь, что, только поднявшись по этой белой лестнице, я почувствую, что вернулся из тюрьмы, только тогда будет освобождение.
И мы пошли пешком. Он тяжело опирался на мое плечо, мы останавливались через каждые несколько ступенек, но поднялись — освободились, вернулись из заключения.
Глава 13. «УЗКИЙ ПУТЬ НЕ НАЗНАЧЕН ДЛЯ ДВУХ…»
Предыдущую главу я закончила воспоминанием о том, как я вместе с Даниилом поднималась по белой мраморной лестнице Большого зала Консерватории навстречу музыке. Но до этого еще далеко.
В то предвоенное время, несмотря на множество друзей, Даниил был одинок.
Моя личная жизнь тихо и без всяких видимых причин разваливалась. Это был именно разлад душевный. Никто не изменял, никто не предавал, не делал ничего недостойного.
В жизни Даниила, как я уже говорила, была очень серьезная и глубокая юношеская любовь, которая много лет владела им. Что-то теперь, по прошествии стольких лет, я могу попытаться объяснить.
Даниил был очень красив своеобразной, непривычной для московского взгляда красотой: высокий, легкий, очень худой, смуглый. Лицо узкое, тонкое, с высоким лбом, тонким носом, узкими губами, темными узкими глазами. Темные прямые, несколько длинноватые волосы. Длинноватые, конечно, по тем временам, когда мужчины стриглись очень коротко. Он не выносил галстуков, вместо галстука на шее мягкий черный бант, но очень скромный, бантом не выглядевший.
У каждого человека во внешности есть некие несоответствия одних черт другим. Я всегда любила наблюдать эти несоответствия — они очень выразительны. У Даниила так спорили друг с другом лицо и руки. Тонкое, одухотворенное, даже как бы хрупкое аристократическое лицо с прекрасным высоким лбом, а руки точнее всего надо было бы назвать мужицкими — широкая ладонь с короткими, ничуть не артистичными пальцами. Он стеснялся своих рук и прятал их под стол, а я очень их любила — они как бы удерживали его на земле.
Возможно, в этом есть проявление очень важных душевных черт, но, чтобы говорить о них, надо произнести сначала слово, которое может вызвать бурю возмущения. Даниил был гений. Никакой в этом понятии нет гордыни, никакой похвальбы. Это — очень тяжелый труд, тяжелейший крест, который Господь дает немногим — сильным. Такие люди, отмеченные, отличаются странным свойством, тоже неким несоответствием. Они знают, слышат, видят то, что, казалось бы, невозможно слышать и видеть. Они, как дома, распоряжаются и действуют в областях, нам недоступных. При этом по-детски доверчивы, открыты, искренни до наивности в том, где другие ориентируются крепче и подчас умнее.
В этих особых Божьих детях есть щемящая хрупкость и детская беззащитность. Я знала эти черты у Даниила, иногда подтрунивала над ними, иногда удивлялась, а больше просто считалась с действительностью, ничего не пытаясь менять. И только недавно, милостью Божьей, я оказалась не рядом, не близко, но, так сказать, на обозримом расстоянии от другого гения. Гениального музыканта. Так вот со стороны увидела и поняла эту их особенность, трогательное сочетание знания и власти в тех, высочайших, мирах, и детской открытости и беззащитности здесь, на Земле.
Внешность свою Даниил как-то болезненно не любил. Для него дорогим и любимым был облик светловолосого, светлоглазого, смелого и радостного человека. Из-за этого отношения к своей внешности и своей природной застенчивости он попадал в бестолковые ситуации. Надо еще прибавить, что Даниил был очень внимателен, я бы сказала, даже старомодно учтив с женщинами. Доброжелателен к каждой, да не каждая это понимала. Вот и получалась чепуха: в него влюблялись и его обычная, несвойственная советскому времени учтивость воспринималась как взаимность. Даниил совершенно не мог этого уразуметь, пока не разыгрывалась очередная драма.
Женщины восторгались Даниилом, но понимания от многих из них нечего было ждать. Конечно, Даниилом владело желание не быть одному. В 1937 году в его жизни светло и быстротечно развернулась как бы поэма — она и обернулась потом прелестной поэмой «Янтари». Вот отрывок из нее:
Дитя мое! девочка в храме С глазами проматери Евы, Еще не постигшими зла! Свеча догорела. Над Крымом Юпитер плывет лучезарно, Наполненный белым огнем… Да будет же Девой хранимым Твой сон на рассвете янтарном Для радости будущим днем.Эта женщина, Марина Гонта, подарила Даниилу радостное лето в Судаке. Но глубочайшей его душевной сути она и не пыталась понимать:
И над срывами чистого фирна, В негасимых лучах, в вышине, Белый конус святыни всемирной Проплывал в ослепительном сне. Его холод ознобом и жаром Сотрясал, как ударом, мой дух, Говоря, что к духовным Стожарам Узкий путь не назначен для двух. И тогда, в молчаливом терпенье, Ничего не узнав, не поняв. Подходила она — утвержденье Вековых человеческих прав.Марина Гонта умерла совсем недавно, так и не успев написать о том их общем лете, несмотря на мои мольбы. А написать могла бы — она писала, и хорошо. Не сделала она этого по той же причине: тогда ничего в Данииле не поняла, и потом, занятая воспоминаниями о своей дружбе с Маяковским и Пастернаком, долго не понимала. А когда что-то осознала — было уже поздно.
Еще одна женщина в жизни Даниила понимала, и понимала многое, — Анна Владимировна Кемниц. Она была редким по глубине и тонкости человеком, и их отношения могли сложиться очень серьезно. Но Аня была замужем, любила мужа — он стоил этого — и не ушла от него к Даниилу. Я запомнила два разговора, сначала мой с Даниилом, потому что мы все видели и знали. Я сказала:
— Ну что ж такое? Как бы хотелось, чтобы с вами (мы тогда на «вы» были) рядом была любимая. А он ответил:
— Очевидно, это утопия.
А второй разговор через много лет был у меня с Анечкой. Я ее спросила:
— Почему ты тогда не ушла к Даниилу? А она смеясь сказала:
— Да потому что это было твое место — около него, а вовсе не мое.
Мы с ней дружили до самой ее смерти. Муж Ани был замечательным человеком, необыкновенной чистоты и глубочайшей порядочности. Оба они были арестованы по нашему делу.
Была и еще одна трагическая история в жизни Даниила. В начале работы над романом «Странники ночи» оказалось, что необходимо попасть в обсерваторию, поскольку один из героев романа, Адриан, был астрономом. Это послужило поводом для его знакомства с семейством Усовых. Оно состояло из трех женщин: матери, Марии Васильевны, переводчицы, и двух ее дочерей, Ирины и Татьяны. Обе сестры влюбились в Даниила, да и мать, как мне кажется, была к нему не вполне равнодушна. Татьяна Владимировна была женщиной чрезвычайно решительной и энергичной, ко времени мобилизации Даниила на фронт их иногда называли мужем и женой. Но они не были мужем и женой ни официально, ни фактически. К тому времени как-то уже было утеряно понятие жениха и невесты, а было бы самым правильным сказать, что Татьяна была невестой Даниила. Мне трудно говорить об этом. Как мне не стоило выходить замуж за Сережу, точно так же и связь Даниила с Татьяной Владимировной была ненужной и трагической страницей в его и ее жизни. Бывает такой полный диссонанс, что аккорда не получается. Однажды, увидев ее, я решилась потом спросить Даниила:
— Даня, а вы ее любите?
И получила четкий и печальный ответ:
— Если понимать под любовью то, что и надо иметь в виду, употребляя это слово, — нет. Но если нечто значительно меньшее, — да. Люблю.
По-моему, никто, кроме меня, на эту тему больше с ним и не заговаривал. Мне, огорченно глядевшей на все эти неудачи, очень хотелось, чтобы около Даниила была любящая женщина. Иногда я воображала рядом с ним какого-то как бы ангела, сошедшего с небес, и никогда не думала, что это может быть не ангел, а просто я.
Даниил обычно приходил к нам с тетрадочкой стихов. Я однажды спросила:
— Почему вы всегда приходите со стихами? Он ответил:
— Мне хочется к друзьям приходить с лучшим, что во мне есть. А это — стихи.
Пожалуй, самым близким из понимающих его людей, кроме Сережи, был Витя, Виктор Михайлович Василенко, искусствовед и поэт, но и Витя не понимал той глубины и сложности очень своеобразной личности Даниила, которых, наверное, никто и не мог понять.
Среди самых близких друзей дома Добровых была семья Муравьевых, они и жили рядом, в Чистом переулке. У Николая Константиновича Муравьева были жена Екатерина Ивановна и две дочери — Ирина и Татьяна. Дружбой с этими девочками наполнено детство Даниила. Когда ему было четыре года, а Ирине шесть, Даниил объявил, что она подходит ему в жены, а спросить на это ее согласия ему не приходило в голову.
Николай Константинович Муравьев был очень крупным юристом. Он возглавлял так называемую Чрезвычайную следственную комиссию Временного правительства, которая занималась расследованием преступлений, совершенных окружением царской семьи и высшими должностными лицами. И я знаю, например, тот факт, что фрейлине Анне Вырубовой была выдана справка за подписью Муравьева именно об отсутствии каких-либо преступных деяний.
В середине 20-х годов семья Муравьевых разделилась и разъехалась. Екатерина Ивановна с Ириной уехали во Францию, Николай Константинович с Татьяной остались в Москве. Когда шло так называемое «дело юристов», такое же фальшивое, как и все другие «дела», Николай Константинович умер. Это произошло 31 декабря 1936 года. Даниил читал всю ночь над его гробом Евангелие — он всегда читал над усопшими друзьями Евангелие, а не Псалтырь. Как раз в это время явились с ордером на арест и обыск в квартире Николая Константиновича. Гроб с телом покойного стоял на его письменном столе, Даниил продолжал читать, не останавливаясь ни на минуту, а пришедшие выдергивали ящики письменного стола прямо из-под гроба и уносили бумаги. Жизненные истории Екатерины Ивановны, Ирины и Татьяны в будущем тоже переплелись с нашими.
Младшая из сестер, Татьяна Николаевна Муравьева, вышла за сотрудника Музея Льва Толстого Гавриила Волкова, который умер в тюрьме в 1943 году. Татьяну Николаевну забрали по нашему делу. Ее участие в нем заключалось в том, что она давала нам с Даниилом уроки английского языка. А в те годы отношение к людям, изучавшим какой-нибудь иностранный язык, было очень интересное. Зачем человеку учить немецкий, английский или еще какой-то язык? Конечно, чтобы шпионить. Знание языка уже было подозрительным, а изучение вполне тянуло на обвинение в шпионаже.
Ирина же Николаевна Муравьева, уехавшая на Запад с матерью, вышла замуж за Александра Александровича Угримова. Его отец Александр Иванович Угримов вместе с Кржижановским принимал участие в плане электрификации России. Потом его, как и многих, выслали за границу.
Жили Угримовы во Франции, и во время гитлеровской оккупации Александр Александрович возглавил одну из групп Сопротивления, базировавшуюся в городе Дурдан, а Ирина Николаевна ему помогала. У Угримовых есть дочка Татьяна Александровна, Тата. Она, слава Богу, жива еще. Когда кончилась война, многие русские на Западе были в состоянии эйфории, страстной любви к потерянному отечеству и готовности все простить и забыть. Как говорила мне Ирина Николаевна, это надоело французскому правительству, и Александра Александровича в числе других выдворили из Франции. Александр Александрович был человеком поразительной честности и прямолинейности. Он вернулся в Советский Союз. Ирина Николаевна отправилась за ним на корабле через Одессу, она не хотела возвращаться и вряд ли поехала бы, если бы не дочка. Ирина Николаевна говорила мне, что не могла лишить дочь отца и решила разделить судьбу мужа. Они взяли с собой и мать, Екатерину Ивановну Муравьеву. В Россию приехали, когда мы уже сидели, вероятно, в 1948 году. Александра Александровича арестовали, Ирину Николаевну тоже, Тату отправили в детский дом. Александр Иванович Угримов тоже был выслан в Советский Союз, но арестован не был, Тату спасли он и еще одна родственница. Екатерину Ивановну сослали в Сибирь.
Один из замыслов следователей по нашему делу был таков: одна сестра — Татьяна Николаевна — здесь, другая — Ирина Николаевна — во Франции, один брат — Даниил Леонидович Андреев — здесь, другой — Вадим Леонидович — за границей, тоже во Франции. Им хотелось завязать еще и этот узел. Но Вадим не приехал, этому помешали его жена и дочь, почувствовавшие опасность. Этот замысел не удался. Ну а Угримовы отправились по лагерям, как все мы.
Почти каждое лето Даниил уезжал в Трубчевск, там бродил в любимых своих лесах. Как-то он мне рассказал, что у него есть лесные места, посвященные кому-нибудь из друзей. В том числе была там «Полянка Мусатиков».
Это, конечно, ласковая шутка. Но отношение Даниила к природе, его восприятие природы было необыкновенно серьезным и глубоким. Почти все стихи этой темы родились в связи со скитаниями в лесах около Трубчевска, маленького древнего русского города на расстоянии двух часов езды автобусом от Брянска.
В этом городе встретились Игорь и Всеволод из «Слова о полку Игореве». Когда смотришь с высокого берега Десны, на котором стоит город, вокруг простираются без края леса. Они прекрасны и сейчас, так же как и любимая Даниилом река Нерусса, протекающая неподалеку от Трубчевска. Вот как сам он пишет в «Розе Мира» о том, что пережил на берегах Неруссы: «И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно-узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди — народы близких и дальних стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой — действительно все было во мне той ночью, и я был во всем».
В Трубчевске Даниил очень близко сошелся с одной семьей. Глава этой семьи — школьный учитель, художник и музыкант-любитель Протасий Пантелеевич Левенок. Вся эта семья стала для Даниила почти родной. На их доме теперь установлена первая в России мемориальная доска, посвященная памяти Даниила. Одна из дочерей Левенка — Евгения Протасьевна, даже считалась невестой Даниила. Это были люди, своей теплотой, скромностью, искренностью, глубиной олицетворявшие ту родную провинцию, где и сейчас дремлет Россия.
Уезжая из Москвы, Даниил сразу разувался и в Трубчевске ходил босиком. «Босикомхождение», так это мы в шутку называли, для Даниила не было позой, выдумкой. Он действительно чувствовал босыми ногами жизнь Земли. Различал разные оттенки ее голоса. А в городе чувствовал излучение энергии жизненной силы тех людей, которые ходили по городу. Не могу объяснить это более толково, потому что сама ничего не слышу, но знаю, что он говорил правду.
Во Владимирской тюрьме даже однажды возник «босой бунт»: под влиянием Даниила разулась вся камера. Бунт был подавлен, а хождение босиком запрещено всем, кроме него. Даниилу разрешили не обуваться, даже выходя на зимние прогулки.
Последнее безмятежное лето в Трубчевске Даниил провел в 1940 году. Осенью опять вступила в свои права городская жизнь. А в апреле 1941 года умер Филипп Александрович Добров. Он умер на Пасху от апоплексического удара. Сережа его нарисовал — получился изумительный рисунок. Какое было лицо у Филиппа Александровича! Оно просто светилось. Это страшно звучит, но я люблю смотреть на лица умерших в первый день. Все каждодневное уходит, и несколько часов, а может быть, сутки видна самая суть человека — итог его жизни.
Филиппа Александровича похоронили на Новодевичьем. Похороны были удивительные. Религия была запрещена категорически. Люди ходили в церковь потихоньку, но в дом, конечно, пригласили священника — отпевать. Были открыты все окна и входная дверь. В квартире и в переулке около дома толпился народ. Множество людей пришло — днем! — проводить доктора Доброва, который всех лечил.
Кажется, будто Господь уберег его от войны, начавшейся два месяца спустя.
Я, конечно отвлеклась от основной темы главы. Возвращаюсь к ней. Почему же все-таки Даниил был одинок, и почему узкий путь, не назначенный для двоих, оказался назначен для нас — его и меня. Конечно, я об этом думала, и скажу так. Вероятно, это совпадение двух одиноких узких путей — Даниила и моего. При всей разнице масштабов оба пути имели общее музыкальное звучание. Может быть, это и называется предназначенностью?
Глава 14. ВОЙНА
Что мы отстояли В итоге второй мировой? Расстрелы в подвале, Суды, лагеря и конвой. Свою несвободу И власть кумачевых вождей. Печали, невзгоды И рабство для наших детей. (Николай Ник. Браун. Из лагерных несен)Мне кажется, те, кто отдал жизнь за Родину, в мгновение смерти уже были в Небесной России. Но что они увидали оттуда на родной земле? Многое. В том числе то, о чем говорится в стихотворении, с которого я начала главу. Очень много страшного пришло с победой. Правды о войне никто не сказал до сих пор, и не знаю, когда в полной мере она будет сказана. Сколько еще десятилетий нужно, чтобы по-настоящему понять эту трагедию? А началась она задолго до войны и, вероятно, задолго до трагедии 1917 года. Господь дает человеку тот крест, который он способен нести. Значит, и народу Господь дает тот крест, который этому народу под силу. Крест, что выпал на долю России, под силу России. Только так и можно считать.
Ни от чего мы мир не спасли. Вместо страшного фашистского чудовища выпустили в мир, приподняв «железный занавес», чудовище коммунистическое. И что еще нужно, чтобы в этом разобраться? Вероятно, многое. Что же мы можем сделать сейчас? Встать на колени, поклониться тем, кто лег в эту политую кровью землю за нашу Родину. Открыть, наконец, глаза на чудовищность коммунизма, полного ужаса, которого многие так и не поняли. И от этого непонимания происходит многое из того, что мы видим сейчас. Я пишу книгу не об истории, а о своей жизни, но не бывает никакой личной жизни, оторванной от действительности и, таким образом, от политики.
Война застала нас в нескольких километрах от Москвы, в деревне на берегу канала, того самого, страшного, вырытого заключенными. Мы жили там большой компанией. Так получилось, что провести лето в деревне собралось гораздо больше народу, чем предполагалось. Нас было так много, что мы с Сережей и Наташа, моя школьная подруга, спали на чердаке. Чердак был устлан осенними листьями, мы забирались туда в темноте, потому что уже было затемнение и свет зажигать не разрешалось. Там было хорошо, пахло сухими листьями. Сережа ложился между нами. Я лежала неподвижно и не то что делала вид, будто сплю, а просто тихо лежала. И Сережа с Наташей тоже лежали тихо. Они разговаривали, а я молча слушала, как разваливается моя личная жизнь. Мне абсолютно не в чем винить ни Сережу, ни Наташу, скорее уж себя; я не изменяла никогда, ни в чем и делала все, что могла, но не надо мне было выходить замуж за этого чудесного человека и художника. Не могла наша жизнь не развалиться. А тогда я просто лежала и слушала, как два близких человека тихо-тихо беседуют, как они друг друга понимают, как душевно все больше и больше сближаются. И так же вот тихо понимала, что у нас-то с Сережей все рвется, рвется.
Я слышала, как и все, знаменитое обращение Сталина к народу в начале войны. Тогда он вдруг вспомнил свое семинарское прошлое и обратился к нам: «Братья и сестры». Он был в совершенной панике, едва говорил явно сведенными от страха губами, все время пил воду. Было хорошо слышно, как в паническом страхе стучат зубы о стакан с водой.
В поле, расстилавшемся перед нашими домами в Коптеве, выкопали «щель» — примитивное укрытие от бомбежки, собственно окоп, канаву выше человеческого роста. При звуках сирены полагалось туда бежать и отсиживаться. Помню две тревоги: одну условную — никто не знал, что это репетиция. Я была совершенно вне себя от страха, не могла стоять на ногах. Интересно, что это была единственная тревога, когда я боялась: все, причастное страху, во мне прошло за ту ночь, настоящей тревоги 22 июля я уже не испугалась. Ночь мы простояли в «щели», потом выбрались в поле, а по всему горизонту — огонь. Там была Москва. Ее от нас отделяло довольно большое пространство, и она пылала.
У нас ночевала Наташа, мы с ней и Сережей отправились в горящую Москву, потому что у Сережи там были мать и сын, у меня родители и брат, у Наташи — сестры и мать. Дошли до Сокола, а дома стоят, метро работает. Я говорю: «Позвоню домой». Наташа с Сережей на меня орут: «Ты что! Какие могут быть телефоны!» Но я звоню маме. Шесть часов утра. И слышу раздраженный мамин голос: «Ты с ума сошла! Такая ночь, спать было невозможно, едва заснули, и ты еще звонишь!»
На самом деле что-то горело, ярче других пылал пожар на толевом заводе, потому что толь, оказывается, взлетает, взрывается и очень эффектно горит.
В самом начале войны было организовано ополчение, куда осенью 1941 года Сережу едва не забрали. Ополчение собиралось на Остоженке. Там в верхней части улицы справа стоит в глубине красивый белый дом с колоннами и мемориальной доской, сообщающей, что здесь преподавал Сергей Михайлович Соловьев. Ополчение — страшная страница в истории войны. Туда собрали абсолютно неумелых людей, зачастую уже немолодых. Господи, сколько там народу погибло! Мы знали художника Ефрема Давидовича. Есть такой тип евреев — лохматых, бородатых, абсолютно беспомощных, очень добрых и совершенно не от мира сего. Он был талантливым и интересным художником, но все, что умел в жизни, это живопись. Его забрали в ополчение, там очень скоро послали в разведку, а в разведке он, конечно, вылез со своей библейской бородой прямо на гитлеровцев. И так погиб. Эту историю мы узнали случайно в Союзе художников, но подобных историй много.
Сереже в начале войны был 41 год. Его забрали, несмотря на сильную близорукость, но потом отпустили, потому что без очков он почти ничего не видел.
Сейчас не очень любят говорить о том, как мы отступали. Мы не отступали — мы катились. Города сдавались один за другим. Объясняется это, мне кажется, двумя причинами. Во-первых, развалом границ, учиненным Сталиным, во-вторых, тем, что очень многим осточертела советская власть. И, конечно, никто практически не знал, что такое немцы. Было ощущение, что, слава Богу, коммунизм кончается. Русский народ тогда только поднялся по-настоящему, когда увидел, что немцы отнюдь не спасение.
Из Москвы бежали коммунисты, бежали евреи — иначе нельзя было поступать, — они бежали от страшной гибели; но те коммунисты, которые, обладая какими-то возможностями, грабили и везли с собой все, что могли, — это уже совсем другое.
Мой папа остался в Москве и переоборудовал Институт профессиональных заболеваний имени Обуха, где тогда уже работал, в госпиталь. Госпиталь обслуживал передовую, а это было уже ближнее Подмосковье. Партийная верхушка института, зная, что он переоборудуется в госпиталь и скоро привезут раненых, бежала, увезя с собой весь спирт, какой только был. Как папа выкручивался, пока сам не заболел очень тяжело, не знаю.
Во многих местах на окраине Москвы был слышен гул боя. Не взрывы, не удары, а именно непрерывный гул. У нас в Коптеве он был слышен очень сильно и оконные стекла непрерывно дребезжали. Бои шли в районе Химок — это со стороны Коптева. В какой-то из этих дней я оказалась на Арбате и видела танки. Я не знала, что танки могут двигаться с такой быстротой. Они, явно откуда-то прорвавшись, мчались по Арбату со стороны Бородинского моста: помятые, грязные, со следами огня. И танки были облеплены солдатами. Солдаты ехали снаружи, держась за что попало, в разорванных, часто обгоревших шинелях. Лиц их, выражения этих лиц я не берусь описывать. Они смотрели только вперед, ни разу не оглянувшись по сторонам, вообще не шевелясь.
Это было бегство, так его и понимали мы, стоявшие на тротуарах.
Светофоры тогда почти не работали, все переходили улицы, где кому вздумается, а перед мчащимися танками бросались врассыпную.
16 октября 1941 года. Из Москвы бегут все, кому действительно страшно. Немцы подошли к сердцу России. Мы слышим по радио то, что привыкли слышать: наши войска оставляют, оставляют, оставляют… Утром 16 октября в Москве уже были только те, кому некуда и незачем бежать. Мы уже не расставались и старались держаться вместе.
Утром было объявлено, что в 12 часов передадут важное сообщение. Все знали, что это вступление к объявлению о сдаче города. И вот в полдень по радио сказали, что важное сообщение переносится на 16 часов. Не могу объяснить, каким образом, но я поняла — немцы не войдут. Москва не будет сдана. Когда я сказала об этом мужчинам, а мы с Сережей не расставались и все время звонили Коваленским и Даниилу, они на меня накинулись. Мужчины — народ логический:
— Ты что? Ну о чем ты говоришь?!
Я упорно повторяла, твердила одно:
— Не знаю почему, но Москва сдана не будет. Не знаю, что сейчас произошло, но то, что произошло, все изменит.
В 16 часов объявили, что где-то открывается магазин, а какой-то троллейбус пойдет другим маршрутом. Неизвестно почему, но права оказалась я, а не умные мужчины с их логическим мышлением.
Я знаю, что в те часы произошло чудо. Мне не надо было ничего видеть. Я ничем не докажу своей правоты. Но и спустя пятьдесят с лишним лет память чуда так же жива. Сейчас кое-что известно. Существует несколько версий. Я знаю такую версию: три женщины по благословению неизвестного священника, взяв в руки икону Божьей Матери, Евангелие и частицы мощей, которые им удалось достать, обошли вокруг Кремля. Есть версия, будто самолет с иконой Казанской Божией Матери облетел вокруг Москвы. Не знаю… Мне, помнящей атмосферу того времени, более правдоподобной кажется версия первая — шли кругом Кремля. Матерь Божия отвела беду от Москвы. Значит, так было надо. И никто меня не убедит в том, что это не было чудом. Я этого чуда свидетель, как бы странно и непонятно ни звучали мои слова.
Те сибирские части, о которых столько было разговоров, что они спасли Москву, подошли дня через три после 16 октября. Вероятно, историки когда-нибудь разберутся в этих датах. Я могу говорить просто как свидетель. И еще точно могу сказать, что генерал Власов был в числе тех, кто отстоял Москву, но уже после того чуда, о котором я рассказала.
Для москвичей наступили военные будни. В начале зимы 41-го года из Москвы очень многих эвакуировали. Поскольку отапливать все дома не было возможности, оставшихся людей очень организованно и быстро стали поселять в чужие квартиры. Пустые дома запирали, в них отключали воду и отопление. Добровы — уже без Филиппа Александровича — жили там же: у них было дровяное отопление. А мы попали в огромный дом Севморпути на Суворовском бульваре. Я не знаю, что было в верхних этажах, но подвал с круглыми окнами был жилым — с центральным отоплением и газом на кухне. В него собрали людей со всей округи. В небольшой подвальной комнате у меня на руках оказалась семья: Сережа, его мама и десятилетний сынишка от первого брака, Олег. Мама Олега работала на казарменном положении, то есть почти не имела возможности покидать место работы.
В организационном смысле жизнь в Москве была хорошо налажена. В городе поддерживали чистоту, транспорт, который мог работать, работал.
Наступила первая военная зима в Москве. Она была тяжелой. В городе начался голод, конечно не тот, я бы сказала, средневековый голод, который устроили в Ленинграде, но по карточкам давали только хлеб: иждивенческая карточка — 250 г (это было всего лишь вдвое больше блокадного пайка), карточка служащего — 400 г, рабочая — 550 г.
Как-то стало известно, что в Раменках брошены огороды, и туда ездили зимой вырубать из земли морковку. Я тоже поехала с топором и за целый день нарубила килограмм моркови.
Отношения между людьми были большей частью скорее добрыми, с посильной помощью и сочувствием, хотя, конечно, бывало и иначе. Ходить по городу до наступления комендантского часа (не помню, когда он начинался) было совершенно не страшно, даже в ранней зимней темноте.
Мне запомнилось два моих приключения военных лет. В то время по Лубянской площади ходил трамвай, и я в нем очутилась — стояла на задней площадке в толпе чужих людей. Трамвай качало, и я, пошатнувшись, толкнула стоявшего рядом офицера. Он, видимо, был чем-то раздражен, потому что реагировал до нелепости бурно: схватил меня и, ругаясь, собрался тащить «куда надо» как врага, посмевшего толкнуть его, советского офицера. Это могло кончиться для меня скверно, но мужчины, стоявшие на площадке, окружили офицера плотным кольцом, меня вырвали из его рук, ему орали, что надо Москву отстаивать, а не женщин хватать. Мне шепнули: «Уходите скорей» — и помогли спрыгнуть с трамвая — тогда ведь не было закрывающихся дверей, и в трамвай вскакивали на ходу.
Это было еще осенью 1941 года, а глухой зимой в середине войны я оказалась ранним вечером на Театральной площади, то ли к маме шла, то ли от нее, — родители жили на Петровке. Я была к этому времени так слаба, что ходила медленно и с трудом, иногда держась за стенки. Неожиданно я увидела двух иностранцев, было ясно, что они иностранцы: высокие, молодые, хорошо одетые, со здоровыми лицами. Внимательный холодноватый взгляд, каким они смотрели по сторонам, я и сейчас помню. Едва этот взгляд остановился на мне, я поступила совершенно неожиданно для себя — откуда взялись силы? — выпрямилась, подняла голову и быстро прошла мимо них, не глядя, тем легким шагом, который всегда был моим и так совпадал с шагом Даниила.
Когда началась война, Сережа сказал: «Сейчас остается одно — умереть с кистью в руках». Я на это ответила: «Пожалуйста, но я умирать не буду». И он, действительно, в первую военную зиму кисти из рук не выпускал, писал. А все хозяйство в подвале везла на себе я. Что могла, подкидывала Аня, первая Сережина жена. Мой папа был на казарменном положении у себя в госпитале, свою рабочую карточку он отдавал маме с братом и няней, у которых были иждивенческие — кусочек хлеба и все. Мама еще иногда ухитрялась и нам что-нибудь подкинуть.
Позже Сережа устроился на работу в Союз художников начальником военного стола. Там ему приходилось выполнять простую чиновничью работу, но за это давали зарплату и литерную карточку — она была одна на всех нас.
У Сережи и его мамы Полины Александровны был старый друг Боря Герасимов. Он жил в Малоярославце и, когда подошли немцы, бежал в Москву в чем был, добрался на каком-то последнем поезде. В Москве он жил, где придется, два раза в неделю дежурил в библиотеке возле ресторана «Прага», гасил бомбы. За это ему разрешали ночевать там на столе. В остальные дни он дежурил где-то еще. Когда Боря ночевал в библиотеке, то заходил к нам, и я старалась в этот день хоть что-то для него оставить. Это был образованный, сдержанный, умный человек, но я помню выражение его лица, когда он появлялся у нас. В его глазах, когда он входил, был вопрос: «Есть что-нибудь?» Была корочка хлеба, немного супа. Это было все, что он съедал за день, и он был этому рад. Такой была жизнь в военной Москве. Как я выкручивалась, как билась, сейчас вспоминать не хочу. Я должна была всю семью ухитриться накормить, что и делала.
Летом в начале войны у сестры одной моей подруги Маруси родился сынишка. Вскоре после его рождения молодой отец эвакуировался с заводом, на котором работал, а точнее, бросил жену и новорожденного. Маруся окончила Горный институт, в середине войны защитила диплом. Помогали ей все: мать, сестры, друзья, Сережа и даже я. Во всем, что касалось науки, я была совершенно бездарна, поэтому помощь заключалась в том, что иногда мне удавалось сварить большую кастрюлю супа и отнести ее Марусе, благо жили мы близко друг от друга.
Когда Маруся защитила диплом, все помощники собрались за большим столом праздновать. На столе — что-то, сотворенное из картофельных очисток, лепешки из кофейной гущи, напиток под названием «каковелла» из шелухи от бобов какао. Во главе стола сидел малыш, уже двухлетний. Он не видел еще ни капли настоящего молока — у матери оно пропало сразу, а дети военного времени росли на солодовом молоке. Мы были самыми обыкновенными людьми, атмосфера военной Москвы была атмосферой взаимопомощи.
С лета 41-го по осень 42-го мы еще бывали у Добровых, но видеться становилось все труднее. Даниила то призывали в армию, то отпускали. У него было врожденное заболевание позвоночника — спондилоартрит. Оно не мешало ему проходить десятки километров, но спина иногда болела, и какое-то время он был вынужден даже носить металлический корсет.
Осенью 42-го Даниила все же забрали в армию окончательно. Провожали его сестры Усовы, Татьяна и Ирина, о которых я уже говорила. Первое время Даниил довольно долго был в Кубинке, где исполнял разные обязанности: печатал на машинке, топил печку, убирал. Тамошнее начальство, узнав, что он сын Леонида Андреева, издевалось над ним как могло. Нравилось, что вот сын писателя в услужении и делать с ним можно, что захочешь. В Кубинку к Даниилу ездила Татьяна Усова.
Я же в глубине души была абсолютно уверена, что с фронта он вернется живым.
К весне 43-го года жизнь в Москве стала понемногу оживать: кто-то вернулся из ополчения, кого-то отпустили с фронта в связи с ранением. Летом 43-го я вступила в МОСХ. До этого я состояла в Горкоме живописцев, благодаря чему имела карточку служащего — 400 г. хлеба и иногда крупу. Вступление в МОСХ означало тогда литерную карточку и право обедать в столовой МОСХа, то есть попросту спасение от голода. Председательница Горкома живописцев организовала в Парке культуры выставку художников — членов Горкома, на которую пригласили Бюро живописной секции МОСХа в расчете, что всех участников примут в Союз одновременно.
Пришли члены Бюро, к выставке они отнеслись хорошо, но в МОСХ рекомендовали не всех. Я ухитрилась в войну писать, рисовала раненых в госпитале и оказалась в числе рекомендованных. Но это был первый этап. Для утверждения в качестве члена Союза художников следовало привезти работы в МОСХ в Ермолаевский переулок. 10 июля выставка закрывается, а вечером того же дня в МОСХе заседает комиссия. И тут председательница Горкома живописцев, женщина очень принципиальная, заявляет: «Нет, выставка будет продлена. Или все вступают в МОСХ, или никто!» В МОСХе на это ответили: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Хотят, чтобы их приняли, пусть принесут работы».
Что было делать? Все-таки Бюро выбрало тех, кого считало лучшими, и, если мы демонстративно не принесем работы, так нас и потом не примут. Я и Игорь Павлович Рубан поступили следующим образом. Приехали в Парк культуры рано утром. Канцелярия еще только раскачивалась, и приказ о продлении выставки не дошел, он стал известен только через час. Мы, улыбаясь, говорим:
— Сегодня выставка закрывается. Нам отвечают:
— Да.
— Знаете что, мы свои работы сейчас заберем.
— Пожалуйста!
Мы мгновенно сдергиваем работы со стен, связываем их, но к выходу не идем: чтобы идти через выход, нужен пропуск на вынос работ. В заборе 1-й Градской больницы, граничащей с парком, есть дыры. Мы с Игорем Павловичем бежим в кусты, пролезаем в дырку в заборе, и вот мы уже на Ленинском проспекте. Привозим работы в МОСХ. Там — хохот и полный восторг. А раз нет нескольких работ на выставке, то нет и выставки. Кто-то еще из художников тоже успел привезти свои работы.
Дальше уже в МОСХе разгорелся спор: принимать меня или нет, потому что как принимать человека, в работах которого никак не отражена советская идеология? Ну пейзажи, ну портреты пусть даже и раненых — подумаешь! Какой же это советский художник? Спас меня Петр Петрович Кончаловский, до этого ни меня, ни моих работ ни разу не видевший. Он сказал: «Я не знаю, о чем вы спорите. Это же талантливый человек!» Авторитет Кончаловского был так велик, что эта фраза решила мою судьбу: меня приняли в Союз художников.
В моей жизни было немного и педагогической деятельности, но своеобразной. Неподалеку от станции метро «Сокол» располагался скульптурный комбинат, изготовлявший в основном гипсовые памятники вождей и «девушек с веслом». Отдельные части их — руки, ноги, головы — в большом количестве валялись на земле. В подмастерья туда собрали главным образом мальчишек, выгнанных из всех школ за хулиганство, и стали обучать их рисунку. Педагоги в комбинате не задерживались. Перед войной там стал преподавать Сережа, но и он не выдержал и передал работу мне.
Ребятам было по 14–15 лет, мне 26, но выглядела я моложе. Ученики обрадовались моему приходу, посчитав, что шутя со мной справятся. Они ошиблись — сладила с ними я, правда, иногда пользуясь странными приемами. Когда один из ребят подал мне вместо натюрморта «заборнонепристойный» рисунок, я в ярости подняла 16-летнего мальчишку на руки и швырнула с лестницы. Класс обомлел, а побелевший виновник попросил прощения.
Самый смешной случай однажды произошел холодной военной зимой. Я пришла на урок, почти все ученики меня встретили внизу, а занимались мы на пятом этаже. По озорным веселым глазам и приторной вежливости я поняла, что мне приготовлен какой-то сюрприз. Так и было: войдя в класс, я увидела, что в углу на крюке, почему-то находящемся в потолке, висит самый озорной из всех ребят. Я прошла на свое место и предложила начать заниматься.
— Как? А он?
— Если ему нравится висеть — пусть повисит. А если хотите — помогите ему слезть.
Парню помогли, и все засыпали меня вопросами, как я не испугалась, как догадалась? А я, сделав серьезное лицо, сказала, что если бы они внимательно относились к рисунку, то знали бы, как ложатся складки одежды у повешенного, и какими они были здесь. Выходка же на самом деле привела меня в восторг. Под наглухо застегнутое пальто (из-за холода мы не раздевались) были всунуты деревянные плечики, и крючок от плечиков зацеплен за крюк в потолке.
Мы подружились с ребятами отчасти и потому, что я никогда не жаловалась на них заведующему учебной части. Что с ними стало потом? Кто из них выжил, а кто погиб на войне — не знаю.
Потом я преподавала в студии ВЦСПС. Она помещалась в Доме Союзов, где-то наверху на уровне люстры Колонного Зала. Заведовал учебной частью очень хороший художник и интересный человек — Леонид Николаевич Хорошкевич, друг Даниила и Сережи. Сережа вел там живопись, а мы с Левой (как звали его друзья) затеяли необычную вещь: мы знали, что единственным возможным заработком для художника, не желающего кривить душой, может быть только работа шрифтовика или оформителя. Вот мы и стали учить этому молодых людей, внушая им, что это не халтура, а тоже работа художника. Атмосфера в студии была прекрасная — увлеченности искусством, дружелюбия, взаимопомощи и какого-то неуловимого романтизма, исходившего от Леонида Николаевича. Много ночей просидели мы с Левой у него в Палашевском переулке, и он читал мне стихи у топящейся печки. Позже в лагерь, через папу, посылал мне краски. Он умер, пока я была в лагере, и похоронен на Новодевичьем кладбище почти напротив Даниила. В конце войны нашу идеологически не выдержанную студию разогнали.
В конце войны произошло одно событие. По Садовому кольцу вели напоказ большую колонну немецких военнопленных. Об этом было объявлено по радио заранее — всех москвичей приглашали посмотреть на такое зрелище. Я не пошла. Меня оттолкнула какая-то темная средневековость этого замысла. От тех, кто пошел, я слышала два запомнившихся мне рассказа. Первый — немцы смотрели на детей, которых некоторые матери взяли с собой. Второй — о том, как многие из женщин плакали и говорили:
— Вот и наших так где-то ведут.
Оба эти рассказа остались в моей памяти, прорвавшейся в них человечностью. Даниил потом рассердился на меня за то, что я не пошла смотреть на пленных и говорит:
— Ну как ты могла! Мне так важно это событие для продолжения «Странников», я бы все видел твоими глазами.
По всему было ясно, что война кончается.
Так что же мы отстояли в итоге второй мировой? Называю цифры: 30 миллионов солдат, погибших за победившую Россию, 8 миллионов — за побежденную Германию. Неважно, правильны ли эти цифры. Соотношение правильное. Десятки миллионов в лагерях. Я была с ними, я знаю. Среди них балтийские, западноукраинские дети 14–15 лет. Эшелоны солдат, арестованных, едущих на север, в Воркуту, с темными пятнами от сорванных с выцветших гимнастерок орденов. Спокойно наблюдаемый нашими войсками разгром фашистами восстания в Польше. Танки в Чехословакии, в Венгрии. В этом нет ничего русского. Это — советская власть, пришедший к власти коммунизм, который и в тех странах опирался на эстонских, латышских, польских, венгерских коммунистов. Но это забыто. Все сейчас приписывают русским. А русские пострадали больше всех. Трагедия отличается от несчастья величием и ощущением масштаба, а масштаб — это тоже ценность. Хочу повторить, что страдания такого масштаба Господь посылает только тогда, когда знает, что народ эти страдания вынесет и выйдет к Господу. Больше выходить не к кому.
Глава 15. ЛИПЫ ЦВЕТУТ
В трагическом узле войны спутывались, расходились, соединялись тонкие ниточки личных судеб. Я сознательно не говорю «на этом фоне», потому что жизнь, даже самая мирная, никогда не бывает фоном, а всегда — узлом.
Эта глава о переломе в наших с Даниилом личных судьбах. Чтобы рассказать об этом, я вернусь в середину войны, в новогоднюю ночь 1943 года.
Мы всегда встречали Новый год у Коваленских. К этому времени уже не было в живых ни Филиппа Александровича, ни Елизаветы Михайловны. Коваленские перебрались в большую комнату, все там изменив, и она стала очень красивой.
Даниил был еще в Кубинке. Его отпустили в Москву на два дня, о чем мы с Сережей не знали.
У нас еще был такой обычай — встречать Новый год в белом. И в ту новогоднюю ночь я была все в том же свадебном белом платье, в котором впервые пришла в этот дом. Темная-темная холодная Москва была удивительно красива военными зимами, потому что свет — окна, фонари — лишает город его настоящей ночной красоты. Москва первых зим с затемнениями, когда не было ни единого лучика из окна, ни одного фонаря, была тихая, снежная. В ней проявились ритмы города, которые при свете пропадают. Ложился снег, его не счищали, и от него было светло. Господи, какие в Москве есть удивительные повороты, уголки, изгибы крыш, сочетания высоких и маленьких домов!
Мы пришли с Никитского бульвара в Малый Левшинский. Пришли мы ночью, значит, уже не было комендантского часа. На звонок дверь — я уже упоминала, что она шла из квартиры на улицу, — открыл Даниил. Ничего не произошло фактически и очень многое неуловимо. Прозвучали три голоса в темноте, и главным были интонации этих голосов, слова-то произносились самые простые. Из темноты прозвучала горячая радость в приветствии Даниила.
Скрытый темнотой, ответил на его радость мой голос, дрогнувший, вырвавшийся из постоянного, привычного владения собой. А Сережин прозвучал напряженно, собранно и скованно в ответных на приветствие словах.
В ту новогоднюю ночь мы с Даниилом перейти на «ты», но, как ни странно, ни я, ни он не поняли до конца, что эта встреча Нового года была нашей с ним Встречей.
А потом Даниил уехал. Из Кубинки его отправили зимой 1943 года со 196-й стрелковой дивизией Ладожским озером по «Дороге жизни» в блокадный Ленинград. Ленинград, не Петербург! Это все был Ленинград. Его «Ленинградский Апокалипсис» посвящен этому городу. Позже выяснилось, что в артиллерийских частях, охранявших этот путь, служил двоюродный брат Даниила Леонид Андреев. Это фамилия по матери, он сын Риммы Андреевой, родной сестры Леонида. И оказалось, что один двоюродный брат охранял путь другого.
Так начинался марш. Над Ладогой Сгущались сумерки. На юге Ракет германских злые дуги Порой вились… Но ветер креп: Он сверхъестественную радугу Залить пытался плотным мраком, Перед враждебным Зодиаком Натягивая черный креп. <…> А здесь, под снеговой кирасою, От наших глаз скрывали воды Разбомбленные пароходы Расстрелянные поезда, Прах самолетов, что над трассою Вести пытались оборону, Теперь же — к тинистому лону Прижались грудью навсегда. Вперед, вперед! Быть может, к полночи И мы вот также молча ляжем, Как эти птицы, фюзеляжем До глаз зарывшиеся в ил, И озеро тугими волнами Над нами справит чин отходной, Чтоб непробудный мрак подводный Нам мавзолеем вечным был. <…> И снежно-белые галактики В неистовом круговращеньи На краткий миг слепили зренье Лучом в глаза… А шторм все рос, Как будто сам Владыка Арктики Раскрыл гигантские ворота Для вольного круговорота Буранов, пург и снежных гроз.Даниил уехал, а я продолжала тащить громоздкую семейную телегу.
Почему же мы так долго не понимали, что должны быть вместе? Вероятно, этому продолжало мешать представление о святости брака, хоть и не церковного — мы с Сережей не венчались, о неприкосновенности дружбы, безотчетное, но сильное чувство ответственности. А я все еще продолжала представлять женщину, достойную стать рядом с Даниилом, как существо почти полуреальное, никак не могла понять, что это просто я.
Жизнь в Москве постепенно образовывалась. Олежка, Сережин мальчик, уехал со школой в эвакуацию на второй год войны. Сережина мама Полина Александровна вернулась в свою комнату на Остоженке, а мы с Сережей — в комнатку во дворе гоголевского дома. Воду дали, а отоплением была маленькая печка — моя радость, живой огонь. Оба мы преподавали в студии, о которой я уже рассказывала.
Я писала Даниилу на фронт: в Ленинград, в Шлиссельбург, в Резекне… Оттуда приходили его треугольнички — письма, которых не забудет никто из переживших войну. И я писала ему, думая, что пишу просто другу, о том, как мы живем. Но, видимо, поскольку писала я совершенно искренне, чуткий, уже любящий человек мог читать между строк. Неожиданно я получила от Даниила письмо с такими словами: «Кто такая Наташа? Что у вас происходит? Напиши мне подробно. Ты не можешь представить себе, как это для меня важно». Тогда я подробно написала обо всем.
Наташина жизнь к этому времени была совершенно переплетена с нашей, а тяжелый, все тянувшийся треугольник — одна из его классических форм — становился все мучительнее и как-то бестолковее.
Родители мои, как водится, ничего не знали, и хорошо, что не знали: тактичный сдержанный папа не сделал бы ничего, но мама, искренняя, горячая, еще более вспыльчивая, чем я, наломала бы таких дров, что все стало бы еще хуже. Так мы все трое по крайней мере сохранили необходимое уважение друг к другу.
В июне 1943 года Даниил уже был в Латвии под Резекне. Он прошел блокадный Ленинград, службу в похоронной команде, подтаскивал снаряды, был привлечен к полевому суду. Это был смешной эпизод. Его, солдата, отправили в какой-то ларек торговать, по-моему, хлебом и еще какими-то продуктами. И, естественно, скоро обнаружилась недостача, за которую его и привлекли к суду. К счастью, попался следователь, для которого имя Леонида Андреева не было пустым звуком, да и без этого было ясно, что человек, который спокойно сидит перед ним, ни в чем не виноват. Дело было в том, что Даниил не мог не давать голодным детям остатки хлеба. Он стеснялся требовать мелочь, когда ее у человека не было, и в довершение всего кормил хлебом приходившего к палатке жеребенка.
Дело в конце концов закрыли. Надорвавшись на перетаскивании снарядов, из-за обострения болезни позвоночника Даниил попал в госпиталь, сначала как больной, а потом его оставили там санитаром и регистратором. В госпитале он встретил превосходное отношение к себе начальника госпиталя Александра Петровича Цаплина и главного врача Николая Павловича Амурова. Каким-то чудом ему удалось приехать в короткую командировку в Москву. Как он ее выпросил и в чем она заключалась — совершенно не помню.
Стоял июнь 44-го. Это были самые светлые, самые прекрасные дни года. По всей Москве цвели липы.
Я вернулась откуда-то домой. Сережа сидел с тем застывшим выражением лица, которое я уже знала. Я вошла в комнату. Он поднял голову и сказал:
— Даниил приехал в командировку. Он сейчас дома в Малом Левшинском.
Я молча повернулась и побежала. Я бежала, как бегала двенадцатилетней девочкой, которая училась в Кривоарбатском переулке, не останавливаясь ни на секунду, через весь Арбат, Плотников переулок, Малый Левшинский.
Я бежала знакомым путем, как в школьные годы, только уже не с той беспечностью жеребенка, которому просто необходимо бегать. Теперь я бежала — буквально — навстречу своей судьбе. И на бегу отрывалось, отбрасывалось все, что меня держало, запутывало, осложняло Главное.
Бежала бы я так же, если бы знала, навстречу какой судьбе спешу? Думаю, что да, бежала бы. В этом ведь и заключается выбор — беспрекословное подчинение своей предназначенности. Вот я и бежала, закинув голову, как в детстве, навстречу любви, тюрьме, лагерю и — главное — самому большому счастью на Земле — близости к творчеству гения. Это ведь, может быть, самая непосредственная близость к мирам Иным. Только не надо думать, что я тогда это знала. Ничего не знала.
Прибежала. Позвонила. Открыл кто-то из соседей. Я взлетела по ступенькам, пронеслась через переднюю, бросилась сразу в комнату Даниила, открыла дверь — комната пуста. Я повернулась, пробежала снова через переднюю, так же без стука влетела в комнату Коваленских и застыла на пороге.
Даниил стоял спиной ко мне и разговаривал с Коваленскими, сидевшими на диване. На шум открывающейся двери он обернулся, увидав меня, на полуслове прервал разговор и пошел ко мне. Мы взялись за руки, молча прошли через переднюю, молча пришли в его комнату. И я абсолютно ничего не помню. Очень может быть, что мы ни одного слова и не сказали. Что мы просто вот так, держа друг друга за руки, сели на диван.
Спустя какое-то время так же, не разнимая рук, мы вошли к Коваленским, и Даниил сказал:
— Мы теперь вместе.
Александр Викторович взволнованно спросил:
— Совсем? Без всяких осложнений?
Он имел в виду, конечно, Сережу и Татьяну Владимировну. Но для нас на свете уже не было ничего и никого. Все окружавшее нас исчезло. Были — только мы двое, не разнимавшие рук, мы сказали:
— Ничего. Ни у кого. Ни с кем. Никаких осложнений. Никаких половинчатых решений. Мы вместе.
Тогда же все было сказано Татьяне Владимировне. Можно упрекнуть и меня, и Даниила в жестокости, в том, как мы рвали со всеми. Но это было то, что называют судьбой. Было четкое осознание, что все надо отметать. Переступать через все. Наша дорога — взявшись за руки, вдвоем идти навстречу всему, что нас встретит. А встретило нас многое. И очень страшное. И огромное счастье. А это счастье бывает только у людей, которые действительно поняли, что должны быть друг с другом и разделить все, что жизнь принесет.
Потом Даниил вернулся на фронт.
Удивительное дело, но Сережа, несмотря на уже довольно прочные отношения с Наташей, очень тяжело переживал мой уход. Он попал в психиатрическую клинику на Девичьем поле, и мы с Наташей ездили к нему по очереди.
Я жила ожиданием Даниила. Единственное, что хорошо помню из того времени, — это «Гамлета». Я начала с увлечением работать над эскизами к спектаклю, который, естественно, мне никто не заказывал и никогда бы не заказал. Это было решение всего спектакля: замок, сложенный из серых камней, на стенах — ковры, но мало. Очень немного мебели. Иногда кресло, если нужно, чтобы оно «играло». Весь упор был на актере, на костюме. Костюмы, как и цветовые элементы декораций, были очень сдержанных цветов: черные, белые, тускло-красные, оливково-зеленые. На одном из эскизов Гамлет и Офелия стояли на фоне двух узких окон, за которыми сверкала серебряная Дания — таким бывает сияние моря в северных странах. Гамлет — в черном, Офелия — в черно-белом с длинными, светлыми, совершенно прямыми волосами. Я вообще не люблю локонов и завитушек у героинь. На другом эскизе Гамлет распахивал дверь, за которой так же сияли серебряная Дания, далекое море, может быть, туман — все серебристо-белое. Я была очень увлечена этой работой. Писала ночами напролет, потому что днем ездила к Сереже в больницу и еще зарабатывала преподаванием в студии. Этими же ночами писала и письма Даниилу.
А в Москве продолжали пахнуть липы. С тех пор запах цветущих лип для меня — это запах моего счастья. Могло бы быть иначе, потому что он связан для меня еще с одним важным и сильным впечатлением, очень страшным.
В 1933 году я — мне восемнадцать, братик — ему десять, мама и обожаемый пушистый кот отправились в путешествие на теплоходе по маршруту «Москва — Уфа». Помню теплую июльскую ночь в Чистополе. Корабль стоял посередине реки. Кама была тихая, в ней отражались звезды, и с берегов долетал очень сильный запах лип. Почему я это вспоминаю? Потому что в ту поездку я своими глазами видела весь ужас того, что произошло на Украине в 1933 году. Тот подлый, преступный, организованный властью голод, забыть который совершенно невозможно. На всех пристанях — толпы людей, их называли «беглыми». Они бежали с Украины. Бежали куда глаза глядят, чтобы как-то выжить. Они пробирались на корабль, конечно, в трюм. Голодные дети ползли по лестницам вверх, туда, где плыли мы, пассажиры с билетами. Я видела, как такого ребенка матрос ногой пихнул с лестницы. Этот матрос не был злым человеком, он просто не мог этого вынести, потому что на всем пути по Волге и особенно Каме и Белой пристани были полны людей с детьми. Мы ничего не могли для них сделать, и матросы тоже. Накормить всех было невозможно. Какая-то еда, которую мы совали в эти протянутые ручки, была ничем в сравнении с их голодом. Причем говорить об этом было нельзя. Я шла сзади того матроса и видела — это не жестокость и не злоба, просто у него нет больше сил смотреть.
Это было подступившее к самому борту корабля море страдания, в котором захлебывалась советская Россия. Она продолжала захлебываться и в военные годы, а для меня среди этого моря возник островок счастья, на котором цвели липы.
Глава 16. ВМЕСТЕ
Работа над «Гамлетом» заполняла время, когда я еще жила одна в гоголевском доме. Потом Сережа вернулся домой из больницы, и Наташа переехала к нему, а я перебралась в комнату Даниила в Малом Левшинском и стала приводить ее в порядок, чтобы, когда он вернется, его ждал прибранный дом и я в этом доме.
Через какое-то время вышел указ отпускать с фронта специалистов для работы по профессии. Через Горком художников-графиков я стала добиваться, чтобы Даниила отозвали, и поздней осенью 44-го его отпустили с фронта с направлением в Москву в Музей связи. Много позже мы с Даниилом говорили о том, как он прошел через все тяжелое и страшное время на войне: похоронную команду, подтаскивание снарядов, подорвавшее ему больной позвоночник, наконец, полевой госпиталь сразу за линией передовой. Они выносили из боя раненых и убитых. А когда война заканчивалась и госпиталь поехал уже по Европе — был в Вене, в Будапеште, мы Даниила вытащили в Москву.
Я уже сказала, что это время почти отсутствует в памяти. Было только: нет ли письма, пришло письмо, вот заявление, куда-то надо идти… жив! жив! еще одно письмо пришло. Все женщины, пережившие войну, это прекрасно помнят. Родителям я наконец сказала, что с Сережей мы расходимся и я выхожу замуж за Даниила.
И вот я живу в запущенной комнате Даниила, приводя ее в порядок. Очень хорошо помню, как он вернулся. Рано утром в дверь позвонили. Я всегда знала его звонок. Ну, казалось бы, вскочила с постели, побежала, как есть, открыла… Ничего подобного. Я застыла. Села на диване и замерла, не в силах шевельнуться. Он поднялся по лестнице, вошел в дверь. Вид у него был ужасный. Нестроевой солдат — это жалкая картина: шинель, бывшая в употреблении, ни на что не похожая, обмотки и огромные жуткие башмаки. Единственное, что он в своей одежде любил, — это пилотку, во-первых, потому что считал ее изящной, во-вторых, она закрывала его такой высокий красивый лоб, которого он стеснялся. Так вошел этот солдат, и опять я не помню ни одного слова. Просто таким было начало нашей жизни вместе.
Эту жизнь надо было как-то устраивать. Музей связи — военный музей, и Даниил должен был работать в нем как профессиональный художник-оформитель, каковым не являлся. Он был хорошим шрифтовиком, любил и профессионально делал схематические карты, мог красиво, со вкусом сделать какие-то отдельные экспонаты, но этого было мало. Надо было что-то предпринимать. Была и еще одна причина, более важная. Перед отъездом на фронт, когда Даниил только ждал, что рано или поздно его возьмут, он закопал написанный от руки чернилами черновик романа «Странники ночи» в Валентиновке на участке дачи Софьи Александровны, тетки, сестры Филиппа Александровича. Вернувшись с фронта, Даниил выкопал рукопись и обнаружил, что чернила расплылись. Он сел за машинку, кстати, когда-то принадлежавшую Леониду Андрееву, и начал писать заново буквально с первых строк. Поэтому тоже необходимо было придумать, каким образом сделать, чтобы Даниил мог работать дома.
А у меня в молодости была смешная особенность: когда я очень хотела чего-то добиться — лучше если не для себя, а для другого — и это зависело от мужчины, я приезжала, просила и мою просьбу обязательно выполняли. Это свое свойство я знала, но почти никогда им не пользовалась. А тут воспользовалась. Принарядившись как могла, приехала в Музей связи и явилась к начальнику. Понятия не имею, что я ему щебетала, как доказала, что моему мужу надо работать дома, но доказала, и он «откомандировал», так сказать, Даниила домой, чтобы он там работал, а в музей являлся по определенным дням и привозил готовую работу. Таким образом, дома работала за него я. Правда, как раз шрифты я писала плохо, а делала работу художника-оформителя. Это были какие-то бесконечные диаграммы, схемы и что-то еще. Я все это придумывала, рисовала, наклеивала на планшеты, вообще вкладывала в работу весь свой уже довольно большой опыт. Даниил писал шрифты и отвозил работу в музей.
С этими поездками возникло еще одно смешное осложнение, когда понадобилась моя способность щебетать, глядя в лицо мужчине, и получать то, что надо.
Был уже конец войны, шла зима 44/45 года, близилась последняя военная весна. И многих молодых мужчин, мобилизованных по возрасту, на фронт уже не отправляли. Им давали безопасную, но очень нудную работу. Они патрулировали на улицах, особенно много их было в метро на всех выходах. Эти здоровые молодые парни должны были следить, не нарушает ли установленный порядок кто-то из военных. Штатские их не касались. Может быть, в подоплеке этого приказа лежало желание поймать переодетых шпионов, но превратилось все в совершенный фарс. Парни от скуки останавливали всех, кого хотели. Например, обращается такой патрульный к генералу или полковнику. Тот обязан остановиться, предъявить документы, и мальчишка нарочно медленно разглядывает их, долго сравнивает фотографию с лицом стоящего человека. Словом, развлекается.
С такими, как Даниил, дело обстояло иначе. Он, конечно, доставлял этим мальчишкам огромную радость. В качестве солдата выглядел он ужасно нелепо, настолько был штатским, так все военное абсолютно ему не шло. Я сейчас на своих выступлениях часто говорю, что те, кто любит Николая Гумилева — образец чудесного стройного белого офицера, были бы глубоко разочарованы, увидев Даниила Андреева в военной форме. Он был образцом того, в какое чучело можно превратить умного, талантливого, тонкого, красивого человека, одев его в то, что он не может носить по самой своей сути. Для мальчиков-патрульных Даниил был, конечно, желанной добычей. Они его останавливали чуть не каждый раз, когда он ехал домой из Музея связи, и отправляли на гауптвахту, еще хорошо если мыть пол, а не чистить туалеты. Обычно ему приходилось там ночевать. Один раз его задержали за зеленые камуфляжные пуговицы. Когда я заменила их на блестящие медные, его остановили уже потому, что на шинели пришиты медные пуговицы, а должны быть защитного цвета. В конце-концов это надоело и ему, и мне. И мы придумали забавную игру.
Из Музея связи Даниил звонил мне перед тем, как ехать домой. Я рассчитывала время, приезжала к метро «Кропоткинская», где тогда был один выход, и ждала его. Даниил выходил из вагона, и мы шли на расстоянии друг от друга, смешавшись с толпой, будто случайные прохожие. Я очень хорошо видела, как появлялся блеск в глазах у замучившегося от скуки патрульного, когда он замечал эту нелепую фигуру. Мы подходили достаточно близко, и парень уже готовился вцепиться в Даниила и придраться к каким-то нарушениям, которые всегда можно найти. И тут я подлетала к патрульному и, улыбаясь, начинала лепетать, расспрашивать, как выйти на Кропоткинскую, а еще мне нужен Гоголевский бульвар. Ну что ж, хорошенькая молодая женщина, нежно улыбаясь, спрашивает парня, и он начинает отвечать. А я продолжала: «Ах, пожалуйста, ах, спасибо! А еще, пожалуйста, объясните…» — и так занимала те минуты, за которые Даниил успевал благополучно проскочить мимо.
Чувство времени у Даниила было удивительным. Наручные часы тогда были редкостью, все ориентировались по настенным и уличным. В моем окружении они были только у папы. Я обращалась со временем довольно небрежно, но все полностью изменилось от одной тихой мягкой фразы Даниила. Он сказал, что женщинам, по его наблюдениям, свойственно не ладить со временем. Я тут же решила, что на меня эта женская особенность распространяться не будет, и стала работать над собой — учиться быть точной. Вскоре выяснилось, что это совершенно необходимо. Конечно, я вынуждена была выходить из дома — на работу, в магазин, к маме. Даня всегда спрашивал: когда вернешься? Я отвечала, называла время. Каков же был мой ужас, когда я увидела, что в названный мною час он выходит на улицу и стоит там под дождем, под снегом, на ветру пока я не приду. Тут уж станешь точной!
Вообще Даниил очень странно относился к себе. Как-то мы ехали на трамвае к моим родителям. Подъезжаем к Петровским воротам, я обращаюсь к нему с чем-то, а он отворачивается. Я ничего не понимаю, спрашиваю еще раз, думаю, может, не расслышал. Даниил опять отворачивается, еще более резко. Я замолкаю. Выходим у Петровских ворот, и тут я говорю:
— Что случилось? В чем дело?
И слышу невероятный ответ:
— Неужели тебе не понятно, что такая женщина, как ты, не может иметь в качестве спутника то, что я сейчас собою представляю.
Господи! Я онемела и, по-моему, полдороги от Петровских ворот до мамы изумленно молчала.
Ни центрального отопления, ни кухни в нашей квартире не было (вообще в прежней добровской квартире кухня была в подвале). Готовили на керосинке в комнате, чтобы еще и тепло было. Ну и кое-как топили. Мы с Даниилом топили печку, переделанную из голландки в шведку — это одновременно печка для отопления и плита. Она закрывалась медными дверцами, и там был еще бачок с краном для кипятка. Это было волшебное место, живой огонь. Как его не хватает в жизни! Печку следовало топить каждый день. Однажды нас с Даниилом весь день не было дома. Потом мы пришли, в комнате — холодно. Даниил принес дрова, мы стали растапливать, я накинула на плечи его шинель.
— Господи! Сейчас же сними! Сию минуту сними шинель! Я, конечно, сняла:
— А что такое?
— Никогда не бери шинель. Я достаточно нагляделся на фронте на женщин в шинелях. Ничего более страшного, более неестественного, чем шинель на женщине, не может быть! Умоляю тебя: чтобы я тебя в шинели больше не видал!
Конечно, в шинели он меня больше не видел. Такой была реакция рыцарственного мужчины, которому вид женщины в шинели казался оскорбительным, кощунственно недопустимым.
Я очень любила нашу комнату. Она была маленькая, четырнадцать или пятнадцать метров. В ней стояли большой письменный стол Даниила, за которым он работал, и мой маленький дамский письменный столик. Я не припомню, откуда он взялся, но вспоминаю его, как живое потерянное существо. Я так его любила! Над этим столиком висел образ Владимирской иконы Божией Матери — освященная фотография. Владимирская Матерь Божия — это любимая икона Даниила. Еще в комнате стояли большой диван, скорее матрац на ножках, на котором мы спали, маленький шкафчик, где помещались вся наша посуда и все продукты, да еще и место оставалось. У окна стояло большое кресло, и кругом, до потолка, книги. Еще там был вышитый ковер, закрывавший дверь в комнату, где при жизни стариков Добровых жили Коваленские, а потом поселились очень хорошие соседи. Они тоже прошли через тюрьмы и лагеря. На этой двери на нескольких гвоздях висел весь наш гардероб. Платяного шкафа не было, да он был бы пуст.
На письменном столе стояла фотография Гали, которую Даня так любил. Она стояла на его столе всегда. Когда мы стали жить вместе, Даниил попробовал ее убрать, но я раскричалась, потребовала вернуть фотографию на место. Я же любила Даниила со всей его жизнью, любила его ребенком, юношей, любила все, что с ним было, поэтому и не могла допустить, чтобы со стола исчез портрет женщины, так много значившей в его жизни. Он послушался меня и поставил фотографию обратно, а рядом мою, только не ту, какой я была в то время, и не ту шестнадцатилетнюю красотку — фотография Паоло Свищова, которая всем так нравится, а другую, где мне три года. На этой фотографии, которая при аресте пропала, детская мордашка с очень странным, каким-то задумчивым невеселым выражением глаз и волосенками, стоящими дыбом. Даниил ее любил. Для него было очень важно ее присутствие.
Такая у нас была комната. Верхнего света не было. Даниил его не любил. В разных местах зажигались лампы. Еще у Даниила была такая особенность: мы никогда не закрывали дверь. Уходили не запирая, оставляя горящую лампу. Он очень не любил приходить в темную комнату и уходя оставлял горящую лампу.
Так началась наша жизнь. Мы были очень бедны. К этому времени я уже стала членом МОСХа, но денег все равно не было. Поэтому мы не могли обвенчаться: не на что было купить кольца. Формально же все получилось легко. Мне не хотелось лишний раз травмировать Сережу, поэтому я просто взяла справку о его пребывании в психиатрической больнице и на этом основании явилась в суд одна и развелась. Расписались мы с Даниилом 4 ноября 1945 года. Важно, что мы были вместе, и, конечно, мы тогда думали, что вот еще немножко — и обвенчаемся. Обвенчались мы через двенадцать лет за девять месяцев до его смерти.
Порядок мне пришлось наводить не только в комнате, но и в нашей жизни. Телефоны тогда имели не все, и в интеллигентных семьях принято было приходить просто так, без предупреждения. Пришли, позвонили в дверь: «Здравствуйте, мы к вам…». А я понимала: тот, кто пришел, отнимет либо время, когда Даниил может работать, либо, когда мы можем быть вместе. Вот я и взялась за неблагодарное дело. Раздавался звонок, я шла открывать, в дверях оказывался кто-то из очень милых и любимых друзей Даниила, а я говорила:
— Простите, Даня занят.
— Он дома?
— Да. Он дома. Но он занят. Он работает.
— Ну и что?
— Да только то, что позвоните, сговоритесь с Даниилом, когда встретитесь. Дальше я терпеливо объясняла, что у него работа, он пишет роман по ночам, у него очень мало времени вечером. Договоритесь, в какой вечер вы придете, он будет рад вас видеть и я тоже. Друзья поначалу столбенели. В то время так себя вести совершенно не полагалось, а потом привыкли.
Мне хочется рассказать об одном вечере с Даниилом, потому что все слышали о «железном занавесе», но многие все-таки не представляют себе, что это такое. В добровском доме хранились альбомы с открытками, которые до революции друзья присылали из Венеции, Рима, Парижа, Дрездена. Так люди тогда поступали, так делают и сейчас. Но это невозможно было представить себе в советское время. Мы с Даниилом очень любили рассматривать эти альбомы. Обычно на открытках был пейзаж какого-то города и несколько строчек — поздравления с Пасхой, с Новым годом или просто: «Приехали в Рим, пробудем здесь столько-то…» и подпись. Как-то вечером, когда мы рассматривали все эти альбомы, я вдруг говорю:
— Знаешь, я понимаю, что это все есть, эти открытки присланы из реальных городов живыми людьми, которые в этих городах были, и эти города до сих пор стоят. В то же время у меня такое чувство, что всего этого нет. Вот мы тут с тобой сидим, есть Москва, есть Россия, а Венеции нет и Парижа тоже, и вообще это все только открытки, пришедшие не знаю откуда.
Тогда Даниил, смеясь, рассказал мне случай из своей фронтовой жизни. Было какое-то временное затишье, и все сидели в промокшей палатке. Кто-то заговорил о зарубежном мире, который, наверное, где-то есть, и спросил почему-то Даниила, видал ли он что-нибудь или тоже нигде не был. И Даня сказал мне:
— Не понимаю, что на меня нашло… Такая тоска по тому, что мы сейчас с тобой видим на открытках, что я стал врать. Сказал, что был в Венеции, и стал описывать Венецию: я был там, трогал камни, замшелые камни. Я описывал им запах каналов, темную стоячую воду. Не понимаю, что со мной случилось, я рассказывал про Венецию, в которой никогда не был, как если бы там был.
Надо сказать, что с Даниилом такое редко случалось. Он вообще плохо говорил. Был из тех, кто пишет, но из-за какой-то глубочайшей застенчивости не умеет говорить.
Мое намерение ввести в берега общение с друзьями ради Даниного творчества удалось. Но то, что возможно с друзьями, было очень трудно с Коваленскими. У меня сложно складывались с ними новые внутрисемейные отношения, вместо тех, дружеских, которые были прежде, ведь главным для меня теперь был Даниил. Когда был добровский дом, то принято было считать, что старики Добровы совершенно чудные, приветливые, что Даня, конечно, очень, очень приятный, симпатичный, но главное лицо в доме, величественное — это Александр Викторович Коваленский. А вот когда Добровы умерли, все оказалось не так. Дом кончился. К Коваленским приходили друзья, к Даниилу приходили друзья. Большей частью друзья были общие. Но именно того чудесного открытого дома, известного всей культурной Москве, больше не стало, когда ушли из жизни эти скромные, милые, просто державшиеся люди.
Александр Викторович был своеобразным и значительным человеком: очень умен, талантлив, одарен мистически. Он писал великолепные вещи, которые читал очень малому кругу людей, это было огромной честью, которую он оказывал. Все его произведения погибли после ареста. Он ничего не попытался восстановить, и пересказать их, хотя бы как роман Даниила, я не могу.
Рождение романа я пережила дважды. Первый раз, когда Даниил приходил к нам с Сережей с первой рукописью, второй — когда мы были вместе. Произведения же Александра Викторовича я только слышала и могу засвидетельствовать не только их значительность и глубину, но и одно странное качество: он как-то не умел их закончить, довести до настоящего, высокого конца.
Брак Коваленских был идеальным. Даниил просто благоговел перед ним. Коваленские обожали друг друга, и весь остальной мир для каждого из них был как бы в стороне и должен был преклоняться перед ними. Это не говорилось, но как-то само собой разумелось. А для меня также само собой разумелось, что ни я, ни Даниил не будем такими, какими им хотелось нас видеть. Я не стала брать на себя заботу о хозяйстве всей семьи, обо всех четверых. Я заботилась о Данииле и, кроме того, без единого грубого слова, без единой ссоры молча встала на защиту его творчества. Просто было ясно, что я понимаю, кто такой Даниил, и никому не позволю его унизить. Благодаря этому черная кошка, которая между нами пробежала, оказалась довольно большого размера, но все были людьми такого уровня, при котором никто ни разу не опустился до ссоры. Все происходило безмолвно, но чувствовалось противостояние, чувствовал его, конечно, и Даниил. Я же, войдя в семью, четко заняла позицию абсолютного неподчинения и просто обрубила подчиненность Даниила.
Лето 1945 года мы с Даниилом провели в деревне Филипповская, расположенной между Троицей и Дмитровом. Там жила милая подруга Даниила Таня Морозова, урожденная Оловянишникова, из семьи купцов Оловянишниковых. Они с Даней дружили с трех лет. Таня вышла замуж за человека из деревни Филипповская, родила двух дочек, муж ее умер. А она, оказавшись в деревне, жила очень тяжело. Мы с Даниилом уехали в эту деревню на лето. Туда же приехала Галя Русакова с мужем, тоже на лето. Мы очень хорошо провели там месяца полтора. Гуляли все вместе или вдвоем с Даниилом. Как раз тогда, 6 августа, американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Даниил это страшно переживал. Самым драгоценным в мире для него была культура, поэтому свершившийся ужас он воспринимал как возможное начало гибели мировой культуры. Я переживала иначе, больше по-женски, а он очень трагично и глубоко. Смешно и дико, что в ходе следствия именно Даниилу пытались приписать попытку подложить атомную бомбу под Красную площадь.
Мы много гуляли вдвоем. Вся деревня над нами смеялась, потому что не понятно, что за люди: грибов не собирают, вообще ничего не делают, а, как выражались деревенские, «хлыстают и хлыстают». Да, мы ходили, ходили по лесу, по дорогам. И слава Богу!
Это было уже лето 1945 года. Даниил был демобилизован и признан инвалидом войны второй группы по заболеванию нервной системы. Как-то он сказал, что с войны человек не может вернуться целым, он обязательно будет ранен или физически, или психически, или морально. Он тоже вернулся раненным этой войной, и очень глубоко. Недаром через много лет он начнет «Розу Мира» с тревожных мыслей о двух главных опасностях, грозящих человечеству: всемирной тирании и мировой войне.
Я радуюсь, мысленно возвращаясь в ту нашу дорогую незабываемую маленькую комнату. «Из маленькой комнаты» — так и назвал Даниил одну из глав своей книги «Русские боги». Радуюсь, вспоминая все мелкие и более серьезные события. Но все это — все, что я вспоминаю, и все, что пишу, конечно, это только рассказ о ювелирной оправе, рассказ о разных ее деталях. Драгоценный же камень, который окружает эта ювелирная оправа, он нерассказуем. Не только потому, что говорить о самом глубоком, что связывает двух любящих духовно и душевно, нецеломудренно. Такой рассказ попросту невозможен — у кого этот драгоценный камень был или есть, сам знает. У кого нет — не поймет.
Глава 17. СЧАСТЬЕ
Все знают, как начинает Толстой «Анну Каренину». Он говорит, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастливая несчастлива по-своему. По моему опыту, дело обстоит как раз наоборот. Я много встречала неудачных браков, несчастливых семей, и обычно все укладывалось в очень небольшое число схем. А что такое счастье — мне кажется, объяснить невозможно и рассказать трудно. Я пробую рассказать о своем, но вряд ли когда-нибудь у кого-то счастье походило на счастье другого человека. Очень важен рассказ Даниила о том, что произошло во время чтения акафиста преподобному Серафиму. Но об этом Даниил сам написал в «Розе Мира»: «В ноябре 1933 года я случайно — именно совершенно случайно — зашел в одну церковку во Власьевском переулке. Там застал акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула теплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да еще в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил: душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая-то тайная дверь души, и слезы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищений назовут и в какой разряд отнесут происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъем в Небесную Россию, переживание Синклита ее просветленных, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным Кремлем. Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь — один из ярчайших светильников Русского Синклита, приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно епитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. В продолжение почти целого года, пока эту церковь не закрыли, я ходил каждый понедельник к акафистам преподобному Серафиму — и — удивительно! — переживал это состояние каждый раз, снова и снова, с неослабевающей силой».
Каждое счастье имеет свою освещенность. Я сознательно привела сейчас отрывок из «Розы Мира» о преподобном Серафиме, потому что именно это присутствие другого мира тут же, рядом, очень важно — больше всего важно для понимания личности Даниила и всего, с ним связанного. Как бы некое дуновение, как бы тонкий ветер «оттуда», пронизывающий всю реальную жизнь. Очень мало тех, кто это чувствовал, тем более, что сам Даниил почти молчал об этом тихом звоне, легком ветре. Яснее и лучше других слышала эту его особенность, пожалуй, Анечка Кемниц, а мне ничего и объяснять не надо было — именно это дуновение было основой наших отдельных путей, нашего общего пути и нашего счастья.
Жизнь Даниила вся шла в этом потоке. Моя, конечно, нет. Я как бы стояла на берегу могучей реки, прислушиваясь к ее течению. Нет большей радости на свете, чем близость этой реки, ощущение веяния иного ветра. Только ничего душевного, теплого, уютного в этом нет. Так жить очень трудно, для большей части женщин жизнь, доставшаяся мне, была бы непереносимой, как для меня было бы непереносимым то, что называется семейным благополучием.
Не надо думать, что мы все время пребывали на неких высотах духа. Ничуть. Шла нелегкая каждодневная жизнь, да и смешного было немало. Вот хоть бы такое: по продуктовым карточкам мы брали вместо сахара половину талонов на обожаемый мною американский горький шоколад, а на вторую половину — пастилу, совсем детскую слабость Даниила. Я утаскивала часть этих пастилок и прятала. С шоколадом я справлялась быстренько, а когда садились пить чай «без ничего», спрашивала, с поддельным удивлением: «Где твои пастилки?» Он огорченно отвечал: «Все съел». Я протестовала: «Не может быть, ты неаккуратно положил их и просто не нашел. Попробуй посмотреть там», — и называла одну из заначек. Надо было видеть совершенно ребячью радость от такого неожиданного удовольствия. А оно повторялось: я постепенно раскрывала пастилочные тайники.
Даниил вообще любил смешное и легко находил, над чем посмеяться. Любил поддразнивать друзей, Я, конечно, не была исключением и охотно ему подыгрывала.
Я постоянно натыкалась на всю мебель, стоявшую по пути, что было естественно в маленьких заставленных комнатах. А Даниил дразнил: прожила всю жизнь в советских коммуналках, а двигаешься, как будто выросла во дворце!
Таких худеньких и бледных девушек, какой я была, особенно после войны, чуть ли не с XIX века было принято сравнивать с анемонами — это очень нежные цветы, — вкладывая в это сравнение некое почтительное восхищение. Сколько же было веселья, когда Даниил вычитал где-то, что в России тоже цветут анемоны: бело-зеленоватые весенние цветы, но по-русски они называются дряквы. «Вот тебе еще одно прозвище, моя милая, нежно-весенняя дряква!»
Как же мы жили? Днем Даниил делал, что мог, для Музея связи, я тоже. Ночью он писал роман «Странники ночи». Короткие вечера мы проводили обычно вдвоем. Даниил читал вслух, я вышивала. Это называлось «мы читаем». Как-то случайно я разыскала очень красивые разноцветные нитки — гарус, кусочек канвы и хорошие иголки. Даниил сказал, что все это принадлежало Бусеньке, Евфросинье Варфоломеевне. Он страшно обрадовался, когда я нашла эти нитки, канву и начала вышивать. Я вышила сумочку, потому что ее у меня не было. Удивительными иногда бывают судьбы вещей. Все пропало, абсолютно все, а эта сумочка до сих пор цела. В ней много лет лежали тюремные письма Даниила. С ней меня арестовали, и все время заключения сумочка пролежала по каптеркам. И вот столько всего произошло, а сумочка лежит, та, которую я тогда вышивала, сидя у маленького письменного столика.
Даниил очень любил читать вслух, когда я вышивала. И говорил: «У меня такое чувство, что ты не теряешь времени, слушая меня, а занята делом, тем более что ты вообще не можешь сидеть без дела. Ты же совершенно не умеешь отдыхать. Ну я уже рад, когда ты вышиваешь и слушаешь. Уже хорошо».
Средоточием же нашей жизни, самым главным в ней было, конечно, его творчество. Он писал каждую ночь. Я ложилась, засыпала, а Даниил садился за письменный стол, за машинку и страницу за страницей, главу за главой воссоздавал свой роман. В романе помимо огромной глубины идей, мыслей, прекрасных образов, им созданных, совершенно удивительно была передана Москва, такая живая, реальная. Я, как могла, написала об этом, излагая содержание романа для третьего тома собрания сочинений, но, конечно, не могла написать хорошо. Для этого надо уметь писать так, как Даниил.
Каждый вечер он читал мне главу романа, написанную предыдущей ночью. И не просто читал, а мы вместе переживали каждую строчку.
Вот когда пригодилась моя странная способность к сопереживанию. Нередко Даниил обращался ко мне, рассказывал ситуацию, возникшую в романе, и спрашивал (чаще о женских персонажах, естественно): «Скажи, а как она двигается, какой тут может быть жест, как она говорит?» И я старалась проникнуться состоянием героини, стать на какой-то момент ею и догадаться, как она поведет себя. Так мы и жили вместе как бы в пространстве романа, и герои его окружали нас как живые. А может быть, они были ближе нам, чем живые.
Но иногда Даниил читал и другое: Мережковского о Толстом и Достоевском с глубоким интересом, о Лермонтове — с восторгом. Даниил прочел мне «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева. Кончил рассказ и воскликнул с негодованием: «Послушай, но ведь это же — апология терроризма! Да, конечно, вешают живых людей, но хоть бы раз сказал, что эти люди — убийцы!» Даниил считал лучшей вещью своего отца рассказ «Иуда Искариот», а я очень люблю драму «Тот, кто получает пощечины» о двух заблудившихся и не узнавших друг друга юных богах. У нас ставят этот спектакль плохо, вкладывая в него никому не нужный социальный смысл.
Читал «Преступление и наказание», которое очень любил, любил Соню Мармеладову, научил меня понимать Свидригайлова, которого как-то удивительно серьезно воспринимал, и возмущался Дуней Раскольниковой, которая этому интереснейшему, глубочайшему человеку предпочла «дурня Разумихина». Я тогда смеялась, но потом многое поняла. Тогда же он прочел мне «Бесов».
Как-то у нас с Даниилом вышел спор о Шекспире. Даниил его не любил, а я любила без памяти. Даниил возмущался:
— Ну что ты мне рассказываешь! Написано: «лес». Какой лес? «Комната во дворце»… Тоже мне: «комната во дворце»! Какая она?
— Тебе нужны такие ремарки, как у твоего отца! — кричала я. — «Налево дверь на террасу, направо дверь в другую комнату, прямо…»
— Да. Тогда я понимаю, что где происходит.
— А мне ничего этого не нужно, мне хватит леса! Потому что не в этом дело.
Самым же потрясающим было то, как Даниил читал мне Евангелие. Особенно о Воскресении Христовом и явлении Господа Марии Магдалине. Он читал так, что я до сих пор слышу его голос, а то, что произошло две тысячи лет тому назад, чувствую, как если бы невидимо присутствовала в Гефсиманском саду.
В той нашей комнатке кроме мебели, которую я перечисляла, был еще маленький круглый столик. За ним мы обедали. Другой был не нужен — нечего было на него ставить. И вот Сочельник 45-го.
Тот столик я накрыла белой скатертью. Что на нем стояло праздничного, не помню, вряд ли что-нибудь особенное. Зажгли большую голубую лампаду у иконы Матери Божией. Украсили маленькую елочку шариками и свечами. Я нарядилась. Даниил очень любил смотреть, как я наряжаюсь. Он садился с сигаретой в руках и говорил, что это похоже на то, как распускается цветок. Что происходило на самом деле? Да я просто снимала каждодневную блузку и надевала единственную праздничную — белую с широкими рукавами, а юбка была одна на все случаи жизни. Пыталась немножко причесаться, что мне никогда не удавалось. И это-то Даниил воспринимал, как распускающийся цветок! Вот я переоделась, причесалась, оглядываюсь и вижу — он сидит на диване с глазами, полными слез. Я, конечно, подбежала. А он говорит: «Не пугайся. Это от счастья».
Этот вечер — одно из самых счастливых воспоминаний моей жизни. Даниил вспомнил его в тюрьме и написал стихотворение «Сочельник»:
Речи смолкли в подъезде. Все ушли. Мы одни. Мы вдвоем. Мы живые созвездья Как в блаженное детство зажжем. Пахнет воском и бором. Белизна изразцов горяча, И над хвойным убором За свечой расцветает свеча. И от теплого тока Закачались, танцуя, шары — Там, на ветках, высоко, Вечной сказки цветы и миры. А на белую скатерть. На украшенный праздничный стол Смотрит Светлая Матерь И мерцает Ее ореол. Ей. Небесной Невесте — Две последних, прекрасных свечи: Да горят они вместе. Неразлучно и свято в ночи. Только вместе, о, вместе, В угасаньи и в том, что за ним… Божий знак в этой вести Нам, затерянным, горьким, двоим.Глава 18. УЛЫБКА ДЖОКОНДЫ
Наступил год, который, казалось бы, мог стать переломным в нашем с Данииилом материальном положении, а оно было отчаянным. Сначала я расскажу об одном приключении в МОСХе. Меня приняли туда в 42-м году, а в 45-м году всех нас, принятых три года тому назад, вызвали посмотреть, что мы за это время сделали. Я опять поступила наивно, как и с портретом брата. Для показа взяла свои эскизы к Гамлету, в них душа была вложена, да и Даниил любил эту мою работу. Ему вообще нравилось то, что я — художник. И вот я с открытой душой принесла на просмотр не то 11, не то 13 эскизов к «Гамлету». Получилось то же самое, что в 39-м с черным роялем. Комиссию возглавлял Соколов-Скаля. Он заявил: «Что это за советский художник, который без всякого заказа пишет эскизы к „Гамлету“, и почему к „Гамлету“? Что мог советский художник найти в „Гамлете“? Кроме того, замок серый, все черное, тусклое, атмосфера какая-то нежизнерадостная, ничего народного, никакого критического отношения к принцу датскому, да и вообще следует поставить вопрос о пребывании такого странного персонажа, как Алла Андреева (к тому времени я уже была Алла Андреева), в Союзе художников». Выручил художник Руцай, который когда-то учил меня писать натюрморты. Он заступился: «Но ведь человек-то явно талантливый. Хорошо, сейчас она написала к „Гамлету“, а через год напишет эскизы к чему-то другому. Все-таки нельзя же так вышвыривать людей». В общем меня каким-то образом оставили в МОСХе, было постановлено, что Соколов-Скаля возьмет надо мной шефство, будет воспитывать. Но «органы» потом распорядились иначе.
Я пыталась найти какую-то работу. Ничего из этого, конечно, не выходило. Есть такое распространенное мнение, его повторяют за границей до сих пор, что все члены МОСХа писали картины со всякими вождями, идеологически выдержанные, поэтому были богаты, а вот будущие диссиденты заказов не имели, они — настоящие художники, которые бились где-то в подполье. Все было совсем не так. Заказы имело очень малое число членов МОСХа. Я была членом Союза художников с 42-го года, но первый заказ получила в 74-м году.
А зарабатывать на жизнь было надо. И вот друг Даниила Витя Василенко договорился со своим знакомым, работавшим в Третьяковке; там тогда решили выпускать хорошие репродукции русской классики, печатая их в Лейпциге. Технология была такая: печаталась очень большая бледная фотография картины, служившая основой, а художник масляными красками делал по ней очень точную, но уже цветную копию картины, которую отвозили в Лейпциг.
Фамилия сотрудника Третьяковки была Житков. Мы ужасно нуждались в деньгах. Поэтому, когда я пришла в Третьяковку и Житков меня спросил: «Что Вы могли бы сделать?», я ответила: «Да все, что угодно».
Я имела в виду, что буду копировать, что угодно, лишь бы работать. А он воспринял мои слова совершенно иначе, рассмеялся и сказал:
— Мне Ваша самоуверенность мила. Хорошо. Делайте «У дверей Тамерлана» Верещагина.
О Боже! Дверь, изображенную Верещагиным, я думаю, все помнят и могут мне посочувствовать, но никто даже не подозревает, как трудно было копировать штаны двух стражей, широкие, сафьяновые, узорчатые. Я сидела над этой копией, по-моему, недели три. А Житков проходил мимо и посмеивался, но как-то доброжелательно. Видимо, все остальные художники от этой работы шарахались и правильно делали, потому что это было настоящее мучение. В конце концов я ее сделала и сделала хорошо. Тогда, так же ласково посмеиваясь, он дал мне следующую работу — «Март» Юона, которую я скопировала за пять дней.
Но мы были уже обречены. Шла зима 46/47 года. Вспоминая потом один эпизод, я поняла, что конец был уже предрешен. Однажды ко мне подошел молодой человек с фотоаппаратом и попросил разрешения сфотографировать. Я спросила: «А зачем?». Он назвал какой-то журнал, сказал, что ему нужен именно такой кадр: женщина с кистью в Третьяковке, копирующая картину. Мне было безразлично: «Да снимайте, если это вам нужно». А это, конечно, была уже подготовка к нашему аресту, потому что все строилось псевдосерьезно. То, что я сижу в Третьяковке с кистью в руках, тоже что-то должно было значить в обвинении.
У Даниила тоже появилась работа, благодаря чудесным людям, давним его друзьям. Муся, Мария Самойловна Калецкая, училась в той же гимназии, что и Даниил, кажется, на класс старше. Ее мужем был Сергей Николаевич Матвеев. Оба они, географы по профессии, несколько месяцев в году проводили то на Тянь-Шане, то на Алтае, словом, в горах. Смеясь, они говорили, что по полгода проводят не только вне советской власти, но и вообще без всякой власти. Мы всегда так радовались, когда они приезжали в Москву. Это были удивительной чистоты и ума люди, веселые, с каким-то чудным, прямо-таки музыкальным звучанием, какое бывает у людей, много времени живущих среди природы, особенно в горах. Но мне кажется, что, будь они другими людьми, то и с гор бы тоже приезжали не такими чистыми, глубокими и обаятельными. И вот эти друзья решили помочь Даниилу. Сергей Николаевич дал ему материалы, относящиеся к русским путешественникам. И Даниил написал маленькую книжечку — биографии нескольких русских исследователей горной Средней Азии. На ней стояли две фамилии, потому что с Даниилом никто не заключил бы договора. У издательства договор был с Сергеем Николаевичем, которого знали. Книжка понравилась, и следующий договор заключили с Даниилом.
Это должна была быть тоже маленькая книжка о русских путешественниках в Африке. Помню, как Даниил сияющий вернулся из Ленинской библиотеки, где читал нужные для работы материалы. Он нашел реку, названную в честь Гумилева. Николай Гумилев был любимым его поэтом и любимым образом поэта.
Сережу Матвеева мы погубили. Его арестовали по нашему делу. Оснований для ареста не было ровно никаких. Он получил срок и погиб от прободения язвы на каком-то этапе, кажется, его везли с лагпункта в больницу…. Эти чудесные лица я никогда не забуду. У Сережи были необыкновенные ярко-голубого цвета глаза, удивительной прямоты и чистоты…
А еще у них были друзья Авсюки — Григорий Александрович и Маргарита Ивановна, которую звали Гулей. По большим праздникам они приходили к Коваленским вчетвером и мы к ним присоединялись. Традиционно сначала они приходили именно к Добровым, а потом — к Коваленским. Григорий Александрович был специалистом по ледникам, потом он, насколько я знаю, участвовал в первых антарктических экспедициях. Даниил был прямо без ума от него, в полном восторге от всего облика этого человека. Для него это действительно был идеал — высокий, светлоглазый, смелый, в нем было все, что Даниил так ценил в мужчинах. Жена его — обаятельная и очень женственная. В связи с Григорием Александровичем помню смешную нашу с Даниилом стычку. Как-то все мы были у Коваленских, и наши друзья рассказывали о горах, эти рассказы можно было слушать бесконечно. Потом мы, естественно, вернулись к себе, Даниил взахлеб восторгался Григорием Александровичем, а я поддакивала: «Да, угу. Да, конечно». Даниил на меня набросился: «Почему ты так вяло отвечаешь?! Ты не в восторге от него, не так относишься к нему, как он того заслуживает». Я тогда сказала: «Слушай, а как тебе хочется, чтобы я относилась к другому мужчине?» Тут мы, конечно, оба принялись хохотать!
Серьезных же споров было два. Первый — в связи с Лизой Калитиной из «Дворянского гнезда». Даниил относился к ней с благоговением, а я фыркала, возмущалась: «Ну как это так?! Она же его любила, зачем пошла в монастырь?» Вот так мы спорили, спорили, и через много лет я поняла: прав был он.
А вот в чем он для меня до сих пор не прав, так это в отношении к картине Репина «Гоголь, сжигающий „Мертвые души“». Я даже не хочу долго об этом говорить. Каким образом он ухитрялся в этой картине видеть то, что видел, не знаю. Наверно, для этого надо быть не художником, а писателем, и притом такого масштаба, как Даниил.
Еще мы виделись с чудесным человеком, Даниным другом Витей Василенко. О нем я уже писала. Они дружили, по-моему, лет с двадцати. Витя был очень хорошим человеком, славным, ранимым, трогательным, к тому же прекрасным искусствоведом и поэтом. Его тоже арестовали по нашему делу. После освобождения Витя вернулся к преподаванию в МГУ. Он необычайно интересно соединял искусствоведение и фольклор. Я заслушивалась его рассказами о славянских языческих обрядах и образах. И мне очень жаль, что я этих рассказов не могу воспроизвести. Они с Даниилом читали друг другу свои стихи, и роман Даниил ему тоже читал. Именно Витя принес нам написанную на листке бумаги «Владимирскую Богоматерь» Волошина. Сейчас уже мало кто понимает, что это могло тогда означать и до какой степени русские люди были лишены доступа к собственной культуре. Бывали у нас и еще некоторые Данины друзья. Никогда не собиралось много народа, это в то время было невозможно, разве что на Новый год. Потому что если собиралось человек шесть, то ясно, что это антисоветская группа и кто-то из соседей мог донести. А в нашей квартире жила женщина, которая ордер на комнату получила в ГБ. Думаю, что не без ее участия произошло то, что случилось потом. Но дело было не только в ней. Это была сложно организованная акция.
У Даниила полностью отсутствовало чувство собственности. Насколько Сережа был ревнив, настолько Даниил лишен тени ревности, вероятно, из-за четкого сознания нашей неразделимости друг с другом. Ему нравилось, когда за мной кто-то ухаживал, кто-нибудь говорил обо мне хорошо. Ни тени не было на его лице, когда он сам мне об этом рассказывал или видел, как около меня кто-то начинает «подтаивать».
Вообще, несмотря на все трудности нашей жизни, в памяти у меня только свет, бесконечный свет и глубина. Это шло от нашей душевной близости — один начинает фразу, другой — кончает. Иногда я даже не могла вспомнить, кто из нас высказал какую-нибудь мысль, настолько мгновенно она подхватывалась другим. Все, что происходило в «Странниках ночи», разворачивалось около меня, происходило со мной, с самыми близкими людьми. Все, что я говорила, мгновенно подхватывалось Даниилом. Однажды я рассказала ему о давнем воспоминании, о том, как не могла заснуть, потому что одеялу холодно, и он включил эту сцену в роман, где об этом рассказывает очень сложный, скорее отрицательный, но значительный персонаж — некто Клементовский. Он поддерживает богоборческий замысел Адриана и рассказывает ему об этом детском воспоминании.
Вот так мы жили вдвоем с милыми, светлыми друзьями и героями романа «Странники ночи», которые даже сейчас стоят для меня рядом с Мусей, Сережей Матвеевым, Игнатом Желобовским и Мусенькой Летник, живыми друзьями, и я не ощущаю четкой границы между теми, кто жил рядом и приходил к нам, и теми, кто жил в этом романе.
Было у нас еще одно общее лето 1946 года. Мы поехали тогда в Задонск всей семьей: мама с папой, мы с Даниилом и мой младший брат Юра с молодой женой Маргаритой. Жили на окраине Задонска, где мама сняла чистые беленькие комнатки. Мама хозяйничала, готовила какие-то вкусные вещи. Папа, как всегда, добрый и немногословный, был центром притяжения для всех. Очень юная Маргарита и такой же мальчишка Юра ходили в каком-то растерянно-городском виде, она в красивом платье, в туфельках на высоченных каблуках и с красным зонтиком. А мы с Даниилом, как обычно — он в выцветшей гимнастерке, я в задрипанном сарафане, оба босые, с непокрытыми головами, — часами бродили по задонской степи. Солнце нам было только в радость, и чем больше, тем лучше. Все вместе мы ходили на Дон, очень любили купаться ночью. Дон был действительно тихий, во всяком случае в Задонске, в нем совсем не чувствовалось течение и изумительно отражались звезды. Мы входили в звездную воду.
Я ухитрилась покалечиться — засадить в ногу целую щепку. Папа ее вытащил, перевязал, но несколько дней я не могла ходить. Первую ночь от боли я не спала, и Даня читал мне вслух всю ночь. Потом они с папой, передавая меня с рук на руки через забор, выносили под тенистое дерево, и там произошла забавная сцена. Даниил рассказывал мне план продолжения «Странников ночи». Война должна была быть и в романе. Один из самых близких Даниилу героев поэт Олег Горбов — одна из проекций его самого — с фронта возвращается слепым. Боже, как я плакала. Как плакала! Пришел папа посидеть с нами под деревом, а я заливаюсь слезами, совершенно не могу остановиться. Папа, как всегда, сделал вид, что ничего не видит и не слышит. Вероятно, решил, что мы поссорились. Даниилу пришлось объяснять: «Александр Петрович, посмотрите на это „над вымыслом слезами обольюсь“. Я рассказал ей о судьбе одного из героев романа — и вот, пожалуйста, получите».
Я в своей жизни боялась трех вещей: тюрьмы, старости и слепоты. И получила все, чего боялась. Тюрьма оказалась огромным духовным и душевным богатством. Старость — прекрасным временем жизни. Пока еще не пойму, что хорошего в слепоте, придется еще ждать, вдумываться, стараться понять.
Возвращались мы назад в битком набитом товарном вагоне. Ведь прошел только год с небольшим после войны, и победившая страна была совершенно разгромлена. В памяти остался замечательный белый храм на холме, храм Тихона Задонского. Конечно, тогда он был закрыт, но сейчас, думаю, в нем давно уже идут службы. Около храма веселый базар, как всегда в русских небольших городках и не только русских (около Эль-Регистана в Самарканде тоже веселый базар). До горизонта расстилалась степь, и воздух над ней дрожал от зноя.
И еще воспоминание. В Задонске было довольно много детей, одинаково одетых, которые всегда держались вместе. Нас удивляло, что эти дети были очень приветливы, никогда не хулиганили, были ласковы с животными. Мы узнали, что они из детского дома для сирот военного времени, все потерявших. Отчего эти дети были такими хорошими, не знаю: страшное ли несчастье, которое они пережили, а может, так счастливо сложилась судьба, что нашлись воспитатели, которые отнеслись к ним как к родным. Мы были поражены поведением детей и вообще всем их душевным обликом. Для Даниила это была еще одна подсказка, подтверждавшая давнюю мечту, которая так и прошла через всю его жизнь и не осуществилась: основать школу для этически одаренных детей, где их будут не просто учить что-то читать и что-то делать, а воспитывать из них тех, кого в «Розе Мира» он называет «человеком облагороженного образа». Мне кажется, что та встреча с детьми еще больше укрепила его в этой мечте.
Наша судьба была уже решена. Даже странно, как, зная обо всем, что делается вокруг, мы совершенно не обращали внимания на многие вещи. Не думаю, правда, что что-нибудь нам помогло бы. То вдруг неизвестно почему к нам заявился какой-то человек и начал уговаривать обменять комнату на другую на углу Остоженки. То внизу в подвале, в бывшей кухне Добровых, начали стучать, скрести… говорили, что там делают сапожную мастерскую. Конечно, никакой мастерской не было. Просто в пол нашей комнаты вделывали подслушивающий аппарат. То пришел без всякого вызова телефонный мастер и объявил, что нам надо чинить телефон. Телефон у нас работал, чинить ничего не надо было, а вот глаза этого «мастера» и какой-то странный холод, пробежавший у меня по спине, я даже сейчас помню.
Через десять с лишним лет, вернувшись, мы пришли в эту квартиру повидаться с соседями, с которыми у нас были прекрасные отношения. Из соседнего маленького домика пришла в слезах просить прощения у Даниила очень милая женщина. Она просила прощения за то, что тогда, десять лет назад, видела, как на наружный подоконник нашей комнаты (мы жили на первом этаже) залез человек, он стоял там и что-то делал с форточкой. Она побоялась предупредить Даниила, и десять лет ее мучила совесть.
Вот таких реальных вещей мы не замечали. Но нереальное нечто я ощущала все время: кольцо гигантской змеи, которое медленно-медленно сжимается, сдавливает. Я все время жила, чувствуя присутствие этого змеиного кольца.
И еще странная вещь: очень часто по ночам я слышала звонок в дверь. Даниил сидел за машинкой, а я, засыпая, четко слышала звонок в дверь и замирала — открывать никто не шел, значит, опять послышалось. И когда звонок действительно раздался, я его узнала — это был тот самый звонок.
В это время произошло еще одно событие. Мы познакомились с одним поэтом, точнее поэтом и актером Вахтанговского театра. Человек он был интересный и как-то невероятно нужный Даниилу. Я могла только любоваться и радоваться, как они с полуслова понимали друг друга, как читали друг другу, как говорили, как совершенно, что называется, «нашли друг друга», словно два наконец встретившихся очень близких человека. Я не знаю, работал ли этот человек в ГБ или его просто вызвали, но он нас «сдал». И еще нас «сдала» моя школьная подруга. Тут, я думаю, ее вызвали. Вряд ли она пошла бы сама, но если вызвали, пригрозили, напугали, она, конечно, рассказала о романе «Странники ночи», о моих антисоветских воззрениях. Я не могу не простить их, хотя, когда вернулась из лагеря и однажды на улице увидала ее издали, у меня все как-то оборвалось внутри, не смогла подойти. Зла у меня нет ни на нее, ни на того человека, который был так дорог Даниилу каким-то своим духовным родством, как ни странно это звучит. Дело в том, что трагизм того времени невозможно разложить по полочкам, раскрасить черно-белыми красками. Это будет уже не та эпоха, не тот ужас, который так до сих пор и не понят до конца. И виноваты в этом люди, которые никак не хотят осознать всю немыслимую сложность трагедии России. Когда черные крылья распростерлись над страной, все сделалось черным и страшным. Поэтому люди, которые в других условиях никогда не совершили бы ничего плохого и подлого, в тех обстоятельствах — делали это.
А другие люди делали хорошее, потому что заставляли себя закрывать на все глаза и не воспринимать плохого. Таким был мой отец. Он был удивительным человеком, я другого такого просто не встречала в жизни. И не только я это понимала, а все, кто с ним общался, хотя в доме родителей никто никогда и не бывал, кроме родной сестры мамы и двух школьных приятелей отца. Но как он мог себя проявлять вот таким прекрасным человеком? Единственным образом: не видеть того, что делала советская власть. Просто смотреть и не видеть. Он не был членом партии, никогда и не собирался в нее вступать, но он был из тех людей, которые могли быть только честными. Если бы он позволил себе полностью все понять, тогда пришлось бы или вообще не жить, или становиться таким, как мы, что тогда называлось быть антисоветчиком.
Объяснить простыми словами то, что происходило, невозможно. Я помню, как с одной женщиной, честной и милой, мы заговорили о человеке, арестованном за то, что он «что-то сказал». И она совершенно искренно спросила: «Но ведь, может быть, он и правда что-то сказал?» Если человек серьезно думает, что можно арестовывать за какие-то сказанные слова, то чего еще надо?
Итак, мы приближались к концу. Когда Даниил написал книгу о русских путешественниках в Африке, она уже была в гранках и должна была скоро выйти, ему неожиданно предложили по телефону полететь в Харьков и прочесть лекцию по материалам этой книги. Даниил очень удивился, но почему бы и нет? Ему сказали: «Знаете, такая интересная тема, такая хорошая книга, мы предлагаем вам прочесть об этом в Харькове лекцию». Мы опять ничего не поняли. Даниил отправился 21 апреля 1947 года в эту командировку в костюме моего папы, потому что его собственный годился только для очень близких друзей, но не для официальной лекции.
Очень рано утром к нашему дому подъехала машина. Я вышла проводить Даниила. Он сел в машину, и она тронулась по переулку. Когда машина отъезжала, Даниил обернулся и посмотрел еще раз на меня через заднее стекло. И только тут меня кольнуло: точно так же один из героев романа «Странники ночи» Леонид Федорович Глинский обернулся, чтобы еще раз взглянуть на сестру, которая стояла у двери, провожая его. Глинского везли в тюрьму на Лубянку.
Даниила взяли по дороге. Мне прислали фальшивую телеграмму из Харькова. Она меня удивила, потому что была какая-то странная по стилю. Ну я удивилась — только и всего. Тот поэт, о котором я говорила, взял у нас роман Даниила, чтобы прочесть, и позвонил очень взволнованный:
— Как Даниил Леонидович?
Я отвечаю:
— Да все в порядке. Телеграмма из Харькова пришла. Он очень обрадовался, может, в ту минуту подумал, что все не так уж страшно. Он сказал, что хочет принести роман. Я возразила:
— Да не спешите, Даниил же вернется через два дня, тогда придете.
— Нет, нет, я принесу.
Он принес книгу, не вошел даже, а просто с порога отдал ее мне в руки. Книга была переплетена Даниилом.
Поздно вечером 23 апреля пришли за мной. Вошли трое. Капитан, возглавлявший визит, вел себя вполне корректно. Обыск был для него привычной и обыденной работой. Он длился четырнадцать часов. Всю нашу большую библиотеку перебирали по книжке: искали роман и стихи, о которых уже знали. В конце концов капитан сказал:
— Ну, сколько мы еще будем искать? Дайте рукопись.
Я подняла руку, взяла с полки «Странников ночи» и положила. Они бы не ушли без романа, но обыск продолжался бы не четырнадцать часов, а двадцать восемь.
В квартире никто не спал, и все время звонил папа. Всю ночь. Он, конечно, понял. Обычно мы перезванивались — просто услышать голос, узнать, что все в порядке. И тут папа позвонил поздно вечером. Трубку взял кто-то из них и казенным голосом ответил: «Ее нету». И так же он отвечал до утра. Все было ясно.
Меня из комнаты не выпускали. Один раз мне понадобилось в туалет, и меня провожал солдат. По дороге я сумела схватить свой тоненький дневничок. Даниил, как-то прочтя его, сказал смеясь: «Ну, знаешь, твой дневник ничуть не лучше „Странников“». Я это запомнила, ухитрилась его стащить и в туалете уничтожить.
Хотелось спать, просто ничего не чувствовать. Я не плакала, отвечала на какие-то вопросы. Когда обыск закончился и мы ждали машину, капитан оглядывал стены. Там висела работа, которую очень любил Даниил: букет белых роз на окне. Я писала ее, когда ждала его, — такой букет невесты.
— Это вы рисовали?
— Я.
Он кивнул на портрет Даниила:
— А это тоже вы нарисовали?
— Тоже я.
У нас в комнате висела еще очень большая коричневая репродукция «Джоконды» в необычной золотой парчовой раме. Капитан и на нее посмотрел:
— А себя тоже вы нарисовали?
Я сказала:
— Нет, это не я, и вообще это пятьсот лет тому назад нарисовано.
Я разговаривала с ним, но в то же время пыталась понять, где Даниил. В вазочке стояли цветы, я поставила, чтобы он их увидел, когда вернется из Харькова. Пыталась оставить ему кусок хлеба — поесть. Но одновременно я понимала, что и его уже взяли. Значит, я не останусь тут одна, я буду там же, где он…
Когда мы вышли в переднюю, в квартире стояла тишина. Меня провожала одна соседка. Муж ее отсидел, вернулся, и она сама тоже, так что уж кому бояться, так это им, а именно она вынесла мне кусок черного хлеба и несколько кусочков сахара: «Вам это пригодится». Я ее поблагодарила и сказала в ответ: «Вот, Анна Сергеевна, мои керосиновые талоны, возьмите их». Ведь не пропадать же талонам.
За мной подъехала легковая машина — не «воронок», а бежевого цвета. И меня повезли на Лубянку в новом очень красивом пальто, которое я успела поносить дня два. Мне его сшила мама. Книги, письма они увезли отдельно.
На Лубянке меня сразу повели вниз, в подвал, и я решила, что ведут пытать и расстреливать. Вот тут кончилось мое ошеломленное спокойствие, конечно, совершенно ненормальное, и я разрыдалась. А конвоиры смеялись. Они, видимо, привыкли к таким реакциям тех, кого тащат в подвал, тащили-то не пытать и расстреливать, как обычно ждали все арестованные, а просто брать отпечатки пальцев. Я была совершенно сломлена и заливалась слезами, плакала навзрыд. Я была убеждена, что Даниил уже расстрелян. И с того дня плакала несколько месяцев. Не сознательно, просто все время текли слезы. Говорили, что я и во сне плакала. Когда на первом допросе следователь о чем-то меня спросил, я перекрестилась, считая, что с Даней уже все кончено и еще немного и со мной тоже будет все. Только бы не очень долго пытали.
Так началась эта наша дорога: тринадцать месяцев следствия на Лубянке, а потом полгода — в Лефортово.
Глава 19. КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Но Даниил был жив. Начался наш путь по тюрьмам и лагерям.
Первым этапом на нем была Лубянка. Крепость Лубянка находится в самом центре Москвы, и четыре ее громадных здания образуют квадрат, заполненный внутренней тюрьмой. Я находилась в старом здании, вероятно, в том самом, что возвышается над Лубянской площадью. По-видимому, кабинеты следователей выходили на улицу, а камеры — куда-то во внутренний двор. Сами мы никогда не знали, куда смотрит окно нашей камеры. То, что здание старое, было очевидно по высоте потолков и по форме высокого окна. Снаружи это окно закрывалось так называемым «намордником». Это большой металлический щит, который внизу вплотную подходит к окну, а сверху чуть-чуть отстоит от него, так что в камеру проникает очень мало света. Теперь эти «намордники» заменены на жалюзи. Я их видала во Владимирской тюрьме.
О тюрьме и следствии, о следователях и допросах уже очень много написано. Мне хотелось бы не пересказывать, что и как было, а попытаться вдуматься в суть происходившего… Обычно пишут о том, как били и пытали. А это было вовсе не обязательно. Меня вот не били. Думаю, не били потому, что скоро следователь понял: со мной можно справиться совсем иначе и гораздо успешнее. Там работали профессионалы. Сейчас любят повторять, что всяким делом должны заниматься профессионалы. Профессионализм, конечно, нужен, но важно, чтобы он был направлен на добро. Во всяком случае, направленный на зло, он лишь многократно усиливает это зло. Уж лучше бы они были плохими профессионалами.
Мой следователь на Лубянке, безусловно, был профессионалом хорошим. Когда меня впервые привели на допрос, я думала, что Даниила уже нет в живых и сегодня-завтра все будет кончено. Меня спросили:
— Вы знаете настроения вашего мужа? Вам известно, как он относится к советской власти? Я отвечала:
— Да, да, все, что он думает, я тоже думаю! Все, что с ним будет, пусть со мной будет!
Я считаю, что очень виновата в связи с этим следствием. Правда, когда я потом подписывала «статью 206», то есть знакомилась со всеми протоколами в конце следствия, то не видела особой разницы между показаниями моими и всех остальных.
Основных причин этому я вижу две. Страх, который пронизывал всю нашу жизнь и заранее подтачивал волю к сопротивлению, причем именно сопротивлению «органам». И потом, мы никогда не были политическими деятелями. Позже я читала статьи диссидентов с очень дельными советами относительно того, как себя вести на допросе, где рассказывалось, что КГБ может, а чего нет. Но диссиденты уже понимали, что они — оппозиция, что они — враги, что они борются. Кроме того, в 70-е годы они знали, что за ними Би-Би-Си, «Голос Америки», «Немецкая волна», права человека и вообще Запад, а также родные и друзья.
В наши годы брали навек. Арест означал мрак, безмолвие и муку, а мысль о близких только удесятеряла отчаяние.
Мне прочитали список людей, которые предположительно будут арестованы за связь с нами. В нем числилась, например, женщина, которая иногда приходила к нам помочь по хозяйству. Там был сапожник, которому я что-то отдавала чинить. Наконец, няня Даниила, няня, которая спасла его маленького, вытащила из проруби. Она однажды зашла к нам, узнав, что Даниил женился, хотела посмотреть на «Данечкину жену». В ту пору ей было лет шестьдесят. Список оказался огромным. В нем значился буквально каждый, кто в наш дом входил и кто нам звонил.
— Но это же люди, которые просто зашли, что-то спросили, принесли?!
— Алла Александровна, — отвечал мне следователь, — рассказывайте, пожалуйста, правду, чтобы мы не взяли тех, кого не надо.
И я пришла в такой ужас при мысли, что вот так загребут и того сапожника, и женщину, имя которой я даже не могу вспомнить, и маму, и папу, и брата, и всех Даниных знакомых, не слышавших и строчки романа, что принялась говорить «правду».
Конечно, мне надо было меньше говорить. Все, что происходило, — следствие полной нашей неподготовленности. Хотя мы и были всей душой против советской власти, но реально никогда ничего не делали, не планировали никакого убийства Сталина, которое нам потом приписали, не собирались свергать правительство, которое считали несвергаемым. В то же время при всей своей слабости и беззащитности мы были духовным противостоянием эпохе. Таких, как мы, были десятки миллионов. И страх этих людей перед теми, кто сидел в Кремле, равнялся мистическому подсознательному страху кремлевских обитателей перед нами. Ведь мания преследования, которой страдал Сталин, зафиксирована документально. А боялся он правильно. И безумное число людей, арестованных, убитых, замученных, объясняется в том числе и этим страхом. Действовало здесь, конечно, и то, что описано в «Розе Мира» и «Русских богах», то, что обычно в расчет не принимается. В истории бывают моменты разгула черных нечеловеческих сил. То, что происходило в гражданскую войну между красными и белыми, человеческими понятиями объяснить невозможно, как и то, что творится во время любой войны. Начинают действовать страшные иррациональные силы. Но и охраняющие, светлые силы не бездействуют ни одного мгновения. Когда мне говорят, что мы бессильны, я отвечаю, умерли те, кто владел всей властью, деньгами и силой, а мы — нищие, больные и голодные — живы.
Попробую описать, как шло следствие по нашему делу на Лубянке. Следователь звал меня по имени-отчеству, читал мне стихи. Он говорил:
— Алла Александровна, пожалуйста, расскажите, как такие люди, как вы, как те, другие, кто сейчас арестован, вы, русские люди, смогли дойти до такой вражды к строю своей страны, к тому, как живет наша Родина. Мы же хотим понять, что думает интеллигенция, мы хотим быть вместе с вами, но от нас все шарахаются. Нам никто ничего не рассказывает.
Я, дура, рассказывала. Больше года. И еще вот что важно. Я не могла забыть, что передо мной сидит и ведет допрос такой же русский человек, как я. Это мое чувство использовали, как ловушку. И все же даже теперь, поняв, какую недопустимую ошибку совершила, я не могу полностью отделить «нас» от «них». Мы — разные части одной огромной национальной трагедии России.
И вот так я совершенно открыто и подробно объясняла следователю, что, собственно, я и не только я, но и другие имели против советской власти, коммунизма, того, что сделали с Россией.
Мне говорили:
— Ах, вот оно что! Как интересно! С нами ведь никто так не говорит. Потому нам так необычайно важно во всем этом разобраться. Нужно, чтобы мы друг друга поняли.
И я на все это попадалась. А потом меня спрашивали:
— Ну это ведь просто ваше мнение, это вы так считаете?
— Что вы, нет. — отвечала я. — Так считает каждый нормальный честный человек. Порядочный человек не может не считать, что советская власть — это зло, колхозы — гибель крестьянской России, то, что сделано с Церковью, — преступление. Преступление то, сколько людей убито в мирное время в ваших стенах.
— А, значит, не только вы так считаете?
— Конечно, не только я. Как же можно думать иначе?
Так постепенно меня подвели к тому, что я изложила свое мнение о Сталине, который сейчас все это преступление возглавляет. Возглавляет то, что уже с революции началось: уничтожение русской культуры, Церкви, русского дворянства, крестьянства, России. И думаю так не только я, но и все, кого я знаю. Если бы я отвечала, что так думаю только я, то это называлось бы статья 58/10 (антисоветская агитация), а поскольку я говорила, что так думают все порядочные люди, то для следователя здесь вырисовывалась уже статья 58/11 (антисоветская группа). Когда же дошло до Сталина, то и вовсе складывалось обвинение по статье 58/8, которое называлось «Подготовка террористического акта — убийства товарища Сталина». Следователь был очень спокоен, он записывал все, что я говорила: свои вопросы, мои ответы. Потом давал мне прочесть эти листки. Я читала, удивлялась и спрашивала:
— Ведь я же не так сказала. Вы иначе написали, чем я говорила.
А он отвечал:
— Алла Александровна, понимаете, есть, так сказать, бытовые формулировки. Я же обязан нашему разговору придать юридическую форму. Вот я это и делаю.
— Ах, вот как!
И я, вроде бы поняв, что он делает, подписывала каждый листок протокола.
За все время следствия мне устроили только одну очную ставку с Галиной Юрьевной Хандожевской, на которой я говорила:
— Да я же хотела Сталина табуреткой стукнуть, Галина Юрьевна, не вы, а я: вы же даже внимания не обратили на эти мои слова!
Это Сталина — табуреткой. Это наш «восьмой пункт». Через какое-то время следователь прочел мне, как и полагается, обвинение.
— Статья 58/10. Это агитация — вы же антисоветский человек. 58/11 — вы же не одна, вас много. 58/8 — террор…
— Это почему?
— А вот такая фраза — «я бы его табуреткой»?
— Да. Я сказала, что я бы его с удовольствием по башке табуреткой треснула за то, что он сделал с Россией!
— Так, Алла Александровна, ведь это же и есть подготовка террористического акта.
— Да будет вам, Михаил Федорович, какой террор? Где табуретка, а где Сталин?
— Да разберемся мы с этим. Вы поймите, существует юридическая форма. Вы так сказали. Я — следователь. Я записал. Я же не новеллу пишу и не роман. Пишу протокол допроса.
И он меня убедил. Я потом подписывала все эти листы протоколов, даже не читая.
Однажды меня привели на допрос почему-то днем, что бывало редко. Следователь стоит с газетой в руках:
— Как вам повезло-то: смертная казнь отменена.
А я думаю: ну а мы тут при чем? Какое к нам может иметь отношение смертная казнь? А к нам она имела прямое отношение. Прокурор был недоволен следствием. Хотя наш следователь был за это время повышен в звании, «вышки» для нас у него не получалось. Я помню прокурорский допрос, на котором было все то же самое, и фразу: «Вот ваши эти переулочки арбатские, да их можно брать прямо подряд, целыми домами…»
Как-то меня вызывают днем что-то подписывать. Подписала, спрашиваю:
— Все?
Следователь на меня смотрит странно и говорит:
— ПОКА все.
И нас увезли в Лефортово. Шло лето 1948 года. Причина была проста: как ни старались, но следствие, посвященное постраничному разбору романа, предъявление обвинений на основе диалогов литературных героев и стихотворений, стряпня из встреч, разговоров и недовольства не тянули на высшую меру наказания. А цель следствия была именно такова. Теперь я знаю, что нас перевели в Лефортово по личному приказу министра внутренних дел Абакумова.
Лефортово — это страшная тюрьма. Там следствие началось сначала и тянулось полгода.
Атмосфера здесь была уже совсем другая. Никто мне стихов не читал. Никто Аллой Александровной не называл. Мне не давали спать три недели. Наверное, это была разработанная врачами система: спать разрешали один час в сутки и одну ночь в неделю. И человек сходил с ума, но не до конца. Вероятно, так можно было и совсем потерять рассудок, но им надо было поддерживать подследственного в полубезумном состоянии. Меня вызывали на допрос каждую ночь. И вот никогда не забуду одного необыкновенно важного для меня эпизода. Однажды, не знаю по какой причине, меня отпустили несколько раньше, чем обычно.
Я иду в камеру счастливая. В голове у меня только одно: «Спать. Я сейчас целый час буду спать». И вот, когда я шла по переходу из следовательского корпуса в тюремный, по этим железным балконам, залитым ярким утренним солнцем, то вдруг поняла: если бы сейчас передо мной лежали два трупа самых любимых на земле людей — Даниила и папы, я бы переступила через них и пошла в камеру — спать! Я никогда этого не забуду. Это Ангел прикоснулся ко мне, и его неслышный голос, тот, что звучит в душе, сказал: «Запомни! Запомни! Ниже этого человек пасть не может, запомни и, когда будешь кого-то обвинять, вспомни об этом». И я запомнила, знаю, что это — одно из самых важных воспоминаний в моей жизни. Благодаря ему я редко осуждаю тех, кто не выдержал следствия.
К этому времени я уже сказала и даже высосала из пальца все, что можно. На ночных допросах я умоляла:
— Дайте белую бумагу, я подпишу. Напишите, что хотите, потому что я уже больше ничего не могу!
А когда возвращалась в камеру, то сон был не сном, а бредом. Я куда-то проваливалась, и следователь начинал пихать мне в рот куски человеческого мяса. А потом целый день без сна; все время смотрят в глазок, и нельзя даже прислониться. И снова ночь допроса.
Следователь постоянно допытывался, было ли у нас оружие, и наконец заявил:
— Вы же врете. У вас было оружие.
— Ну не было!
— Ваш муж дал показание: было оружие.
Думаю: «Боже, бедный Даня! Значит, у нас было оружие, а он от меня скрывал. Просто берег меня, не хотел, чтобы я знала».
— Так было оружие?
Отвечаю:
— Раз муж сказал, что было, значит, было…
— Где оно?
— Да я не знаю, я ж его не видела!
Тогда в нашей комнате устроили второй обыск. Простукиванием обнаружили в одной из стен замурованное окно. Представляю, с каким восторгом следователи раскидывали книги, чтобы до него добраться. Комната была угловая с двумя окнами, третье заложили за ненадобностью еще до Добровых, и никто о нем уже не помнил. Дом-то был еще «донаполеоновский». Разумеется, в замурованном окне ничего не нашли.
Потом я предположила, что, возможно, оружие хранилось в дровяном сарае, потому что муж туда ходил за дровами. Устроили обыск и там. Я была в ужасе, потому что представляла себе, как сейчас тяжело Даниилу, что он скрыл от меня, где оружие. Как он сейчас думает, что меня мучают напрасно. Лучше бы уж я знала и сказала, так было бы проще…
Под утро я уже начинала кричать все, что думала о следователе, о Сталине, о Ленине, о советской власти… Если бы у меня уже не было статьи 58/10, то ее вполне можно было получить. Как-то следователь сказал:
— Ну надо же! Доводишь вас до того, что вы орете и не соображаете, что говорите, но ведь ни разу не крикнули, где оружие спрятано!
Вот для чего он меня доводил. Как я уже сказала, мне не давали спать три недели. Видимо, я была в таком физическом состоянии, что, когда опускала босые ноги на цементный пол, то он казался теплым, значит, ноги были ледяными. Не знаю, подмешивали что-нибудь к еде и питью, возможно. Я потом сообразила странную вещь: за девятнадцать месяцев следствия я только один раз попросилась в туалет. Это странно, ведь допросы шли целыми ночами. В туалет отвел меня конвоир. Он стоял у двери, и тогда я единственный раз за все девятнадцать месяцев увидела себя в зеркале. Хорошо помню это лицо, которое трудно назвать моим. Это была застывшая белая маска с огромными черными глазами. Глаза у меня совсем не огромные и голубые. А из зеркала на меня глядели в пол-лица черные, с разлившимися зрачками глаза. Тогда, по-видимому, у меня и началось что-то со зрением, то, что сейчас дало тяжелую глаукому и слепоту.
А началось так. Меня в очередной раз привели на допрос. Он проходил в большой комнате. У одной стены за письменным столом сидел следователь, у другой стоял стул для меня. Комнату заливал свет ярчайшей лампы, чтобы я не могла ни глаза закрыть, ни прислониться. И вот я вхожу в комнату, а там полумрак, как будто светит только настольная лампа. Растерянно поднимаю глаза — та огромная лампа горит. Я поняла, что с глазами что-то происходит. Это продолжалось недолго. Говорить об этом было некому и не за чем. Потом я знала, что, когда сильно волнуюсь, то на какое-то время у меня, как говорят, «темнеет в глазах». Тогда началась моя болезнь. В конце следствия мне еще спектакль устроили. Однажды я узнаю, что меня будет допрашивать министр.
— Ну, слава Богу, — говорю, — может, хоть он разберется что к чему.
На меня посмотрели очень странно. И вот в Лефортово приехал министр Абакумов. Меня ведут к нему, а по дороге к кабинету через каждые полтора метра стоит солдат. Вводят в комнату, там сидят мой следователь и начальник отдела, а с ними очень крупный вальяжный и полный восточный человек в черном костюме. Начинает меня допрашивать.
— У вас было оружие. Почему вы не говорите, где оно?
— Потому что не знаю. — отвечаю.
— Но у вас было оружие?
— Так если вы, министр, говорите, что у нас было оружие, значит, оно было. Но я его никогда не видела.
Мне, столько лет прожившей при советской власти, не пришло в голову, что министр может врать. Он подошел ко мне близко, посмотрел:
— Какая молодая… Как же вы во все это влипли?
В следующий раз я услышала про Абакумова уже в лагере. Там была такая Валя Чеховская, полька, чуточку чокнутая. Вдруг ее вызывают в Москву. Такое случалось: скажем, кого-то дополнительно арестовали по делу, и из лагеря привозят человека на очную ставку. Проходит некоторое время. Валя возвращается и рассказывает, что ее вызывали как свидетеля по делу Абакумова, чтобы она рассказала, что он над ней проделывал. «Абакумову, — говорит, — крышка, все, он арестован». Мы думаем: «Ну, совсем съехала. Сдвинулась». И тут приходят газеты — в лагерь они доставлялись с опозданием. Все правда: Абакумова арестовали. А после лагеря моя подруга, жившая с ним в одном доме в Колпачном переулке, рассказывала, как его выволакивали на улицу.
И Абакумова расстреляли. А мы — живы!
Всего следствие длилось девятнадцать месяцев: тринадцать на Лубянке и шесть — в Лефортове.
Лефортово — страшное, чудовищное место. Камеры маленькие, больше трех человек втиснуть туда было немыслимо. Серый цементный пол, коричневые стены и черный потолок, двери железные. В камере унитаз, рядом раковина — все черное. Высокие потолки, напротив двери — окошко. Моя койка была как раз под ним, но даже если я на нее вставала, то до окна не дотягивалась. Окна забраны «намордниками». Света попадает совсем чуть-чуть, и в камере круглые сутки горит голая лампочка.
Приезжающих в тюрьму встречали старый сад и дивный фасад здания екатерининского времени с большими колоннами, но таков только фасад. Тюрьма состоит из четырех сходящихся к центру корпусов. Этаж от этажа не отделен; только железные балконы вдоль камер, соединенные лестницей, а посредине натянуты сетки, чтобы нельзя было броситься вниз — покончить с собой. Регулировщик смотрит, кого ведут, следит, чтобы не встретились заключенные, и сигнализирует так: ключом по пряжке, причмокиванием и щелчками пальцев.
— Стоп. Лицом к стене. Иди.
Помню этот грохот шагов по железным балконам и страшные крики какого-то мужчины, которого тащили по лестницам. Что с ним было — не знаю.
Следователь меня не бил, он поступал проще. Те три недели, когда меня держали на допросах каждую ночь, пришлись на июль. Он открывал окно во двор, и я слышала звуки ударов и вопли мужчин. Этого хватало. Все женщины в тюрьме это слышали, и, конечно, каждой мерещился голос мужа, сына.
Хуже Лефортова считалась только «дача», расположенная в Суханове. Туда возили действительно пытать. Этим нам грозили: «Вы у нас еще „дачи“ не видели!»
Было в Лефортове еще нечто, что так и осталось для меня тайной. По субботам и воскресеньям включалось что-то, наполнявшее грохотом всю тюрьму. Это напоминало тысячекратно усиленный звук вентилятора. Каждый человек, побывавший в те годы в Лефортове, помнит этот звук. Мы все холодели, потому что знали: раз включили, значит, пытают, и включили, чтобы не было слышно воплей. Люди здравомыслящие объясняли мне потом, что рядом находился институт ЦАГИ и это грохотала аэродинамическая труба. Но почему, если это труба, ее включали именно по субботам и воскресеньям и то не каждую неделю?
Насколько глубоко вошел этот звук в сознание, выяснилось много позже на свободе. Первая мастерская, которую я получила, находилась в глубоком подвале. Там были две комнаты. Одна — моя, другая — мастерская моих друзей. Окошечко располагалось под потолком, и верхняя его часть как форточка выходила на тротуар. В эту форточку был вставлен вентилятор, который можно было включать, чтобы в помещение шел хоть какой-то воздух. И вот я никак не могла понять, что со мной там происходило. Прихожу, включаю свет, вентилятор, начинаю работать и не могу, просто все из рук валится. Иногда я не включала вентилятор и работала. И наконец поняла, в чем дело: звук вентилятора напоминал мне лефортовскую трубу. От него я и впадала в то состояние невменяемости.
Судило нас Особое совещание — ОСО, «тройка». Когда мне дали читать все тома с материалами следствия, оказалось, что по нашему делу проходило больше двадцати человек, которые за эти девятнадцать месяцев ни разу друг друга не видели, а иногда и не были знакомы друг с другом, и говорили каждый свое. Никакого настоящего суда быть, конечно, и не могло.
Уцелели мои родители, которые не читали и не знали произведений Даниила, уцелела и Галя Русакова, очень близкий и любимый Даниилом человек, хотя она роман читала. При этом были арестованы люди, имевшие к нам совершенно косвенное отношение.
Например, зубной врач Амалия Яковлевна Рабинович, издавна знавшая семью Добровых. Филипп Александрович лечил ее как терапевт, а она членов семьи Добровых как зубной врач. Жила она на Арбате, куда и выходило окно ее кабинета. Арбат в то время был правительственной трассой. Следствие пыталось доказать, что Даниил планировал стрелять из ее окна в проезжавшую правительственную машину. Нелепость ситуации заключалась в том, что у обвиняемого не было оружия и он не знал, когда будет проезжать ожидаемая машина.
Даниил как основной обвиняемый по делу получил 25 лет тюремного заключения. Я и несколько родных и друзей — по 25 лет лагерей строгого режима. Остальные — по 10 лет строгого режима.
Меня вызвали — нас вызывали поодиночке — и прочли приговор: 25 лет лагерей.
— Перечитайте, какие 25 лет?!
Я уже отсидела к тому времени достаточно, чтобы понять, что меньше 10 не дают. Но к 25 годам готова не была. Знаю, что встречалось три варианта реакции на приговор. Как у меня — недоумение; как у Александры Филипповны — сестры Даниила — я слышала, как она кричала, узнала ее голос. А от Даниила знаю, как он реагировал: рассмеялся, потому что подумал: «Они воображают, что продержатся 25 лет». Даниил был из тех людей, что слышат Божье время, а там коммунисты давно кончились.
25 лет — это была «вышка». Больше дать уже не могли. За год до этого нас бы расстреляли. Не успела я попасть в лагерь, как смертную казнь ввели снова. Мы проскочили в щелочку, прошли узким-преузким коридором. Это нас провела охранявшая Светлая рука. Потому что Даниил был нужен. Он еще не написал того, что должен был написать.
Глава 20. «НА ПОЛЯРНЫХ МОРЯХ И НА ЮЖНЫХ…»
Знаю, что слишком мало рассказала о тюрьме. Но, во-первых, обо всем этом уже рассказано не раз и, может, какие-то детали ничего нового не прибавят. Во-вторых, хотя со времени следствия прошло пятьдесят лет, я не в силах опять возвращаться в то время и переживать все заново. А потом, мне кажется, что не это важно. Гораздо важнее и интереснее другое: каким образом совершенно разломанный на куски человек вновь собирается, словно по частям, в человека целого, хотя и другого, чем был до катастрофы. Конечно, не сам человек собирается — Господь его собирает. Только Божья рука может поднять нас и вывести из всего этого ужаса, из того страшного, что было пережито в тюрьме. К этому общему для всех страшному у каждого прибавлялось и свое, личное.
Я, естественно, очень хотела иметь ребенка, иметь сына от любимого человека. Знала, как Даниил любит детей и как ему хочется иметь сына. Там, в Лефортове, я окончательно поняла, что разлучены мы очень надолго и никакого ребенка у нас уже не будет. А я чувствовала его у себя на руках: сидела на тюремной койке, держа на руках маленького, ощущала его ножки, ручки, видела, как шевелятся его пальчики, видела кругленькую головку, темные глазки. Он как бы рос у меня перед глазами, учился ходить, цепляясь за меня пальчиками, потом опять лежал у меня на руках, опять ходил. И это отнимало последние силы, которые еще оставались, чтобы бороться, противостоять.
Что же помогало душевно выжить, что противостояло общему и личному ужасу тюрьмы? Да, конечно, вера. Вера в Бога для тех, кто верил, а таких в московской тюрьме было мало. Но и про меня, верующую, не надо думать, что я молилась, читала правило, пытаясь соблюдать хоть какой-то ритм религиозной жизни. Ничего этого не было. Сколько я ни стараюсь вспомнить себя того времени последовательно — вспомнить не могу. Только отдельные моменты, образы, ситуации.
Помню один разговор со следователем. Его вопрос, конечно, в издевательском тоне:
— Вы верующая, наверное, молитесь, чтобы следователи были подобрее?
— Нет, ведь так молиться нельзя.
Он, уже удивленно:
— Почему?
— Потому что у Бога нельзя просить ничего конкретного. Я могу только просить, чтобы он меня и Даниила не оставил.
Но и этого я не просила словами. Пожалуй, правильнее всего сказать, что я без слов цеплялась, как цепляются за край одежды, как за тень, как за оклад иконы, с отчаянной бессловесной мольбой — неизвестно о чем. Мне кажется, еще можно сказать, что шла как бы внутренняя, скорее подсознательная, работа — подготовка души к принятию этого страшного пути, посланного Богом. Не испытания, не наказания — в наказующего Господа я не верю. Верю в посылающего то, что надо принять: иди, тебе поручено. Никакой логики, никакого рассуждения об этом не было. Боюсь, что этих качеств и вообще у меня нет. Что-то созидающее происходит внутри раздавленной личности, собирая ее заново.
И был еще какой-то чисто женский способ противостоять ужасу тюрьмы странными вещами, которые мужчин, вероятно, рассмешат. К примеру, мы завивались, уж не знаю, на какие лоскутки или бумажки и где только мы их находили. У нас их отнимали, а мы опять из чего-то драли клочья, но ходили причесанными, с локонами, а еще делали маникюр. Делалось это чрезвычайно просто: нужен был только кусочек белой стены. В Лефортове стены уже были выкрашены масляной краской, а на Лубянке просто побеленные. Так вот, когда ходишь по камере из угла в угол, надо ребром ладони соскрести со стены эту самую побелку. А потом ходишь взад-вперед, трешь ею ногти, и они начинают блестеть так, что никакого лака не надо. Следователи просто бесились от злости при виде нас с маникюром и прической.
А еще в Лефортове после чудовищных ночных допросов я вставала и делала зарядку, которой на воле никогда в жизни не делала. Это были какие-то отчаянные и чисто женские попытки продержаться и не сойти с ума. Каким образом локоны могут противостоять допросам — не знаю, но противостояли. На допросы я приходила с серо-зеленым лицом, огромными безумными глазами — но с локонами и ухоженными ногтями.
А вот как Господь собирает человека — не знаю, но собирает. И в лагерь я приехала совсем другой, чем та молодая женщина, что попала на Лубянку. Я не стала грубее, просто изменилась. Когда в камере кто-то из бывших уже в лагере сказал, что там все матерятся, я спокойно ответила, что никогда в жизни не скажу ни одного матерного слова. В ответ засмеялись:
— Вот посмотришь, как будешь в лагере материться! Я возразила:
— Ни в лагере, нигде, никогда ни единого слова не скажу.
И не сказала.
За время следствия я перевидала многих женщин. Были ли настоящие преступницы среди тех, с кем я там встретилась, спала на соседних койках? Да, двух преступниц я встретила. Одну из них звали Мария Александровна, она была родом из Крыма, говорила, что когда-то состояла в монархической организации. Она работала с немцами, выдавала им за деньги коммунистов и не только. Платили ей по тысяче рублей за каждого выданного коммуниста или еврея. Видно, в молодости она была очень красива и, наверное, вовсю этим пользовалась. Она несколько раз выходила замуж, жила с чекистами, жила с немцами, жила без чекистов и без немцев… Однажды она вернулась с допроса совершенно потрясенная. Произошло вот что: эксгумировали расстрелянных, сфотографировали трупы и следователь дал ей кипу фотографий со словами: «На, показывай своих, показывай, кого выдала». И она несколько часов сидела с этими фотографиями и указывала свои жертвы. Она получила тот же приговор, что и я, — 25 лет лагеря. Одинаково — она и я. Потом мы встретились на одном лагпункте в Мордовии.
Вторая преступница — очень молоденькая медсестра. Звали ее Анечка. Не знаю, в чем заключалось дело и за что ее арестовали. Но она рассказывала охотно и со смехом, как убивала в госпитале раненых немцев. Был у них такой прием (она так и говорила «у нас»): берется пустой шприц и под видом вливания в вену вводится воздух, за чем следуют тромб и смерть. Она, весело смеясь, рассказывала об этом. Не думаю, что ее арестовали за убийство раненых военнопленных. Видно, за что-то еще.
Потом встают перед глазами совсем другие облики. Венгерка Анна Вайнбергер. Она была женой еврея и, когда Будапешт оккупировали фашисты, пошла к немцам на какую-то канцелярскую работу. Таким образом она могла спасти мужа. Вот и все. На Лубянку ее привезли уже из лагеря, и я не знаю, что с ней произошло дальше. Она была чудесным и чистым человеком, уже очень тяжело больным.
Жика Кофман стала моей подругой, потом мы тоже встретились с ней в лагере. Две сестры — Жанна и Женевьева (Жика) родились во Франции, мать их — француженка, отец — еврей. Потом отец-коммунист уехал в Советский Союз, взяв с собой жену, а девочки остались у ее сестры, родной тетки, по-моему, в Лионе. Через какое-то время мать поехала за ними. Сестра очень не хотела отдавать девочек, любила их, как родных. И девочки тоже совершенно не хотели никуда ехать. Был суд, который присудил оставить детей тетке, их воспитавшей. Тогда мать подкупила кого-то там во Франции, получила фальшивое судебное решение, по которому дети присуждались ей, и привезла их в Москву. Девочки услышали однажды, как она рассказывала об этом своему мужу, их отцу. Поняли, что их обманом увезли из Франции, и спустя какое-то время уже молоденькими девушками решили бежать обратно к тете. Конечно, очень скоро они попали на Лубянку.
Помню еще одну женщину, она была домработницей, по-видимому, у очень интеллигентного человека, кажется, профессора. Она бестолково, путано, явно не понимая, что говорит, рассказывала о какой-то антисоветской организации, в которой состояли этот самый профессор и еще несколько человек. Она ровно ничего не понимала в том, о чем говорила.
Помню еще просто лица, облики людей, о которых я даже рассказать мало что могу. Возможно, они где-то когда-то что-нибудь «не так сказали». Больше ничего за ними не было.
Одна очень верующая старая женщина сидела за то, что принадлежала к Истинно Православной Церкви. Мои друзья сидели с представителями этой Церкви уже в 70-е годы. Я видала их и в лагере. Никакого другого преступления за той женщиной не было, кроме того, что она принадлежала к катакомбной Церкви, не признавала ни советскую власть, ни официальную Церковь. Не признавала — и все. Сначала она поддерживала со мной какие-то человеческие отношения, так как знала, что я верующая. В то время — единственная верующая в камере. А потом узнала, что мы с Даниилом не успели обвенчаться. Тогда она стала называть меня не иначе как «кобыла невенчанная» и отказывалась принимать любое угощение — я всю камеру угощала, когда получала передачи от мамы.
Шура Юй Нынхьян. Один из нескольких ее мужей был китаец. Вот из-за этой фамилии ее и арестовали.
Помню молодую привлекательную девушку, которая была любовницей, наверно одной из любовниц, очень крупного актера. Почему его арестовали — не знаю. А ее, как тогда выражались, «загребли» заодно. И таких было без числа.
В Лефортове я сидела довольно долго с дочерью наркома просвещения Бубнова Еленой. Она была замужем за сыном советского адмирала, если не путаю, Сулимова. Они были в компании молодежи, где кто-то сказал, что «вроде все как-то не так, вроде Ленин не таким предполагал развитие страны». А кто-то добавил: «Ну, что делать? Грузины живут долго». А еще сказал: «Ну, бывает, что и умирают». Все они получили террористическую статью за этот разговор на вечеринке.
Знаю одну женщину, которая сидела в то же самое время, на той же Лубянке, только мы с ней как-то не попали в одну камеру. Она училась в Институте иностранных языков на немецком факультете. После войны есть было нечего, все ходили голодные. И вот она нашла немца, которому стала преподавать русский язык. Преподавала месяц, а потом ее арестовали.
Такие истории можно рассказывать без конца. Еще раз повторю, что из всех, с кем я сидела в Лефортове и на Лубянке, преступницы мне встретились только две.
Конечно, я долго не могла опомниться после того, как узнала из материалов следствия о гибели всех произведений Даниила, писем Леонида Андреева и нашей фронтовой переписки. Я видела акт о сожжении и прочла протест Даниила против сожжения романа. Он просил оставить его до своего возвращения, в которое верил. Письма же Леонида Андреева просил передать в Литературный музей. Я тут же к этому приписала и свою такую же просьбу, но наше с ним мнение, естественно, никого не интересовало. Сейчас, в 1998 году, знакомясь с нашим делом в архиве ФСБ, я прочла, что роман является основным вещественным доказательством нашей преступной деятельности. А следовательно, он должен был быть приобщен к делу. Так горят рукописи или не горят?
Добровы относились, вероятно, к числу самых близких друзей Леонида Андреева. Перед ними он не позировал, а был самим собой. В доме собралась целая шкатулка его писем к Добровым, в том числе письма к маленькому Дане, очень смешные. О том, например, какая сыпь бывает у больных детей: красной лентой на машинке напечатаны в беспорядке запятые, точки, многоточия, тире, восклицательные знаки, все вместе составляющие некое пятно. Лежало в той же шкатулке письмо Леонида Николаевича о смерти матери Даниила, залитое слезами. Его последнее письмо, совершенно потрясающее, мы перечитывали несколько раз. Оно, видно, было кем-то привезено, потому что по почте такие письма уже не отправляли. Это письмо о революции, и я могу его сравнить только с последними дневниками Леонида Николаевича, написанными перед смертью, когда он понял все, что произошло с Россией.
К тому времени, когда я познакомилась с Добровыми, шкатулка пропала, ее не могли найти, и мне о ней только рассказывали. Потом началась война. После смерти стариков Добровых Коваленские переехали в большую комнату. Во время войны Москву наводнили крысы, которые по ночам умудрялись стучать лапами, как козлы копытами. Такая вот крысища попала в комнату к Коваленским, и Александр Викторович стал гоняться за нею с кочергой. Крыса — под рояль, и Коваленский — под рояль. Там-то, под роялем, он случайно поднял голову и увидел спрятанную между деревянными рейками шкатулку.
Лучше бы она там оставалась и дальше! Рояль, конечно, кто-то получил бы при конфискации, но, может, письма из этой шкатулки продали бы в Литературный музей… Но, естественно, Александра Филипповна их достала, и письма попали вместе с нами на Лубянку.
Закончился тюремный этап нашего пути.
Потом был так называемый «столыпинский вагон». Нас набили очень много в одно купе. Я увидела Анечку Кемниц, абсолютно беззлобно смотревшую на меня. С той же лаской, с тем же пониманием, что и прежде. Там была проходившая тоже по нашему делу жена одного из Даниных друзей Аленушка Лисицына — отдаленный прототип героини его «Лесной крови». С ней мы были какое-то время вместе, позже ее отправили в Магадан. Меня привезли в Потьму на 13-й лагпункт, очень маленький, пересыльный, где я пробыла недолго.
Я приехала туда, конечно, не вполне нормальной. Выражалось это отчасти в том, что я не могла понять, что из барака можно выходить на улицу. Сидела на нарах и ждала конвоира, разрешающего выйти. И потребовалось время, чтобы понять: тут ходят свободно.
Я не знаю, как мужчины начинают лагерный путь, а женщины почти сразу начинают петь и очень скоро танцевать, как ни странно это звучит. Буквально с первых дней лагеря мы пели, читали стихи, просто удивительно, до чего они оказались нужны. Вспоминали, кто что мог. Я, конечно, стихи Даниила, но не только. Кто-то вспоминал Пушкина и еще удивительно — «Капитанов» Гумилева. Для меня так и осталось загадкой, почему именно они оказались так нам нужны, нужнее хлеба. Мы по строчке вспоминали это стихотворение. Почему в этих промерзших бараках на сплошных нарах так необходимо было бормотать:
На полярных морях и на южных. По изгибам зеленых зыбей, Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей.Для чего нам так нужны были эти шелестящие паруса? Господи! Как же нас спасали «Капитаны»! Как это происходило, я так и не поняла, и кому ни пыталась рассказать — никто не понимал. Может быть, точнее всех сказал об этом один мой друг, очень хороший поэт: «Знаешь, может быть, в чем тут дело? В ритме». Может быть, ритмы гумилевских «Капитанов» помогают человеку жить. Возможно, он прав.
Новый 1949 год я встречала на 13-м лагпункте. Я вышла из барака, забралась куда-то на середину лагеря, где стояли деревья и была скамейка. Я сидела в 12 часов ночи на этой скамейке и отчаянно плакала. И это были мои последние слезы в лагере вплоть до самого освобождения. Не знаю, что я выплакала в ту ночь, не знаю, что произошло и как, но я поднялась без слез и, повторяю, больше до конца срока ни при каких обстоятельствах не плакала.
Когда вглядываешься в свою жизнь спустя полстолетия, как делаю я это сейчас, то понимаешь, насколько все было иррационально, как мало, собственно, делала я сама и как много делал для меня Кто-то Невидимый, Светлый, Любящий и Знающий, как знает, что делает, художник, композитор, поэт. Никакими собственными качествами я не могу объяснить, как я встала после всего, как подняла голову и шла потом по лагерю, веселая, стараясь не причинять зла и делать то, что в моих силах. Дело было не во мне. Это делал Тот, Кто был со мной, мой Ангел Хранитель, это была Его работа.
С пересылки всех отправляли очень быстро, работы там не было никакой. Меня сделали бригадиром. Это означало, что в пять часов утра я должна была ходить на хлеборезку, приносить хлеб в столовую и там раздавать, и также в обед я отвечала за то, что каждый получит свою миску баланды. И вот там тоже удивительный знак был мне послан. Пять часов утра в ноябре — это еще ночь. А надо сказать, что все действие романа «Странники ночи» разворачивается на протяжении нескольких ночей, отстоящих друг от друга во времени. Концовка романа такова: в небе загорается утренняя звезда. Так кончался роман — светом прекрасной звезды. И вот я чуть ли не в первый раз с деревянным подносом отправилась за хлебом. Совершеннейшая тьма, снег, холод. Я вышла и увидела прямо перед собой переливающуюся звезду. И это видение странным образом сплелось для меня с погибшим романом, с Даниилом, с которым мы уже двигались врозь, каждый своим путем, и с Россией. Объяснить этой последней связи я не умею. Но эта переливающаяся светлая звезда посреди страшной лагерной ночи как бы проникла своими лучами в мое сердце, как сияние России. И таким оно осталось.
Глава 21. ЗА СЕМЬЮ ЗАБОРАМИ
Жизнь в лагере на любом лагпункте одинакова, тупа и бессмысленна: подъем — поверка — развод — работа — поверка — отбой.
События — письма и посылки. Письма только от самых близких родных. Я получала их от мамы, сама же имела право писать два письма в год. Лагерная самодеятельность — особая тема.
Все эти годы вспоминаются, как цепь отдельных событий, человеческих обликов, иногда почти приключений. Так я и буду рассказывать о них.
Каждый лагпункт — а я могу говорить о двух: о 6-м и 1-м, потому что пробыла там достаточное количество лет, — был как бы Советским Союзом в миниатюре и по национальному составу, и по отношениям между людьми и с начальством, да и по всему. То, что происходило на обширном пространстве Советского Союза, в миниатюре существовало за забором лагеря.
Лагерный забор — это очень высокий, метров около трех, тын из стволов тонких деревьев, составленных вплотную друг к другу. От этого тына внутрь лагеря шли три полосы колючей проволоки, сквозь которую пропущен ток, от тына наружу тоже три полосы проволоки под током. Там, где натянута проволока, еще и земля раскопана и проборонена. Это называется «бровка». В стихах моего друга поэта Коли Брауна так и говорится: «Ты за мужем. Ну а я — за семью заборами».
Получалось семь заборов — шесть колючих проволок и один тын. По углам квадрата или прямоугольника, составлявшего лагерь, возвышались деревянные башенки с ведущей вверх лестницей. В них сидели вооруженные автоматами конвоиры. Такой конвоир назывался попкой, или вертухаем. Автоматы были направлены на тех, кто внутри лагеря. В моем случае на обоих лагпунктах находилось примерно по две тысячи женщин. На две тысячи безоружных женщин были постоянно направлены автоматы вертухаев, сидящих в этих скворешнях. Посреди лагпункта проходил еще забор, отделявший жилую зону с бараками от производственной, где на обоих лагпунктах размещались швейные фабрики.
На них, работая на машинках неописуемо устаревшего типа, девушки шили бушлаты и телогрейки. Рабочий день продолжался двенадцать часов. Распределялся он просто — смена с восьми утра до восьми вечера и с восьми вечера до восьми утра. В середине рабочего дня водили на обед. Я работала в производственной зоне недолго, уже ближе к концу срока. Меня поставили на самую легкую работу. Она называлась зачисткой. Надо было обрезать хвостики ниток у бушлатов. Норма — семьдесят бушлатов. Я не выполнила ее ни разу, хотя мне помогали, эта самая легкая работа мне оказалась не под силу. На фабрике шили в основном украинки, белоруски, латышки, литовки, эстонки, они составляли основную часть нашего населения. Поток русских к тому времени уже схлынул; иногда попадались совершенно экзотические фигуры. Например, у нас была бразильянка, не помню уже, откуда взявшаяся. Были кореянки. Две сестрички и два братика — дети лет пятнадцати, забрели куда-то не туда на корейско-советской границе. Их забрали, осудили как шпионов, и всех четверых разослали по разным лагпунктам. Кореянка Ли Юнок подружилась с латышкой, и они разговаривали друг с другом на незнакомом обеим русском языке, который таким образом учили. Через какое-то время я спросила Ли Юнок:
— Юночек, а какими мы тебе казались, когда ты нас в первый раз увидала?
Она ответила:
— Ну все на одно лицо. Я никого не могла отличить. Тебя, Аллочка, я стала отличать первую, только не по лицу, а на тебе была красная кофточка.
Так вот, как птенец видит красный клюв мамы-птички, Ли Юночек научилась отличать меня по красной кофточке.
Шили девушки очень хорошо. Через несколько лет к нам приехала какая-то комиссия, потрясенная выработкой 200 процентов и больше, чтобы позаимствовать опыт. Она чуть не упала, увидев те допотопные машинки. К ним давным-давно не было никаких запасных частей. Чинили машины и вытачивали запасные части такие же девочки, которые были и слесарями и вообще все умели.
Существовали еще зазонные работы. Это обычно был лесоповал. Туда посылали малосрочников. Малосрочник — тот, кто осужден на десять лет. Двадцатипятилетников за зону не выпускали, считалось, что это опасно. Вообще нам всегда говорили:
— Вы — не люди. Любые бандиты, убийцы, проститутки, воровки — люди, а вы — нет. И никакой другой жизни вы никогда не увидите.
С этим мы жили. И в ответ, подняв головы, пели и танцевали. Не знаю, наверное, каждая из нас думала по-своему. Слез, конечно, было много. Отчаяния тоже. Что же касается меня, то со мной произошло вот что: я надолго перестала думать о сроке. Я не могла не думать о Данииле, о родителях, о брате, и это, конечно, жило во мне открытой раной всегда. Но о сроке я не думала. Я каким-то образом убедила себя, что не будет у меня в жизни больше ничего, никогда, кроме этого забора. И оказалось, что с этим как раз и можно жить: ничего не ждать, ничего не хотеть, понять — вот горизонт, с четырех сторон забранный забором, и жить надо тут.
Повторяю, не могу последовательно рассказать о том, что было в лагере. Передо мной просто проходит цепь событий, впечатлений, поразительных сцен, переживаний. Ну что ж, начать, наверное, надо с того, что же я там делала.
На 13-м я пробыла совсем недолго: меня велено было перевести на большой 6-й лагпункт — там требовался художник.
К тому времени у меня началось рожистое воспаление ноги: она была багрового цвета, раза в четыре толще обычного, да еще температура поднялась под 40°. Лагерное начальство, тоже заинтересованное в художнике, пыталось оставить меня на 13-м под предлогом болезни. Но генерал приказал: «Кладите на носилки и везите!» И меня притащили на 6-й лагпункт, где я прожила года три.
Конечно, профессия меня спасла. Я работала в КВЧ (это культурно-воспитательная часть, которая культуры не имела и никого не воспитывала). Я без конца писала какую-то ерунду: бесконечные лозунги, призывы, не помню ни одной строчки из того, что делала.
Нам как «врагам народа» был запрещен красный цвет. Поэтому по всему лагерю стояли коричневые щиты с белыми буквами. У меня вдруг неизвестно откуда обнаружилась способность писать любую чепуху с необычайной быстротой, чуть ли не прямо от руки. Потом выпускались какие-то бестолковые стенгазеты, посвященные тому, что мы, дескать, перевыполнили норму и будем перевыполнять дальше. Еще я делала за зону все, что нужно было. Какие неожиданные вещи иногда случались! Ведь я обязана была делать все, что мне скажут. Например, пришел кто-то из начальников. Его сынишке в школе дали домашнее задание — написать большими цифрами таблицу умножения. Ну, конечно, не сынишке же писать! Ясно, начальник вечером пришел ко мне и приказал, чтобы к утру таблица была готова. Я села и написала. На следующий день разразился скандал, потому что начальник взял таблицу не глядя, а в школе учительница разглядела. Я там где-то среди ночи в полусне написала: 5×5=25, 5×6=26, 5×7=27. Конечно, это было воспринято, как выходка «врага народа». А выходки никакой не было, я просто падала от усталости.
Я скрывала свое умение писать копии, потому что иначе влипла бы на весь срок лагеря в писание «медведей на лесоповале». А о том, что я художник-живописец, было известно. Все знали, что папа присылает мне краски и кисти. Делалось это обычно так: приходил начальник, требовал, чтобы я сделала какую-то работу, а я отвечала:
— Гражданин начальник, красок нету.
— Ладно, пиши родителям письмо, я опущу.
Вот так помимо моих основных писем шли коротенькие записки, где хоть немного о себе ну и просьба: пришлите краски, кисти.
Особо забавных случаев у меня было два. Первый был на 6-м лагпункте. Дежурный офицер пришел и приказал:
— Андреева, напиши мой портрет, только чтобы я был верхом на лошади.
О Господи! Я писала его портрет, а позировал он мне, сидя в мастерской верхом на табуретке. Самое нелепое было то, что я же в лошадях и в сбруе ничего не понимала, не могла нарисовать даже уздечку. И гражданин начальник необычайно коряво рисовал мне, как это все на лошади должно выглядеть. На картине он сидел на великолепном, кажется, кауром коне, стоявшем на высоком краю оврага, за которым расстилался осенний лес. Уж лес-то я писала с удовольствием. Проблема была, как вытащить картину за зону, но это меня не касалось.
В связи с этим вспоминаю, что Анатолий Иванович Григорьев, хороший скульптор, на Воркуте по требованию одного из начальников вылепил его голову. Он сделал, наверное, эту голову в глине, а потом отлил в гипсе и сказал: «А дальше, гражданин начальник, за вахту несете вы». И вот целая группа заключенных с удовольствием наблюдала в окошко, как гражданин начальник, боязливо озираясь, бежит по зоне к вахте, неся под мышкой в мешке собственную голову.
Другой забавный случай произошел уже на 1-м лагпункте. Пришел начальник спецчасти и сказал:
— Андреева, напиши портрет моей жены и сыновей, вот только…
«Только» было вот что. Он принес фотографию женщины, совсем молоденькой, на которой женился, и мальчиков, которым, судя по фотографии, было по двенадцать — четырнадцать лет. Такими я их и написала на фоне светлой-светлой березовой рощи: сидит молодая женщина, а рядом с ней два мальчика, которые выглядят ее младшими братьями. И начальник, и жена остались очень довольны. Он не просто опустил в знак благодарности мое письмо. У него была командировка в Москву, он зашел к моим родителям и рассказал обо мне.
Когда оставалось время, то есть не оставалось — оно было оторвано от сна, отдыха, всего, чего угодно, — была самодеятельность, спасение наше.
Я делала декорации. Мой первый спектакль в лагере был «Урок дочкам» Крылова. Декорации я писала никуда не годной акварелью, отвратительными кисточками на старых газетах. Это было мое вступление в театральную жизнь. Ставил спектакль Виктор Фадеевич Шах, белорусский режиссер. Виделись мы очень мало. Заключенные мужчины жили в особом бараке, за зоной, но их иногда впускали для некоторых работ. Например, Шаха пустили поставить спектакль — это полагалось. Он был очень хороший человек. Встречались мы только на том спектакле, и потом еще какое-то время удавалось иногда перекинуться несколькими словами.
Поскольку в лагерь я прибыла с рожистым воспалением, мне разрешили написать открытку родителям с просьбой прислать лекарство. Так, первой весточкой, которую они получили, была открытка: «Пришлите пенициллин». Все равно это была радость, они увидели мой почерк, раз нужен пенициллин, значит — жива. Прислали пенициллин, и меня вылечили.
В эту первую лагерную зиму я написала крохотную картинку маслом — «Маскарад». Дело было не в маскараде, а в том, что в маскарадных костюмах я изобразила маму, папу, себя, Даниила, брата Юру и его жену Маргариту. И эту маленькую картинку Шах взял с собой, когда его освободили, — срок у него был небольшой. По почте он отправил ее родителям. У папы картинка всегда потом была на письменном столе. А чтобы лучше разглядеть, на ней лежало большое увеличительное стекло. Не знаю, где она сейчас. А мне Шах прислал в лагерь открытку: «Дорогая сестра! Родители живы… Картинку получили». Я навсегда с благодарностью запомнила этого человека — для меня картинка значила, что я не только жива, но могу рисовать и говорить родным, что все мы будем вместе, хотя сама я в это тогда не верила. Верила только, что мы просто вместе душевно, и четко знала, как знаю сейчас, что можно рисовать, изображать только светлое, только добро. Ничего другого никогда художник делать не должен. В мире столько зла и тьмы, что художник, какую бы трагедию он ни изображал, должен заканчивать ее светом, потому что так мы прибавляем Света в мироздании. Тогда я это делала совершенно инстинктивно. Жаль, что эта маленькая картинка пропала, потому что она много значила для родителей, а сейчас, наверное, много значила бы для меня.
Как же определить просто, что такое лагерь? Это смесь бессрочной солдатчины и крепостного права. Нам в Мордовии было не хуже всех. Существовали лагеря магаданские, колымские, которые были много страшнее, но суть везде и всегда оставалась та же: полное бесправие, полное подчинение тому, что с тобой захотят сделать, и полная невозможность изменить что-нибудь в своей судьбе.
Надзиратели попадались разные. Конечно, были отвратительные — везде есть плохие люди. Были просто делающие свое дело: один работает на заводе, другой — вагоновожатым, а этот — надзирателем. Встречались и хорошие люди.
Интересно, что как к солдатчине к лагерю относились и некоторые надзиратели, а к нам — как к солдатам. Я помню, как спрашивали: «А ты кем была на гражданке?»
Было у нас и самоубийство среди конвоиров. Один из них не выдержал и застрелился. Нам рассказывали, что его хоронили-то как собаку: просто зарыли. Это же было преступление! Возможно, он даже оставил какое-то объяснение своего самоубийства. Быть может, такое самоубийство Господь простит, потому что этот человек просто не мог делать того, что было приказано. Вообще трагедий в лагере хватало и среди заключенных, и среди вольных.
Мы были в полной крепостной зависимости иногда просто от блажи начальника. Вот захотелось кому-то художника с этого лагпункта перевести на другой. Неважно, какие у него тут связи, друзья. На это мы не имели права. Кого куда хотят, туда и перебросят. Я хочу рассказать об одном очень характерном случае.
В нашем лагере скопилось довольно много инвалидов — старых больных женщин, которые уже не могли работать на фабрике. По-моему, их собралось человек триста. Среди них была и Александра Филипповна Доброва-Коваленская, уже настолько больная, что была не в состоянии делать даже легкую работу. В Мордовии существовал специальный инвалидный лагпункт, куда таких людей свозили. А по пересылкам и другим лагерям собрали такое же количество молодых и здоровых женщин. Для простоты не стали увозить одних, а потом привозить других, а решили попросту менять одного человека на другого в воротах. Вот так: триста — выходят, триста — входят, а их считают. Дело было летом, жарища, наших больных пожилых женщин собрали, отсчитали, обыскали, оцепили, они, сидя на земле, посреди жилой зоны ждут обмена. А того этапа нет, почему-то задержался. Солнце палит… Конечно, у некоторых женщин начались обмороки и сердечные приступы. А мы ничем не могли им помочь, взять их в бараки, даже дать воды, потому что они уже от нас отсчитаны. Я более свободная, чем те, кто работал на фабрике, все время была около тех женщин. Не только я, конечно. В какой-то момент я не выдержала, ворвалась с криком в кабинет начальника, где сидели и тоже дожидались этапа несколько человек из начальства:
— Это же невозможно! Что вы делаете? Ведь там же люди падают! Они просто уже сознание теряют. Это же ужас что такое!
Среди них была вольная медсестра Мария. Никогда не забуду ее ответа:
— Андреева, а вы что до сих пор еще не поняли, что лагерь, вообще лагерь, — это ужас? Что вы с этим прибежали, когда ужас — все?
В конце концов тот этап прибыл. Одни входили в ворота, других тащили, почти падающих, из тех же ворот. Там, в воротах, встретились мать и дочь. Дочь вводили, а мать вытаскивали. Тут даже начальство проявило редкую человечность: мать оставили на несколько дней, чтобы они могли побыть вместе.
И еще у нас в лагере были мать и дочь. Они это скрывали и держались тише воды, ниже травы. Фамилия у них была украинская, что-то вроде Сергеенко. И такая же фамилия была у начальника всего Дубравлага.
И вот однажды мы узнаем, что этот генерал собирается посетить наш лагерь. Это редкое событие, все дрожат, нас выстраивают вдоль центральной дороги. На начальстве лица нет. И вот открываются ворота — идет генерал со свитой, а за ним все наше начальство. Генерал идет медленно, ни на кого не смотрит. А те две женщины, мать и дочь, стоят белые как скатерть, как стенка. Тот генерал был деверем матери — братом ее мужа. Это раскрылось очень скоро, и генерала сняли.
Много написано о немецких концлагерях, о чудовищных вещах, которые там делались, но те лагеря все-таки были краткосрочными. Они даже были рассчитаны на то, что человек скоро умрет, этого не выдержит. Советские лагеря делались навечно.
Недалеко от нашего 6-го лагпункта был 3-й мужской деревообделочный лагпункт. И там случился побег. Бежала бригада заключенных, которой руководил немецкий военнопленный, кажется, полковник. Они увели с собой то ли нескольких, то ли одного надзирателя, убили или взяли с собой — этого мы не узнали. Просто стало известно, что с ними пропал надзиратель. Бежали они с работы: бригаду вывели за зону и она в зону не вернулась. Это было как-то очень хитро сделано, говорили, что в зоне нашли прорытый под землей подкоп, а он оказался фальшивым, сделанным, чтобы на какое-то время отвлечь внимание лагерного начальства, направить поиски по ложному следу и таким образом выиграть время.
Мы были в ужасе, потому что знали об одном страшном обычае. Если беглецов ловят (а побеги были, конечно, большей частью неудачными), то на ближайшие лагпункты их обязательно привозят расстрелянными, изуродованными, с выколотыми глазами. Это не выдумки, это видели те, кто уже побывал в других лагерях. Некоторые из женщин отсидели с 37-го по 47-й год, и в 47-м году их забрали снова. Они уже знали порядки. Поэтому на очередную утреннюю поверку мы выходили со страхом и смотрели — нет, никого не ввозят. И еще одно было обязательным. Время от времени на такой утренней поверке нам зачитывали приказы следующего содержания: в таком-то лагере на таком-то лагпункте бежали заключенные (без фамилий), беглецы пойманы, приговорены к расстрелу, приговор приведен в исполнение. Мы знали, что по меньшей мере нас ждет чтение такого приказа. Но и приказа не было, он так и не прозвучал, из чего можно было сделать вывод, что побег оказался удачным.
Часть наших надзирателей забрали на поиски беглецов. Через несколько дней они вернулись черные, худющие, злые как собаки. Ну, конечно, сказали, что всех поймали. Но приказа-то не было. А наши девушки в бараках в течение всего этого времени непрерывно молились за беглецов. Это происходило так: каждый передавал чтение молитвы следующему, чтобы она не прерывалась ни на минуту. Никто из нас не знал беглецов, не знал, были это немцы, украинцы или русские. Просто они бежали, значит, за них надо молиться.
Вообще именно в лагере я увидела, что такое достойный экуменизм. У нас были православные, католички и протестантки. Пасха православная и Пасха католическая совпадают раз в четыре года. Рождество не совпадает никогда. Но все равно день праздника объявлялся рабочим, даже если это было воскресенье. Поступали просто. Скажем, наступает Рождество католичек и протестанток. Они остаются в бараке отмечать свой праздник. А православные молча, пятерками — надзирателю в воротах безразлично, кто идет, для него главное, сколько, — шли на фабрику работать за них, садились за машинки.
Потом приходит православный праздник. На работу выходят католички и протестантки, а православные остаются праздновать. Вот так и делали без обсуждения догматов, поиска общего языка, попыток вместе молиться, что нелепо, а просто давая друг другу возможность праздновать свой праздник.
А вот еще сцена. Производственная зона окружена тоже забором с вертухаями по углам. И вот как-то ночью девушки вышли из цеха — у них были очень короткие, на несколько минут перерывы в двенадцатичасовой смене. Кто-то из девушек вышел и услышал, что наверху в вертухайской будке конвоир тихонько поет украинскую песню. Очевидно, это был просто мобилизованный украинский парень, которого направили в войска НКВД. В будке ему было ко всему еще и скучно. Он сидел там с автоматом, направленным на женщин, шивших бушлаты, и тихонько пел. Украинки составляли тогда большую часть населения лагерей. Они стали по очереди выходить, садиться на ближайшую к будке скамеечку и подпевать конвоиру. И вот так всю ночь до рассвета, до конца смены они вместе пели украинские песни.
Глава 22. СЦЕНА У ФОНТАНА
В 1951 году меня перевели на 1-й лагпункт. Он был действительно первым, и мне потом рассказывали, что его основали в 29-м году. Туда привезли раскулаченных, то есть, попросту честных крестьян. Привезли зимой, выбросили в снег и сказали: «Устраивайтесь». В бараках, выстроенных ими, мы и жили. Перевели меня без всякой причины. Видимо, начальник выпросил у высшего руководства художника для себя. Вот и все. Переводили вообще по разным причинам. Иногда просто нужен был человек этой специальности. Кстати, я буквально на несколько дней разминулась с Ириной Львовной Карсавиной, дочкой философа Карсавина. По-моему, ее срок кончился в том же 51-м году.
Отличительной чертой 1-го лагпункта было то, что через него протекала речушка. В этой реке мы полоскали белье, иногда даже брали из нее воду, чего в общем-то делать не следовало, — вода была очень грязная. Потом там крестились какие-то сектанты.
К 50-м годам в основном население лагеря, как я уже упоминала, состояло из женщин с Западной Украины и Белоруссии, прибалтиек, полек и немок. Русских оставалось сравнительно мало — в большинстве своем их к тому времени уже погубили. Оставались такие люди, как я, то есть представители средней русской интеллигенции, четко антисоветски настроенной. Потом были у нас несгибаемые сталинистки. У большинства из них давным-давно расстреляли мужей. Надо еще раз сказать — все, кто попал в лагерь в 37-м году, в том числе эти, так называемые жены врагов народа, были автоматически арестованы в 47-м. И, несмотря ни на что, большинство из них оставались стойкими коммунистками. Невозможно было не видеть происходящего в стране, а они спокойно закрывали на все глаза и считали, что все, кроме них, сидят правильно, в том числе те четырнадцатилетние дети, которых арестовывали в Прибалтике или на Западной Украине.
Была еще одна забавная категория русских — проститутки. Это молодые женщины, которые во время войны спали с иностранцами, например, за нейлоновые чулки. Одну из них в новогоднюю ночь подобрал француз, накормил жареным гусем, она с ним в ту ночь переспала, и за это ее арестовали как шпионку. Так мы и говорили, что сидит она «за гуся». Всех их посадили «за шпионаж», хотя никакими шпионками они, разумеется, не были, просто разного сорта шлюшками и вполне советскими людьми. Многие из них становились по этой причине стукачками, искренне считая, что кругом враги. А они вот, бедные советские женщины, с голоду с кем-то переспали и теперь сидят. Конечно, это не прибавляло уважения к русским. Поэтому нам, немногим здравым русским женщинам, надо было очень серьезно работать, чтобы показать, что такое русский (не люблю слова «интеллигент»).
То, о чем я хочу теперь рассказать, относится не только к 1-му лагпункту, но и ко всей моей лагерной жизни буквально с первых дней. Одной из особенностей, поразивших меня с самого начала срока, была атмосфера всеобщей неприязни друг к другу. Живя в Москве, мы дружили с людьми самых разных национальностей, никогда не задаваясь вопросом, кто они по крови, разве что с этим было связано что-то особенно интересное. Тогда к этому интересному с вниманием и любовью прислушивались. Каких только подруг у меня не было! Латышки, еврейки, армянки, кто угодно.
В лагере же все ненавидели друг друга: эстонки — латышек и литовок, литовки — латышек и эстонок. Они говорили: «Ну, порядочные только литовцы (латыши, эстонцы), а эти — непорядочные». Украинки ненавидели полек, польки — украинок, литовки терпеть не могли опять же полек, те презирали литовок. И все они вместе ненавидели русских. При этом русские были для них то же, что советские, которые их истребляли. На своих коммунистов они как-то не обращали внимания.
Над иными издевалось лагерное начальство. Например, содержимое выгребной ямы за уборной увозили в бочках за зону. На 6-м лагпункте начальство (вероятно, ему это казалось остроумным) запрягало в эту бочку немок. И вот три немки вместо лошади возили ассенизационную бочку, а погоняла их, скажем, украинка. Кстати, потом приехавшие с Воркуты, рассказывали, что там в бочку запрягали бычка, названного Иоська нарочно, как Сталина. И этого ни в чем не повинного беднягу били палками просто из-за имени — Иоська.
Была одна лишь национальность, которая никогда никого не различала по национальному признаку — русские. За все годы лагеря я убедилась, что русские отличались скорее даже недопустимым не отсутствием ненависти к другим народам — это-то правильно, а, к сожалению, явным недостатком национальной солидарности. Все помогали своим, людям одной национальности. Русские помогали всем, кому плохо. Если пытались говорить: «Слушайте, надо помочь, вот русская женщина, ей очень плохо», ответ был простой: «Ну и что ж, что русская, а вот той еще хуже. Она латышка».
Я наблюдала это в течение всех лагерных лет. В то же время на каждом лагпункте, где я была — три года на 6-м и пять на 1-м, — всегда находились люди, которые, как и я, были возмущены этим явлением. И мы вместе начинали с ним бороться. Может показаться странным, но одним из методов нашей борьбы была самодеятельность, которую в данном случае правильнее назвать творчеством. Именно оно помогало угасить это зло. На каждом лагпункте сразу находились люди, желавшие участвовать в самодеятельности. Участвовать сверх работы, репетировать после двенадцатичасовой смены — ведь пели и танцевали те же девушки, что сидели за швейными машинками. Начальство этому не препятствовало: ему полагалось отчитываться в том, что в лагере имеется самодеятельность.
Скоро на 1-м лагпункте я сблизилась с украинкой из Львова Лесей. Это была умная милая женщина. Ей удалось получить от оставшейся на свободе тетки аккордеон. Он стал нашей опорой. Самый лучший способ объединить людей — хоровое пение и танцы. Нужно было уговорить украинок, чтобы они танцевали с литовками, латышками, эстонками их национальные танцы. Нужно было уговорить прибалтиек петь с украинками украинские песни. Русские-то легко включались в любой танец и любую песню. Так нам удалось вытащить молоденькую украинку из секты «свидетелей Иеговы» (выступления на сцене с сектантством несовместимы).
Интересно, что с женщинами всех национальностей можно было договориться индивидуально, кроме полек. Говорить с каждой из них в отдельности было бесполезно. На каждом лагпункте находилась незаметная очень пожилая женщина, которая незримо командовала польками. Всем известны солидарность и внутренняя организованность евреев. Но это ничто по сравнению с польской! Я уже знала потом, что нужно вычислить эту пани Зосю или пани Яну и идти к ней с уговорами: «Пани Зосенька, ну позвольте, пожалуйста, девочкам станцевать краковяк на сцене! Сделаем костюмы. Будут еще литовки и украинки, но нам так хочется польский танец показать!». Если я ее уговорю, все, как солдаты, являются на репетицию. Если она не согласна, то хоть умри, а ни одна полька не придет. Что было за плечами у этих женщин, мы не знали, не спрашивали.
Была у нас Дита Эльснер, немецкая балерина, которая ставила танцы. Была еще одна прекрасная балерина из Минска. Лида Кохно пела, пела и Валерия Джулай из Воркуты. Украинки пели почти все. Так что главное было — начать петь и танцевать вместе. Леся аккомпанировала всем одинаково — украинкам ничуть не лучше, чем эстонкам.
Костюмы делала в основном я, а мастерились они из тряпья, упаковочной марли, которую красили зеленкой, красным стрептоцидом, желтым акрихином, если удавалось, то какими-нибудь чернилами. Узоры рисовали красками или же налепляли цветные бумажки. Девочки мне помогали. Одним из способов как-то угасить страсти было то, что я делала костюмы сначала всем остальным, а потом уже себе. Русским наравне со всеми, но ни в коем случае не раньше, чем эстонкам, украинкам, белорускам. А себе — в последнюю очередь.
Все прекрасно знали, что на сцене я появлюсь с руками по локоть в краске, кого бы ни играла, — над костюмами-то работать приходилось до последней минуты. И сейчас помню, с какой любовью мы возились с этими тряпками.
Со спектаклями дело, конечно, обстояло сложнее, для них все-таки нужно было знать язык. С нами сидела Галина Николаевна Маковская, художница театра Радлова, жена режиссера Владимира Йогельсена. Она была настоящим профессионалом, а в лагере взялась и за режиссуру, ставила спектакли.
Потом появилась одна женщина, связанная с Малым театром. Расскажу немного о ней. Дворянка, девичья ее фамилия начиналась на «фон». Не знаю, что она делала в Малом театре, но майором ГБ была точно. Мы не знали, за что она попала в лагерь. Расспрашивать было не принято. В Москве ей поручили выследить «антисоветскую» группу, что она и сделала. Группа эта невероятно походила на описанную Даниилом в «Странниках ночи», что еще раз подтверждает его удивительную интуицию и объясняет, почему следователи никак не могли поверить, что роман является вымыслом. Группу та женщина выследила, сдала. Руководителя расстреляли, причем у него, видимо, от инсульта отнялись ноги и на расстрел его несли на носилках. У нас в лагере оказалась вдова того расстрелянного, чудесная женщина, очень чистая, хорошая. Так они встретились. И та, которая работала в ГБ, не выдержала — все нам рассказала. Это была исповедь. Мы ничего не сказали вдове. За забором лагеря было столько трагедий, что не нужна здесь была еще одна, причем безысходная. Вместе с тем майор ГБ любила стихи и оказалась моим единственным в жизни преподавателем чтения. Стихи я начала читать в лагере. Интересно, что со сцены было запрещено читать следующее: «На смерть поэта» Лермонтова, «Жди меня» Симонова и «Наша Родина» Алымова. Последнее стихотворение я читала однажды со сцены, и весь зал разрыдался, после чего и это стихотворение запретили.
В начале срока мы ходили в одежде, которую привезли с собой. Но в 50-м году у нас ее отняли, а выдали казенные платья и белые косынки. Платья — черные, синие и темно-коричневые — кому какое досталось, а на спине хлоркой вытравлен номер. Такой же номер вытравлен на подоле и на телогрейке, а на косынке выведен черной краской. Мой номер был А-402. Никогда не забуду того страшного дня. Это было еще на 6-м лагпункте. У нас отнимали последнее, что еще оставалось, — имя. Уже не было человека — только номер.
Все это произошло днем. А вечером был концерт, посвященный Пушкину, и в нем, конечно, «Сцена у фонтана». Я играла Марину Мнишек. Народу в зале собралось немного — человек двести. Остальные сидели по баракам или лежали, плача в подушку. Пришли на концерт те, кто был в состоянии не физически, а душевно. В зале сидели глухо молчащие, бледные женщины с застывшими лицами, в уродливых платьях с номерами. У нас, игравших на сцене, еще оставалась на время концерта собственная одежда, переделанная в костюмы. И вот мы в последний раз стояли на сцене в своих платьях. Мне трудно найти слова, чтобы передать это удивительное состояние: мы играем Пушкина, люди в зале пришли нас слушать и это — очень важно. Мы были абсолютно беззащитны, полностью в руках тех, кто мог сделать с нами все что угодно. У нас отняли все: семью, свободу, нормальную человеческую жизнь. Но Пушкин у нас был. И все, что было прекрасного на свете, как бы концентрировалось в пушкинских словах — и было с нами. Таким было наше противостояние: мы владели прекрасным, несмотря ни на какие номера.
Кстати, русские есть русские. За все время лагеря никто из начальников ни разу никого не назвал по номеру, только по фамилии. Мне очень важно сказать: если бы русский народ был народом рабов, в чем его часто упрекают досужие крикуны, его давно не было бы на свете. Это такая же неправда, как удивительно плоское понимание последней ремарки пушкинского «Бориса Годунова»: «Народ безмолвствует». Я хотела бы когда-нибудь увидеть настоящее понимание этих слов на сцене: беспомощный лепет дьяка, как и беспомощные советские жестокости, встречают не митинговые вопли, не черный бунт, а непобедимое духовное и душевное противостояние. Народ безмолвно и медленно поднимается, трагический и необоримый.
В казенных платьях мы выглядели безобразно, но из белых ниток вязали ажурные воротнички. На вахте их срывали, а назавтра девочки опять являлись с воротничками. И в конце концов начальство сдалось. Но это еще не все. На каждой фабрике был закройный цех. На длиннющих столах раскладывался в несколько слоев материал и по лекалам специальным ножом вырезалась выкройка. Но, как ни раскладывай, кусочки-то всегда остаются, и эти кусочки мы крали. Если попадался прямой кусок, то его распускали, а из ниток вязали что-нибудь. Грубые защитного цвета нитки ткани для бушлатов шли на вязаные костюмы. Потом, когда жить стало полегче и мы уже добывали анилиновую краску, эти костюмы красили в бордо или темно-синий. Многие в таких вот костюмчиках поехали на волю.
Еще на фабрике шили белье. Среди бельевых отходов попадались кружки и треугольнички. Эти кусочки воровали, соединяли ажурным швом, и получались белые занавесочки, которые мы развешивали на нарах. Надзиратели их срывали и выбрасывали. Мы делали новые и вывешивали до следующего шмона. Начинался крик: «Что вы делаете, гражданин начальник, это же для уюта!». Так продолжалось довольно долго. Шло время. Как-то к нам попадает в руки инвентаризационная книга. Барак номер такой-то: нар столько-то, табуреток столько-то, столов столько-то… УЮТОВ — столько-то. Так наши занавесочки получили официальное признание.
Мы не имели права держать у себя иглы, ножницы, ножи, но у всех они были. Их крали, прятали. Ножи выковывали девочки-слесари. И начальство ничего не могло с этим поделать. Женщины и хозяйство — это понятия, которые невозможно разделить. В лагере наша потребность в обзаведении хозяйством была зацепкой за женскую сущность.
А еще лагерь открыл для меня одну важную вещь. Мы привыкли к тому, что какой-то уровень знаний, пусть небольшой уровень образованности обычен и естественен. Ну кто из нас мог себе представить человека, который не знает о «Евгении Онегине» или «Войне и мире» ровно ничего? В лагере я столкнулась с морем людей, которые не только не читали этих вещей, не знали русской культуры, они в общем-то не знали ничего, в том числе и своей культуры. Женщины с Западной Украины и из Прибалтики не знали также ни Шиллера, ни Шекспира. Я увидела огромное количество людей, зачастую очень заносчивых, «очень много о себе понимающих» и попросту не знающих того, что знает любой мальчик у нас, скажем, в пятом классе. Я тогда поняла, какие же мы счастливые! И как мы совершенно не ценили того, что с детства, по крайней мере мое поколение, могли слушать дивную музыку, читать замечательные книги. Нам это казалось абсолютно естественным. А было огромным счастьем. С тем же, что этого до такой степени не знают другие, конечно, нужно было работать.
Поэтому одно из моих хороших воспоминаний о лагере — время, когда меня назначили работать в библиотеке. Это то, чем я даже немного горжусь. Работа в библиотеке считалась непыльной. Сиди и вяжи. Ходили туда несколько русских интеллигентных женщин. А у меня очередь в библиотеку стояла на улице. Читать стали все: и украинки, и литовки, и латышки. Я не только пускала всех смотреть и трогать книги, а еще все рассказывала. И вот какие забавные вещи случались. Все украинки приходили и просили: «Аллочка! Дай книжку про Леночку…». Это «Накануне» Тургенева. Или «Дай книжку про Домбину дочку». Это «Домби и сын» Диккенса. Ни Домби, ни сын их совершенно не интересовали. Героиней была Домбина дочка. А что касается Леночки из «Накануне», то, конечно, для них она была родной, потому что пошла с любимым на войну, как та девушка-бендеровка, которая просила книгу. Бендеровки рыдали над повестью Тургенева, потому что видели в ней свою судьбу, чувствовали себя «леночками» из книжки. Это были действительно честные, героического склада и очень низкого интеллектуального уровня люди.
Должна сказать, что вообще-то мы много смеялись. В тюрьме и потом в лагере я поняла, что такое «юмор висельников». Потеряно все. Я, например, долго не знала, живы ли родители, но, даже если они живы, у меня приговор: 25 лет. И вот, когда человек теряет абсолютно все, он приобретает странную способность веселиться, как никогда видеть смешное. На воле всегда есть, что терять, в лагере нет ничего.
Одно время вместе с нами в самодеятельности принимала участие библиотекарша. Фамилия ее была Кутьевая — милая немолодая женщина с хорошими актерскими данными. Время от времени Кутьевая проводила инвентаризацию — собирала у всех книги и проверяла по списку, все ли цело. Некоторым она говорила:
— Ладно, не сдавай, знаю, что у тебя. Вот так она раз пришла ко мне:
— Аллочка, этот самый… ой, не могу вспомнить… Джугашвили?.. Нет… Ну, тигр в овечьей шкуре…
Вокруг уже всеобщее веселье. Я не могу говорить от смеха:
— Джугашвили в овечьей шкуре! Изумительно! Имелась в виду книга Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Немало забавных эпизодов было связано и с театром. В спектаклях, которые ставила Галина Николаевна, я почти всегда играла мужские роли, потому что правило было такое: все высокие играют мужчин, маленькие — женщин. Тем более что женских ролей в пьесах всегда мало. Единственная женская роль, которую я с упоением играла, — Ринева в пьесе Островского «Светит, да не греет». Не меньшей радостью оказалась для меня роль Ивана в сказке «Иван да Марья». На мне был белый плащ из упаковочной марли, на голове — шлем, а в руках — деревянный меч. У Чудища Заморского был очень интересный костюм, придуманный Галиной Николаевной: хребет, как у динозавра, с отростками и такой же хвост. Боже! С каким упоением мы сражались с этим чудищем! Это же нужно было быть женщиной под сорок, столько пережившей и повидавшей, включая тюрьму и уже несколько лет лагеря, чтобы так, захлебываясь от восторга, сражаться деревянным мечом с Чудищем. Однажды хвост Чудища запутался где-то в декорациях, и мы сражались намного дольше, чем полагалось, пока кто-то не подполз на животе и не освободил хвост.
Для меня так эти годы и проходили: от спектакля до концерта, от концерта до спектакля.
Галина Николаевна очень хорошо рисовала эскизы, потом, когда ее увезли, вся эта работа досталась мне. Для «Двух веронцев» Шекспира я делала уже все костюмы из наших обычных, опять выданных нам кофточек и юбок, что-то к ним прибавляя, пришивая.
Позже, слава Богу, от мужских ролей удалось избавиться. Сначала эти роли мне были очень интересны: хотелось вдумываться в психологию мужчин. Это долго меня занимало — старалась вжиться в совершенно другой, чем у женщин, строй мыслей, а потом просто надоело.
Программу каждого концерта или спектакля мы были обязаны представлять цензору в центр Дубравлага. Если песня была не на русском языке, то обязательно прилагался перевод. На одном из концертов нам захотелось петь польское танго о моряке, имевшем в каждом порту мира по любовнице. Перевод мы представили такой: танго, посвященное дружбе народов, в каких бы портах мира они ни жили.
К тому же довольно долго нам не дозволено было касаться советской драматургии нашими грязными преступными руками, поэтому мы играли классику, и это было чудесно. А потом уже все стало иначе, пошли советские пьесы. Последняя мужская роль, которую я сыграла, был Платон Кречет. Самое любимое мною место в пьесе было то, когда можно было наконец по роли упасть в обморок и на том «закруглиться».
Какими же праздниками были эти спектакли и для участников, и для всей зоны, и — Боже милостивый — для всех «граждан начальников»!
Ах да! О «гражданах начальниках». Какой радостью был запрет на слово «товарищ». Само по себе это слово хорошее, но советской действительностью испоганено так, что мы с удовольствием его не употребляли. Товарищей в погонах мы обязаны были называть «гражданин начальник». Друг друга называли по именам. А кроме того, было в ходу слово «пани». Я только «пани Аллочка» и была с первых дней лагеря.
Трудно, например, сказать, смешно это или грустно, но в лагере стараниями советской власти оказалось четыре поколения «террористок». Старшая «террористка» — Ольга Николаевна Базилевская, вдова актера МХАТа Базилевского, погибшего в гражданскую войну на стороне белых. Она была дворянкой до мозга костей в лучшем смысле этого слова. Думаю, что лет ей было в то время не так уж и много. Может быть, шестьдесят, но нам она казалась старухой. На бесконечно долгих проверках, когда все остальные уже крутились, горбились, садились, Ольга Николаевна стояла так, как ее учили в институте: прямо, сложив руки и не двигаясь. И так она могла стоять сколько угодно. Ольга Николаевна преподавала в одной из московских школ. Неприятности ее начались с того, как один из ее учеников написал в сочинении такую фразу: «„И жизнь хороша, и жить хорошо“, — сказал Маяковский и застрелился». Дело кончилось тем, что Ольге Николаевне предъявили обвинение в подготовке покушения на товарища Сталина. Ее судили не Особым совещанием, как нас, а открытым народным судом. По делу она проходила одна. В акте, составленном при обыске, записали, что найдено оружие — нож для разрезания страниц.
Следующее поколение — Лида. Здесь была компания: три женщины и один мужчина. Вчетвером они развлекались тем, что крутили блюдечко. Видимо, достаточно регулярно. Однажды блюдечко взяло и поведало им, что Сталин умрет и, вроде, даже будет убит, а жизнь после этого станет лучше. Похоже, что донес мужчина. Всех трех женщин арестовали и предъявили им обвинение по статье: подготовка покушения на Сталина. На допросах к ним особенно приставали с вопросом: «Кто убьет?» Блюдечко об этом не сказало, да они и не спрашивали. Но следователей такой ответ не устраивал. И вот на одном из бесчисленных ночных допросов уже под утро одна из женщин, проходивших вместе с Лидой по делу, сонными глазами обвела стены и, остановив взгляд на портрете Ворошилова, сказала:
— Он.
Это записали. Как мы могли судить, с того момента начался некоторый закат звезды Ворошилова.
Третье поколение «террористок» представляла я.
А четвертое — Женечка Халаимова из Ярославля. Несколько ребятишек, учеников десятого класса, собирались, беседовали о том, что видели вокруг: как-то все не так происходит, как должно бы. Вроде бы Ленин что-то другое предполагал, а Сталин делает что-то не так. Поговорили и забыли. Закончили школу, поступили в Ярославский университет. А на первом курсе всех арестовали, обвинили в подготовке покушения на Сталина и на открытом суде приговорили к смертной казни. А потом сказали, что, поскольку мы живем в самой гуманной стране в мире, смертная казнь у нас отменена и подсудимым сохраняется жизнь. Они получили по 25 лет. Жене, когда ее арестовали, было, наверное, лет восемнадцать.
А вот совсем другое. В лагере нашем были просто молчаливые православные христианки, не обязательно принадлежащие к катакомбной Церкви, просто верующие, часто даже малограмотные. Была среди них одна, имени которой я не помню, а может быть, и не знала, потому что среди них бывали такие, что и имени не называли. Рассмотреть ее лицо было невозможно из-за повязанного на лоб платка. Она не была старой, но была ли она молодой — не знаю. На руке у нее была вытатуирована цифра. Такие татуировки были у тех, кто уже стоял в очереди в немецкую газовую камеру. Ее должны были убить, спасли американские солдаты. А все, кого спасли американцы, потом в Советском Союзе получали 25-летний срок за то, что остались живы. Вот такой была и эта женщина. Как-то я иду из жилой зоны в производственную, а там посередине был небольшой холмик. На нем она стоит прямо-прямо, как свечка, а ниже за забором видны бескрайние леса. По-моему, было начало осени, и леса чуть-чуть начинали отливать золотом. Она увидала меня боковым зрением и позвала взволнованно:
— Аллочка, иди сюда! Иди скорей!
Я подошла, а она говорит:
— Ты чувствуешь, как ладаном пахнет оттуда? Батюшка Серафим в этих лесах спасался. Какие же мы счастливые! Господь нас привел сюда, в эти леса, где батюшка Серафим с нами.
Не знаю, кому еще можно поклониться в этой жизни так, как этой женщине. Ни злобы, ни ненависти, ни уныния в ней не было. Это и есть тот русский народ, которого до сих пор не видят и не понимают. Я видела его там. И никогда не забуду.
Глава 23. «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП» НА НАРАХ
Летом 50-го года из зоны окончательно убрали мужчин. Кстати, в 49-м из политических лагерей убрали бытовиков и уголовников. И это было невероятное облегчение. Когда я читаю или слушаю рассказы политзаключенных, бывших в лагере вместе с уголовниками, то понимаю, что это, конечно, нечто чудовищное. При нас такого уже не было. С нами сидели две-три женщины, которые что-то своровали и заодно написали какую-то антисоветскую фразу на стене. Думали, что так им будет лучше. А впрочем, кто знает? Может, в уголовном лагере их убили бы.
Так вот, в 50-м из зоны убрали мужчин. Мужской барак в женской зоне был обнесен несколькими рядами колючей проволоки. Мужчин под строжайшим контролем выводили только на работы, которые все-таки считались чисто мужскими, по крайней мере некоторое время. Но жизнь есть жизнь, а чувства есть чувства. И человек есть живой человек. Несмотря на неописуемые условия для встреч, люди все-таки проползали под проволокой, встречались, страшно, уродливо, унизительно, где-нибудь над выгребной ямой, под забором… Но все-таки встречались, вцеплялись друг в друга… и женщины беременели. И рожали. Существовали «мамочные лагеря», куда отправляли беременную женщину, она там рожала и два года была с ребенком, потом ребенка забирали в детдом, а мать посылали опять в лагерь. Возможно, это стало причиной того, что мужчин от нас перевели. Их вели по дороге через всю жилую зону. И женщины, с которыми они встречались, кидались им на шею, зная, что больше их никогда-никогда не увидят. Одна литовочка рыдала, повиснув на шее русского заключенного, которого она любила.
И оказалось, что все мужские работы также могут делать женщины: лазить на столбы, высверливать детали к швейным машинам, быть плотниками, слесарями, электриками, всем.
У многих женщин дети оставались на воле. В лагерь привозили кинофильмы. И вот, если на экране появлялся маленький ребенок, в зале начинался вой — выли женщины, у которых дома остался вот такой маленький.
Была у меня подруга Вера, очень близкая и любимая. Ее уже нет в живых, умерла в Сибири. Она ушла с немцами, а потом вернулась, поверила, что можно вернуться. Там же на Западе вывешивали большие плакаты: «Возвращайтесь! Родина вас прощает. Родина вас ждет». Все, кто этому поверил, вернулись на родину и поехали по лагерям. Вера попала сначала под Новосибирск вместе с матерью, которую привезла с собой с Запада. Потом Веру арестовали. Что случилось с матерью, так и неизвестно. Все знали, что Вера вернулась из Германии добровольно. И если на экране появлялись березки, то со всех концов зала неслись шутливые возгласы: «Вера Петровна! Вера Петровна! Ну вот вам березки родные…»
А еще помню: привезли кино. Девушки бегут с криком: «Привезли! „Вернись в сарай, Антон!“» Это — фильм «Вернись в Сорренто».
Я уже сказала о лагерной любви. А было и другое странное явление, которое коснулось не только меня. Мы совсем не хотели смотреть ни на какую любовь на экране. Просто отсекли все это из своей жизни. Например, очень любили фильм «Адмирал Ушаков». Там действовали одни мужчины, были мужские проблемы, никакой любви и никаких детей. В этом была, очевидно, некоторая душевная самозащита.
На Рождество украинки устраивали вертеп. Это разыгрывалась мистерия Рождества. Шепотом передавали: «Аллочка, четвертый барак… в восемь часов после ужина». Приходишь, залезаешь на верхние нары, делая вид, что с кем-то там разговариваешь. Понемножечку все рассаживаются, и начинается мистерия. Рождество Христово. Ангел поет, плачут матери, у которых Ирод детей убил. Потом все, что полагается в этом простом и чистом Рождественском представлении. Часто только делали так: лицо закрывали какой-нибудь бахромой от платка, чтобы можно было потом сказать: «Да это не я была!» Пока барачная стукачка бежала на вахту — а барак выбирался самый далекий, — пока надзиратель собирался, шел через всю зону, все уже было давным-давно кончено, и мы сидели тихонечко. Кстати, и надзиратели не спешили, они ведь тоже были разные. Были такие, которые побежали бы со всех ног, поэтому мы старались выбрать дежурство того, кому не хочется никого ловить и тащить. Такой шел нарочито медленно, а когда приходил, то ничего уже и не было.
А еще на Пасху происходило такое очень серьезное, с точки зрения догматики, нарушение. Священников не было, вообще были одни женщины. Поэтому вспоминали, записывали пасхальные молитвы — кто какие знал. Собирались маленькими группками, и кто-то более грамотный или более уважаемый просто читал эти молитвы. Несколько раз читала я, именно по той причине, что грамотная, ну и ко мне хорошо относились. Конечно, женщина не должна читать того, что читает священник, но думаю, что мы там, в лагере, были правы.
Еще я рисовала неисчислимое количество поздравительных открыток, собственно, даже с политическим оттенком. Эти открытки девочки дарили друг другу, посылали домой. Сколько красных и желтых тюльпанов с зелеными листьями я нарисовала для литовок, невозможно сосчитать. Национальный цветок Литвы — тюльпан, и национальные цвета — желтый, красный и зеленый. Украинки получали от меня желтые колосья с голубыми васильками, те самые жовто-блокитные, что сейчас стали украинским флагом. То же касалось и латышек, и эстонок, и полек — не счесть, чему я радуюсь и до сих пор. Это сейчас всего сколько угодно, в том числе и открыток. А там эти цветы были событием, чем-то особенным, и с какой радостью на них писали домой письма!
На 6-м лагпункте я подружилась с молоденькой украинкой Олечкой. Она была очень маленького роста, хорошенькая, заплетала четыре косы — волосы у нее были прекрасные. Я называла ее малюткой. Олечка была старостой стахановского барака. Это такой барак, в котором вместо нар стояли койки. Там жили девушки, постоянно вырабатывавшие не меньше двухсотпроцентной нормы. Как только они не справлялись с такой нормой, их тут же переселяли в обыкновенный барак. У Оли барак содержался в изумительной чистоте, малютка так всех держала в руках, что туда водили всякие комиссии.
Расскажу немножко об истории Оленьки. Она была родом с Западной Украины, из городка, который при поляках назывался Станиславом, а потом в составе СССР стал Ивано-Франковском. На Западной Украине женятся очень рано. Олечка шестнадцати лет вышла замуж за человека, которого горячо любила. Потом он ушел в леса. Это у нас говорили «ушел к бендеровцам», у них — «ушел в леса». Оля, конечно, пошла с мужем. Очень скоро они поняли, что им там делать нечего, это абсолютно чужая им дорога. Оля забеременела. Благодаря этому они смогли вернуться домой, потому что просто так из отрядов не отпускали. Вернуться-то они вернулись, но были арестованы. Олю арестовали беременную, и родила она в тюрьме. С ее слов знаю, как она потеряла сознание, потом пришла в себя в камере-одиночке с залитыми кровью стенами на цементном полу. За стеной сошедший с ума священник пел «Со святыми упокой», а рядом с Оленькой лежала новорожденная девочка. Видимо, во время родов подошел кто-то из медперсонала и помог. Потом Олю водили на допросы, иногда с малышкой на руках, а иногда, когда не было сил идти с ребенком, маленькая оставалась в камере. Через четыре месяца Оля вымолила у следователя разрешение отдать девочку бабушкам. Бабушек было две: мама Оли и мама ее мужа, и девочка выросла с ними. Позже, после пересмотра дела, Оле сказали, что она может ехать домой, что никакой вины за ней нет. Но она знала, что муж находится в Магадане, и ответила, что должна ехать туда, где муж. И поехала. В Красноярске Оля получила от мужа письмо, где он писал, что встретил другую женщину и просит его забыть. Сначала Оля заболела. А потом и там работала и, слава Богу, встретила в Красноярске прекрасного человека, кстати, художника. Он тоже был в мордовском лагере, который находился рядом с нами. Оля родила от него трех мальчишек. Мы и сейчас дружим. А мои братья дружат с ее сыновьями.
Олечка была очень талантлива. Знала она секрет совершенно необыкновенной мастики, которая делалась из ржаной муки. Из этой мастики она лепила, например, шахматы, совершенно изумительные. Я помогала ей и тоже фантазировала. Потом делались бесконечные статуэтки, в основном почему-то цыганки. Наше зазонное начальство просто обожало Олиных цыганок. Отказаться она не могла, делала все. А я приходила к ней, когда удавалось, вечером перед самым сном, мы сидели на кухне барака и делали эти заказы, за которые никто ничего не платил. Просто обязаны были их делать — бесконечные искусственные цветы и еще что-то, я даже не могу вспомнить всего, что мы делали. И рассказывали друг другу о своей прошлой жизни. Это кажется мне похожим на то, как если бы после смерти люди в Чистилище рассказывали друг другу, как жили на земле. Олечка говорила об Ивано-Франковске, о доме, где жила, о родителях, о квартире. И это было настолько реально, что, когда через 10 лет я поехала с друзьями в Карпаты, а потом одна забрела в Ивано-Франковск, то по Олиному описанию десятилетней давности нашла и дом, и квартиру, и саму Олю, которая к тому времени уже вернулась из ссылки. Вот так мы говорили друг другу, где что было, как стояла мебель, какие были книги, какая была жизнь там, по ту сторону гроба.
Кстати, о гробе. Однажды у одного из надзирателей умерла дочка, маленькая девочка. К нам в зону принесли гробик, моя мастерская в то время была в производственной зоне. Олечку пустили ко мне, и мы всю ночь красили и сушили этот гроб, который к утру должен был быть готов. Нам так жалко было эту девочку и надзирателя, который плакал, что хотелось что-то еще придумать для погибшей девочки и для этого человека. И мы сделали очень красивую металлическую розу из каких-то обрезков металла. Надзиратель был нам очень благодарен.
Потом мы без конца делали елочные игрушки. Сколько я ни говорила «гражданам начальникам», что игрушки берегут всю жизнь, что десятилетиями каждый год у нас в семье вынимали одни и те же любимые елочные игрушки, — ничего не помогало. Все, что мы делали, выбрасывалось, и на следующий Новый год (а елка у них была не на Рождество, как полагается, а на Новый год) мы опять начинали все сначала. Мы обязаны были делать игрушки начальнику, оперуполномоченному, начальнику спецчасти, цензору, надзирателям, медсестрам из санчасти — у всех были дети.
Однажды к нам пришел оперуполномоченный, принес сломанный мужской несессер. Дело в том, что все эти начальники были в Германии не то чтобы на войне, скорее после войны. Они служили в частях, которые входили туда, когда уже не было опасности, и везли в Россию все, что успевали прихватить, в том числе такие вещи, как этот несессер. Мы с Олечкой склеили его, а потом она изумительно выложила несессер внутри малиновым шелком. Для наружной стороны я вспомнила, что есть черная, как лак, краска. «Ну очень же красиво, — говорю я, — и как-то по-мужски: черный лакированный несессер». Так мы и сделали. О Боже, что было! Крика и скандала хватило надолго.
Хорошо, что с нами ничего не сделали, да и то только потому что мы были все время нужны для какой-нибудь работы. Дело в том, что черное с малиновым — это цвета советского траура, поэтому «гражданин начальник» решил, что мы на него наколдовываем смерть. Конечно, нормальному человеку такое и в голову прийти не могло. Но вот что интересно: большинство «граждан начальников» были суеверны так, как и не снилось никакой деревенской бабке. Я думаю, что так проявлялась, как ни странно, просто совесть, которая есть у каждого человека. В глубине души они знали: все, в чем они участвуют, — преступление. Можно было оправдывать это преступление, что угодно говорить, слушать и читать, все равно в глубине души сидело это грызущее чувство — они участвуют в преступлении. Отсюда и суеверия.
Я еще не рассказала о моей лагерной приемной дочке, Джоньке. Сейчас не могу вспомнить, когда ее привезли, возможно, этапом с Воркуты. Но дело не в том, когда она приехала, дело совсем в другом. Наши доблестные военачальники брали девочек и мальчиков и, едва-едва поднатаскав их, швыряли с парашютами в немецкий тыл. Так же поступали и доблестные члены так называемых правительств в изгнании: латышского, литовского, эстонского. Они, спокойно сидя в Лондоне, сбрасывали на парашютах мальчиков и девочек в советский тыл. Дальше истории развивались совершенно одинаково. Шпионом ведь нельзя стать просто так, потому что тебя куда-то закинули. Наверное, для этого требуются какие-то особые данные.
Этих данных не было ни у Джоньки, ни у двух русских девочек — Тоши Холиной из Подмосковья и Верочки Ивановой из блокадного Ленинграда. Тошу немцы поймали почти сразу, потом она была в Равенсбрюке. Верочка Иванова, у которой вся семья умерла от голода в Ленинграде, сама пошла куда-то, после краткого обучения была заброшена в Германию и также быстро попалась. Не помню только, в каком она была немецком лагере.
Настоящее имя моей латвийской «дочки» было Валлиа, а называли ее Джонни, Джонька, потому что она, рыжая, курносая, зеленоглазая, вся в веснушках, вела себя совершенно, как мальчишка. Она была намного младше меня, из семьи латышского военного. В Латвии нашими советскими «героями» была предпринята, хотя в уменьшенном виде, та же акция, что с польскими офицерами в Катыни. Отец Джоньки сообразил, в чем дело, не пошел туда, куда вызывали, и избежал расстрела, но несколько позже не избежал лагеря. Джонька попала в Лондон. Ее мать и сестры, кажется, потом оказались где-то в Австралии. Это были уже совершенно туманные сведения. Из Лондона Джоньку самолетом доставили в Латвию и там сбросили. Она попалась так же быстро, как и те наши русские шпионки. А дальше у всех дорога была одна: в советские лагеря на двадцать пять лет. И вот привезли эту рыжую девчушку к нам. У нее не было никого. И была начальная стадия туберкулеза. Я помню, как однажды я ее укладывала спать почему-то в мастерской, может быть, она больна была. Помню, что я ее накормила чем-то, укрыла, а потом наклонилась и поцеловала. Никогда не забуду этих изумленных, испуганных, недоумевающих глаз затравленного ребенка, которого вдруг погладили по головке. Потом-то она развеселилась, была очень веселая, живая. Я думала, что она и дальше будет моей приемной дочкой. Но на воле жизнь сложилась по-другому. И моя Джонька затерялась где-то на целине, куда добровольно поехала.
Хочется еще вспомнить какие-то отдельные облики. Тетя Кулинка, западная украинка, западничка.
— Тетя Кулиночко, за що тэбэ посадили?
— Та за Политика, а то неправда: хлопцы з лісу приходили, я хлопцям дала хліба, дала сала, бо хлопцы голодны, треба кормиты. Михась бул, Петро бул, Микола бул, а ни якого Политика там не було. А вони мене за того Политика посадили на 25 років.
Еще одна западная украинка, тоже двадцатипятилетница, Одарка. Она была дневальной в том доме, где находились и мастерская, и библиотека. Была неграмотна, но говорила, что прекрасно знает, за что ее посадили: то, что там писали, — чепуха, которую она не помнит, а посадили ее за другое. Она от Бога имела способность собирать травы и лечить ими. Но когда вышла замуж, то родня мужа категорически запретила ей лечить людей. И Одарка рассуждала так: Бог дал ей эту вот способность, а она послушалась родных и пренебрегла ею, и за это, с высочайшей точки зрения, совершенно справедливо ее посадили на 25 лет. Это расплата за пренебрежение Божьим даром. У нее была еще удивительная способность составлять букеты. Она сердилась, что мы не понимали, как она их составляла. Мы хотели понять, но не могли. А она говорила:
— Ты що не бачишь? От ніс, а от то очі. Та що ты? Як ты набрала тоі трави! Треба, щоб були очі, лоб, ніс, рот, — бо треба, щоб той букет дивився бы на людину.
И ее букеты в самом деле смотрели на людей. А мы не видели в них ни глаз, ни носа, ничего, но букеты были удивительными. Когда начались свидания и ко мне стали приезжать родители (они были, по-моему, два или три раза вместе, и потом еще папа приезжал), Одарку всегда выпускали за зону с букетом для приезжих. Мама увозила ее букет в Москву, и он у мамы стоял, пока не рассыпался. Одарка писать не умела и длинные письма родным диктовала Лесе — диктовала в стихах!
Еще портрет. Алина, тоже с Западной Украины. Повесили на груше в ее саду и мужа, и сына. Одного — немцы, другого — советские. А может, и бендеровцы. Дело в том, что бендеровцы переодевались советскими и немцами, немцы — бендеровцами и советскими, переодевались ли советские — не знаю. Творилось такое, что Алина была счастлива, когда ее посадили на 25 лет. Говорила: «Койка есть, пайка есть — и жива».
Кстати, когда я говорила о стахановском бараке, то не сказала, что нормы перевыполняли потому, что за это полагалось питание получше. Кроме того, это давало надежду на еще одно письмо — возможность лишний раз дать о себе знать родным, и на беспрепятственное получение посылок. А в качестве наказания посылку могли не дать.
Жили мы не только той баландой, которой нас кормили, а посылками из дома. Позже, в брежневские времена, половину срока человеку по закону не полагалось никаких посылок, а остальной срок — разрешалось только то, что непитательно, в основном сухари. Мы же зависели от родных. Что смогла мама положить в посылку, то я и ела. Каждый имел право на две посылки в месяц, и, конечно, мы друг с другом делились.
Понятно, всем отправляли еду. Но моя мама — удивительная. В самые черные времена она прислала мне очаровательную дамскую сумочку. Потом роскошное платье, которое у меня тут же отобрали и отнесли в каптерку. Я смогла надеть его только тогда, когда нам снова разрешили ходить в своем.
Я имела право на два письма в год, и писала их родителям. На 6-м лагпункте цензор был ужасно вредный. Он позволял писать только две страницы примерно такого содержания: «Мои дорогие! У меня все хорошо. Я здорова. Пожалуйста, пришлите…» и дальше список того, что нужно прислать. По тому, что именно присылали в посылке, можно было понять, что это письмо получили. Иногда бывала возможность отправить более подробное письмо, но об этом я уже говорила.
Конечно, я все время спрашивала маму, жив ли Даниил. А Даниил в это же время просил маму, чтобы она прислала мой адрес. Но мама боялась связать между собой мужа и жену, то есть собственную дочь с мужем. Это ведь могло рассматриваться как противозаконное действие. Она отказывалась дать Даниилу мой адрес. Сохранилось переписанное им мамино письмо об этом.
Позже мама ездила к нему на свидания. Заключенных в тюрьме брили нечасто, и Даниил рассказывал, как однажды мамин приезд совпал с его непрезентабельным видом. Мама всплеснула руками и сказала: «Даня! Как вы можете ходить небритый?!»
Мне же она ничего не сообщала. И вот летом 50-го или 51-го года получаю от мамы письмо, где такая последняя фраза: «Дядя Даня жив». Боже мой! Я бежала по лагерю счастливая и кричала: «Жив! Жив! Жив!»
Никто не спрашивал меня, кто жив, — всем было ясно и так. Я ведь до этого времени не знала, жив ли он! Последнее, что я видела, — подпись, сделанная в октябре 48-го года на акте о сожжении романа «Странники ночи», всех стихов, писем Леонида Андреева и нашей фронтовой переписки. И Даниил также ничего не знал обо мне. Это было первое известие о нем, которое я получила в лагере.
А в июне 53-го года случилось удивительное огромное счастье: пришло первое письмо от Даниила. Описать, чем это было для меня, не берусь. Вот лишь кусочек из этого письма от 21 июня:
«Бесценная моя, ненаглядная девочка!
С трудом могу представить, что в ответ на мое письмо придут строки, написанные твоей рукой, и я буду читать их наяву, а не в бесконечных, бесчисленных снах о тебе. Боль за тебя — самая тяжкая из мук, мной испытанных в жизни, — вряд ли нужно говорить об этом, ты знаешь сама. В каких ты находишься условиях и в чем черпаешь силы — эта мысль без конца гложет и сознание, и душу, и в этом смысле каждый день имеет свою долю терзаний. Семь лет я думал, что моя любовь к тебе велика и светла. Но каким бледным призраком представляется она по сравнению с тем, что теперь! Если бы тогда она была такой, как теперь, — не знаю, смог ли бы я уберечь тебя от страшных ударов — в этом было слишком много независимого от моей воли, — но, во всяком случае, наша совместная жизнь была бы другой. Как нестерпимы теперь воспоминания о раздражительности из-за пустяков, внутренней сухости, непонимании величайшего дара из всех, какие послала мне жизнь. Вообще, мне поделом. Себя я не прощу, даже если бы меня простили все. И если бы речь шла только обо мне, я бы охотно нашел смысл в пережитом и переживаемом. Но для того, чтобы даже мысль о тебе включалась в некое положительное осмысление, — для этого, очевидно, надо подняться на такие высоты, от которых я еще весьма далек».
А вот маленький кусочек из моего большого письма, написанного в ответ:
«Даник, мой любимый!
Я столько лет ждала твоего письма и дождалась, и увидела тебя именно таким, каким все время молилась, чтобы ты был. Будь спокоен, я прошла трудный и сложный путь и сейчас я тоже такая, какой ты меня хочешь видеть, мечтая обо мне, я это знаю. Я не хочу сейчас вспоминать плохое, что я сделала на своем пути, — я за него платила, плачу и буду платить, и тебя прошу: не мучай себя воспоминанием о твоем, никогда не существовавшем невнимании ко мне — для меня наша с тобой прошедшая жизнь не имеет ни одного темного пятна».
С тех пор мы переписывались. Почему это произошло в июне 53-го? Как известно, чуть раньше, в марте, наконец скончалось это чудовище — Сталин. Реакция на его смерть была интересной. Некоторые, в основном те самые русские проститутки, искренне плакали. Торжественно-печальны были старые коммунистки. Меня прятали. В марте поверки по какой-то причине проходили не на улице, а в бараках. Нас выстраивали между нарами так, что мы стояли в затылок друг другу. Меня ставили последней, чтобы не было видно моего сияющего лица, потому что я не могла скрыть своего восторга. И вообще старались меня куда-нибудь подальше запихнуть, чтобы не было видно. Правда, однажды я плакала. По-моему, это было как раз, когда чудовище хоронили. Тогда как-то инфернально завыли все сирены, все заводы. Все, что только могло выть в Советском Союзе, выло. Случилось, что я работала в мастерской одна, когда начался этот вой. Он звучал по радио, он был везде, и наша фабрика тоже завыла. Вот тут я заплакала и начала молиться, конечно, не за эту душу. За души таких детей сатаны молиться нельзя, может быть, только святые могут. Я молилась Богу о том, чтобы никогда больше в России не произошло ничего подобного, плакала и молилась: «Господи! Господи! Спаси Россию от повторения этого ужаса».
Глава 24. «ЭТОМУ БОЛЬШЕ НЕ БЫВАТЬ!»
После смерти Сталина события стали разворачиваться одно за другим. Сейчас трудно воспроизвести их в памяти по порядку. У меня один образ сменяется другим, одно воспоминание цепляется за другое, один портрет льнет к другому — время как бы ускорилось. Начались самые неожиданные вещи — амнистии. Была объявлена амнистия так называемым военным преступникам — попросту солдатам, которые сражались за родину. Одной из первых была амнистия бытовикам-уголовникам, она нас не касалась; нас коснулась другая интересная амнистия — для так называемых малолеток. Издали указ об освобождении тех, кого арестовали, когда им еще не было 16. Будь их немного, их просто освободили бы. Но их было столько, что пришлось издавать указ. Эти малолетки, попавшие в лагеря в 14–15 лет, зачастую выходили оттуда уже мамами с детьми, где-то и от кого-то прижитыми. И те, кого вольные мамы потеряли 14-летними девочками, возвращались домой женщинами, пережившими столько лет лагерей. Число таких трагедий, сломанных жизней не поддается описанию. Еще очень страшно было, когда возвращались матери, оставившие на воле маленьких детей. Они пробыли в заключении, скажем, 12–15 лет. Весь срок такая женщина только и думала о своем оставленном на воле ребенке, не брошенном, а отнятом у нее силой. А приезжая домой, встречались со своими детьми, как с чужими. Вот тогда я поняла, что Господь уберег меня от одного из самых больших несчастий, не дав детей; нагляделась я на этих матерей в лагере, а потом видала горе тех, у кого на воле ничего не складывалось.
Но вернусь к письмам Даниила, к нашей переписке. Сначала он мог писать два письма в год, потом получил право писать каждый месяц. Большей частью, конечно, писал мне, но иногда моим родителям, которые помогали ему в течение всех десяти лет тюрьмы. Я, как и все в лагерях, довольно скоро после смерти Сталина получила право писать сколько угодно. И, конечно, пользовалась этим вовсю: писала, писала, писала… Поэтому оказалось, что на 26 писем Даниила — 126 моих. Я писала короткие письма, но очень много. С первых же писем Даниила стало ясно, что он жив не только физически, но и душевно. Все, что в нем было, не только сохранилось, но выросло и окрепло. Я совершенно не в силах об этом говорить. Читайте его письма.
Ну а жизнь продолжалась. Года с 54-го начались освобождения. Некоторые освобождались, отбыв десять лет, и уезжали в Сибирь. Некоторым на пересылки привозили из детдома детей. Вот Лесе, с которой мы столько концертов и спектаклей сделали, на пересылку привезли шестилетнюю дочку, и дальше их везли уже по всем пересыльным тюрьмам вместе с уголовниками. А еще одну девочку к освобождающейся матери просто привезли к нам в лагерь. И она какое-то время сидела вместе с нами за забором.
Этот эпизод связан у меня с наблюдением, которое может показаться странным. Женщины любят своих детей, а те мужчины, которым не чужда любовь к детям, любят их всех, не только своих.
Однажды к нам в зону привезли часа на два группу мужчин, участников такой же лагерной самодеятельности, как наша. В короткой по времени суматохе они столкнулись с ребенком. Я видела, как многие мужчины из этой случайной группы передавали с рук на руки девочку, просто чтобы подержать на руках ребенка. В этом сказывалась глубокая, часто бессознательная рыцарская душевная потребность — защитить слабого.
А теперь о животных в лагере. У нас в зоне были котята. Зазонные ребятишки, дети начальников, ловили котят, устраивали для них ОСО — Особое совещание. Приговаривали, например, котенка к 25 годам лагеря и ухитрялись его через ворота зашвырнуть к нам. Конечно, мы этих котят подбирали, вынянчивали, любили. Котята были для нас такой радостью. Однажды на них напал мор, видимо, из-за какой-то заразы от крыс. И эти милые, пушистые, веселые создания заболели странной болезнью. У них начинало что-то клокотать в горлышке, и они кричали от боли, совсем как дети. Я ночными часами ходила по коридору вдоль мастерской, укачивая на руках очередного погибающего котенка.
Еще был у нас один начальник. Работал в КВЧ. Сомневаюсь, умел ли он вообще читать, но человек он была добрый и страстный охотник. Однажды он принес из леса маленького голубенка. В лесу свалили дерево, гнездо разрушили, но один голубенок оказался жив. Мы его, конечно, выходили и назвали Гулей. Зря мы это сделали. Этот Гуля сидел у меня на плече, куда бы я ни ходила, и абсолютно ничего не боялся, в том числе кошек, не понимал, что это опасно. Несколько раз я его просто выдергивала из кошачьих лап. А потом, став уже взрослой птицей, он, наоборот, начал всего пугаться. Тогда мы попросили девочек, работавших за зоной, чтоб они отнесли его в лес и там выпустили. Так они и сделали. Не знаю, смогло ли жить в лесу это существо, выросшее на плече человека.
Как-то тот же начальник принес в зону щенка, черную маленькую собачку. Мы назвали ее Кляксой и тоже с ней, конечно, нянчились. Приключения с собачкой были сложнее. Хотя это был еще почти щенок, но, видимо, ему здорово досталось от людей в сапогах. Поэтому песик видеть не мог военной формы, особенно сапог. На них он кидался с громким лаем. А вообще-то был добрый, чудесный, никого из нас не трогал, начальников в штатском тоже, но стоило войти надзирателю в сапогах, кидался на него отчаянно. И вот Кляксу у нас отняли, потому что, оказывается, мы не имели права держать в зоне собаку, да еще такую, которая на надзирателей кидается. Потом нам сказали: «Песика вашего за зоной застрелили».
В зоне разводили цветы. На 6-м лагпункте это была длинная аллея через весь лагерь от ворот до ворот, а на 1-м — цветники вокруг центрального здания, в котором располагалось начальство, и кое-где еще на разных видных местах, где любая комиссия заметит, в том числе около КВЧ. У нас в лагере росли очень интересные маки, никогда больше таких не видела: невысокие, маленькие, на тоненькой ножке; назывался этот сорт ширли. Может быть, в силу того, что росли маки в замкнутом пространстве и как-то странно опылялись, они были необычные, например два красных лепестка, два белых или красные с белой каемочкой, белые с красной каемочкой.
Мы очень любили эти цветы. Занималась ими Лидия Федоровна Лазаренко, вдова расстрелянного священника, одна из самых чудесных женщин, встреченных мною в лагере. Она меня учила молитвам. Она очень много, терпеливо и хорошо рассказывала о том, чего я почти не знала: о Церкви, о богослужениях. Мы и после лагеря видались. Ехать ей было некуда. Освободившись, она осталась в Зубово-Полянском инвалидном доме и иногда приезжала в Москву.
Так вот, про цветники. Мы придумали следующее. Добыли семена — что-то прислали в посылках, что-то выпросили, — посеяли укроп и салат. А сделали это так: напоказ для начальства — клумбы, чтобы любая комиссия радовалась такой красоте, а украсили их, окружив ярко-зеленой каймой салата, а потом темно-зеленой каемкой укропа. Когда начальство уходило из зоны, мы ножницами состригали салат и укроп и ели их все лето. Оказывается, если аккуратно подстригать ножницами, то все растет быстро и через два дня можно срезать снова, что мы и делали. А в затаенных уголках зоны посадили кабачки, и они у нас выросли. Выращивали даже помидоры, которые тоже как-то ухитрялись закамуфлировать, чтобы не очень бросались в глаза. Все эти маленькие хитрости облегчали нам жизнь.
Конечно, эта лагерная жизнь была не похожа на жизнь тех, кто сидел во время войны, равно как и тех, кто сидел в лагерях брежневского времени. Мы не только не голодали, получая посылки, но благодаря нам кормились и лагерные животные. Когда я попала на 1-й лагпункт, там были заморенные лошадки, на которых что-то ввозили в зону. У них, хоть и у заморенных, были жеребята. Этих-то жеребят мы, естественно, гладили, совали им кусочки хлеба. Начальство довольно скоро заметило это, и жеребят стали попросту пускать «пастись» в зону, зная, что мы с ними поделимся всем, что имеем. Из одного такого жеребенка вырос роскошный конь. В то время шел фильм «Смелые люди», где героем был конь Буян. Так вот наш жеребенок по внешнему виду оказался вылитый Буян. Он прекрасно знал, когда приводили дневную смену с фабрики на обед в столовую. После обеда все выходили с пайкой хлеба, а иногда еще несли баланду кому-то, оставшемуся на производстве. И Буян, мы его так и назвали, стоял около дверей столовой и тыкался мордой в руки каждой выходившей. И не было, по-моему, ни одной женщины, которая не дала бы ему хоть чего-нибудь. Одним словом, вырастили чудное существо, которое признавало только женщин. Конюхами тоже были девушки, и лошади к ним привыкали. Начальство только ездило в санях или в какой-нибудь коляске, а запрягали, кормили, заботились о лошадях девушки.
Много позже у меня с этим конем произошел смешной случай. Было это, когда нас осталось в лагере уже мало. Работала Комиссия по пересмотру дел политзаключенных, девочки уезжали каждый день, а в зону привозили на наше место блатных. И вот однажды экспедитор, привозивший посылки, увидав меня, спрашивает:
— Слушай, Андреева, ты с лошадью обращаться умеешь?
Я, конечно, совсем не умела. Так и сказала. А он в ответ:
— Ой-ей-ей, что ж делать-то?
— А что?
— Да мне, понимаешь, нужно к поезду, туда-то я доеду. А назад конь и сам приедет, нужно только вожжи держать. Сядешь со мной, туда доедешь, оттуда повернешь — он сам и привезет.
Как же я могла отказаться?! Тем более, что ничего делать не надо, только вожжи держать. Сели мы в коляску, которая вся разваливалась, кажется, пролеткой называется. По дороге, на счастье, попался молоденький солдатик из конвоя, он пешком шел туда же к поезду. Солдатик, увидав нашу разваливающуюся коляску, поободрал какое-то лыко, как-то ее подвязал, и мы втроем доехали до станции. Там мужчины вылезли, экспедитор развернул коляску, вынул оттуда все, что вез, дал мне в руки вожжи, и Буян понес с места в карьер что было силы. Мы с ходу налетели на какой-то рельс, торчавший из земли. Конь остановился, экспедитор подбежал, белый как стенка. Освободил коляску и дрожащими губами заорал на меня: «Держи вожжи крепче!».
Я ухватилась за вожжи, и мы понеслись. Потом экспедитор говорил, что все, бывшие на станции, были уверены: что то, что от меня останется, найдут сегодня в овраге. Этот глубокий овраг находился примерно на расстоянии двух третей пути от станции. Вдоль оврага дорога шла косо по краю. Все решили, что тут-то мне и конец. У меня тоже, конечно, овраг из головы не шел, но я поняла только, что вожжи надо держать крепко и ни о чем не думать, конь должен чувствовать, что я спокойна. И этот умница, доехав до оврага, пошел шагом. Медленно, осторожненько проехал по краю, а затем опять помчался с той же безумной скоростью. Так, на полном скаку мы влетели в открытую дверь конюшни, и тут Буян остановился. Я слезла с коляски, стала звать: «Девочки! Девочки!» Никого не было. Коня надо распрягать, а я не умею. Стала развязывать и расстегивать все, что попадалось под руку. Потом заметила, что Буян все время сует мне морду. Наконец, догадалась, что там что-то надо расстегнуть, чтобы вытащить удила. Вот он и совал мне сначала одну щеку, а потом другую. Так я его распрягла, только хомут снять не смогла. Он понял, что этого от меня уже не добьешься, да прямо в хомуте и ушел к себе.
Смеху потом было много, потому что я развязала и расстегнула все, что не надо было. Никто на меня не рассердился за это приключение с конем. Все понимали, что «пані Аллочка неповинна вміти коня запрягати». А когда в баню пошли, то все увидали, что я была, как жираф, — вся в синяках. Конь же меня очень полюбил, узнавал потом всегда. Я вообще лошадей боялась, потому что, когда мне было лет шестнадцать, меня совершенно по-дурацки укусила лошадь.
Совсем бояться лошадей я перестала много-много позже. В 1989 году я попала в Монголию. Там чудесный человек, пригласивший меня и мою крестницу, отвез нас на праздник «Десяти тысяч коней». И этого я никогда не забуду, потому что коней там, наверное, действительно было десять тысяч. И я видела, как эти табуны скакали по монгольским холмам, подобно широкой темной реке, стекающей с горы. Видела я, и как ловят необъезженного коня. Табун лошадей сначала гоняли взад-вперед внутри круга, по краям которого стояло очень много народа, в том числе и мы. А ловили совершенно золотого жеребца. Он был точь-в-точь как тот, что под Ильей Муромцем на картине Васнецова, — с золотой длинной гривой и длинным хвостом. Это было совершенно удивительное зрелище. Потом каждый победитель во всех видах состязаний — пожилой монгол, средних лет женщина и мальчик — пел песню, посвященную своему коню, на котором выиграл победу. Там в лагере я и подумать не могла, что когда-нибудь увижу такое, Монголию увижу.
Но это я забежала вперед, потому что пока еще все-таки 54-й, 55-й годы. Люди уже идут на волю, но мы все еще ставим спектакли, даем концерты и пока конца не видно. Увезли неизвестно куда и зачем мою Джоньку со сломанной рукой — попала на фабрике в машину. И наша кошка плакала о ней настоящими слезами.
А я уже давно пишу, пишу и пишу бесконечные жалобы, требования о пересмотре дела. Пишу обо всех, не о своем деле и не о пересмотре дела Даниила Андреева, а о пересмотре дел всех, арестованных по нашему делу. Я без конца писала. Получив отказ, я в тот же день садилась и писала снова. Опять отказ, и опять писала. Не могу сейчас вспомнить точно, но, кажется, в 53-м году приехали на первое свидание ко мне мама с папой, увидали меня живую, веселую, ни перед чем не согнувшуюся. Как это описать? Конечно, во время этого свидания мы сидели и разговаривали, вцепившись друг в друга. Я не помню, сколько оно длилось, было коротким, наверное. В тот же день они уехали. Ни единой слезы ни у меня, ни у них. Мы сидим, я весело им обо всем рассказываю и, конечно, настаиваю, что надо требовать пересмотра дела.
Интересно, что последний отказ мы получили уже после XX съезда партии, на котором вроде бы разделались со сталинскими делами. Это неправда. И нас с Даниилом еще раз осудили — его на 25 лет тюрьмы, меня — на 25 лет лагеря — уже после XX съезда.
Очень интересно повели себя в то время вольные. Когда стало ясно, что лагеря кончаются и людей отпускают на волю, реакция вольных на это была очень разная. Одна из надзирательниц с искренним сожалением говорила: «Ай-яй-яй, как плохо. А я только что сестру сюда вызвала, чтоб она поработала. Ну, хоть бы приоделась немножечко. У нее же ничего нет». Реакция других тоже была очень выразительной. Уезжавшие конвоиры брали с собой куда-то сторожевых собак. Они переколотили окна в будке, где жили собаки, и написали на стенке «Этому больше не бывать!» Это были простые солдаты, взятые сюда на службу.
Вот еще картинка. В бухгалтерии у нас работали пожилые женщины, в основном те самые несгибаемые коммунистки. Начальником над ними был «бухгалтер Севка», вольный, очень молодой. Естественно, работали женщины, а он приходил на работу спокойный, ни над кем не издевался, но и никому не помогал. И вот однажды утром влетает белобрысый Севка в бухгалтерию и вопит:
— Снимайте! Снимайте эту дрянь! С вас номера снимают! Вам ваши платья отдают.
И тут стало ясно: мы уже спокойно относились к привычным номерам, а некоторые из вольных серьезно это переживали, и Севка только тогда себя выдал, когда вышло постановление о снятии номеров.
Одной из начальниц КВЧ была у нас Тамара Ковалева. Эта милая красивая молодая женщина закончила в Саранске педагогический институт, и ее распределили в какую-то дальнюю мордовскую деревню. Она пришла в такой ужас от этой деревни, что предложение стать начальницей КВЧ приняла с радостью. Начиталась Макаренко и думала, сколько добра принесет, перевоспитывая бедных заключенных женщин, возвращая их к полноценной советской жизни. В лагере она очень скоро все поняла. У нас с ней сложились хорошие отношения, мы потом даже переписывались. Помню такую сцену. Лагерная ночь, темно, мы сидим в мастерской, наверное, готовимся к очередному концерту. Тамара поехала в Центр на какое-то совещание, до которого нам дела нет. Вдруг совсем уже к ночи влетает сияющая Тамара и кричит:
— Девочки, ссылки больше нету! В Сибирь больше не поедете! Все, кто освободится, поедут домой!
Она могла остаться ночевать в Центре, могла переночевать в своей комнате за зоной, а все рассказать нам утром. Но не вытерпела — специально прибежала.
Все эти люди обязаны были скрывать свои человеческие чувства, а они были у многих, многие все видели и понимали. Они были как будто в каком-то параллельном нашему положении. Мы были заключенными, а они — нет, но каким-то чудовищным и трагическим образом их жизни сцеплялись с нашими.
А вот совсем другая история. С какого-то времени при шмонах стали отбирать стеклянные банки. Нас это страшно возмущало. В банках присылали то варенье, то консервы какие-нибудь. И они нам были очень нужны в хозяйстве. У женщины ведь все можно отобрать, но немыслимо отнять желание иметь хозяйство. Банки эти скапливались на вахте, куда нас не пускали, а потом исчезали. А надо сказать, что это совпало с появлением в лагере оперуполномоченного по фамилии Родионов.
Страшный был человек, причем трудно объяснить, чем именно. Ну, естественно, были придирки, строгости, карцеры, но я не могу припомнить никаких из ряда вон выходящих его зверств. Тем не менее, когда Родионов появлялся во время поверки, две тысячи женщин леденели от страха. Было в этом человеке что-то, наводящее ужас.
Однажды дверь библиотеки, где я тогда работала, загорелась. Ватная обшивка сгорела, но ни дверь, ни библиотека не пострадали. Было ясно: ее подожгла, причем под утро, пожарница по распоряжению Родионова.
Родионов меня вызвал:
— Вообще-то дело твое плохо, конечно. Десять дней карцера, лишение посылок, самая тяжелая работа. Но есть выход: будешь давать сведения.
Я ответила:
— Нет. Работа — значит, работа. Карцер — значит, карцер. Не буду.
— Ладно, — сказал Родионов. — Пиши под диктовку: «Мне известно, что о предложении мне работать осведомителем я никому не имею права рассказывать».
Я начинаю писать: «Мне известно, что о предложении мне работать осведомителем…» и вдруг останавливаюсь. Как будто рука Ангела дотронулась до моего плеча. Я вспомнила, сколько всего подписывала на следствии и что я тогда наделала. Ведь и эта бумага пойдет в мое «дело». И я приписала: «… И О МОЕМ ОТКАЗЕ я никому не имею права рассказывать».
Подаю бумагу Родионову, он побелел:
— Теперь видно, какая ты сволочь! Вон отсюда!
Конечно же, я вылетела мгновенно. Если бы я подписала только то, что не имею права рассказывать о предложении работать секретным сотрудником, из этого не следовало бы, что я отказалась. И на любом другом лагпункте меня могли шантажировать этой бумагой.
Карцера никакого не было, и посылки мне давать не перестали. Наверное, сработало все, что я делала для начальников. Сколько я им портретов понаписала! А еще то экспедитор, то цензор подходили и говорили: «Андреева, напиши отцу, чтобы он для меня безопасную бритву прислал, опущу письмо». Наверное, это вспомнилось. И меня отправили работать на фабрику. Об этом я уже говорила.
На мое место в библиотеке поставили одну женщину из проституток при иностранцах. Все знали, что она связана с начальством. Очереди в библиотеку прекратилась, потому что ей совершенно было неважно, чтобы люди читали.
А тут подошли очередные праздники, кажется, 7 ноября. В то время в лагере были еще две художницы, и начальство решило: «Пусть Андреева поработает на фабрике, а они все оформят». «Оформят» — значит, напишут лозунги не только для лагеря, но и для всей зоны, для всего поселка, а еще подготовят к празднику клуб. И выяснилось, что художницы вдвоем не в состоянии сделать пятой части того, что я делала одна. А ведь все надо было написать в срок. Вдруг приедет генерал и увидит, что на клубе не вывешены положенные лозунги! И меня вернули в КВЧ. Я раскладывала полотнища на полу, кое-как отмечала две линии, а дальше писала от руки. Сказывалась давняя, полученная во время моей специфической жизни в Москве способность, не думая, с невероятной быстротой писать любую ерунду.
История с Родионовым стала серьезным событием в моей жизни, это ведь была проверка, насколько я за годы лагеря все-таки собралась в цельного человека из того раздавленного существа, каким выползла из тюрьмы.
Шло время. И вот однажды из центра приезжает следователь и вызывает меня на допрос. Это очень страшно. Допрос обычно означал, что еще кого-то арестовали и нужны дополнительные показания. Иду сама не своя: столько лет уже прошло, что еще могло случиться?
Прихожу. Следователь спокойно меня расспрашивает о жизни в лагере, о надзирателях, о том, как к нам относятся.
— Ну а вот уполномоченный Родионов, он как?
— А я о нем боюсь говорить.
— То есть как?
— А вот так. Он очень страшный, я боюсь.
Следователь удивляется.
— Да не бойтесь, что вы!
Я говорю:
— Он очень страшный, гражданин начальник. Мы думаем, что он ненормальный.
Мы действительно так считали, потому что иначе трудно объяснить то впечатление, которое он на нас производил. Тогда следователь очень мягко меня спрашивает:
— А вы не замечали, чтобы он приходил в зону пьяный?
— Нет, — говорю, — по-моему, он сумасшедший.
Оказалось, я была неправа. Дело в том, что на воле я ни разу пьяных вблизи не видала. Это в нашем кругу не было принято. А выяснилось вот что. Неподалеку от лагеря находился ликероводочный завод. Там давали водку в обмен на стеклянную посуду, все равно какую. Вот для чего нужны были наши стеклянные банки! Ими нагружали грузовик и везли на ликероводочный завод менять на водку. Что такое мордовские дороги, не может себе представить даже человек, хорошо знакомый с дорогами русскими. Незадолго до того, как меня допрашивал следователь, грузовик с банками застрял, да так застрял, что пришлось вызывать трактор его вытаскивать. Ниточка стала распутываться, и оказалось, что все пьют, а особо страшно Родионов. Его выгнали с работы, из партии, лишили чинов и званий. Это было уже в 55-м году, незадолго до освобождения.
Конец же истории с Родионовым таков. Все, кто освобождался из лагеря, ехали через Потьму. В Потьме они ждали поезда, идущего по основной магистрали. Там и обосновался Родионов. Он околачивался на вокзале и допивал за освобождавшимися заключенными пиво. Когда мужчины узнали, что он бывший оперуполномоченный, который издевался над женщинами в лагере, они стали заставлять его за водку раздеваться догола и плясать.
Но хочу вспомнить и хороших начальников. Был у нас надзиратель Шичкин, мордвин. Мы знали: если дежурит Шичкин — и отбой будет чуть позже, и подъем чуть позже, а шмона не будет вовсе. В 56-м году из одного барака, который строили раскулаченные еще в 1929 году, выселили людей — барак разваливался. И вот появляется наш Шичкин в шинели без погон, в ярко-зеленом шарфе, намотанном на горло, которое у него вечно болело, с топором в руках и начинает, улыбаясь, громить барак. Он стал бригадиром плотников, разрушавших зону.
С годами у вольных и заключенных складывались какие-то странные человеческие взаимоотношения. Ну, куда побежит какая-нибудь «гражданка начальница», если у нее нелады с мужем? К заключенным. И будет плакать возле нас, а мы будем ее жалеть.
Как-то цензор сломал руку. Писем нет. Девочки идут к начальнику, ревут:
— Гражданин начальник, столько времени писем нету! Мы знаем, что они пришли…
И начальник серьезно отвечает:
— А вы поменьше проклинайте цензора. Вы вот на него злитесь, а у него то воспаление легких, то рука сломана. Перестаньте его проклинать, он поправится и станет вам отдавать письма вовремя.
— Да, — думаем мы, — и правда, цензор ведь тоже несчастный.
А события катились непрерывно, самые разные, неожиданные. Вдруг мы с концертом едем на мужской лагпункт. Конечно, нас оцепили, чтобы с мужчинами не общались, и, конечно, мы общались. Там я встретила Колю Садовника, бывшего заключенного Владимирской тюрьмы. Он сидел в одной камере с Даниилом и был потом из тюрьмы переведен в мордовские лагеря. Он привез и передал мне тетрадку, в которую переписал мелким-мелким почерком много стихотворений Даниила. Так вышло, что на лагпункте оказался фотограф, который нас снял, и это фото я послала в следующем своем письме Даниилу. В тюрьме была сенсация.
Нам вообще разрешили сниматься, и фотографировал нас тот самый экспедитор, привозивший посылки. Это был чрезвычайно симпатичный человек, которого сюда занесла судьба. Он никогда никому не причинил зла. Жил он бедно, поэтому был рад, когда ему разрешили нас фотографировать, а нам стали платить зарплату. Естественно, зарплата, была смешная, рублей 25 в месяц, но можно было уже получать деньги с воли. И мы платили ему за фотографии. У меня они есть, никто никогда и не догадается, что они сделаны в зоне. Ведь требование было такое: снимать можно, но чтобы ничего, относящегося к зоне, не было видно. И вот на фотографии, где я стою в платке на фоне белой стены, — это стена барака. Там, где я стою в пальто, в котором меня арестовали, бараки деревья закрывают. Вот сколько было хитростей.
Я несколько раз видела один и тот же сон: мы стоим пятерками, как на поверке, пятерками идем через Кремль. Впереди не видно начала этой шеренги из пятерок, а когда я оглядываюсь, не вижу конца. Колонна заключенных идет через Кремль. Сон повторялся и повторялся. А было это, когда в Кремле решался вопрос о лагерях. Вопрос был очень серьезный, причем в масштабе всего Союза. Лагерей было огромное множество. Я сама видела карту Союза с отмеченными на ней лагерями. Правда, чудовищное количество людей было уничтожено самыми простыми способами. На Дальнем Востоке были корабли, в которых открывался трюм. Корабль выплывал в море, трюм открывали, и люди тонули. Было огромное число расстрелов и неисчислимое количество смертей. Но оставалось множество людей, все еще живых. И что с ними делать? Куда от них деваться?
Этот вопрос стоял, по-видимому, в правительстве уже несколько лет. Каким-то образом заключенные узнавали то, что вроде бы и узнать-то было нельзя. Александр Исаевич Солженицын говорит о том же. И вот мы откуда-то знали еще при жизни Сталина, что будет пересмотр всех дел. Будут оставлены только здоровые и какая-то часть специалистов. Остальных ликвидируют. Я думаю, что живи Сталин дальше, то так бы и сделали, — это его почерк. После его смерти почерк изменился, а вопрос-то остался. Люди старели, болели, их надо было как-то кормить. И это, видимо, в конце концов привело к решению создать по всем лагерям и тюрьмам комиссии по пересмотру дел политзаключенных. Про указ о малолетках я уже рассказала. А тут нужно было пересмотреть все дела. Это-то я и видела во сне. Это и значил мой сон: мы, как символ нерешенного для страны вопроса, пятерками идем через Кремль.
Глава 25. ДВЕНАДЦАТЬ ВЕРСТ СВОБОДЫ
Лагеря кончались. Но прежде чем рассказать о последних месяцах лагерной жизни, хочу вспомнить сначала одну историю, прямо-таки детективную, которая началась много раньше. 1-й лагпункт располагался глубоко в лесу километрах в трех от «кукушки», железнодорожной веточки, отходящей от дороги Москва — Караганда. «Кукушку» эту называли «треплушкой», потому что никто не знал, когда придет поезд. По этой самой «треплушке» на фабрику подвозили материал. Оставшиеся три километра его везли на лошадях.
Девочки-возчицы, работавшие за зоной, доставляли к поезду продукцию. В стороне от основной дороги несколько раз они натыкались глубоко в лесу на странную картину: видели издалека на дороге мужчин в полосатых каторжных куртках. Видели они их только издали, потому что каторжников мгновенно куда-то убирали. Разумеется, приехав в зону, девочки об этом рассказывали, конечно, шепотом, только самым близким. Эта информация оседала у нас в мастерской, в библиотеке, куда все приходили.
Потом пропал тот самый начальник КВЧ, который приносил нам голубя и собачку. Через несколько дней выяснилось, что, увлекшись охотой, он куда-то не туда забрел в лесу. Оказывается, в нашем глухом лесу было такое место, куда забредать не полагалось никому. Вернулся начальник похудевший и молчаливый. Мы, конечно, потихоньку все же разузнали, что его удалось откуда-то вызволить. Откуда «откуда-то»? Стало еще интересней. Постепенно мы разведали, что где-то в лесу есть место под названием Курган. Дальше происходило разное. Вот по нашей «кукушке» привозят материалы для фабрики, большие рулоны ткани защитного цвета. За ними едут девушки. На той же «кукушке» прибывает что-то непонятное в сопровождении солдат-конвоиров, которые не говорят ни слова по-русски и по виду из Средней Азии. Затем выяснилось, что в лесу, где видали каторжных заключенных, никаких строений нет: ни бараков, ни заборов. И просочились сведения, что там все находится под землей.
А потом наша милая начальница КВЧ Тамара, о которой я уже упоминала, рассказала свою историю. Она любила одного офицера. Был он совершенно одинок, и его отправили на этот самый Курган. Тамара не могла даже позвонить ему, телефонистка не соединила бы, а кроме того, это грозило не просто неприятностями, а даже сроком для него. Он не мог оттуда прийти к ней, хотя это было совсем рядом с нашим лагпунктом. Они не могли встречаться. Зимой Тамара иногда уходила на лыжах в лес в том направлении. Он тоже в свои выходные имел право кататься на лыжах и шел ей навстречу. Так изредка им удавалось увидеться. Обо всем этом нам по-женски рассказала Тамара.
Был на нашей фабрике инженер, вольный, тоже очень трагично туда попавший. Он хорошо к нам относился, женился потом на одной из заключенных, у них родился сынишка. Судьба его складывалась сложно: он откуда-то сбежал, переменил имя и спрятался в этой системе от нее же самой. Кое-что он нам рассказывал.
И вот так по капле, по кусочку за несколько лет мы составили следующую картину. В глухом лесу недалеко от 1-го лагпункта под землей находился очень большой, как тогда выражались, «объект». Видимо, это было подземное производство, лагерь, где люди жили и работали под землей. Туда собирались такие же одинокие охранники и переводчики, а раз нужны переводчики, значит, работали не только русские. Охраняли их не знающие русского языка конвоиры. Все эти люди были обречены на то, что никогда уже оттуда не выйдут, никогда никого не увидят. Позже стало ясно, что там делали: водородную бомбу, сахаровскую. Потому что Арзамас-16, где жил Сахаров, был неподалеку. Работали на Кургане, наверное, и ученые, серьезные специалисты, тоже одинокие, которых никто не станет разыскивать. Возможно, Сахаров туда приезжал наблюдать за тем, как идет работа.
Однажды на Курган чуть не попала моя подруга Вера Петровна, та, которую дразнили березками. Она была тоже одинока, не получала ни писем, ни посылок, а так как вернулась из Германии, было известно, что знает немецкий язык. Более того, она знала его с детства, потому что была полулатышка-полунемка из-под Петербурга. Однажды Веру вызвали к лагерному начальству. Сидели там еще какие-то незнакомые ей начальники. Ее стали расспрашивать о жизни, о родных, о том, хорошо ли она знает немецкий. Вера отвечала, что немножко знала, а теперь совсем забыла. Когда она мне об этом рассказала, я со своим вечным стремлением что-нибудь новое увидеть, узнать воскликнула:
— Да почему ж ты не сказала? Может, там что-нибудь интересное? Но Вера была умнее меня и четко почувствовала опасность. Она ответила:
— Нет, если нужен совершенно одинокий человек, знающий язык, ничего хорошего не жди.
И была права. На Курган, видимо, попала одна женщина с нашего лагпункта, Оля Мартиновайте, литовка. Она была полностью расшифровавшая себя стукачка. Все знали, что она стучит, и хотя, как правило, драк и жестокости у нас не было, однажды ее избили, надев на голову ведро. Ведро надевалось, чтоб не видно было, кто бьет, и не могли потом донести. Была она одинокой, тоже не получала ни писем, ни посылок и знала несколько языков. Вот эта женщина и пропала. Мы обычно узнавали, кто куда уехал. Сведения попадали из Центральной больницы, где могли встретиться заключенные из разных лагпунктов. А эта литовка исчезла бесследно. По-видимому, попала на Курган.
Много лет спустя я приехала в Дивеево на Первые Серафимовские чтения. И четверых из нас пригласили в Арзамас-16 (правильно Саров) — закрытый город. В автобусе по дороге я спросила своих новых знакомых:
— Скажите, где я была? Я же была где-то рядом. Мне ответили:
— Тут, тут, Алла Александровна. Лесочек видите? Вот прямо за ним и начинаются ваши лагеря.
При въезде в Арзамас мы проходили через такую вахту, какую я прежде видела только в тюрьме. А потом был чудный город, выступления, хорошая, теплая обстановка. Вечером мы у кого-то пили чай, и я рассказала хозяевам все, о чем сейчас пишу. Они внимательно слушали, расспрашивали и в конце концов сказали:
— Да, это наша точка.
Мне показали потом в Арзамасе-16 коттедж Сахарова, «отца водородной бомбы», где он лет семнадцать жил и работал. А воплощались в жизнь его идеи в нескольких километрах оттуда, под землей. Говорят, условия у этих людей были очень хорошие, но все они были обречены никогда уже не увидеть солнечного света.
Когда заключение наше уже подходило к концу и нам разрешили выходить за зону, я, конечно, отправилась в ту сторону. Удержаться было невозможно. Я долго шла по лесной дороге, а потом вдруг услышала крик петуха. И так было странно слышать в лесу петуха, что я остановилась. У меня появилось чувство, что петух меня предупреждает: «Не валяй дурака!» И повернула назад.
Шел 1956 год. Была образована Комиссия по пересмотру дел политзаключенных, которая сначала работала в Москве. Потом подобные комиссии приезжали во все лагеря и тюрьмы. Работала такая и у нас, пересматривала дела. И тут очень важно сказать вот о чем. На 1-м лагпункте, где я тогда была, находилось около двух тысяч женщин — политических заключенных, «страшных врагов» советской власти. Когда все пересмотры закончились, там осталось одиннадцать человек. Можно поспорить и о виновности этих одиннадцати. Но достаточно и этого: из двух тысяч — одиннадцать. Остальные поехали домой, то есть было признано, что осуждены они неправильно.
А тут вышло постановление: выпускать на волю с заполненной трудовой книжкой с печатью и характеристикой. У меня там от начала до конца одно написано: художник. А многие девочки, работавшие на фабрике, приобрели профессию именно в лагере: швея-мотористка, электрик и так далее. У нас к тому времени был уже другой начальник КВЧ — Огарков, очень хороший человек, от которого мы никогда не видели зла. Писать характеристики полагалось ему. Но он мог выдать от силы две в день, а на волю люди шли потоком. Что делать? Он пришел ко мне:
— Андреева, ты можешь писать характеристики?
— Могу.
— Знаешь что: пиши, а я буду подписывать.
Какие я писала характеристики! У меня все девочки блестяще работали на фабрике, все проявили чудеса дисциплинированности и трудолюбия. Это помогало на воле устроиться, потому что тех, кто ехал из тюрьмы с хорошей трудовой книжкой и прекрасной характеристикой, обязаны были принимать на работу. Я написала шестьсот характеристик, и все начальник КВЧ подписал не читая.
Освободившиеся ехали к разбитым семьям, к старым больным родителям, к детям, которые Бог знает где провели эти годы. Первое время они еще писали нам, сообщая, как там, на воле. И все благодарили меня. Писали: «Передайте Аллочке — помогло!» И как мне сейчас странно, что латышки, эстонки, литовки, которые ведь не только от меня добро видели, но и от очень многих русских, с ними сидевших, все это забыли.
Потом произошло следующее. Нас оставалось уже очень мало и мы были выселены в опустевшую казарму, находившуюся за зоной, а на наше место привезли уголовниц. Это тоже был спектакль. Этап политических заключенных женщин обычно выглядел так: впереди два надзирателя с собакой, сзади тоже два надзирателя с собакой, а между ними человек триста заключенных. Этапы с уголовницами были другими: впереди два надзирателя с собакой, сзади два надзирателя с собакой, а между ними две-три заключенные. Вот так наш лагпункт стал лагерем уголовниц.
Уходя из зоны, я оставила тем, кто приезжал на наше место, самое дорогое: кисточки, краски, развернула на пианино в столовой ноты мазурок Шопена. Только человек, выросший с музыкой, может понять, чем были для нас эти мазурки, присланные моим папой, и с каким чувством я оставляла их тем, кого должны были привезти на наше место.
Я была глупа. Уголовницы обгадили весь лагерь в буквальном смысле: они добрались до наших костюмов, аккуратно сложенных, спрятанных в кладовой, разделись догола, обвязались поясами, надели на головы картонные шляпы от литовских танцев и в таком виде разгуливали по зоне.
1-й лагпункт находился чуть ниже у реки, а там, где мы поселились в казармах, было всхолмие. И вот оттуда мы видели, что творилось в зоне. Сколько души вложили мы в те костюмы! Это зрелище было совершенно невыносимым. Я с криком «Они растреплют наши костюмы!» помчалась к начальству, мне дали лошадь с подводой и в помощницы девушку-возчицу. Начальники знали меня несколько лет, видели наши спектакли, и это, наверное, подействовало.
Мы погрузили все костюмы на подводу, вывезли, и только потом я догадалась, что, по-видимому, наше спокойствие загипнотизировало уголовниц. Они могли сделать с нами что угодно: разорвать в клочья костюмы, избить и изнасиловать. Что такое две женщины для целой зоны уголовниц? Но мы совсем об этом не думали. Если бы мы испугались тогда хотя бы на минуту, все могло бы кончиться плохо.
Остается рассказать еще об одном. Когда мы въехали в зону за костюмами, она была полна пар. Это были так называемые «коблы» и «ковырялки» — как теперь принято выражаться, представительницы сексуальных меньшинств. Они носили определенную форму. «Ковырялки» были с челочками и бантиками по обеим сторонам головок. А «коблы» ходили в рубахах с поясом, в брюках, которые заправлялись в сапоги, и говорили хотя и не мужским голосом, но и не вполне женским. Стриглись они по-мужски. Это были супружеские пары. Хотелось бы, чтобы те, кто сейчас столь высокомерно называет себя сексуальными меньшинствами, взглянули на этот свой примитивный вариант.
В наших лагерях тоже, конечно, присутствовала однополая любовь, но редко и очень трагично. Одну такую историю, может, стоит и рассказать. Была у нас литовка Стефка, прекрасный товарищ, веселая, кудрявая, похожая на юного Блока. Ее арестовали, когда ей, к сожалению, только-только исполнилось шестнадцать. Поэтому она не попала под «указ о малолетках» и освободилась, по-моему, уже по концу срока. А история ее такова. Когда Каунас захватили немцы, эта веселая девчонка была против оккупации и помогала евреям. Помогала следующим образом: садилась на велосипед, увешанный пакетиками с едой, и ехала туда, где евреев вели на работу. Вели их, как и нас, — надзиратели в начале, надзиратели в конце, а посередине — колонна евреев. Стефка на своем велосипеде с воплями «Бей жидов! Дави жидов!» врывалась в колонну и выезжала из нее, когда с велосипеда уже успевали снять все пакетики с едой, а вслед ей несся шепот благословения и благодарности. Когда Каунас оккупировали советские войска, Стефка тоже, конечно, не сдавалась, но была уже за независимую Литву. Ее арестовали, добили до припадков эпилепсии, выбили все передние зубы, а потом отправили на Север, в Инту. Там она оказалась в женском бараке на верхних нарах рядом с очень молоденькой украиночкой. Это были годы, когда мужчины жили еще практически в той же зоне и по ночам приходили к женщинам, где на нижних нарах все и происходило с полной простотой и цинизмом. А девочки наверху замирали от омерзения и страха. Передаю рассказ Стефки, которую я спросила:
— Слушай, ну как же это началось-то?
Она ответила:
— А я не знаю как. Мы с Марийкой вцепились друг в друга, и так нам было противно все, что делалось внизу. И не было у нас никого, кроме друг дружки, вот так все и началось.
Потом их с северным этапом привезли к нам, еще на 6-й лагпункт. Украинки кольцом окружили ту молоденькую украиночку Марийку, они ее из этого извращения вырвали. Ну а Стефка была нарасхват у женщин намного старше нее, стосковавшихся хоть по какой-то ласке, очень тяжело переносивших отсутствие мужчин. Так вот она во все это и попала.
Много лет спустя, на ее сорокалетие, я прилетела в Каунас. До этого мы тоже приезжали туда с Женей Белоусовым. Стефка была такая же милая, веселая, жила с какой-то подругой. Помню, попробовала еще раз поговорить с ней на эту тему. Сказала:
— Что ты дурака валяешь? Ну ладно, лагерь лагерем, там никого не было. Ты посмотри, кругом столько парней литовских, почему тебе, в конце концов, не попробовать, может тебе понравится? Что ты ерундой занимаешься?
Она хохотала и отвечала:
— Аллочка, вы ничего не понимаете. Мужчины годны только на то, чтобы играть с ними в настольный теннис и пить водку. Больше они ни на что не годятся.
Так я потерпела полное поражение в попытке перевоспитать Стефку.
Итак, костюмы мы из лагеря вывезли. Мне дали в офицерском общежитии узенький чуланчик. Возчица помогла перетащить костюмы, и я аккуратно их складывала. Господи! Как же я плакала над этими костюмами! Никого рядом не было. Был день. Я в голос рыдала над каждой картонной шляпой, над каждой юбкой, над каждым литовским кикликом. А гуцульские костюмы! Когда же мне в руки попался белый плащ Ивана и деревянный меч, я совершенно захлебнулась от рыданий. Так я все там уложила, закрыла на замок и больше никогда не старалась узнать, что с этими костюмами произошло. Этот этап моей жизни закончился, и дверь за ним закрылась. Довольно было того, что нашу кошку в зоне (что может быть лучше кошки в доме?) убили.
Нас оставалось все меньше. В итоге в количестве, кажется, семнадцати человек нас отправили на 17-й сельскохозяйственный лагпункт, где заключенными были бытовики, в основном растратчицы, нарушившие что-то бухгалтеры. Везли нас туда на грузовике, и дорога в двенадцать километров заняла часа два — вот что такое мордовские дороги. С собой мы везли кошечку, дочку той, которую убили уголовницы. Звали ее Масочка, потому что она была черненькая, а мордочка ниже глаз беленькая, как полумаска — последнее существо оттуда, из зоны. Уже зная про все ужасы, Масочку мы повезли с собой. И вот эта молоденькая кошечка в конце двухчасовой дороги оказалась в глубоком обмороке. Она лежала на боку, хвостик свисал, глазки были закрыты, животик судорожно вздымался. Мы были все в синяках, но сознание не теряли, хотя растрясло нас хорошо. На 17-м лагпункте нас встретили те немногие из наших, которых привезли туда раньше. Конечно, первой мы передали с рук на руки кошечку. Она оправилась, выжила, потом там и осталась.
Из нас сформировали отдельную бригаду. Дело в том, что растерянность лагерных начальников не поддавалась описанию. Они привыкли властвовать над тысячами, десятками тысяч, миллионами заключенных. Таких, например, слов, как «права человека», тогда не слышали не только в лагерях. Я думаю, их воспринял бы с искренним изумлением любой человек в Советском Союзе. Это было абсолютно непонятное словосочетание. Никаких прав у человека не было и быть не могло. Это тоже достижение советской власти. И вот вдруг наши «граждане начальники» видят полное крушение того, что привыкли воспринимать как нечто совершенно незыблемое. Они считали, что всю жизнь будут «гражданами начальниками», имеющими в своем распоряжении крепостных, абсолютно бесправных людей, которых можно использовать как угодно. И вдруг этому приходит конец. Начальники были растеряны совершенно, а мы, по-моему, просто не в себе. Потому что надо представить себе, что значило года за два расстаться с двумя тысячами заключенных, а за каких-то два месяца проводить шестьсот подруг, каждую поцеловав и обняв. В голове у нас было одно: «А когда я поеду домой?..»
Из нас сделали отдельную сельскохозяйственную бригаду, и меня назначили бригадиром. Дали в руки тяпки и уводили подальше от остальных, чтоб мы не могли ни с кем общаться. Жили мы тоже в отдельной комнате. Работали на участке, где надо полоть бурьян почти метровой высоты, внизу под ним, говорят, была посажена свекла. Надзиратель у нас, по-видимому, был. Участок располагался недалеко от реки Вад, но до нее мы никогда не доходили, значит, не разрешалось. Иначе я, увидев вольную негрязную реку, конечно, полезла бы в нее. Несколько дней мы честно пытались работать. Бурьян стоял выше пояса, а где-то внизу торчали чахлые листики свеклы. Сначала мы выдирали бурьян, оставляя свеклу, словом, что-то делали, выполняя норму, кажется на 24 %, что прежде было абсолютно недопустимо, означало карцер, лишение пайки, все что угодно. Но ведь приказать-то нам уже было нельзя. Вообще сделать с нами ничего не могли. Времена были другие. Кроме того, когда начальники подходили к нам, пытаясь уговорить работать, мы встречали их общим ревом и, рыдая, задавали один и тот же вопрос: «Гражданин начальник, когда я поеду домой? Гражданин начальник, когда со мной будет все решено?». Они видели, что нас даже наказывать бессмысленно, потому что мы действительно невменяемые. Что бы нам ни говорили — мы только в ответ рыдали и спрашивали: «Когда я поеду домой?»
Потом мы быстро сообразили, что делать: вырубали тяпками абсолютно все вместе со свеклой и говорили: «А тут ничего не росло». Просто оставляли после себя кучу бурьяна. Свекла была нам безразлична.
Так продолжалось какое-то время. Каждый день кто-то уходил на волю. И я вышла на волю необыкновенно буднично. Был вечер, наверное, 10 или 11 августа. Вошел надзиратель и сказал: «Андреева, собирайся с вещами, завтра идешь на волю».
Эту ночь я спала. Наутро собрала вещи, попрощалась с оставшимися подругами и поступила странно. Вещи оставила, а сама пошла пешком на 1-й лагпункт, где находились еще три-четыре пожилых женщины в вольной бухгалтерии, в том числе Екатерина Алексеевна Ефимова, которая когда-то в ранней юности училась в одном классе с Вадимом Андреевым. Их не увезли вместе с нами, потому что вольные бухгалтеры не могли без них справиться с работой. И вот я прошла через мордовский лес те самые двенадцать километров, разделявшие наши лагпункты.
Мордовские леса странные, совершенно дикие: огромные деревья, трава выше меня ростом. Надо сказать, что, когда нас переселили в казарму за зоной, мы могли гулять по лесу. Все равно убегать без документов никто не стал бы, когда работает Комиссия по пересмотру дел. И я не могла вдоволь нарадоваться хождению по земле. Странно, и прибалтийки, и украинские крестьянки, хотя и жили среди природы, но не бегали по лесу так безумно, как я. Они почему-то боялись ходить в одиночку. Правда, я давно заметила, что и в русской деревне женщины никогда не ходят за ягодами по одной. А я не могла набегаться, хотя были у меня и всякие приключения. Один раз я, по-видимому, наступила на хвост то ли ядовитой змеи, то ли ужа. Хвост был покрыт листьями, которые доходили мне до щиколотки. Думаю, что змея испугалась не меньше меня, а я — до истерики, потому что под ногами вдруг зашевелилось нечто огромное. А однажды я шла-шла, и вдруг земля стала покачиваться. Я поняла, что зашла, куда не следовало. Очень осторожно, не поворачиваясь, стараясь ступать в свой след, задним ходом кое-как выбралась на твердую землю. Пройди я дальше по той трясине — меня не было бы уже очень скоро.
Было еще одно чудесное приключение. Я даже по вечерам не могла успокоиться, не могла набегаться по лесу, одна, в тишине. Как-то вечером выбежала из казармы, шла по дороге — и вдруг замерла в удивлении от запаха. Пахло земляникой, да так, что я даже не могла себе представить, что такое бывает. Конечно, я пошла туда на следующее утро. Боже мой, что же я увидела! Вся поляна была красная от земляники. Как бывает весной луг одуванчиков, летом — луг, покрытый ромашками, так большая-большая поляна была красной от земляники. Собрать ее всю было невозможно. Я присела, ела, ела, сбегала за банкой, собрала дополна. Не было даже заметно, что кто-то здесь побывал. Наверное, останься я там дальше, единственный, кого я могла бы встретить, — это медведь, тоже ходивший по землянику. Но мне это в голову не приходило.
И вот по такому лесу я пошла на 1-й лагпункт. Попрощалась с нашими старушками, с тем вольным инженером, который много хорошего для нас сделал. (Потом уже, когда ему удалось уволиться с работы, он прислал мне телеграмму, состоящую из двух слов: «Освободился. Владимир».) И пошла я тем же лесом обратно на 17-й лагпункт, с которого освобождалась. Лес огромный, совершенно безлюдный. Грибы растут на дороге. Гигантские деревья, и, хотя еще середина августа, верхушки уже золотистые. В тот год листья начали желтеть очень рано. Он очень красив, этот мордовский лес, только временами страшен. Может быть, потому что он весь переполнен страданием. Это не те Саровские леса, хоть и близко лежащие, где спасался преподобный Серафим. Я думаю, мы совсем не понимаем, что вообще происходит с землей, с деревьями, и какое взаимодействие существует между природой и человеком.
И вот я иду одна по этой лесной дороге, необыкновенно красивой, и вижу удивительные вещи — в редкой ярко-зеленой тонкой и высокой траве стоят громадные красные мухоморы. Эта поляна казалась заколдованной. Еще там были гигантские муравейники, метра полтора-два высотой. Вокруг муравейников росли свинушки, стоя шляпка к шляпке, как высокая крепостная стена вокруг муравьиного города.
Может показаться странным, что я не кинулась сразу на поезд, в Москву, к маме и папе, прорываться во Владимир к Даниилу. Вот и сейчас я задерживаюсь здесь, на этой дороге в лесу. А причина одна. Я иногда, смеясь, говорила, что в моей жизни было двенадцать верст свободы — только та дорога лесом. Мне и сейчас трудно уходить из этого леса, как трудно было покидать детство, трудно было отрываться от наших с Даниилом вечеров в Малом Левшинском. Просто потому, что я знаю, что будет потом.
Глава 26. ВОЛЯ
Тринадцатого августа — день моего фактического освобождения. Меня с вещами переправили на «кукушку», а по ней — в Потьму. По дороге я выскочила на 6-м лагпункте. Туда привезли Джоньку, оставив ей срок 25 лет, и я вымолила короткое свидание с ней, кажется, на полчаса. В Потьме собралось огромное количество народа. Это было уже в конце лагерей, и можно себе представить, что там происходило раньше. Знаю по рассказам, что на поезда «Караганда — Москва», проходившие через Потьму, никто из вольных, которым нужно было в Москву, не попадал — ехала вся Караганда и все мордовские лагеря. А вдоль железной дороги стояли люди и махали руками проезжавшим, потому что знали, кто едет.
Помню, одну ночь я спала на вокзале на деревянной скамейке рядом с каким-то мужчиной, кажется, из Прибалтики. Люди лежали вповалку, и атмосфера была удивительной, какой, конечно, никогда уже быть не может.
Не знаю, как бы я оттуда выбралась, если бы не Толя Якобсон, муж одной из женщин, вернувшихся из заключения. В Мордовии отбывала срок сестра его жены, освободившаяся еще до введения трудовых книжек. И Толя приехал, чтобы получить от начальства какую-то справку. Как мы там встретились, почему заговорили — не помню. Но когда пришел очередной поезд, Толя прорвался к кассе, ухитрился получить два билета, и мы вскочили в поезд чуть ли не на ходу. Я ехала сбоку на той верхней полке, куда кладут чемоданы.
Так 15 августа я вернулась в Москву. Пришла в Подсосенский переулок, туда по обмену с Петровки переехали мама с папой. А родители оказались в это время на даче в Звенигороде. Встретили меня соседи. У них я оставила вещи. Но не помчалась сразу, что было бы естественно, в Звенигород, а дала туда абсолютно бестолковую телеграмму: «Освободилась тринадцатого ждите Звенигороде». Телеграмма была глупая, она сбила родителей с толку.
А сама я вернулась на тот же вокзал встречать наших. Я знала, что из разных лагерей из той же Потьмы едут девочки и нужно помочь им добраться домой. Я встретила группу эстонок и переправила с Казанского вокзала на Ленинградский, в Эстонию надо было ехать оттуда. Потом собрала всех украинок и отвезла их на Киевский вокзал. Наверное, это странно, но иначе я не могла. Мне надо было помогать этим людям до конца, сколько смогу. И только проводив их, я села в электричку и поехала в Звенигород.
Пятнадцатого августа — день рождения папы. Он встречал меня, вконец переволновавшийся, потому что из Звенигорода уже ездил к каждому поезду из-за моей дурацкой телеграммы. Я-то хотела родителей успокоить, дескать, освободилась, но так бестолково написала, что он встречал каждый поезд, а меня нет и нет. Эта страшная, безнадежная психическая травма осталась у всех советских людей: если кто-то опаздывает, наверное, что-то случилось, тем более с дочкой, которая едет из лагеря.
Но вот я приехала, и началась очень нелегкая жизнь. Дело в том, что освобождавшиеся из лагерей очень долго не могли пробить некую душевную преграду. Позже в письме Даниилу я писала: «Какая-то стеклянная стена возникает между теми, кто измучился, ожидая на воле, и теми, кто измучился в лагерях и по дороге из лагерей». Очень важно, когда люди идут параллельными путями. А когда огромный кусок жизни был совсем разным у самых любящих, дорогих, самых близких людей, то очень долго потом что-то не склеивается. И никто тут не виноват. Просто так получается. Наше с Даниилом счастье в том, что меня тоже арестовали. Между нами этой стены не было.
Прежде чем продолжать рассказ о жизни на воле, хочу еще раз вернуться к теме лагерной самодеятельности. Понимаю, как странно читать сейчас о моих слезах над театральными костюмами, о том, как мы жили от концерта до концерта. Позже, когда уже в брежневские времена мои друзья сидели в лагерях, отношение к самодеятельности, во всяком случае у мужчин, было иным. Они презирали тех, кто выступал на сцене, отчасти потому, что в то время самодеятельность уже пытались превратить в пропагандистское действо. Мы даже в конце, когда нам как величайшую милость позволили ставить советские пьесы, все равно читали настоящие стихи: больше всего Пушкина и Шекспира, исполняли по памяти отрывки из опер, мазурки Шопена.
Пожалуй, теперь я, кажется, могу объяснить, в чем дело. Заключенные 70-х годов были политическими деятелями, а мы — обыкновенными людьми. И вот жизнь странным образом раздваивалась. То, что считалось реальным: забор, работа, бараки, поверки, — казалось кошмарным сном. А жизнь на сцене, в музыке, в стихах становилась настоящей. И нам более свойственны были чувства из этой, казалось бы, иллюзорной жизни. Быть может, удивительные явления искусства и науки советского времени были достигнуты не благодаря советской власти, а вопреки ей, как духовное противостояние бредовой действительности. Ведь в душе каждого человека, каждого народа есть это противостояние Божьего начала наступлению кошмара реальности. Это Божье начало искало выход в творчестве. Думаю, именно поэтому самодеятельность была для нас так важна. На сцене мы жили, а якобы реальная жизнь превращалась в бред, каким бы длительным он ни был. Я вспоминаю, как читала «Евгения Онегина», и полный зал украинских крестьянок, прибалтийских девочек, русских, а в первом ряду — «граждан начальников», слушал, затаив дыхание. Я не думала тогда, что это была в какой-то мере моя победа. Просто читала, вкладывая в стихи все, что могла, а люди слушали.
Теперь, с возвращением из лагеря, все опять встало на свои места: реальная жизнь стала реальной жизнью. Нет, правильнее сказать: реальная жизнь вцепилась мне в горло. Притом, произошло это с самого начала. Пожалуй, одно из первых впечатлений, ждавших меня на воле, было таким. Я, вернувшаяся из лагеря, не боялась ничего и никого. А родителей застала скованными страхом. Папа, как всегда, прекрасно держался, только невероятно волновался, когда я хоть немного опаздывала. Ужас той ночи, когда он звонил с вечера до утра и понимал, что у нас происходит, тот шрам не исчез, несмотря на папину блестящую выдержку. Мама была просто задавлена страхом.
Не помню уже, в каком году папу постигло еще одно несчастье. Как я уже писала, он работал в Институте профессиональных заболеваний имени Обуха. Папа создал там лабораторию по изучению зрачкового рефлекса. Она была его детищем. Работал у него там такой интересный человек, из русских Кулибиных, который всю аппаратуру делал. В этой работе была папина жизнь. И вот лабораторию у него отняли. Однажды он пришел на работу, а там висит приказ о его увольнении, его, крупного ученого, доктора honoris causa, то есть без защиты диссертаций, просто по сумме работ. Причина же простая: дочь — в тюрьме, а мать — за границей. Мою бабушку — папину маму, как я уже говорила, революция застала за границей, и она жила в Праге. Позже папа работал в Институте научной информации, он владел в разной степени семью языками, заведовал там отделом и опять нашел свое настоящее мужское дело. Но та травма, конечно, не зажила.
Мама так волновалась за оставшегося на свободе брата, что умолила его не писать мне в лагерь. И брат написал первое письмо, когда стало ясно, что все кончается и скоро я буду на воле. Вот это я застала, приехав домой: онемевшую от страха маму и папу, в значительной степени раненного всем происшедшим.
Итак, я приехала к родителям в Звенигород и провела там несколько дней. Мой любимый Звенигород, город летних каникул моего детства, был уже, разумеется, не таким, и все-таки… немножечко таким же, как раньше. Однажды, нагулявшись (как по мордовскому лесу, я не могла набегаться здесь по свободной земле), я вернулась домой, вошла в комнату, где сидел какой-то совсем незнакомый мужчина. Он вскочил, схватил меня на руки и стал носить по комнате. А я, обняв его за шею, думала: «Господи! Кто это? Кто это может быть?» И внезапно поняла, что это может быть только мой брат Юра. Девять с лишним лет назад я оставила его длинненьким тоненьким юношей, только что окончившим Консерваторию. Сейчас это был крупный широкоплечий мужчина, совершенно не похожий на того мальчика, которого мы звали «студент Ансельм».
Конечно, когда я ехала в Москву, то думала, что сейчас же отправлюсь к Даниилу во Владимир на свидание. За годы жизни в лагере я как-то забыла, что сперва надо получить паспорт, поставить в нем прописку и так далее. Кстати, паспорт у меня был забавный. Нам выдавали их в Зубовой Поляне, то есть там же в Потьме. Паспорт был очень толстый, трехъязычный: русский и два мордовских языка: эрзя и мокша. Жаль, что у меня его уже нет.
Затем возникла проблема прописки. Папа сразу же прописал меня к себе, совершенно не подозревая, сколько потом из-за этого выйдет хлопот. Для него этот шаг был естественным: конечно, потом надо хлопотать, где жить, но пока дочку не временно (как следовало), а постоянно пропишет у себя.
Все эти хлопоты с бумажками заняли дней десять. И на свидание к Даниилу я поехала только 24 августа. Мама, много раз бывавшая у Даниила, рассказала мне, как доехать. Мы решили, что я поеду поездом, так как от вокзала добираться проще всего. Я должна была выйти на площадь, сесть на троллейбус, сойти на остановке «Поликлиника». Это и есть тюрьма.
Это первое свидание имело удивительную прелюдию. Поезд прибывал во Владимир в пять часов утра. Он стоял посреди густого-густого тумана, за которым словно и не было никакого города. Я шагнула с поезда в туман, как в молоко, и пока в растерянности оглядывалась по сторонам, туман начал опускаться, и над ним в голубое небо поднимался белоснежный храм с золотым куполом и крестом. Этот златоглавый храм встречал меня перед первым свиданием с Даниилом. Потом туман окончательно рассеялся, и я поехала в тюрьму.
На Земле много мест, где сконцентрирован Свет, мест благословенных. На таких местах возводились храмы и монастыри христианства. Многие из этих мест были отмечены Богом и раньше, в дохристианский период. Благословенность всегда от Бога, также как и святость всегда святость, даже если она не знает, откуда снизошла.
Но есть на Земле и другие места, противоположные, где собралось и сплелось в единый комок зло и страдание. Таких мест не много, иначе Земля не могла бы жить. Одним из таких страшных мест является Владимирский централ. Переплетение судеб и путей, шедших через него, в полной мере непередаваемо. Судьбы революционеров, искренне по неразумию желавших построить на Земле рай без Бога, переплетались с судьбами тех, кто по велению совести пытался хоть как-то противостоять насильственному насаждению безбожной коммунистической идеологии. Министры независимой Литвы, молодые коммунистки, украденные органами ГБ на улицах Вены, смешивались здесь с православными, положившими свою свободу и жизнь к подножию креста Господня. Игорь Огурцов и Михаил Садо, возглавлявшие ВСХСОН, академик Василий Парин, директор ленинградской Публичной библиотеки Лев Раков, член Государственной Думы Василий Шульгин, рыцарь Грузии Симон Гогиберидзе, отсидевший полностью 25 лет, как и бывший градоначальник Смоленска Меньшагин, жена Буденого — певица и другие, такие же «просто женщины», Василий Сталин (он сидел под фамилией «Васильев») — всех судеб, сплетавшихся в этот страшный узел, и не перечислить.
Нельзя не вспомнить сидевших тут японских и немецких военнопленных офицеров. Один из таких японцев умер в тюрьме и похоронен на кладбище, непосредственно к тюрьме прилегающем. Туда приезжал, кажется, премьер министр Японии и под проливным дождем, отогнав охранника, пытавшегося раскрыть над ним зонтик, долго молился на этой могиле.
Вот здесь и написаны Даниилом основные его произведения. В них нет ни злобы, ни ненависти, только незыблемая вера в Бога и силы Света, мечта о всемирном Братстве на пути к Господу и сознание своего долга служить Свету.
Меня ввели в крохотную комнатушку. В ней стоял самый обыкновенный стол, два пустых стула, на третьем сидела женщина с автоматом. Туда и привели Даниила. Он выглядел таким же, как прежде, только очень похудевшим и седым. Мы так обрадовались, что не заметили измученности друг друга. Ни о какой болезни никто в эту минуту не думал — Даниил подхватил меня на руки. Воспринимая все как светлое чудо, мы были, конечно, неправы: Даниил смертельно болен, перенес тяжелейший инфаркт. О моей очень тяжелой болезни я тогда еще не знала. Но безоблачность первого свидания ничто не омрачало.
Женщина с автоматом сияла от искренней радости за нас. А Даниил тут же под столом передал мне четвертушку тетради со своими стихами. Я взяла тетрадку и спрятала в платье. Так, через десять дней после моего и за восемь месяцев до его освобождения мы принялись за то же, за что и сели. То же самое мы делали во время всех трех наших свиданий во Владимирской тюрьме — свидания полагались один раз в месяц. Даниил передавал мне стихи, я их хватала и читала потом по дороге домой в автобусе или маршрутке.
В тот день из тюрьмы я пошла к белому храму, села возле него и стала писать письмо Даниилу, с которым только что рассталась…
В 1992 году произошло удивительное событие: во Владимирской тюрьме освятили часовню. Перед этим отец Евгений, который служит под Владимиром, год работал с заключенными. Он, с помощью тюремных офицеров, добился того, чтобы ему отдали большую, рассчитанную на шестнадцать человек камеру. Ее перекрасили, поставили там резной иконостас. Мне и Леониду Евгеньевичу Бежину, писавшему в то время о Данииле, разрешили присутствовать на освящении часовни. Рядом с нами стояло несколько человек заключенных — не политических, а убийц и насильников. По совершенно потрясающему совпадению часовня оказалась наискосок от камеры, где Даниил провел большую часть заключения! В коридоре я читала офицерам ГБ стихи, написанные в этой камере. А потом по внутреннему радио читала их заключенным.
Было такое время, когда камеру, в которой сидел Даниил, в шутку называли «академической». Там сидели, к примеру, биолог академик Василий Васильевич Парин, получивший 25 лет и позже, естественно, реабилитированный, Лев Львович Раков, бывший директором Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, арестованный по ленинградскому делу и осужденный тоже на 25 лет; искусствовед Владимир Александрович Александров. И тут мне хочется рассказать об одной очень хорошо характеризующей этих людей истории.
Как-то во Владимирскую тюрьму привезли уголовников, и часть из них посадили в ту самую «академическую» камеру. Можно себе представить, что это были за уголовники, получившие тюрьму, а не лагерь. Нам ведь в лагере всегда говорили, что любой убийца, бандит, грабитель, проститутка — люди, а мы, политические, нет. Так вот, тех уголовников, севших за что-то очень серьезное, и привели в камеру к Даниилу, Парину и Ракову. Те встретили вновь прибывших очень дружелюбно и просто. А вскоре стали проводить с ними занятия. Василий Васильевич читал им лекции по физиологии; Лев Львович — лекции по русской истории, особенно по истории обожаемого им русского военного костюма; Владимир Александрович — историю искусств; а Даниил сочинил специальное пособие по стихосложению и учил уголовников писать стихи. Помню, как Даниил, показывая мне эту тетрадочку уже на воле, смеясь, говорил:
— Знаешь, здесь абсолютно все, что должен знать поэт. То есть все, чему человека можно научить. Остальное от Бога: или есть, или нет, — научить этому невозможно.
Отношения с теми уголовниками сложились вполне доброжелательные. Кроме того, Даниил, Парин и Раков втроем написали в камере книжку под названием «Новейший Плутарх». Это собрание забавных выдуманных биографий никогда не существовавших людей. В какой-то мере задумка сходна с Козьмой Прутковым. Книжка издана вдовой Василия Васильевича Парина Ниной Дмитриевной. Я очень люблю эту книжку, причем целиком, не разделяя авторов. Интересно именно то, что в тюрьме три двадцатипятилетника, полностью обреченных человека, написали такую веселую книгу. А Левушка Раков еще кофейной гущей нарисовал великолепные иллюстрации к каждой биографии. Кстати, в книге есть его новелла «Цхонг Иоанн Менелик Конфуций — общественный деятель — первый президент республики Карджакапта», в которой юмористически выводится сам Даниил. В ней есть два рисунка: портрет Даниила, скорее шарж, но очень ласковый, и еще некая, можно сказать, пародия на «Розу Мира» — город, где стоят впритык храмы всех конфессий. Я думаю, никто не смеялся над этим больше и искреннее Даниила, ему вообще было свойственно чувство юмора. И Левушкина новелла его приводила в полный восторг.
Кстати, одна из новелл — об опричнике, приписанная в книге Даниилу, на самом деле написана другом Льва Львовича Ракова Даниилом Альшицем, тоже бывшим в заключении, но не во Владимире. Так как инициалы совпадают — Д.А., то при публикации решили, что это Даниил Андреев. Кроме того, от Михаила Агурского знаю, что что-то было написано японцем и что-то немцем. Кому их новеллы приписали — не знаю, но не Даниилу.
Помню еще забавный рассказ о том, как они узнали о смерти Сталина. В ночь с 5 на 6 марта 1953 года камера спала, а Василий Васильевич Парин не мог заснуть от какой-то очередной болезни — все они были больны, ведь тюремная камера — место, где и здоровый заболеет. И вот Василий Васильевич, мучившийся без сна, услышал в ночной тишине обрывки слов, звучавших по репродуктору на близлежащей улице: «…вождь мирового пролетариата… скорбь народов всего мира…» и т. д. Он догадался, в чем дело, и утром поспешил сообщить об этом Даниилу. Но как? Сказать в камере, где сидят несколько человек, в том числе и стукач, означало в лучшем случае карцер, а может, и второй срок. Василий Васильевич сообщил так: подошел к Даниилу, изобразил рукой усы и показал пальцем в пол. Даниил ахнул. Василий Васильевич повторил пантомиму. Потом, кажется, в 2 часа дня по всему Советскому Союзу завыло все, что могло выть. Естественно, во Владимире тоже. Стало ясно, что произошло, но говорить об этом все равно было нельзя. Газеты в тюрьму специально приходили с опозданием в два месяца, и только тогда они прочли: «скончался великий отец народов, вождь мирового пролетариата» и все прочее. В той же камере, кроме Ракова, сидели еще другие люди по совершенно бредовому «ленинградскому делу». Суть его заключалась в том, что Ленинград будто бы собирался отделиться от Советского Союза. И вот двадцатипятилетники, сидевшие по воле Сталина по этому делу, рыдали о «вожде народов», совсем как в нашем лагере рыдали о нем московские проститутки.
Сидел Даниил вместе с Василием Витальевичем Шульгиным, бывшим членом Государственной думы, одним из тех, кто принимал вынужденное отречение от престола царя-мученика Николая II. В тюрьме полагалось время от времени менять состав камеры, может, чтобы там не сложилась какая-то группа, а может, чтобы подсаживать новых стукачей. С Василием Витальевичем у Даниила сложились очень хорошие, полные уважения друг к другу и теплоты отношения.
Когда Даня умер, я просто не могла об этом писать и взяла да поехала к Василию Витальевичу. К тому времени он был уже в инвалидном доме во Владимире. Я вошла туда, молча села на подоконник в передней. Мимо проходили люди, мне было ясно, что среди них нет того, к кому я приехала. Вдруг откуда-то вышел человек, к которому я сразу подошла и сказала: «Здравствуйте, Василий Витальевич, я — Алла Андреева». Он очень удивился, но удивляться было нечему: он выделялся там как белая ворона.
К Шульгину приехала жена Марья Дмитриевна, красивая даже в старости: седая с большими карими, как говорят, огненными глазами. Человек такой искренности, прямоты и чистоты, какими и бывают настоящие русские женщины. Она была из семьи военных. Не знаю ее девичьей фамилии.
С ней я подружилась очень сердечно и глубоко. Марья Дмитриевна, Маша, когда Василия Витальевича попросту украли гэбэшники в Югославии, осталась там, на Западе. А его увезли в СССР. Освободила Шульгина комиссия по статье «Лица, не имеющие паспорта». А это неправда, у него был нансеновский паспорт. Один из величайших людей эпохи, Фритьоф Нансен, добился, чтобы эмигрантам, во всяком случае тем, кто не хочет принимать гражданство страны, где вынужден жить, давали специальный паспорт. У Василия Витальевича был такой паспорт. И вот его, обозвав «беспаспортным», Комиссия выпустила. Марья Дмитриевна начала хлопотать о возвращении Шульгина на Запад. После первого же отказа — не могли же его так просто выпустить — она в классической традиции русских женщин приехала к мужу в Гороховец в инвалидный дом, чтобы разделить его судьбу. Потом их перевели в инвалидный дом во Владимире, где мы и познакомилась. Затем Шульгиным дали квартиру во Владимире. К счастью, их соседями была прекрасная семья Коншиных, которая заботилась сначала о них двоих, а после смерти Марьи Дмитриевны о старом ослепшем Василии Витальевиче. Коншины заменили ему родных, да и родные не всегда так заботятся о близких.
Последнее выступление Василия Витальевича было в 1969 году на суде над поэтом Николаем Николаевичем Брауном, сыном поэта Николая Леопольдовича Брауна. Шульгин был вызван как свидетель обвинения, но горячо, как когда-то в Думе, выступил в защиту обвиняемого.
Еще во Владимирской тюрьме в одиночке сидел Меньшагин, бывший градоначальником Смоленска во время немецкой оккупации. Он открывал Смоленский собор. Немцы не всегда взрывали и закрывали храмы. Чаще они их открывали — не будем говорить о причинах, по которым они это делали. Так и Смоленский собор был открыт именно во время оккупации.
С Меньшагиным я познакомилась много позже, провела с ним один вечер, тогда он и рассказал свою трагическую историю. Его арестовали на Западе, вернее, он сам сдался, потому что, пытаясь найти жену и дочь, ошибочно решил, что они попали в руки советских властей, и не хотел остаться на свободе. А все было наоборот. Жена и дочь оказались на Западе. В конце войны была немыслимая путаница, порождавшая множество трагедий. Меньшагин получил двадцать пять лет одиночки во Владимирской тюрьме. Дело в том, что власти понимали, что он знает настоящих виновников Катыни. Он действительно знал, чем была Катынь и кто расстреливал польских офицеров. Он рассказал мне, как немцы, только что занявшие Смоленск, повезли его в Катынский лес, где ими были раскопаны могилы с уже разлагающимися трупами польских офицеров, расстрелянных советскими палачами. А на всех допросах он отвечал одно: «Видел трупы. Наши говорили, что расстреляли немцы, немцы говорили — расстреляли советские. Больше ничего не знаю».
Поэтому он получил одиночку, и в ней отсидел двадцать пять лет.
На Нюрнбергском процессе выступал его заместитель. Там объявили, что местонахождение градоначальника Смоленска неизвестно, хотя знали, что он во Владимирской тюрьме. Этого заместителя нашли где-то в лагерях, и он сказал то, что от него требовали: Катынь — дело рук немцев. И за это получил свободу.
Еще портрет. Симон Гогиберидзе, грузинский меньшевик, эмигрировал в Париж и где-то в начале войны вернулся в Грузию. Как он вернулся, не знаю, вероятно, просто перешел границу, но, к сожалению, получил советский паспорт. Он прибыл по заданию грузинских меньшевиков уговаривать грузин не противостоять Советской России, а вместе бороться против Гитлера. Это все, что я знаю о политической роли Симона. Его арестовали, конечно. Он получил двадцать пять лет, полагаю, как шпион. Отсидел во Владимире пятнадцать лет, и та самая комиссия, о которой я уже упоминала, выпустила его опять-таки как «человека без паспорта». Вышли они на свободу вдвоем с Зеей Рахимом — человеком, который был для Даниила как приемный сын, так же как Джонька была моей приемной лагерной дочкой. Зея оказался потом чистейшим авантюристом, и я не хочу о нем писать.
Симон, с которым я видалась дважды, рассказывал, что когда они вышли из двери тюрьмы, на улице стояла толпа людей, ожидавших освобождения сына Леонида Андреева. Потом Симон и Зея отправились через Москву в Тбилиси. В Москве Симон позвонил мне, я прибежала на Курский вокзал, и мы познакомились. Через два месяца я получила отчаянное письмо от его сестры. Дело в том, что, вновь просматривая документы, относящиеся к комиссии, обнаружили, что у Симона был-таки советский паспорт, и его после двух месяцев свободы вернули во Владимирскую тюрьму досиживать срок. Он сидел еще десять лет.
Мы виделись с ним еще раз. Когда он окончательно освободился, то мы с Женей Белоусовым полетели в Тбилиси повидаться с ним. Так вышло, что он нас встречал, а мы приехали как-то иначе. По дороге я смотрела на всех старых, сгорбленных, с трудом идущих людей. Прибежала к нему, а его сестра Нина сказала, что мы разминулись, он пошел нас встречать. Я посмотрела в окно и увидала — идет совсем не сгорбленный, а стройный, прямой Симон — хоть лезгинку танцевать. Но прожил он еще только два года. Это был рыцарь Грузии. Последние слова, с которыми он умирал, были «Картвела, Картвела» — Грузия. В ночь его смерти, которая совпала с девятым днем со дня смерти папы, мне приснилась горная страна. Я вспомнила, что в «Розе Мира» описана удивительная страна небесных гор, куда попадают люди, всей своей жизнью заработавшие светлое посмертие, но не верившие в Бога. Там им открывается величие и имя Божие. Свой сон я отнесла именно к девятому дню смерти папы. Но когда полетела на похороны Симона в Тбилиси, из иллюминатора самолета увидела Эльбрус и тот самый горный пейзаж из моего сна. Оказалось, что он относился к смерти Симона.
К сожалению, я забыла фамилию одного юриста, который тоже сидел в одиночке. Там тоже люди как-то перестукивались, и поэтому что-то друг о друге знали. Этот юрист слышал о Данииле. Когда его одного выводили на прогулку, он выходил с пайкой хлеба, чтобы кормить голубей. Все голуби слетались ему на плечи, а он давал им этот хлеб — единственное, что имел.
Бывало и другое. Петя, молодой уголовник. Сначала он находился в лагере. Возможно, преступление, за которое его осудили, было не особо тяжелым. Но в лагере произошло следующее. Нарядчик, сам тоже заключенный, немыслимо издевался над заключенными. Это совсем не редкость, и у нас была такая нарядчица. Но тот, видимо, перешел все мыслимые границы. Утром на разводе, когда заключенным перед работой раздают инструмент — а инструментом Пети был топор, он на глазах у всех этим самым топором зарубил нарядчика. Естественно, что за это он попал уже в тюрьму. Даниил как-то очень мягко взял его под свою опеку, я думаю, с большой пользой для души этого очень молодого человека.
Исаак Маркович Вольфин. Работал в Швеции с Коллонтай, которую высоко ценил. С самого начала войны писал в Союз заявления с просьбой отозвать его из Швеции и отправить на фронт. В 1943 году этим просьбам вняли, его вызвали, и какое-то время он служил в морских частях. Позже преподавал шведский в Военном институте. Ну, а в 1946 году его арестовали, конечно, как шпиона. Кроме того, из него вытряхивали компромат на Коллонтай, но так и не вытряхнули. Дали 25 лет и отправили во Владимирскую тюрьму. Там они с Даниилом и познакомились. Вольфин освободился гораздо раньше Даниила. Через него, «дядю Сашу», мы познакомились с его племянницей, моей тезкой Аллочкой, тогда очень юной девушкой, которая много нам помогала. Как-то дядя Саша, который после освобождения жил у своей невестки, Аллочкиной мамы, пришел домой очень взволнованный. Он был в гостях и утешал там горько плакавшую женщину. Она рыдала, потому что расстреляли ее мужа, а муж этот был следователем Исаака Марковича, который как раз его и пытал, вытаскивая компромат на Коллонтай. Это все к той же теме трагического переплетения судеб.
Теперь во Владимирской тюрьме сотрудником краеведческого музея Виталием Гуриновичем основан Музей истории этой тюрьмы.
Теперешний начальник Владимирской тюрьмы — потомственный начальник. Он даже родился этажом ниже своего нынешнего кабинета. Когда мы, несколько человек, приехавших во Владимир на Андреевские чтения, пришли в тюремный музей, нам его показывал заместитель этого спокойного и доброжелательного человека. Был выходной, и он пришел специально для нас и привел с собой девятилетнюю дочку: показать музей и показать меня, живую женщину, прошедшую заключение, хоть и не во Владимире.
В этом музее теперь, среди многого другого, представлены материалы, посвященные Даниилу Андрееву, и все его произведения, ныне опубликованные, написанные во Владимирской тюрьме.
Глава 27. ВСТРЕЧА
По возвращении из Владимира у меня началась трудная жизнь. Я искала работу, восстанавливалась в МОСХе. Справку об освобождении мне выдали со снятием судимости и разрешением жить в Москве. По этой справке меня восстановили как члена МОСХа еще до реабилитации. Милая секретарша МОСХа Лидия Христофоровна Шахунянц, не видевшая меня почти десять лет, сразу узнала и сказала председателю правления:
— Нет, нет, она не кандидат, она член МОСХа.
И меня восстановили. Я даже получила какие-то деньги. Искала работу, но из этого ничего не выходило.
Но главным моим занятием было непрерывное хождение в военную прокуратуру. Почему в военную? Потому что пересмотром дел миллионов, может, даже и десятков миллионов заключенных были заняты все юридические органы и военные прокуратуры тоже. Их было даже жалко: они привыкли иметь дело с преступниками: дезертирами, шпионами, с людьми, которые совершили что-то конкретное. Сейчас же на них обрушились горы чудовищных, зачастую совершенно нелепых дел, состряпанных за многие годы советской власти. В том числе и наше дело, состоящее из романа, стихов, разговоров, дело, по которому было арестовано больше двадцати человек, зачастую незнакомых между собой. Несколько человек было приговорено к высшей мере (25 годам лишения свободы), остальные — к десяти годам. Из них в лагере умер Сережа Матвеев, умер, насколько я знаю, адвокат Шепелев, с которым я была едва знакома. К тому времени уже умерла в лагере Александра Филипповна Доброва, близка была смерть Саши Доброва в инвалидном доме. И Даниилу оставалось жить совсем недолго. А во всем этом деле, по которому замучили стольких людей, не было не только ничего преступного, но и ни единого поступка, хоть как-то отклоняющегося от нормы юридической или гражданской. И вот военный прокурор пересматривал все эти тома разговоров о литературе.
Я добивалась реабилитации, ничего не боялась и прокуроров тоже. К счастью, когда я впервые пришла в прокуратуру, то в дверях встретила выходившего мне навстречу Виктора Михайловича Василенко, Витю, друга Даниила. Он вернулся, отсидев на Севере по нашему делу. Витя взял меня за плечи, повернул и сказал:
— Пошли.
Я послушалась сразу. Мы вышли на Мясницкую, тогда Кировскую, прошли на бульвар и долго ходили по нему. А Витя рассказывал мне, что спрашивают прокуроры и что надо отвечать. Он спас не только меня и Даниила, он всех нас спас. Потому что я, со своей нелепой привычкой прямо отвечать на вопросы, могла бы опять все испортить. А он мне объяснял:
— Задали такой вопрос, вот так я отвечал. Следующий вопрос. Я отвечал так. А теперь, Алла, вы сегодня не пойдете в прокуратуру. Идите домой и серьезно обдумайте все, что я сказал. А в прокуратуру пойдете завтра.
Так я и сделала. И когда я пошла туда на следующий день, то уже, благодаря Вите, была умнее и не лезла со своей правдой.
Наше дело пересматривали несколько месяцев. За это время я была у Даниила на свидании три раза, и каждый раз он передавал мне под столом тетрадки со стихами, которые я увозила. Свидания длились, по-моему, полчаса. Но мы успевали и поговорить. Даниил мне из тюрьмы писал, а я много писала ему из Москвы обо всем. Мы сговорились в письмах, что если его отправят в Москву на переследствие, то все свои вещи он оставит в тюрьме, и я за ними приеду.
Говорили мы на свиданиях не только о делах. Однажды Даниил спросил:
— Послушай, Бронную уже заасфальтировали или там булыжник? Я сказала:
— Не знаю…
Он был возмущен:
— Как, ты не знаешь?!
Разумеется, вернувшись из Владимира, я пошла на Бронную смотреть, что там: асфальт или булыжник. Как-то Даниил рассказал, что в камере у них произошла очень серьезная ссора между русскими. Часть их, в том числе, в первую очередь Даниил, считала, что Красная площадь должна быть вымощена по-особенному — брусчаткой, и притом узорно. Другая часть говорила, что нелепо тратить средства на украшение мостовой. А сейчас Красная площадь вымощена так, как хотел Даниил.
Мое хождение в прокуратуру продолжалось, я не только никого не боялась, но, по-моему, прокуроры меня боялись. Я ничего не хотела слушать, а только спрашивала:
— Когда муж будет на свободе? Он болен. Когда он будет на свободе? Когда наконец все это кончится?
Мне отвечали, что переследствие пока не кончено, то да се… А я твердила одно: «Когда муж будет на свободе? Когда муж будет на свободе?»
Так как я постоянно была связана со всеми этими прокурорскими делами и пересмотрами, то всегда знала дни и часы, когда в Верховном суде на Поварской будет пересматриваться наше дело. В моей судьбе так странно складывалось: в какие-то ответственные моменты я оказывалась одна. Наверное, так надо. И в тот день, когда пересматривалось наше дело, я одна ходила около Верховного суда. Потом, должно быть, на следующий день, мы пришли туда с Сережей Мусатовым. Я вошла первой в какой-то закуток. В нем сидел человек, который сказал мне, что я реабилитирована.
— А муж?
— А муж — нет.
— Почему? Почему нет?
— Я вам сказал все, что могу: вы реабилитированы. Вашему мужу оставлены десять лет, которые он уже имел от Комиссии. Я все сказал.
Я вышла, после меня в закуток вошел Сережа, какое-то время пробыл там, а потом вышел и сказал:
— Идем на улицу, только молчи, иначе я забуду то, что повторяю про себя.
Мы молча вышли, и Сережа повторил мне то, что этот человек прочел ему. А прочел он следующее: Даниилу Андрееву оставлены десять лет заключения из-за письма, написанного в 1954 году на имя председателя Совета Министров. В письме говорилось, что он «просит не считать его полностью советским человеком, пока в Советском Союзе не будет свободы слова, свободы совести и свободы печати». Кажется, так Сережа сказал. Может быть, тот чиновник боялся моей истерики, поэтому мне ничего и не прочел.
Получив документ о реабилитации, я пошла в отделение милиции и сказала, что мне нужен новый паспорт вместо выданного в Потьме, трехъязычного.
— Почему?
— Потому что у меня мордовский, а мне нужен московский.
Со мной стал спорить дежурный по отделению, говорил, что у нас нет мордовских денег, якутских, русских и паспортов у нас разных нет. А я настаивала:
— Паспорт, который у меня сейчас, выдан на основании справки об освобождении. А теперь я получила справку о реабилитации. Дайте мне другой паспорт на основании этой справки.
Мы с ним долго спорили. Я не убедила его, а он — меня. И дежурный решил от меня отделаться:
— Вот придет начальник часа через два, он этот вопрос решит.
В коридоре отделения сидела огромная очередь, а перегородка, за которой располагалось начальство, не доходила до потолка. Поэтому, когда я вернулась через два часа, все еще сидевшие в очереди люди встретили меня шепотом:
— Пришел начальник. Он ему рассказал про вас, а начальник в ответ: «Она совершенно права, знает, чего требует».
Так я получила московский паспорт, выданный на основании справки о реабилитации. А поскольку он выдавался уже вторым, то был совершенно чистым, без упоминания о заключении.
Потом начались хлопоты о пересмотре дела Даниила, надо же было добиваться его реабилитации. Жена Виктора Шкловского, Серафима Густавовна, посоветовала мне написать заявление о пересмотре дела сына Леонида Андреева и дать на подпись людям с именами. Она же составила текст этого заявления. Шкловский подписал его первым. За ним К. Чуковский, П. Антокольский, К. Федин, И. Новиков, Т. Хренников (с ним помог мне брат-музыкант). Подписала А. Яблочкина. Я пришла на заседание ВТО и показала ей заявление. Объяснить я ничего не могла: Яблочкина была глуха. Она расплакалась, сказала: «Бедный молодой человек!» — и подписала. «Молодому человеку» было уже пятьдесят. Подписал К. Симонов, сразу спросивший о самом главном: «А роман цел?»
Когда я от него выходила, навстречу мне по коридору шел человек в рубашке, куртке и резиновых тапочках. В таком виде по Москве ходили только люди «оттуда». Он оказался журналистом, мы с ним на какое-то время подружились по причине полной несовместимости с «вольными». Нередко мы сидели вместе, разговаривали о лагере и вспоминали: «А забор? А каптерка? А КВЧ? А кино?..» Мы понимали друг друга с полуслова. Он столкнулся с тем же, что и все, вернувшиеся из заключения. Неправда, что эти десять лет в лагере полностью выхвачены из жизни, потеряны, украдены. Это были очень насыщенные, богатые годы, которые многое дали. Душевный опыт, полученный в лагере, ничем не заменить. Но трагедии, в которые вернулись люди из лагерей, неисчислимы.
Знала я двух подруг, русскую и литовку. Обе они, освободившись, поехали в Литву как две сестры. От русской я потом получила такое письмо: «Милая Аллочка, я дома на станции Дно. Я была в Литве с Леночкой. Я там не нужна никому». Родственники прибалтиек делали все, чтобы они поскорее забыли «проклятых русских». От Леночки из Литвы я тоже получила письмо: «Милая Аллочка! Я дома. Балы каждый день. Все приглашают в гости. Как мне тяжело, как мне трудно, как мне плохо!» И все письма были пронизаны такой тоской — не по лагерю, конечно, а по той нашей душевной близости.
На воле естественным образом стало разваливаться все, что в лагере казалось прочным. Все попали в разные семьи, в различные условия. За общим забором мы легко могли друг другу помогать. А освободившись, оказались кто на Дальнем Востоке, кто в Литве, кто на Украине, кто в Москве. И ни у кого не было ни денег, ни работы. В лагере было мало самоубийств, на воле — гораздо больше.
А те, кто ждал, помогал, жил мыслью о том, чтобы увидеться, с ума сходил от страха, встречали человека, у которого половина души осталась в лагере. Например, у меня кусок в горле застревал, я не могла смотреть на красивые платья, которые мне покупала мама, от души желавшая нарядить меня и накормить. В глазах у меня стояли те, у кого этого нет, кто поехал в полуразрушенную деревню, в Сибирь, потому что туда ссылали стариков родителей и там рос ребенок… Я все еще была в той жизни.
Невозможно объяснить человеку то, чего он не пережил. Помню, как вместе с еще тремя москвичками, тоже вернувшимися из лагеря к мамам, мы бродили по городу, а потом сели в скверике у Большого театра и стали вспоминать лагерную жизнь. С домашними нам не о чем было говорить. В конце концов мы расхохотались: ждали, ждали свободы, и вот она, свобода, — скамейка около Большого театра!
А потом каждая пошла к себе домой, где ее ждала любящая, обиженная дочерним невниманием, тяжело переживающая мама.
Мой папа понимал, конечно, больше.
Вторая такая встреча была грустнее. Через Москву промелькнула моя Джонька, тоже освобожденная комиссией со снятием судимости. Ночевали мы вместе у моей мамы, а днем деться было некуда. Бродили по улицам, а потом нас занесло в зоопарк — может быть, проходили мимо? Вошли и, онемев, ходили мимо клеток со зверями — почему-то больше других помню льва — и они на нас смотрели нашими глазами, теми самыми, из-за семи заборов. Мы, как в зеркало, смотрели в эти глаза и на эти клетки. А хуже всего был маленький белый медвежонок, тоже в клетке. Он сидел совсем впереди, и ему между лапок, под самый нос положили кусок сырого мяса, возможно, чтобы утешить. Он не обращал на это мясо никакого внимания, смотрел мимо, куда-то в пространство, большими черными круглыми глазами.
Пятый десяток лет я помню выражение совершенно безысходного отчаяния, какими были полны глаза этого белоснежного малыша. Чувства животных проще и сильнее, чем чувства людей, и никогда я не поверю, что у них нет души. Я не знаю, как она выглядит, и что с ней происходит. А разве я знаю, как выглядит моя душа?
Мы замерли у этой клетки и, постояв, молча ушли. В зоопарк я ходить не могу.
И такое счастье, что мы с Даниилом оба прошли эту дорогу! С ним не было никакого непонимания. Вспоминаю одну сцену до лагеря. Даниил часто задумывался, а я, естественно, всегда спрашивала: «Ты о чем?» Однажды он очень глубоко задумался, а я свое:
— Ты о чем? О чем, Заинька?
Он сказал:
— Перестань. Перестань, я о фронте.
И я тогда поняла: я не была на войне. Значит, есть вещи, которые я должна почтительно пропускать. Я лезла со своей любовью, а это было не то. Нужна общая дорога. И вот такая дорога, тюремно-лагерная, у нас с ним была.
Наконец нам с папой пришло в голову следующее: поскольку Даниил инвалид Отечественной войны 2-й группы в связи с нервным заболеванием, то он мог написать свое заявление в состоянии депрессии и даже временной невменяемости. Тогда дело может быть направлено на пересмотр. Так оно и случилось. В ноябре Даниила отправили в Москву на переследствие. Было ясно, что переезд в Москву с черновиками означал второй срок и гибель рукописей. Часть стихов он уже передал мне во время свиданий, но я знала, что это очень малая часть. Масштаб Даниила как поэта был мне ясен. И не оставалось сомнений в том, что черновики надо спасать в первую очередь. Мы с ним решили, что он оставит все в тюрьме.
Я приехала во Владимир в четвертый раз, уже зная, что Даниила увезли в Москву. Мне сказали, что меня вызывает капитан Давид Иванович Крот, начальник режима, а в то время — заместитель начальника тюрьмы. Ввели к нему в кабинет. Он сказал:
— Знаете, увезли вашего мужа.
— Знаю, но ведь он ничего не может поднять, значит, должен был оставить вещи.
Крот вызвал каптерщицу (то есть кладовщицу):
— Что, Андреев оставил что-нибудь?
— Целый мешок.
— Принесите.
Она принесла мешок. И тут сработала моя лагерная привычка: должен быть шмон. Я стала выкладывать из мешка вещи. Крот сказал:
— Да не надо, оставьте.
А я:
— Да как же, гражданин начальник!
Он тогда отослал каптерщицу, посмотрел на меня очень внимательно и сказал:
— ЗАБИРАЙТЕ ВСЕ И У-ХО-ДИ-ТЕ.
Только тут я поняла. Я схватила мешок, пролепетала какие-то слова благодарности и убежала.
Это еще одно чудо, сотворенное силами, оберегавшими творчество Даниила Андреева. Давид Иванович рисковал не работой, он рисковал свободой. Ведь за то, что он отдал мне черновики, совершенно преступные с точки зрения советской власти, ему полагался срок. Про таких людей и такие поступки тоже надо помнить. Крот все знал. В каждой камере существовали стукачи, и о всех было прекрасно известно, кто что думает или пишет. Я знаю, кто был стукачом в камере Даниила — умный образованный человек, хорошо к нему относившийся. Он и докладывал Кроту о том, что Андреев — поэт, притом поэт большого масштаба. Этот человек освободился раньше Даниила. Я с ним встречалась. И видя, как я волнуюсь, он сказал:
— Не может быть на свете никого, кто причинил бы зло Даниилу Леонидовичу. Не беспокойтесь ни о чем.
В моем странном, наполненном фантазиями отрочестве был период, когда я принялась искать книгу, «в которой все написано». Конечно, я тогда такую книгу не нашла. Возвращаясь из Владимира, в автобусе я сунула руку в мешок, в который были свалены тетрадки, книжки, тапочки, белье, открытки… Я вытащила первое, что попалось, и стала читать. Это была одна из тетрадок с черновиками «Розы Мира». Я не помню, было ли тогда само название. Но, когда я начала читать, поняла сразу: это та самая книга, «в которой все написано».
Я принимала ее содержание без всякого протеста. Просто читала то, что уже знала моя душа. Только сама я никогда не нашла бы этих слов. Не отдай мне Крот того мешка, не было бы издано сейчас полное собрание сочинений Даниила Андреева. Эти черновики я привезла, сохранила, и по ним Даниил написал уже окончательно то, что успел перепечатать на машинке. И потом я молча жила с этим тридцать лет.
Добиваясь пересмотра дела Даниила, я прорвалась к следователю на Лубянку — и остолбенела: передо мной стоял точно такой же персонаж, как те, которых я видела в 47-м. Он стоял, желая дать мне понять, что я вошла лишь на минуту. Но со мной так уже не получалось. Я прошла к столу и села. Тогда и ему пришлось сесть. Из разговора с ним я поняла: ждать нечего. Он не только постарается оставить прежний срок, но готов и новый прибавить.
Надо было что-то предпринимать. Руфина Кепанова, жена племянника Троцкого, добрая и полностью политически безграмотная женщина, бывшая со мной в лагере, устроила мне встречу с нашими лагерными старыми большевичками. Почему-то они ко мне очень хорошо относились, и, выслушав меня, принялись помогать. Эти старушки дружно восстанавливались в партии. Их мужья давно были расстреляны, сами они отсидели Бог знает сколько, но продолжали оставаться убежденными коммунистками. Пучина человеческого бреда бездонна! При этом все они были прекрасными людьми.
В ЦК КПСС восстановлением бывших коммунистов, вернувшихся из лагерей, занималась Валентина Федоровна Пикина. Один из первых моих дней на 1-м лагпункте был днем ее освобождения и отправки в ссылку. Так мы познакомились. Вот к ней-то и отправили меня старушки большевички. Валя Пикина сказала: «Напишите подробное заявление обо всем». И я подробно написала о деле Даниила, о том, что при аресте и после него не проводилось психоневрологической экспертизы. Валя взяла у меня это заявление на лестнице ЦК и поднялась этажом выше к секретарю Шверника. Тот позвонил по телефону в ГБ и, возможно, от имени Шверника приказал провести экспертизу. И вообще сказал, что они заинтересованы в судьбе сына Леонида Андреева.
Допросы на Лубянке отличались от допросов 1947 года только тем, что велись днем и записывала их стенографистка. И вот на одном из допросов Даниила неожиданно спросили о его отношении к Сталину. Я все время пыталась объяснить ему в письмах, что надо вести себя осторожней, но он твердо стоял на том, что всегда будет говорить правду. И в какой-то момент я не то сказала, не то написала ему: «Не выступляй». Он потом, смеясь, рассказывал мне, что это слово все вдруг поставило на свои места. И он старался «не выступлять» на допросах. Но, тут он, по его словам, «совершенно съехал». «Ты не представляешь себе, — рассказывал он мне потом, — я, не умеющий говорить, обрел такой дар красноречия, разлился так обстоятельно, так обоснованно разложил „отца народов“ по косточкам, просто стер в порошок… И вдруг вижу странную вещь: следователь молчит и по его знаку стенографистка не записывает». Именно в это время у трясущегося от бешенства следователя посредством телефонного звонка от имени Шверника вырвали из рук дело, которое он благополучно «шил».
Даниила отправили в Институт судебно-медицинской экспертизы им. Сербского. А следователь стал сводить счеты со мной. Он знал, что я с ума схожу от неизвестности, и нарочно ничего мне не говорил. Я сама разыскала Даниила «у Сербского». Конечно, о свиданиях там и речи быть не могло. И таким образом дело дотянулось до конца апреля, когда попросту кончился десятилетний срок. В один прекрасный день в Институте Сербского мне сказали, что Даниила перевели на Лубянку. Я позвонила следователю. Тот ответил:
— Понятия не имею, где он.
Я начала бегать по Москве: в «Матросскую тишину», в Бутырку, в Лефортово… Везде ко мне относились по-человечески, искали и отвечали: «У нас нет».
А я-то, зная состояние Даниила, подумала, что он просто умер. В морге надо искать! В конце концов прибегаю в справочную ГБ на Кузнецкий, 24, кидаюсь к дежурному:
— Боже мой, ведь у него же был инфаркт, он ведь умирает! Мне не говорят, где он. Ну что, где он — в морге?!
Я совершенно обезумела, готова была стену лбом пробить. И дежурный, перед которым катились волны таких дел, при мне звонил следователю, но следователь и ему не сказал.
Тем временем уже кончался апрель. А я все ходила к тому дежурному, и вот, наверное, 19 или 20 апреля при мне он сам позвонил следователю. Я слышала в голосе дежурного бешенство, потому что он видел, как я езжу из тюрьмы в тюрьму, как прихожу и умоляю: «Он же болен, смертельно болен. Почему мне не говорят, где он, почему мне не говорят даже, жив ли он?»
И дежурный звонил следователю и спрашивал:
— Где Андреев Даниил Леонидович?
Что отвечал следователь, не знаю, но дежурный просто зеленел от злости.
И вот я прихожу 22 апреля, прямо перед окончанием срока, и дежурный мне говорит:
— Успокойся, жив, завтра выйдет. Завтра придешь сюда, вот придешь и он сюда придет.
Это опять о том, что люди, даже работавшие там, в органах, были очень-очень разными.
На следующий день, 23 апреля, я пришла, в руках у меня была книжка «Наполеон» Тарле, я листала ее не в состоянии прочесть ни единого слова и никогда больше не смогла взять эту книгу в руки. Даниил вошел в приемную, где я ждала. Я встала, мы взялись за руки и пошли к маме, потому что больше идти нам на свете было некуда. Стоял солнечный день, такой же, как тот, когда Даниила арестовали.
Глава 28. ПОСЛЕДНЯЯ ГАВАНЬ
Когда я рассказывала о том, как Даниил вернулся с фронта, и мы стали жить вместе, то пыталась передать, что же такое счастье. Двадцать три месяца после освобождения мы скитались по чужим домам. Свою комнату, 15-метровую, в двухкомнатной коммуналке нам дали за 40 дней до смерти Даниила.
Пока нас не было, мои родители переехали в Подсосенский переулок, где целый этаж бывшего купеческого особняка был превращен в чудовищную коммунальную квартиру. Родители занимали когда-то предназначавшийся для карточной игры зал с великолепными росписями на потолке: там были изображены карты с драконами. Мама отгородила часть комнаты у двери, и получилась передняя с кухней и чуланчиком. Комната была большая, но одна.
Начались наши с Даниилом скитания. Мы жили у мамы, у давних друзей Даниила — художника Глеба Смирнова и его жены Любови Федоровны в Перловке, снимали за безумные для нас деньги квартирку в Ащеуловом переулке. Потом уехали в Копаново на Оку. Жили и в Малеевке в Доме творчества писателей, и под Переславлем в деревне Виськово, и на Кавказе в Горячем Ключе… И все произведения Даниила были написаны умирающим нищим человеком, скитающимся по чужим домам.
Первый год денег у нас не было совсем. Нам помогали мои родители, а кроме того, собирали деньги друзья Даниила по гимназии. Кто-нибудь из них приходил и клал конверт на стол, мы даже не знали, от кого. Знаю, что в этом участвовала Галя Русакова, думаю, что Боковы, помогал и математик Андрей Колмогоров, тоже учившийся в Репмановской гимназии.
Такой была наша жизнь. У нас не было ничего. Как мы были одеты — не помню. На какие-то деньги мы купили пишущую машинку, сначала плохую, а потом, через год, когда Даниилу все же заплатили деньги за книжечку рассказов Леонида Андреева, купили другую, на которой и напечатаны его произведения. И я потом, после смерти Даниила, печатала на ней, пока не ослепла.
Несмотря ни на что, эти двадцать три месяца были временем огромного счастья. Как когда-то мы жили в пространстве романа «Странники ночи», так теперь оказались в совершенно ином, пограничном с нашим, мире. Даниил работал по тюремным черновикам над книгами «Русские боги» и «Роза Мира», и в этом мы жили. Все внешнее, то, что было за окном, едва касалось нас, смыслом и содержанием нашей жизни, всем на свете, было творчество Даниила.
Какими еще словами могу я передать, что это такое — счастье жить с умирающим любимым человеком, когда все его силы отданы творчеству, а я всем, чем могу, должна помогать. Как объяснить, что ради этого и стоит прожить жизнь.
Мы знали, чувствовали, что всю жизнь провели вместе ради того, что он делает. Эта жизнь шла как бы в двух планах, но реальнее — там, где расцветала «Роза Мира», где звучали стихи Даниила. А снаружи, о стены этих чужих домов, билась какая-то другая жизнь, но воспринималась она как нечто иллюзорное.
Иногда думают, что мы сразу стали друг другу рассказывать: Даниил — про тюрьму, я — про лагерь, а этого не было. Мы ничего друг другу не рассказывали. Какие-то отдельные моменты, детали, больше всего душевные, только нам важные и понятные. Об этом параллельно прожитом десятилетии нам друг другу ничего не надо было рассказывать.
С возвращением Даниила моя жизнь стала полностью подчинена ему. Не было больше ни подруг, ни встреч. Я почти не отвечала на письма, тем более что Даниил требовал, чтобы я уничтожала все письма, которые мы получаем. Он говорил: «Если заберут еще раз, не хочу, чтобы хоть один человек попал с нами. Ты понимаешь, что одно письмо от твоей подруги может стоить ей второго срока?! Все жги! Все уничтожай! Нам никто не пишет. С нами никто не связан. Вот кто-то заходит из москвичей, приносит картошку, деньги — и все».
Как потом оказалось, Даниил был прав. Недолгое время, пока мы жили в Ащеуловом переулке, и он мог еще ходить, у нас бывала Аллочка, милая молодая девушка (племянница сокамерника Даниила, того дяди Саши, о котором я писала), жившая неподалеку. Поздними вечерами она выводила Даниила на прогулки. В темноте он мог гулять босиком. Аллочку начали вызывать в ГБ с расспросами о нас. Она тогда ничего нам не сказала, просто потихоньку отошла, перестала у нас бывать и рассказала мне об этом много лет спустя.
Даниил требовал, чтобы я никому не говорила о том, что он пишет, особенно о «Розе Мира». Мне надо было неотступно находиться рядом с ним, потому что почти ни дня не обходилось без сердечного приступа. Это — результат перенесенного в тюрьме инфаркта. Сидеть Даниил не мог, работал полулежа. Вот так он и писал — от приступа до приступа.
Я пыталась найти работу, но ничего не выходило. Я и сама была тяжело больна. У меня обнаружили безнадежную форму рака — меланому. Я к ней отнеслась, как к досадной помехе: «Еще чего придумали!» После операции в поликлинике ЦКУБУ встала и вышла в коридор, где ждали зеленые от страха папа и Даниил. Потом меня облучали, образовалась лучевая язва, была плохая кровь.
Аллочка, про которую я только что говорила, много для нас делала, даже попыталась помочь с пропиской. Это была проблема — Даниил не имел еще реабилитации (он получил ее 11 июля 1957 года). С Аллочкой мы поехали весной 57-го в ее родную деревню. Оттуда родом была ее мать, и там еще жили тетя и другие родственники. Одно название этой деревни звучит так, что хочется туда поехать, — Вишенки. Это за Серпуховым, по ту сторону реки.
Мы приехали на станцию, пошли по направлению к деревне и сели на пригорке. Аллочка шутя надела на Даниила венок из каких-то больших листьев, и мы очень веселились, потому что в этом венке, похожем на лавровый, в профиль он и вправду походил на Данте. Потом мы вдвоем остались на пригорке, а Аллочка пошла к тете спросить, можно ли прийти бывшим заключенным, из которых один еще не реабилитирован. Тетя возмутилась:
— Да ты что! О чем ты спрашиваешь? Веди сейчас же.
Нас приняли, угостили, мы там даже переночевали.
Потом попробовали Даниила прописать, но из этого ничего не получилось — слишком близко к Москве.
Тогда мы поехали в Торжок. Там на авиационном заводе работал Витя Кемниц, муж Анечки и друг Жени Белоусова. Я о них уже говорила. Кемницы тоже отсидели по нашему делу. Витя после освобождения остался в Торжке, не захотел ехать в Москву. К нему туда приехала жена, освободившаяся из Караганды, а потом ее подруга Верочка Литковская, дивный человек. Так они и жили втроем в двухкомнатной квартирке. Там нам, наконец, удалось Даниила прописать. В Торжке было немало бывших заключенных, это уже не так близко к Москве.
С Торжком связан один забавный, как мне кажется, эпизод. Даниил читал там «Рух». Слушали Верочка, Кемницы и кто-то из их торжковских друзей. Даниил вообще читал свои стихи хорошо, но в тот раз — поразительно хорошо.
Я его потом спросила:
— В чем было дело? Ты читал настолько хорошо, что надо запомнить почему, чтобы ты всегда так читал.
А он, смеясь, ответил:
— Понимаешь, я чувствовал, что один из слушателей сопротивляется изо всех сил, не хочет слушать, принимать, и у меня появилось чувство, что я должен его перебороть. Потому так и читал.
Тут уже я засмеялась и сказала:
— Ну, хорошо же, хорошо. Я тебе обеспечу эту ситуацию.
А дальше много раз повторялось одно и то же. Даниил никогда не читал в больших компаниях. Обычно собирались три-четыре человека. Я тихонько сидела в уголке и вязала — Даниил любил, чтобы я так его слушала. Вот он читает, хорошо читает, все слушают, я вяжу, потом ощущаю какой-то сбой, дрогнувший от волнения голос. Значит, Даниил разволновался, расслабился, как теперь принято говорить, и поэтому хуже читает. Тогда я откладывала вязание, начинала очень внимательно смотреть на него и грубо про себя ругаться. Почему грубо? Самым главным были не слова, а вот это сопротивление. Было примерно так: «Ну, разнюнился, расслабился, тоже мне мужчина, поэт! Ты что, не можешь читать как надо? Кому нужно твое волнение и твои слезы?! Что за безобразие!» Через некоторое время Даниил бросал взгляд на меня и едва заметно кивал. Никто этого не замечал, я принималась опять спокойно вязать, а он очень хорошо читал дальше. Как ни смешно, это повторялось много раз, стало нашим приемом. Потом мы смеялись и, в общем-то, не могли понять, как это получается, но получалось. Единственная вещь, которую он так никогда и не мог читать от волнения сам — «Навна». Эту поэму читала я.
К лету 1957 года Даниила еще не реабилитировали. Была только справка об освобождении и прописка в Торжке. А тут — фестиваль! Во время фестиваля «чистили» не только Москву, но и Московскую область. Например, мою лагерную приятельницу выселили аж из Малоярославца куда-то под Владимир. Что было делать? Папа согласился прописать Даниила, но нам надо было лично ехать на место прописки в Торжок, выписываться, потом возвращаться в Москву, оформлять прописку. Мы с Даниилом пошли в какой-то кабинет на Лубянку, и я сказала: «Ну вы посмотрите на него: я его до Торжка не довезу, не говоря уж об обратной дороге!» Начальник разрешил мне самой оформить документы.
Но все равно в преддверии фестиваля можно было ожидать проверку за проверкой, и мы уехали в чудесную деревню Копаново на Оке, уплыли прямо из Москвы на большом теплоходе.
В Копанове я сняла комнату в избушке, и там однажды стала свидетельницей одного из особых состояний Даниила. Те состояния, благодаря которым была написана «Роза Мира», кончились, потому что после инфаркта Даниил не мог спать без снотворного, а снотворное их исключает. И вот — утро. Я встала, делала что-то по хозяйству. Даниил медленно просыпался: это был тот миг, когда нет ни сна, ни бодрствования. И вдруг я увидела его удивительно светлое счастливое лицо. Он проснулся и сказал:
— Ты знаешь — услышал! Ну как же я раньше не понял: Звента-Свентана.
В «Розе Мира» она называлась «Она», «Та, которую мы ждем», «Та, которая придет». Имени не было. А тут он ясно услышал: Звента-Свентана. Светлейшая из светлых. Святейшая из святых!
Во время фестиваля, из Женевы, впервые в Москву приехали старший брат Даниила Вадим, его жена Оля и сын Саша. Приятели Даниила написали нам, что Вадим в Москве. А я не могла привезти туда Даню: он заболел воспалением легких. И тогда Вадим совершил фантастический поступок: он примчался к нам в Копаново, хотя не имел на это права, тогда ведь были очень строгие правила для приезжающих из-за рубежа, а Вадим работал в ООН.
Мы получили телеграмму, что в такой-то день Вадим прибудет, и я пошла встречать человека, которого никогда не видела. Добираться нужно было поездом до железнодорожной станции, кажется, Шилово, там садиться или на большой теплоход, или на «ракету». На чем приедет Вадим, было неизвестно. На пристань Копаново «ракета» и теплоход прибывали почти одновременно.
Поздний вечер. Совсем темно. Первой пришла «ракета», причал для нее находился совсем близко от пристани теплоходов. Я побежала туда, просмотрела всех, кто выходил, — Вадима не было. Тогда я успела перебежать к большой пристани к прибытию теплохода. И вот теплоход подходит, качается, еще только пристает. Я, наклонившись, всматриваюсь вниз, откуда будут подниматься пассажиры, и кричу: «Дима! Дима!» Узнала я его моментально. Он был абсолютно не похож ни на кого из окружающих. Вадим вышел, мы обнялись, сразу перейдя на «ты», и пошли к Даниилу. Братья говорили только о себе, о семье, о поэзии. Много позже, уже в 1987 году, я узнала, что Вадим всю жизнь был масоном. Ни Даниил, ни я об этом не подозревали. Даниил масоном никогда не был и по всему своему складу быть им не мог. Был одиночкой, поэтом.
Сходство братьев по первому впечатлению было поразительным. Однажды мы с Вадимом гуляли по лесу, собирали грибы. К нему подошел кто-то из деревенских, пожал руку и сказал, принимая его за Даниила: «Как я рад, что Вы выздоравливаете!» Вадим пробыл у нас дня два и так же мгновенно исчез, как и появился.
Вскоре и мы отправились в Москву теплоходом. Я пошла за билетами, но их не было. А нас уже знала вся деревня, вся пристань. И мне сказали: «Приходите завтра, будет теплоход „Григорий Пирогов“, там, среди пассажиров, — Александр Пирогов, брат Григория, известный певец Большого театра. Мы вас пропустим без билетов. Подойдете к Пирогову и попросите его помочь».
Вечер. Тьма и дождь. Кто-то помогает мне нести вещи. Я веду Даниила, которому плохо. К пристани надо спускаться вниз по косогору. И прямо посередине этого спуска в темноте под проливным дождем Даниил начинает падать мне на руки, как это бывало, когда он терял сознание от сердечного приступа. Я кричу в темноту: «Помогите! Помогите!» И сразу из этой темноты буквально со всех концов бегут люди, подхватывают Даниила, и каким-то образом переправляют нас на теплоход, который тут же отчалил. Я оставляю Даниила, едва пришедшего в себя, внизу, где-то на полу, и иду разыскивать Пирогова. Подхожу к нему и рассказываю: «Я — жена Даниила Леонидовича Андреева, сына Леонида Андреева. Он только что из тюрьмы, я из лагеря. Он очень тяжело болен. Нам надо вернуться в Москву, но у нас нет билетов». И сейчас же Пирогов дал распоряжение. Кажется, нас поселили в каюте медсестры, которую куда-то перевели. И так мы добрались до Москвы. Кстати, «органы», хотя и с опозданием, «унюхали», что Вадим был в Копанове. Я потом узнала об этом от Джоньки, моей лагерной дочки. Она приехала к нам в Копаново, а уезжала позже нас, поэтому все дальнейшее происходило при ней. К нашей чудной хозяйке тете Лизе явились сотрудники ГБ и стали расспрашивать:
— У тебя жили москвичи?
— Жили.
— А к ним приезжал кто-нибудь?
— Да, приезжал кто-сь.
— А кто?
— А я не знаю.
— Ну как не знаешь? Ну как фамилия тех, кто у тебя жил? И кто к ним приезжал?
— Да ня знаю я никаких фамилий. Хороши люди жили, хорош человек приехал, нямножко побыл, уехал, они тоже уехали. А я ня знаю куда. И фамилий ня знаю.
Вот так они «с носом» и ушли.
А в Москве у нас опять началась жизнь по чужим домам с периодическими попаданиями Даниила в больницу, в Институт имени Вишневского. Такой была зима 1957/58 года. Мы снова жили в Ащеуловом переулке в маленьком домике — его нет больше. Снимали в нем крохотную квартирку: малюсенькую комнатку и такую же кухню с газовым отоплением. В эту кухню кое-как была втиснута ванна. Все было крошечное и удивительно уютное. У меня сохранились очень хорошие воспоминания об этом домике.
А вот смешной случай, но очень характеризующий Даниила. Квартиры с ванной в то время в Москве встречались не часто. Еще только начинали строить дома с горячей водой, и люди обычно ходили в баню, но мы не могли — оба были больны. Поэтому ванна оказалась для нас такой радостью. Я как-то рассказала Даниилу, что очень долго играла в куклы, вообще в игрушки. На Петровке, где мы жили с мамой и папой, была ванная комната с дровяной колонкой, и между семьями распределялись дни недели для мытья и стирки. Нашим днем был четверг.
Я очень любила, залезая в ванну, брать с собой целлулоидных уток, чтобы они плавали вокруг меня. Все это я со смехом рассказала Даниилу. Он еще мог выходить тогда ненадолго. И вот он вышел, вернулся обратно довольно скоро, веселый и с загадочным видом. Он принес мне в подарок трех целлулоидных уток, чтобы я на пятом десятке, больная женщина, прошедшая тюрьмы и лагеря, могла залезть в ванну с игрушками. Я храню этих уток и сейчас.
Той же зимой мы жили в Малеевке, в Доме творчества писателей. Конечно, нас разглядывали: сын Леонида Андреева!.. Вышел из тюрьмы… И все с изумлением смотрели, как я бегала зимой на этюды. Почти десять лет я прожила без живописи и теперь не могла остановиться. С нами вместе жил в Малеевке кто-то из Кукрыниксов, и он мне сказал: «Видно, до чего же вы по живописи изголодались!»
С Малеевкой связано несколько забавных эпизодов.
Даниил там читал свою поэму «Рух». На чтение к нам в комнату пришло человека четыре, из которых я помню только чью-то жену, тоже писательницу. Кто-то из них очень смешно отреагировал:
— Позвольте, это что… монархическая вещь? Даниил ответил:
— Нет, это русская вещь.
Неожиданный переполох в писательской среде вызвало Данино хождение босиком. Он очень любил ходить босиком по снегу. Даже в тюрьме ему это разрешали. В Малеевке в те дни, когда Даниил чувствовал себя лучше, мы уходили подальше в лес, чтобы никто не видел, как он разувается.
Однажды в конце прогулки, когда Даниил уже обулся, недалеко от малеевского дома, выяснилось, что мы что-то потеряли. Я вернулась в лес, потом той же дорогой пошла обратно и вижу: стоит группа писателей, человек шесть, носами вниз: что-то разглядывают. Что же? Следы босых ног на снегу! Совершенно обмерев, прохожу мимо, а они серьезно рассуждают.
— В чем дело? Кто мог ходить по снегу босиком? Наконец один из них догадывается:
— Знаете что? Кто-то пишет о войне, о гитлеровских пытках, о том, как водили на казнь босиком. Он хотел это прочувствовать сам, разулся и прошел!
Тут бы мне остановиться и сказать, что это был счастливый, недавно освободившийся из тюрьмы человек, для которого нет большего наслаждения, чем ходить босиком по снегу… А я вместо этого застеснялась и ушла.
Даниил очень много курил. Бросить ему никак не удавалось. Он мне рассказывал, как однажды, твердо решив покончить с курением, уехал в Трубчевск — не просто в город, а в глушь, в домик лесника, — не взяв с собой курева. Он решил, что так отвыкнет, но измучился и не написал ни строчки. А когда, возвращаясь, наконец попал на полустанок, с которого надо было садиться в московский поезд, первое, что сделал, — купил папиросы и закурил.
Когда Даниил вышел из тюрьмы, мой папа, прекрасный врач и физиолог, сказал:
— Даня, только не вздумайте бросать курить, вам нельзя. И не слушайте никого. У вас весь организм уже настроен на курение, и этой дополнительной ломки вы не переживете. Старайтесь курить по возможности реже, насколько хватит терпения. Никогда не докуривайте, если можете, курите полсигареты.
Даниил так и делал. Во время войны он привык курить махорку. Говорил, что никакие папиросы не идут с ней в сравнение. Его фронтовые друзья, бывавшие у нас проездом, приходили в восторг, когда узнавали, что жена Андреева разрешает курить в доме и спокойно переносит махорку.
Однако курить махорку в Доме творчества писателей было немыслимо. Что делать? В то время продавались пустые гильзы. Я их покупала, а Даниил набивал махоркой и складывал в коробку от дорогих папирос. И вот мы сидим в холле вдвоем. Даниил курит махорочную «папиросу». Мимо проходят какие-то писательские дамы, и я слышу, как одна говорит другой: «Какой прекрасный табак!»
В 1958 году стали издавать Леонида Андреева. Право наследования давно кончилось, но мы через Союз писателей выхлопотали Даниилу персональную пенсию и гонорар за книжечку рассказов отца. Очень многое делала для нас Шурочка, первая Данина жена. А по инстанциям ходила я.
Мы получили деньги весной 58-го года, сорок тысяч. Их хватило на последний год жизни Даниила. Теперь можно было обвенчаться. И мы купили, наконец, самые дешевые, тоненькие кольца. Нас венчал протоиерей Николай Голубцов, замечательный священник. Он служил в храме Ризоположения, изумительной церкви XVII века в Выставочном переулке.
Когда венчаются молодые, только вступая в брак, они просят у Бога благословения и помощи на предстоящем общем пути. Когда же венчаются люди, уже прошедшие по этому пути вместе много лет, они просят у Бога утверждения того, что пройдено и благословения на его достойное земное окончание. У нас с Даниилом было еще сложнее. Через какое-то время после свадьбы он сказал мне: если перед аналоем стоят двое, один из которых уже обречен, это имеет совсем особый смысл. Я понимаю это так. Оставшись на земле после его ухода, я беру на себя расплату за многое в его юности. Но главное — то, что осталось в моих руках: его творчество. Мой долг — хранить, беречь и, вот уж чего я не ждала, — принести его людям: издавать все Даниилом написанное и читать его стихи.
Мы предстали пред Господом для венчания, уже пережив все: и десять лет дружбы, и войну, и тюрьму, десятилетнюю разлуку, встречу после разлуки, осознанное единомыслие, потому что я всегда была рядом и понимала, с кем я рядом. Поэтому наше венчание было настоящей клятвой перед Богом.
А потом мы отправились в то самое свадебное путешествие теплоходом, с которого начинается эта книга.
Вернувшись летом, мы уехали в деревню Виськово. Это недалеко от Плещеева озера, на котором стоит Переславль-Залесский. Там находится монастырь Даниила Переславского, в честь которого и был крещен Даниил. Мы всегда были легки на подъем. Даниил даже тогда очень любил ходить и мог еще одолеть расстояние километра в два. Однажды мы пошли к тому монастырю. Он был занят воинской частью. На нас очень строго и неприязненно смотрели вахтенные в воротах. Разумеется, о том, чтобы попасть внутрь, не могло быть и речи. В воротах мы увидели только остатки облупленных фресок и часть лика, смотревшего на нас удивительными глазами.
В деревне не было электричества, притом совсем недалеко от Москвы. И это при «полной электрификации всей страны». По вечерам зажигали керосиновые лампы, и готовила я чаще всего на керосинке. В одно из пребываний Даниила в больнице медсестра сказала мне: «Если вы при таких сердечных приступах, которыми он страдает, будете вызывать неотложку и рассчитывать на ее помощь, вы потеряете мужа через неделю. Давайте-ка, я вас научу делать уколы. Если сами будете колоть, как только ему становится плохо, сколько-то он еще проживет».
Она учила меня делать уколы в подушку. И вот, когда мы попали в Виськово, мне пришлось сделать мой самый первый укол. Даниил сказал:
— Листик, мне плохо, нужен укол.
Я вскипятила на керосинке шприц и иголку, набрала лекарство, как мне показывали, протерла руку спиртом и уколола первый раз в жизни живого человека и еще какого — любимого. Уколола, громко заплакала и выдернула иголку. Было очень страшно. А Даниил меня успокаивал:
— Ну, чего ты испугалась? Делай укол спокойно, все правильно.
Так я, всхлипывая, сделала первый укол. Потом я колола еще много, иногда по два раза в день. Действовала, как профессиональная медсестра, и, если все-таки случалось так, что колола сестра, а не я, Даниил смеясь говорил:
— Ты делаешь лучше, совсем не больно.
Листик было мое прозвище. Оно осталось во всех письмах. (А Даниил был Зайка.) Подразумевался ивовый листик, зеленый и узкий. Не только потому, что Даня любил иву, но и потому, что я, особенно после войны, была узенькой и бледно-зеленого цвета.
В Виськове Даниил временами чувствовал себя неплохо. Гуляя как-то в ближнем лесу, мы встретили дикую горлинку на дороге. Там в оврагах были удивительные иван-чай и летняя медуница. Цветы стояли выше нас ростом. Господи! Как Даниил радовался! Как он всем этим цветам радовался! А я, конечно, несмотря ни на что, не могла оторваться от этюдника.
Тем же летом я получила от Союза художников на осенние месяцы путевку на двоих в Горячий Ключ. Это — место в 70 км к югу от Краснодара. До Краснодара мы ехали поездом, потому что мне сказали, что самолетом Даниилу нельзя. Дальше добирались машиной до Дома творчества. Выяснилось, что внизу Даниил находиться не мог, так как там был тот самый горячий ключ — источник, от испарений которого ему становилось плохо.
Я сняла домик на горе, перевезла туда Даниила, и мы прожили там два месяца. Он не спускался, почти уже не мог ходить; если было нужно, спускалась я. За едой в столовую ходила наша хозяйка, и за это мы половину отдавали ей. Стояла изумительная золотая осень — последняя осень в жизни Даниила. Там в «золотом осеннем саду» он закончил «Розу Мира».
Я все время бегала на этюды, а Даниил надо мной подшучивал; «Это отговорка, что ты пишешь этюды. Просто это твой способ общения с природой, так уж ты устроена, что отдыхать не умеешь, не можешь ничего не делать, тебе непременно нужно, чтобы руки были заняты. Вот ты и берешь с собой этюдник, пишешь пейзаж, а на самом деле просто общаешься с природой. Ну, иди и пиши».
У хозяйки был чудный песик. Мы его подкармливали, естественно, а он за это укладывался на нашем крылечке на всю ночь и спал, плотно прижавшись к двери. Песик ходил со мной на этюды. Однажды я писала горный ручей в лесу, а он сидел рядом. В какой-то момент я повернула голову и увидела, что пес сидит рядом и смотрит на ручей с точно таким же, как у меня, выражением глаз.
Как-то я пришла с этюдов, прибежала в сад, где Даниил работал. Он был там удобно устроен. Перед ним стояла машинка, лежали тюремные черновики «Розы Мира», рядом всегда стояли фрукты. Я подошла. Даниил сидел со странным выражением лица. Я очень испугалась, спросила:
— Что? Что с тобой? Он ответил:
— Я закончил «Розу Мира». Помнишь, у Пушкина:
Миг вожделенный настал: Окончен мой труд многолетний, Что ж непонятная грусть Тайно тревожит меня?Вот и я сейчас это чувствую: окончил работу и как-то опустошен. И не рад.
Я стала утешать его:
— Ну, я понимаю: ты кончил «Розу», но еще столько работы!
И вроде бы все еще оставалось по-прежнему: были лекарства, уколы, врач приходил, кругом стояла все та же золотая осень. А болезнь Даниила с той минуты начала развиваться стремительно. Мне потом врачи говорили, что это я держала Даниила на этом свете. Может, и так… Только не я, Ангел его держал на земле до тех пор, пока он не завершил то, что должен был сделать. К тому моменту были закончены «Русские боги», кроме трех глав, которые он не успел написать; были окончены «Роза Мира» и «Железная мистерия». Даниил выполнил свой долг на земле. И не мои, а ангельские руки разжались. Я, конечно, продолжала трепыхаться, но воля Божья уже исполнилась.
Мы еще некоторое время прожили в Горячем Ключе. Даниил напечатал «Розу Мира» в двух экземплярах, и второй экземпляр я зарыла на вершине хребта, который перегораживал ущелье с запада на восток. За спиной у меня был Горячий Ключ, впереди — река, а за дальними горами — море. Я увидела триангуляционную вышку, и, решив, что от нее хоть насыпь останется, отмерила тринадцать шагов до раздвоенного дерева, на котором перочинным ножичком вырезала крест. Под ним я и зарыла рукопись в бидоне, и думаю, что больше ее никто никогда уже не найдет. Лес там давно разросся. Крест теперь, вероятно, Бог знает, на сколько метров поднялся вверх. Да и нет никакой необходимости искать ту рукопись. Первый экземпляр мы увезли в Москву, я его хранила тридцать лет и сейчас храню. Теперь «Роза Мира» напечатана. И ничего уже не страшно.
Потом я вернулась на то место в день рождения Даниила — 2 ноября, написала этюд — вид, открывающийся с того хребта, и принесла его Дане. Это был мой последний подарок ему. Я сказала:
— Вот тут зарыта «Роза Мира».
Глава 29. РАЗЛУКА
Обратная дорога в Москву была очень тяжелой. Слава Богу, у нас еще были деньги, и 70 километров до Краснодара мы ехали на машине, а билет на поезд я взяла в мягкий вагон. В купе мы оказались втроем — четвертое место пустовало. Наш попутчик был в темно-синей форме. Я решила, что это железнодорожник, а он оказался сотрудником краснодарской прокуратуры. С ним мы ехали до Москвы.
Поразительная помощь со стороны разных людей продолжалась. Я знаю, что, случись беда, можно бежать, в России во всяком случае, в любой дом. Как я бегала: «Ради Бога, воды! Мужу плохо», «Ради Бога, помогите!» И помогали. На каждой станции, даже если остановка была десять — двенадцать минут, я хватала кислородную подушку и бежала в станционную санчасть. Врывалась, протягивала подушку, кричала: «Скорей! Скорей! Мужу плохо».
А прокурор из Краснодара, который, может, и распорядился, чтобы к нам не сажали четвертого пассажира, оставался в купе и ухаживал за Даниилом. Мы очень о многом с ним говорили. Мы не скрывали, откуда мы: из тюрьмы, из лагеря. Говорили о пересмотрах дел, в которых он участвовал, о следствиях, о реабилитации, обо всем, происходившем за эти годы. Работа по пересмотрам дел все еще шла. Прокурор сказал мне:
— Я вам сейчас скажу одну вещь, которую вы, может, не сразу поймете, для этого нужно быть профессионалом. Вот идет заседание по пересмотру дел и приговоров. Перед нами протокол от такого-то числа, в нем 150 фамилий. Все — от одного числа! Против каждой фамилии высшая мера наказания — расстрел. Мы, профессионалы, знаем, что это абсолютно невозможно, если хоть в какой-то мере ведется следствие. В один день приговорить к смертной казни такое количество людей можно, только если просто подписывать готовые списки с фамилиями и заранее установленной высшей мерой без всякого разбирательства. Это одна из самых страшных деталей всего, что происходило.
На вокзале в Москве нас ждал папа, и Даниила сразу же отвезли в Институт имени Вишневского, где он и до этого лежал неоднократно. Его туда устроил академик Василий Васильевич Парин, сокамерник по Владимирской тюрьме.
Наш попутчик-прокурор и потом в Москве помог. Он кому-то звонил, и зашевелилось дело с предоставлением нам жилплощади. Я уже говорила, что мы оба были прописаны у папы. И когда я доказывала, что мы же не можем в одной, пусть и большой комнате, жить вчетвером, мне на это отвечали: «Метража хватает. Потеснится ваш отец-профессор. Ничего, поместитесь, люди хуже живут». Вот с этим хамством краснодарский прокурор покончил. Он «поднажал», и за сорок дней до смерти Даниила мы получили пятнадцатиметровую комнату в двухкомнатной коммунальной квартире в самом конце Ленинского проспекта, в доме, где находился магазин «Власта». Тогда это был последний дом на проспекте. За ним — поле. А сейчас там самая середина проспекта и город тянется много дальше.
Телефона в доме не было. До переезда туда Даниил лежал в больнице, потому что забрать его было некуда, а врачебная помощь уже требовалась непрерывно. Какое-то время заняли хлопоты с получением ордера, оформлением бумаг. Потом нужно было хоть как-то обставить квартиру, не в голые же стены приносить больного человека.
Мне хотелось, чтобы он попал в свой дом. И я кое-что купила, что-то привезли и сделали друзья. Главное, я купила письменный стол, чтобы Даниил увидал, что, как только встанет, ему есть, где писать. Он уже не смог сидеть за этим столом, но видел его. Видел шкаф, в который были поставлены первые купленные мною для него книги. На стенах комнаты висели мои работы. Все это было хоть немного похоже на свой дом.
Комната наша находилась на втором этаже. Даниил не мог туда подняться сам, а лифт не работал. Друзья внесли его в квартиру на стуле.
И начались последние сорок дней его жизни.
Друзья приезжали каждый день. Каждый день приходил Боря Чуков, который познакомился с Даниилом в Институте имени Сербского. Он не отходил ни от него, ни от меня. И он же сделал четыре последние фотографии Даниила, которые теперь можно видеть в собрании сочинений. Приезжали Ирина Николаевна Угримова, Татьяна Николаевна Волкова, Ирина Ивановна Запрудская, дочка Даниной гувернантки Ольги Яковлевны Энгельгардт, иногда Ирина Владимировна Усова. Они сидели на кухне, потому что Даниил мог с кем-нибудь разговаривать минут пятнадцать, не больше, а потом уставал.
В соседней комнате жила рабочая семья: муж, жена и двое детей. Аня, соседка, на целый день уезжала куда-то с детьми, чтобы они не шумели. Так было почти все сорок дней.
Было очень трудно без телефона. Когда я не могла справиться одна, приходилось бежать на улицу к автомату и вызывать неотложку. Никогда не забуду, как бежала ночью по Ленинскому проспекту от автомата к автомату: все трубки были сорваны. Бог знает, откуда я тогда позвонила. Потом в квартире все-таки появился телефон.
Даниил поражал всех тем, что никогда не говорил ни о себе, ни о своей болезни, а всегда беседовал с людьми, приходившими его навестить, об их делах, здоровье, детях, родственниках. Он никогда никому ни разу не пожаловался. Удивительно было, что у него с ослаблением физического состояния все яснее, глубже и четче проявлялось то, что можно назвать настоящим сознанием человека, — сознание поэта и сознание отмеченного Богом вестника, через которого льется свет Иного мира.
Помню, как приехал Сережа Мусатов со своей последней женой Ниной. До ареста Сережи она училась у него в студии и потом ждала его весь срок. Они пробыли недолго. Нужно было уходить, Сережа и Нина встали, и Нина несколько растерянно сказала:
— Ну, как мы попрощаемся?
Даниил спросил:
— Вы верите в загробную жизнь?
Она ответила:
— Да.
Тогда он протянул ей руку и улыбнувшись сказал:
— Так до свидания.
Нина пожала ему руку, они вышли, и она разрыдалась уже в коридоре у входной двери.
Когда мы оставались вдвоем, Даниил иногда просил, чтобы я читала его стихи, и слушал их уже как бы совершенно не отсюда. Хорошо помню, как он попросил, чтобы я ему прочла цикл «Зеленою поймой». Я читала, естественно, не поднимая глаз, с машинописи. А потом, когда посмотрела на Даниила, то увидала у него слезы на глазах. Он сказал:
— Хорошие стихи. Я их слушал уже не как свои.
А еще он перечитывал «Розу Мира». Сначала попросил, чтобы я перечитала книгу и пометила все места, где я с чем-нибудь не согласна, что-то меня останавливает и вообще, где мне что-нибудь неясно. Мои галочки и сейчас сохранились на этой машинописной рукописи. И почти против каждой галочки есть его поправка, какое-нибудь уточнение, что-то дополнено.
Однажды Даниил перечитывал «Розу Мира», а я что-то делала по хозяйству, выходила на кухню, потом вошла. Даниил закрыл папку, отложил ее и сказал:
— Нет. Не сумасшедший.
Я спросила:
— Что? Что?
— Не сумасшедший написал.
Я обомлела, говорю:
— Ну что ты!
А он отвечает:
— Знаешь, я сейчас читал вот с такой точки зрения: как можно к этому отнестись, кто написал книгу: сумасшедший или нет. Нет, не сумасшедший.
Приступы становились все чаще и тяжелее. Приезжали врачи. Некоторые из них обращали внимание и на меня, на что я ужасно сердилась. Наверное, видели, что я тоже на краешке. Но для меня было важно только одно — держать, держать, выхватывать из гроба, еще, еще тянуть. Раз, совсем незадолго до смерти, Даниил проснулся очень взволнованный и сказал:
— Знаешь, я видел во сне Цесаревича Алексея.
Надо сказать, что мысли Даниила не были заняты императорской семьей. Он даже разделял, в какой-то мере, интеллигентское отношение к тому, что «да, безвольный император, императрица, как жаль детей»… Поэтому то, что он увидел во сне Цесаревича, было поразительно. Даниил пытался мне объяснить:
— Он такой подвиг совершил для России. Я не знаю, какие найти слова. Это как если бы обнаженный и босой человек зимой прошел всю Сибирь. Вот так можно сказать о значении его подвига. Это был подвиг, совершенный уже не здесь, на земле, ведь земля неразрывно связана с тем, что делается над ней, под ней, рядом с ней.
И то, связанное с Цесаревичем Алексеем, что Даниил тогда увидел во сне, относилось не к земному, а к надземному.
Очень незадолго до смерти Даниила исповедовал отец Николай Голубцов. По условиям нашей жизни деваться во время исповеди мне было некуда. Я осталась в той же комнате, стояла на коленях и молилась. Поэтому знаю совершенно точно, что в создании «Розы Мира» Даниил не каялся, как и во всех остальных своих произведениях.
Даниил скончался в день Алексия, человека Божия, 30 марта 1959 года в четыре часа дня. Умирал он очень тяжело. Вероятно, оттого что я мешала. Я отчаянно не хотела его отпускать.
Мне врачи говорили:
— Он жить не может. Вы его держите.
Часа за два до смерти Даниила что-то случилось: то ли это было ощущение чьего-то присутствия, то ли откуда-то взявшееся понимание. Я встала на колени у его постели и сказала:
— Я не знаю, что мы искупаем или обретаем этим мучением, только чувствую, что это страдание осмысленно.
Он приподнялся и молча обнял меня уже очень слабыми руками, присоединяясь к этим словам. Говорить он уже не мог.
Еще успела зайти врач, к счастью, самая симпатичная из всех. Сделать было уже ничего нельзя. Он не терял сознания до последних мгновений, даже прошептал какие-то слова симпатии и благодарности врачу.
Умер он буквально на моих руках: я, обняв, держала голову и плакала. Ничего я не читала, не говорила, ни вслух, ни про себя, ничего не думала. Когда, после коротких хрипов все было кончено, поцеловала в губы, чтобы уловить (принять) последнее дыхание.
Когда человек умирает, сразу встает вопрос, как и где его хоронить. Мать Даниила, любимая Леонидом Николаевичем Андреевым его первая жена Шурочка, похоронена на Новодевичьем кладбище. Там же похоронена бабушка, Бусинька, Евфросинья Варфоломеевна.
Когда Леонид Андреев купил этот участок после смерти жены, он покупал его и для себя. Тогда там было еще совсем мало могил. Позже здесь хоронили артистов Художественного театра. Еще позже кладбище стало правительственным. Конечно, Даниила надо было хоронить на Новодевичьем. Но это считалось невозможным.
Союз писателей, который хлопотал в Моссовете о том, чтобы разрешили похоронить сына Леонида Андреева на участке, купленном отцом, получил отказ. В Союзе похоронами занимался уже много лет деятель по прозвищу Харон — очень сдержанный сердечный старый еврей. Он приехал ко мне расстроенный, сказал, что на Новодевичьем хоронить запретили: это правительственное кладбище, там больше никого не хоронят. Но мне было совершенно все равно. С моим другом Алешей Арцыбушевым мы прошли в главное здание Моссовета, узнали, где заседают те, кто нам нужен. Как узнали, я не могу вспомнить, возможно, я этого и не знала, а просто шла. Наконец мы дошли до огромной высоченной двери в ту комнату, где заседала вся эта публика, — не знаю, что это была за комиссия. Я ногой распахнула дверь, влетела… Я кричала так, как кричала когда-то в конце следствия в Лефортове — все, что я думала. Что я несла — совершенно не помню. Мысль во всем этом была одна и притом очень простая: вы тюрьмой убили моего мужа, а теперь не даете похоронить его рядом с матерью. Я никого не видела. Я только понимала, что сидят какие-то люди.
Видимо, крик мой подействовал и я получила разрешение, причем разрешили погребение не урны, а гроба. Так мы и сделали. Он был теперь рядом с мамой и Бусенькой. Незадолго до смерти Даниил продиктовал мне список людей, которых хотел бы видеть на своих похоронах. Кого-то из них уже не было в живых, кого-то не было в Москве, но многие пришли. Похороны я помню смутно. Помню большое количество народа в храме и на кладбище.
Ортодоксальные верующие были глубоко возмущены тем, как я выглядела. Я надела белое платье, то, в котором венчалась с Даниилом, завила волосы и не стала покрывать голову платком. Ко мне подходили:
— Ну, пожалуйста, вас просят старушки верующие, платочек надо надеть… И почему белое платье? Я отвечала:
— Потому что я буду на Даниных похоронах в подвенечном платье. И ни с чем ко мне не приставайте, скажите спасибо, что фату не надела. Эта смерть связана с нашим венчанием.
Я уверена, что была права. Эти два события были связаны и для него. Он мне сказал как-то:
— Ты знаешь, наше венчание все же необыкновенное, потому что венчаются двое, из которых один уже умирает. Мы же не можем быть мужем и женой, можем только сколько-то времени побыть на земле обвенчанными, а потом это венчание уже там…
И гроб стоял в том же храме и на том же самом месте, где мы венчались, и отпевал Даниила тот же протоиерей Николай Голубцов.
Придя с кладбища, я взяла пишущую машинку, что-то из черновиков и стала учиться печатать. С тех пор я печатала Данины вещи, пока не ослепла.
За то время, что прошло после смерти Даниила, я всего трижды видела его во сне. В первый раз довольно скоро. Я видела его лицо, причем оно расплывалось. И я поняла, что он старается принять знакомую мне форму. Он произнес только два слова: «Молись Вечности».
Еще до того, как я уехала из той нашей комнаты, то есть до 1961 года, он приснился мне еще раз. С самого первого моего визита к Добровым Даниил всегда разувал меня и обувал. Он вставал на колени, снимал с меня ботики или туфли и надевал тапочки. Он очень это любил. И во сне я увидела, что он, очень спокойный и веселый, обувает меня в какие-то крепкие ботинки. И я знала при этом, что он меня обувает на длинную-длинную дорогу, в конце которой меня ждет «Долина роз».
А где-то в середине 60-х мне приснилось, что я вхожу в нашу комнату в Малом Левшинском переулке так, как это бывало в жизни. Я пришла домой, а Даниил лежит на диване. Я подхожу к дивану и вижу, что это не он, а как бы оболочка его и, если я ее чуть трону, она рассыплется в прах, как рассыплются стены, мебель и все остальное. Проснувшись я поняла: дом сломали. Это был не Даниил. В доме после живших в нем людей остается что-то, чего мы не видим и не знаем. Я сейчас же поехала в Малый Левшинский: так оно и было — дом сломали. На этом месте теперь просто растут деревья.
Как мне было плохо душевно после смерти Даниила, не стоит рассказывать. Но ведь, кроме потери любимого человека, было еще другое. У меня на руках было все, что составляло смысл его жизни, — его творчество. Он все оставил мне с тем, чтобы я это хранила. А я была одна. Ведь никто до конца не знал, что он писал. Никто не мог мне помочь. Я тоже была приговорена к смерти. Почему-то приговор не был приведен в исполнение, и я жива до сих пор. Значит, так было надо. Я совершенно не знала, что мне делать. Куда бы я ни шла, что бы ни делала, я просила: «Даня, помоги! Даня, пошли знак! Даня, что мне делать?» И он послал знак.
Мне очень хотелось, чтобы в доме была икона. И вот у какого-то чрезвычайно неприятного человека я купила одну очень хорошую небольшую бронзовую с эмалью иконку. Мне сказали, что такими бывают старообрядческие иконы — литые, бронза с эмалью. Икона очень красивая. Но я не могла понять, что на ней изображено. Я показала ее отцу Николаю, и он сказал, что это одно из изображений Святой Софии — Христос с крыльями, а наверху надпись «Благое молчание».
И я поняла, что это знак. София! Тема Софии, такая близкая Православию, Русской Церкви. Ведь веру мы получили из Константинополя, от Софии Константинопольской. Первый храм на Руси — Киевская София, а после него — Новгородская. И вообще тема Софии, я думаю, это центральная тема русской религиозности; она же проходит и через всю «Розу Мира». А слова на иконе были распоряжением: «Пока молчи».
Глава 30. ОДНА
Похоронив Даниила, безнадежно больная, после ряда операций, после облучения, с больной кровью и без всякого желания жить — как можно было остаться в живых, я не знаю. Но осталась. Только у меня были спасенные из тюрьмы черновики Даниила. Значит, Господу было угодно оставить меня на Земле, чтобы я еще 30 лет хранила все, написанное мужем, до дня издания. А дня этого я даже не ждала: время было таким черным, что в голову не приходило, будто зажжется свет, хотя бы такой, как сейчас.
Я стала жить тихо, замкнуто, перепечатывала черновики, много работала как художник.
В конце концов надо было либо умирать вместе с любимым человеком, либо, если уж осталась без него, принимать жизнь — пусть со слезами, но принимать.
Так как пробиться в живописной секции МОСХа, хоть я и была членом именно этой секции с 42-го года, было невозможно, мне удалось перейти в графическую. Я участвовала в нескольких графических выставках. Потом освоила технику линогравюры. Взяла в руки штихели, кусок линолеума и стала резать. Вообще я в жизни всему училась сама. Брала в руки инструмент — штихель, кисть, крючок для вязания или пяльцы с иглой — и просто начинала работать. Даже стихи Даниила, с которыми я все время теперь выступаю, меня тоже никто не учил читать.
Двадцать лет я проработала в комбинате графического искусства. Многие мои пейзажи проданы через салоны. Я очень любила свое дело и сейчас бы его продолжала, если бы не ослепла. У меня лежат эскизы для пяти гравюр из земной жизни Богоматери. Это то, что мне так хотелось сделать и чего я никогда уже сделать не смогу.
Только теперь я пришла к Церкви. Я очень часто ездила на Новодевичье кладбище, на могилу Даниила. Была там, пока не раздавался звон колокола с колокольни Новодевичьего, очень красивой. Это был тот самый колокол, который так прекрасно и неожиданно зазвонил в один из послевоенных Сочельников.
В первый раз в жизни я исповедалась и причастилась в день нашей с Даниилом свадьбы. Теперь, после его ухода, я стала исповедоваться и причащаться чаще. В храме у меня бывает ощущение его присутствия, его несомненного реального существования и близости. Не надо думать, что мне что-то виделось или слышалось. Ничего я не вижу и не слышу в визионерском смысле, но от этого ощущение его присутствия не менее реально.
Церковь с тех пор вошла в мою жизнь. Правильнее сказать — я вошла в Церковь. Не считаю я себя хорошей христианкой и хорошей православной, но твердо знаю, что единственный достойный человека путь — это путь ко Христу, а единственный путь для России — православие. Я думаю, что и люди других конфессий идут ко Христу, даже если не знают Его имени, при условии, что они добры и праведны.
Болезнь как-то странно помогла пережить горе; видимо, плохое физическое самочувствие притупляло душевную боль.
В шестидесятом году я с семьей друзей поехала в Карпаты. Сначала мы ездили по разным местам вчетвером, потом я осталась одна, одна переезжала с места на место и очень долго ходила по горам с этюдником и без него. Есть там такое место — Ясиня. По-русски это название деревьев, ясеней. Лет через десять я опять проезжала это местечко, но все было иначе, хуже. С Ясинями связана легенда. Однажды очень рано наступившая зима заставила одинокого пастуха бросить отару овец, идти одному домой, пробираясь сквозь снег и метель. Весной он решил вернуться, чтобы состричь шерсть с овец, в гибели которых не сомневался. Место, где было брошено стадо, он запомнил по удивительным огромным деревьям, большой группе ясеней, росших в этой долине. Он пришел на это место и застал всех овец живыми, благополучно перезимовавшими. Пастух понял, Кто сберег его стадо и выстроил деревянную церковь в благодарность Пастырю — Христу. Позже в этом благословенном месте стали селиться люди. Была я у этой церкви, даже написала ее маслом. А деревья тогда были так огромны и прекрасны, что я перестала удивляться, почему священное дерево скандинавов Игдразиль — ясень. Каждое из тех деревьев было мирозданием.
С Карпатами связано много легенд. Вот одна из них. Когда Господь создавал Карпаты, он сначала лепил их небольшого размера из освященной им земли. Нечистик, подглядывающий за делами Господа, украл комочек этой земли и спрятал себе в рот. Закончив лепить горы Господь приказал им расти. Но комочек во рту Нечистика тоже стал расти, и вырос так, что во рту уже не помещался. Бес быстро выплюнул его и с досады разрыдался. С тех пор Карпаты звенят ручьями.
И еще, Карпаты сняли одно мое давнее недоумение. Я всегда удивлялась, почему Зевс так часто принимал образ быка. Неужели нельзя было придумать что-нибудь поблагороднее! Так вот, в этих зеленых, плавных, полных воды и цветов горах я встретила Юпитера в образе огромного быка. Я шла вдоль хребта и чуть ниже, на маленькой полянке увидала оживший миф. Передо мной был огромный, темно-серый прекрасный бык. Его большие, карие, лучистые глаза ласково улыбались, потому что рядом с ним была Ио — молоденькая светло-серая телочка еще даже без рогов. Он нежно лизал ее головку своим большим языком, а она иногда застенчиво и робко отвечала ему своим. Оба были прекрасны как тогда, в той глубокой древности. Я тихо постояла и тихо ушла, потому что недолжно человеку вторгаться в сокровенную жизнь природы.
Набродившись по Карпатам, я приехала в небольшой город Ивано-Франковск. Когда Западная Украина была «під Польщой», этот город был выстроен графом Потоцким в честь своего сына Станислава, и так и назывался — Станислав. Ивано-Фраковском он стал, когда эта территория была присоединена к Советскому Союзу. Назвали город в честь своего писателя украинцы. Удивительна эта советская страсть к переименованиям. Куда бы ни пришли коммунисты любой национальности, они сейчас же начинают стирать с лица Земли то, что органично и естественно. Как будто заметают следы, в глубине сознания чувствуя свою черную неправду.
За десять лет до этой поездки в Карпаты — я уже писала об этом — мы с моей подругой «малюткой Олечкой» в лагере рассказывали друг другу о нашей прежней дотюремной жизни. Олечка описывала этот самый город Ивано-Франковск — она из него родом, его улицы, переулки и дом, в котором она жила. И вот, через десять лет по ее рассказам я все это нашла. Нашла и дом, и квартиру, позвонила в дверь и мне открыла моя «малютка» в кухонном фартуке и с ручками, замазанными тестом. Из Сибири к родителям она вернулась с мужем; у них уже было трое сыновей. Ее муж был хорошим художником, а «малютка» работала заведующей постановочной частью в Ивано-Франковском драматическом театре. Наша дружба восстановилась с первой минуты и к ней прибавились Василий, Олин муж, и их сыновья, которые теперь стали друзьями моих братьев. Как прорастает трава на вытоптанной земле, так и в моей душе прорастало что-то, растоптанное горем, как будто этому помогли зеленые Карпаты.
В 1962 году умерла мама, Юлия Гавриловна Бружес (в девичестве Никитина). И через год после ее смерти я познакомилась с женщиной, которая была рядом с папой много лет, о чем никто из нас не знал. И папа, и Евгения Васильевна, которая была только на четыре года старше меня, были людьми такого благородства, что ни единой минуты маминой жизни не омрачили. Я познакомилась тогда с моим сводным братиком Андреем, которому было тринадцать лет. С той минуты мы с ним подружились и, наверное, уже навсегда. А через Андрея появился Валера — его друг, мой названый брат.
Папа долго оставался для меня загадкой. Атеист. Но человека более христианского поведения я, пожалуй, не встречала. Несмотря ни на что, он не оставил маму. Они прожили больше пятидесяти лет, и мама спокойно умерла на его руках.
Папа долгие годы работал в Институте научной информации начальником отдела биологии. Каким блистательным он был заведующим, поняли только тогда, когда его не стало. А работал папа, пока мог, до восьмидесяти двух лет. В это время у него началась болезнь Паркинсона, от которой он и умер в восемьдесят четыре года.
Его способность и потребность делать добро были поразительными. Вот, например, папино воскресное времяпрепровождение. Он ходил по книжным магазинам. Во всех этих магазинах для него были отложены самые лучшие книги, и там же Александра Петровича ждали со всеми болезнями и жалобами на недуги, со всеми несчастьями и семейными неполадками, ждали, как самого родного и близкого человека, с которым можно поговорить обо всем. Потом мы узнали, что у него было прозвище Дориан Грей.
Папа был удивительно красив и до своей болезни совершенно не старел. Нас с ним при разнице в 28 лет принимали за брата и сестру. Через всю советскую жуть (а он был вполне лоялен к советской власти, по поводу чего мы страшно ругались) папа пронес осанку, манеры, язык господина. Поразительно, что он уцелел! Может быть, его спасло то, что в доме у родителей почти никто не бывал.
Мне кажется, отчасти я разгадала тайну таких людей, как папа: они сформировались на основе христианских принципов. Отсюда их поведение. Атеизм же их был чисто рассудочным. Кроме того, у меня есть еще такое соображение: я уверена, что многие люди живут не одну жизнь, в том числе и я. Есть вещи, иногда очень страшные, понимание которых из моей теперешней жизни никак не вытекает. И вот я думаю, что таких людей, как папа, проживших не одну жизнь, Господь, видя, что они поднялись до очень высокого уровня, в каком-то из последних воплощений лишает веры в Себя, чтобы посмотреть, как они станут себя вести, лишенные страха Божьего, предоставленные самим себе. Это как бы последнее испытание (я знала еще таких людей). И папа уже настолько сложился как человек, что и без Бога вел себя так, как иные верующие не могут.
Папа умер, слава Богу, на руках Евгении Васильевны, потому что большей заботы, преданности и представить себе нельзя. Я рисовала скончавшегося Даниила, рисовала маму после смерти, рисовала скончавшегося Женю. А папу не посмела. Он был красив и в жизни. Но то, каким красивым он лежал в гробу, у меня рука не поднялась рисовать. Это было светлое лицо средневекового рыцаря.
Я мало говорила о маме. Когда она умерла, я была в Воркуте и приехала, получив телеграмму, уже к гробу. Ей было 76 лет, а лежала девочка, немного обиженная и немного удивленная. Папа был растерян совершенно — несмотря на давнюю, очень тяжелую, болезнь она скончалась мгновенно и неожиданно, хлопоча для него по хозяйству. Соседки, «бабки», завязали ей головку платком. Этот платок я тут же сняла и положила цветы. Дальше все было трудно, пока Евгения Васильевна, мать моего сводного брата Андрея, не взяла, без всяких слов, папину жизнь в свои руки и не сделала конец его жизни совсем спокойным и ясным.
Какой была мама? Веселая и вспыльчивая, добрая, никогда никому не причинившая зла, она не имела ни одной подруги, совсем ни одной. Папа был единственным мужчиной в ее жизни. Причем семью, само понятие семьи, она ненавидела. Добро она делала кругом, всюду, совершенно об этом не думая, а поддерживать какие-то человеческие отношения не умела вовсе.
Она никогда не работала, считая, что работа, хождение на службу, совершенно не женское занятие. Любимым ее выражением было: женщина-врач — не женщина и не врач. Исключением был только театр. Только там было место для женщины, конечно талантливой.
Мамин голос забыть невозможно — огромного диапазона, сильное, очень красивого тембра драматическое сопрано.
Не знаю, как у нее это получалось, но она была душой дома. В какое-то время, короткий эпизод, она пошла работать. В доме сохранялся железный порядок, ею установленный. Няня строжайше исполняла все приказанное Юлией Гавриловной. Мы с братиком Юркой, еще маленьким, слушались беспрекословно. Папа всегда был неизменен. А в доме настолько все стало «не так», что недели через две мы завыли, как волки в лесу, и мама, бросив работу, вернулась в оживший с ее приходом дом.
Она была добра и отзывчива до безрассудства: отдавала все. Отдала кому-то свое подвенечное платье, подарила какому-то мальчику все елочные игрушки…
Мы все, в папу, высокие, а мама была среднего роста, прекрасно сложенная, круглолицая, голубоглазая, со вздернутым носиком. Никто, даже из нас, не видал ее непричесанной, незавитой, не «приодетой». Она всегда была на каблучках и никогда не прислонялась спиной к спинке стула.
Ее гневу и раздражению, часто по пустякам, тоже не было ни границ, ни предела.
Мама оживала в дороге — наверное, сказывалась цыганская кровь. Совсем в конце жизни она умоляла папу, чтобы они доехали до Владивостока и обратно. Она хотела увидеть океан: только выйдем, посмотрим и поедем обратно. Она была так тяжело больна, что поездка была невозможна. Как я ее понимала тогда, а теперь, слепая, тем более.
Последний раз я ее видела накануне моей поездки в Воркуту. Она пришла ко мне (я жила одна) и с интересом разглядывала железнодорожный билет, радостно читая названия всех городов, через которые я поеду.
Теперь самое трудное. Меня часто упрекают, больше молча, но иногда и вслух, в том, что после смерти Даниила я вышла замуж. Оправдываться я не собираюсь, но недаром мне был сужден такой долгий путь. Я глубоко убеждена, что дело женщины, посланной Господом на Землю, — любить. Любить конкретно, а не абстрактно, пока жива, до самой смерти. Меняются только формы любви. Может быть, об этой женской сути — любить — и говорит строка одного из стихотворений, посвященных мне Даниилом: «Неувядающею вишнею расцветшая в стране любви…»
Глава 31. ТИХАЯ ПРИСТАНЬ
Осенью 1963 года я вышла замуж за близкого друга Даниила Евгения Ивановича Белоусова. Конечно, и он был нашим однодельцем, но получил не 25, а «только» 10 лет. Он работал в ЦАГИ и начинал отбытие своего срока в той самой шарашке, которую описал Солженицын в романе «В круге первом». Заканчивал срок в Воркуте. Этап, с которым его туда отправили, добирался до Воркуты 28 дней, и по прибытии в пункт назначения никто из заключенных не стоял на ногах. Женю арестовали на Урале и когда переправляли в Москву, на одной из пересылок он встретился с женой Сергея Прокофьева португалкой Линой Ивановной. На вопрос, за что же ее-то, певицу, посадили, эта милая, обаятельная женщина весело отвечала: а я шпионка.
Женя и Даниил познакомились так. Когда Даниил работал над изданием «Реквиема», сборника, посвященного Леониду Андрееву, в связи с этим он пошел к Белоусовым. Женя в это время гонял во дворе тряпичный футбольный мяч. Футбол был его страстью. Ирина Павловна, к которой Даня пришел, захотела их познакомить: ровесники, один — сын Леонида Андреева, другой — Ивана Алексеевича. Она с большим трудом докричалась до сына. Ему страшно не хотелось идти домой. Он явился нехотя, они с Даниилом познакомились — и подружились на всю жизнь.
Ранние фотографии Даниила (30-х годов) сделаны именно Женей. Важной частью их дружеского общения было чтение друг другу: Даниил читал Жене стихи, а Женя Даниилу — свои оригинальные рассказы. Женя благоговел перед Даниилом и полностью осознавал его место в русской культуре.
С Женей мы познакомились во время войны. Он приехал тогда в Москву в командировку из Нижнего Тагила, туда был эвакуирован ЦАГИ. А в следующий раз мы встретились, когда Даниила уже не было в живых.
Интересно, что отцы Даниила и Жени тоже были дружны. Расскажу об истории Жениной семьи, потому что она достаточно необычна.
Жил в Зарядье портной Алексей Белоусов. Характер у Алексея Ивановича Белоусова был настолько тяжелый, что младший сын бежал от него в Сибирь. Его старший сын Иван Алексеевич должен был унаследовать отцовское ремесло, но страстью его была литература. Иван Алексеевич писал стихи, иногда посылал их в журналы, стихи эти время от времени печатали под псевдонимом, чтобы они не попались на глаза отцу.
Но что-то, видимо, все же обнаружилось, и Ивана Алексеевича женили на дочке фабриканта Рахманова. Эта рахмановская линия в Жениной родословной очень талантливая. Павел Рахманов был сиротой. Жил в деревне за Апрелевкой. Однажды на деревенской сходке решили: взять сироту в семью никто не может, а парень-то неглупый, так что ему тут в подпасках ходить. Собрали всем миром рубль медью и отправили паренька в Москву. Павел пришел в столицу пешком и поступил учеником к сапожнику. Через несколько лет у него были обувная фабрика, два магазина, большой дом.
Его дочь, Ирину Павловну, и выдали замуж за Ивана Алексеевича Белоусова надеясь, что он, войдя в крепкую купеческую семью, забудет литературу и унаследует портновское дело. Но вышло по-другому: Ирина Павловна всей душой поддерживала литературные наклонности мужа. Жили они скромно в полуподвале, в Потаповском переулке за нынешним театром «Современник». Рождались дети, семья увеличивалась, Иван Алексеевич зарабатывал шитьем. Как-то у него шил брат Антона Чехова Михаил. Иван Алексеевич был необыкновенно симпатичным, обаятельным человеком, а перед Антоном Павловичем благоговел. И Михаил рассказал Чехову, что познакомился с удивительным портным, который пишет стихи и без памяти любит литературу. Чехов пришел познакомиться. С тех пор Иван Алексеевич стал бывать у него как близкий, любимый друг.
Он записал один случай, свидетелем которого был в доме Чехова. Антон Павлович принимал больных. Однажды его позвали от гостей в кабинет. Он вернулся печальный и рассказал, что приходила девушка и просила яду. Чехов, выслушав ее и поняв, очевидно, что другого выхода нет, дал рецепт. На изумление присутствующих он печально ответил: «Броситься в реку хуже».
Алексей Иванович Белоусов долго не мог решить, как поступить со своим имуществом: завещать сыновьям или отдать все Церкви. Наконец решил в пользу Церкви. Поехал на извозчике к нотариусу писать завещание и опоздал: нотариус закончил работу. А на следующий день Алексей Иванович умер. Завещание осталось ненаписанным, и наследство получил Иван Алексеевич, конечно, поделивший его с братом. Он бросил портновское дело, купил домик на Соколиной горе и стал издавать журнал «Путь». Журнал этот прогорел, но литература оставалась страстью всей семьи Белоусовых.
Эта страсть давала иногда неожиданные результаты. В голодное преднэповское время к Ивану Алексеевичу пришел могильщик с Семеновского кладбища и предложил писать стихотворные эпитафии. «Жить будешь хорошо», — приговаривал он.
В другой раз литература спасла Ивана Алексеевича. Он переводил латышского поэта Яниса Райниса. В революционные годы к нему явились с ордером на обыск и арест — он же был домовладельцем. Одному из чекистов, латышу, попала в руки книга Яниса Райниса, которую перевел хозяин дома… Пока остальные продолжали что-то искать, этот латыш всю ночь проговорил с Иваном Алексеевичем о поэзии. И того не арестовали. Райнис заступился!
Иван Алексеевич не был большим поэтом. Но доброта, обаяние и чистая любовь к литературе привлекали к нему. Он был человеком удивительным. Я читала письма к нему писателей и поражалась, как каждый из них сбрасывал с себя что-то наружное, слишком заметное, может быть, отчасти «надеваемое» напоказ и поворачивался к этому чудесному, тихому человеку своей самой простой человеческой стороной. Леонид Андреев сбрасывал театральность, сохраняя изумительное чувство юмора. Бунин оставлял свою умную злость. Видно было, что все его очень любили. Иван Алексеевич был членом творческих сред Телешева, даже казначеем этих сред.
В 1930 году Ивана Алексеевича не стало. Скоро умерла и Ирина Павловна. Биография Ивана Алексеевича — это совсем уже другая история. И, конечно, он этой биографии стоит. Ее почти полностью написал Женя. После Жениной смерти я подправила текст, немного обработала его и читала в Академии художеств в Петербурге на ежегодном вечере, посвященном Тарасу Шевченко, одним из первых переводчиков которого был Иван Алексеевич. Ее напечатали потом на украинском языке в журнале «Родяньске литературознавство».
Вся Женина юность связана с тем домиком на Соколиной горе. Он рассказывал, что часто ходил в Народный дом. Там устраивали танцы, вечеринки, кто-то пел, бывало весело. Однажды он вернулся домой довольно скоро. Его спросили:
— Что так рано? Там что — ничего не было, что ли?
— Да нет, был какой-то лысый, что-то болтал. Неинтересно.
А это Ленин выступал. Женя потом любил рассказывать, что видел живого Ленина, только не стал его слушать.
Я успела застать еще в живых Жениного брата — Сережу, старше его на четыре года. Таких людей я больше не встречала — они были лишены всякого зла. Главным в них была полная неспособность сделать или сказать кому-нибудь что-нибудь плохое.
Наверное, в те времена, когда по морям ходили парусники, где-то бывали небольшие мирные гавани, может, небольшие городки. И четырнадцать лет нашей жизни с Женей стали такой мирной светлой пристанью в моей жизни. Господь послал мне их, чтобы я отдохнула.
В самом начале наших отношений я видела странный сон: в большом деревянном корыте я мыла маленького, примерно полуторагодовалого ребенка. Это был Женя, я его купала в теплой воде и под рукой чувствовала круглую головку. А он смотрел на меня такими знакомыми мне глазами. Как ни странно, но что-то от этого сна присутствовало в нашей жизни все годы.
Женя был талантливым инженером-конструктором, до ареста работал в ЦАГИ. Потом, отбыв срок в Воркуте, остался работать там. Я приезжала туда, поэтому у меня была большая серия работ, посвященных Воркуте. Ее купили на моей персональной выставке. Не знаю, где эти работы сейчас. Дай Бог, чтобы сохранились в каком-нибудь провинциальном музее.
Вернуться в Москву просто так Женя не мог. Это было возможно, только оформив брак, что мы и сделали. Только таким образом Женя смог снова оказаться в Москве, где он родился. Москва была городом всей его жизни. Он стал работать в Институте синтеза белков, который мы шутя называли «Синтез-белок». Потом он вышел на пенсию, продолжал писать свои короткие оригинальные рассказы. Все они хранятся у меня.
На лето мы уезжали в Карпаты, на Нерингу. В Карпатах несколько лет подряд чудесно жили с тремя подросшими сыновьями моей лагерной подруги Оли, о которой я уже рассказывала. Все мальчики рисовали, и мы вместе ходили на этюды, а Женя делал слайды — он был прекрасным фотографом. Очень много ходили по горам, где из ущелий поднимались облака, похожие на странные живые существа. Это было время удивительного покоя. Отношения со всеми окружающими были прекрасными. Однажды нас пригласили на гуцульскую свадьбу. Она была очень необычна. Сначала очень красивая юная невеста с подружками — все в национальных костюмах — ходили к тем, кого уважали, чтобы лично пригласить на свадьбу. Так пришли и к нам. Свадьба началась так. Жениха и невесту благословляли специально выбранные мужчины от имени живых матери невесты и отца жениха, от имени «мамці с там того світу и тату с там того світу», а также от имени всех присутствующих. Благословляли специально испеченными огромными караваями белого хлеба. Еще перед благословением невеста с подругами убирала невысокую только что срубленную елочку пестрыми лентами. Свадебное шествие отправилось к деревянному храму, находившемуся километрах в двух от места, где справлялась свадьба. Впереди всех несли языческую елочку, ее же первой внесли в храм. За елочкой в храм вошли дружки и подружки, и все остальное шествие. На улице, перед дверью, остались только жених и невеста. К ним вышел священник и громко спросил, добровольно ли они венчаются и не давал ли кто-либо из них слово кому-то другому. Получив от жениха и невесты ответы, подтверждающие их чистоту и честность, священник взял их за руки и повел к алтарю.
В Москве мы жили хотя и очень стесненно материально, но счастливо душевно.
Хочу еще рассказать о некоторых событиях того времени — их забывать не следует. Несколько лет подряд мы с Женей в пасхальную ночь ездили к Новодевичьему монастырю. Именно к монастырю: внутрь храма попасть было невозможно, он был полон прихожан и закрывался очень рано, мы вместе с толпой людей приезжали постоять внутри стен монастыря. Действующей тогда была церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая с трапезной; в большом белом Смоленском соборе находился музей. У ворот около стен стояла конная милиция, в воротах — милиционер. Время от времени то ли он отодвигался, то ли толпа сдвигала его, но туда внутрь удавалось прорваться с мчащейся толпой. Однажды меня сшибли, и Женя как-то ухитрился выхватить меня из-под ног бегущих. Внутри картина была такая: все пространство старого кладбища битком забито людьми. Впереди стояла цепь комсомольцев-дружинников, не подпускавших близко к церкви верующих, но пропускавших «своих». Эти «свои» еще размещались группами среди толпы. В 12 часов выходил крестный ход и шел с пением вокруг храма. Впереди ехал конный милиционер, потом торжественно выступал пеший, а уже после него на расстоянии шли духовенство, хор и прихожане. Расставленные в толпе группы комсомольцев со свистом и улюлюканьем поднимали на плечи своих растрепанных визжащих девок, и в крестный ход летели камни. В этой бесовщине мы, верующие, зажигали свечи и, стоя с зажженными свечами, пели: «Христос воскресе из мертвых…»
Надо еще сказать, что где-то в 30-е годы правительство решило снести Новодевичье кладбище и сделать там «зону отдыха». Уже ходила горькая шутка — «Кладбище культуры и отдыха». Почему-то это не состоялось, но большая часть могил, в том числе могила матери Александра Викторовича Коваленского, была снесена и, насколько я помню, были снесены все кресты. Кстати, крест на могиле Владимира Соловьева восстановлен недавно обществом «Радонеж».
Та бесовщина, которая творилась в святом месте в пасхальную ночь, происходила в конце 60-х — начале 70-х годов. Верхом на обескрещенных надгробиях, на деревьях и на оградах сидели, вопили и свистели бесноватые. После, пережив несколько таких заутрень, мы с Женей просто не могли заставить себя туда ездить и в пасхальную ночь шли к маленькому храму апостола Филиппа в Филипповском переулке на Арбате. Выстоять всю службу в переполненном храме уже не было физических сил, а действующие храмы Москвы были переполнены все.
Мысль о публикации стихов Даниила меня все-таки никогда не оставляла. Впервые это удалось сделать в журнале «Звезда» Николаем Леопольдовичем Брауном по инициативе Вадима Андреева. Это было в 1966 и 1967 годах, один раз — пять стихотворений, другой — шесть, и только о природе. В 1975 году вышла первая книжечка его стихов. Владимир Германович Лидин, писатель, с которым мы с Женей были знакомы, захотел помочь издать стихи Даниила. Он написал к ним короткое вступление и направил меня к Льву Адольфовичу Озерову. Озеров был не только поэтом, редактором, но и удивительно чутким и любящим поэзию человеком, он сделал прекрасную, довольно большую книгу стихов. Озеров очень увлекся поэзией Даниила, особенно поэмой «Рух». Он говорил мне:
— «Рух» — это тот паровоз, на котором Даниил въедет в русскую культуру.
Женя смотрел на это предприятие скептически и был прав. Я понесла книгу в издательство. Боже мой, что там начали над ней вытворять! Причем, по-моему, они измывались над рукописью еще и для того, чтобы вынудить меня отказаться. А я уперлась. Были люди, которые говорили мне: «Пусть как угодно. Очень важно напечатать. Если издано хоть что-то, это уже не подпольный диссидентский поэт. И вы имеете право хранить его рукописи». Но я, стиснув зубы, держалась.
«Рух» выбросили сразу, заявив, что это белоэмигрантская поэзия. Стихи перекорежили все. Из хорошей книги, сделанной Озеровым, получилась тонюсенькая брошюрка. И в конце концов дело уперлось в «Ленинградский Апокалипсис».
Тут Людмила Александровна Иезуитова познакомила меня с профессором Мануйловым. Он прочел «Ленинградский Апокалипсис», стихи и сказал:
— Так. Вы идете к Дымшицу и делаете все, что он скажет.
— Как к Дымшицу?
Критик Дымшиц был известным «людоедом», он все резал и кромсал. Фамилия его звучала нарицательно. Его слово означало больше, чем просто доступ к издательствам. Мануйлов мне сказал: «Он все понимает. Он прекрасно все понимает».
Я пришла к Дымшицу, отрекомендовалась: «Я от профессора Мануйлова». Оставила ему «Ленинградский Апокалипсис». У меня к тому времени уже был сокращенный вариант. Я сама убрала оттуда всю мистику, оставив реалистическую, так сказать, поэму о блокаде Ленинграда. После того как выбросили «Рух», я поняла, что иначе нельзя. Женя был категорически против:
— Ты не смеешь этого делать ради памяти Даниила! Ты не смеешь так поступать по отношению к нему!
Но были и другие люди, такие, как Вадим Никитич Чуваков, литературовед, работавший в ИМЛИ, который говорил:
— Алла Александровна, держитесь! Держитесь, держитесь, все не важно!
Через два дня я снова зашла к Дымшицу и поразилась его чуткости. Все мистические, выброшенные мною места поэмы — а я выпускала строфы ловко — были отмечены. Он сказал:
— Так ничего не получится. Попросите Озерова сократить эту вещь, чтобы это были вполне нейтральные отрывки из поэмы. Я позвонила Озерову, который знал всю эту историю:
— Дымшиц говорит вот так, но я в вашем ответе не сомневаюсь.
— Я никогда этого не сделаю, — ответил Озеров. — Никогда.
Тогда я села, подумала и сама сократила поэму. Я ее полностью изуродовала. Вместо поэмы остались три клочка под названием «Ладога». Принесла Дымшицу.
— Чья работа?
— Моя.
Он прочитал и сказал:
— Умница.
И всю эту ерунду — отрывок под названием «Ладога» и искореженные стихи — напечатали. Вот, например, стихотворение, посвященное мне. Оно начинается так:
Как чутко ни сосредотачиваю На смертном часе взор души, Опять все то же: вот, покачивая, Султаном веют камыши.Ну как же можно думать о смерти? «Исправили» следующим образом:
Как чутко ни сосредотачиваю На всем минувшем взор души…В довершение ко всему, обнаружив полное свое невежество относительно реальной жизни, я изъявила желание сделать обложку сама. Подруга, с которой мы делили мастерскую в одном подвале, сказала:
— Ничего не выйдет, не дадут тебе это сделать.
— Ну почему? Подумаешь — одна книжка; я же ничего у них не отнимаю!
— Вот посмотришь…
И я сделала обложку в технике линогравюры. Получилось очень интересно. Как меня гоняли издательские художники!
Подруга говорила: «Вот видишь: тебя же просто заставляют отказаться. Ну откажись!» Но я уперлась, я не понимала. И мне за это отплатили. Я просила разрешения самой поехать в типографию и подобрать цвет. Но мне нарочно ничего вовремя не сказали и с моей же доски напечатали чудовищную гадость! Я разревелась прямо в издательстве, получив книгу.
Книжка под названием «Ранью заревою» вышла в 1975 году. Она прошла незамеченной; ее и нельзя было заметить. Я удивлялась потом, когда ко мне подходили люди и просили подписать ее. Говорили: «Вы знаете, вот купил давно уже эту книжку — стихи хорошие…»
Женя возмущался:
— Ну что, получила? Ты не смела этого делать!
Но Вадим Никитич Чуваков позвонил мне, едва вышла книга:
— Алла Александровна, сейчас же пишите биографию Даниила Леонидовича, он — крестник Горького. Вышла книжка, и у меня есть основание положить ее в архив Горького. Что бы ни случилось, кто-то когда-то откроет эту биографию и имя Даниила Андреева сохранится в русской культуре.
Даниил действительно крестник Горького. У меня есть фотокопия его метрики. Там записано: крестная мать — Елизавета Михайловна Доброва, крестный отец — мастеровой малярного цеха Нижнего Новгорода Алексей Максимович Пешков. Когда родился Даниил, Леонид Андреев с Горьким еще дружили. Я послушалась не Женю, а Чувакова. И как знать, кто из них был прав.
А рукописи «Розы Мира» жили своей жизнью. Верочка Литковская в Торжке перепечатала «Розу Мира». Один экземпляр я переслала в Сибирь своей подруге в продуктовой посылке. Подруга, очевидно, боялась, что если она и муж умрут (что, кстати, вскоре и вышло), то эта рукопись может попасть в руки случайных людей. Она переправила или привезла рукопись, когда приезжала однажды на родину под Ленинград, по-моему, в Лахту и оставила ее там своей подруге. Подозреваю, что именно этот экземпляр послужил источником тех ксерокопий «Розы Мира», которые стали ходить по Москве, Ленинграду и другим городам уже в 60-е годы. Один экземпляр я отдала Вадиму Андрееву.
Вадим приезжал в Россию вместе с женой Олей каждые два года. Нередко приезжала также их старшая дочь Ольга Карлайль, писательница, переводчица и художница. Приезжал и их сын Саша, с которым у нас были очень хорошие отношения. Он работал переводчиком, а потом главой переводчиков ЮНЕСКО. Через Андреевых я отправила на Запад все, что только могла, из произведений Даниила. Не оригиналы, а копии того, что было им перепечатано, вторые экземпляры. Ни строчки из того, что было у Вадима — а к 1962 году у него было все, — не было напечатано. Думаю, это было вызвано какими-то специфическими западными объективными условиями, которых мы не можем себе представить. Внятного ответа на этот вопрос я никогда не получила. Напечатали только несколько стихотворений Даниила в «Вестнике РХСД», но они были переданы Никите Струве не Андреевыми.
Здесь в России «Роза Мира», как я уже говорила, начала ходить в искаженных, иногда укороченных, иногда отредактированных, а порой даже дописанных вариантах среди людей, которые ею интересовались. Иногда узнавали мой телефон и звонили. А мы тогда с Женей жили с соседями, звонили по телефону в коммуналку. Я отвечала, что ничего об этой книге не знаю и не понимаю, о чем речь. Я не могла отвечать иначе. Я же не знала, кто звонит и откуда. Знала, что по Москве идут обыски и при ряде обысков «Розу Мира» конфисковали со всем, что было взято, и отправили на Лубянку. Одно мое неосторожное слово, и я бы вызвала шмон у себя, что означало бы гибель всего. Поэтому я и хранила полное молчание.
Так прошло много лет. Женя умер уже в той квартире, где я сейчас живу, в Брюсовом переулке. Слава Богу, он успел в ней прожить пять месяцев. Это была, наконец, наша квартира, отдельная, это была человеческая жизнь. Умер Женя, как ребенок, не поняв, что умирает. Погиб в двое суток от инсульта. В предсмертном бреду он тихо-тихо говорил: «Как красиво! Как красиво в церкви! Как много священников, свечи горят, как много людей в церкви. Праздник. Большой праздник, Духов день». В том году — 1977-м — на Духов день пришелся сороковой день после Жениной смерти.
Глава 32. ЗЕМЛЯ, ОТКРЫТАЯ НЕБУ
Так называлась моя персональная выставка, открывшаяся в 1994 году в музее Культуры Востока. Там была серия моих работ, посвященных Монголии и Западному Памиру. «Монголия» теперь является собственностью этого музея; памирские работы принадлежат саратовскому литературному музею. Еще там было несколько акварелей, составлявших очень мною любимую лирическую «лесную сюиту» — она подарена Евгению Колобову.
В 1972 году в Доме художника на Кузнецком проходил мой первый в жизни творческий вечер. До тех пор свои работы я видела или в мастерской, или в комнате на полу, прислоненными к стулу либо кнопками пришпиленными к стене. И лишь две-три работы попадали на общие выставки. Первый раз в жизни я увидела себя как художника, когда мне было 56 лет. Я вошла в маленький зал, где уже были развешаны работы, и у меня было такое чувство, как если бы я в 56 лет впервые взглянула на себя в зеркало. До тех пор я совершенно не представляла, какой я художник и художник ли вообще. Помню это чувство: я вошла, смотрела-смотрела и поняла: художник. Как его расценят, как будут к нему относиться — мне было совершенно безразлично! Неважно, что станут обо мне говорить, хотя говорили много хорошего. Потом мои работы выставляли в Союзе писателей, были и еще выставки.
В 1974 году была моя большая персональная выставка, там было сто моих работ. Если бы ее не было, не было бы и квартиры, в которой я сейчас живу (она куплена на деньги от продажи работ с этой выставки).
Больше всего я люблю пейзажи. Часть моих работ написана на севере. У севера есть особое обаяние, которого лишен юг. Он околдовывает своей суровой одухотворенностью. У меня был большой цикл работ с довольно унылым, на первый взгляд, названием: «Уголь Заполярья». Это пейзажи Воркуты, которую я очень полюбила: с терриконами, незаходящим солнцем, с грязными и заснеженными дорогами.
В 1968 году мы с Женей и еще тремя художниками ездили на Полярный Урал. Есть там такая железная дорога, построенная заключенными: «Сейда — Лабытнанги». Сейда — станция недалеко от Воркуты. От нее поперек Полярного Урала идет одноколейка до места, называемого Лабытнанги, что в переводе с коми означает «семь лиственниц». Эта дорога пересекает границу между Европой и Азией. Вот поезд медленно-медленно идет в гору. Справа — разрушенный лагерь. Все лагеря похожи друг на друга, и мы сразу видим, где была каптерка, где вахта. А вот столовая, вон бараки. Потом остановка и пограничный столб. В 1968 году, когда я его рисовала, столб уже ничего особенного собою не представлял: высокий полосатый конус с земным шаром наверху и официальной надписью: с одной стороны «Европа», с другой — «Азия». Но когда мы с Женей в первый раз приезжали в те места, году в 65-м, пограничный столб выглядел замечательно. Это был кол высотой метра 3–4, выдранный, скорее всего, из лагерного забора. К колу была прибита доска, на которой от руки, чернильным карандашом, написали с одной стороны «Европа», а с другой — «Азия».
Мы вышли тогда на станции под названием Харп, это по-комяцки «северное сияние». Нам отвели место в одном из бывших бараков, мы жили там впятером несколько дней, ходили в горы рисовать.
Горы Полярного Урала холодные, суровые, похожие на свернувшихся спящих зверей. Они очень старые, со множеством ложбин, сходящихся в одну точку. В этих ложбинах всегда лежит белый снег. И от этого горы выглядят, как спящие тигры.
Был июль. И мы видели, как вся природа тянется, тянется к солнцу, не заходящему ни на секунду, чтобы успеть как-то вырасти. Незабудки Полярного Урала не такие, как у нас, стройные стебельки с голубыми цветочками. Таким не выжить за полярным кругом. Те незабудки плашмя лежат на земле, прижимаясь друг к другу крупными ярко-голубыми цветами, так что весь куст кажется куском бирюзы. Они могут существовать и расти только как бы взявшись за руки, держась вместе, как люди в несчастье.
Всюду на камнях росли исландские тюльпаны. Их еще называют исландскими маками. Листья у них резные, кружевные, не тюльпанные, а цветы ярко-желтые. Как только солнце скрывается за облаками, они закрываются, складываются в бутоны. Но едва солнце появляется, цветы раскрывают все лепестки, чтобы хватать, хватать его лучи, пока можно.
Однажды мы вышли и увидели нечто невероятное. Вчера кругом были серые камни и чуть-чуть зеленой травы. А сегодня — никаких камней, все сиренево-розовое. Побежали смотреть. Оказывается, расцвел мох на камнях! Мелкие цветочки ползли прямо по камням, прижимаясь друг к другу. В этом поразительный героизм северной природы. Я сделала тогда рисунок, который назвала «Земля цветет».
Когда я работаю над пейзажем, то хочу одного: насколько хватит сил передать Божий замысел этой части Земли, ту гармонию, которую Творец вложил в нее. Каждая складка падающей ткани в натюрморте, каждый блик хрусталя или металла — тоже Божий мир, красота нашего мира. И работа над портретом — это попытка проникнуть в замысел Творца о человеке, в невидимый душевный мир того, чей образ пытаешься передать.
Выражаю ли я себя при этом? Неминуемо, если есть, что выразить. Как бы ни отодвигал себя художник на задний план, передавая гармонию мира в картине, в льющемся на него потоке музыки или поэтических строк, он не уйдет от себя самого как инструмента, передающего услышанное. Ответственность заключается в смысле того, чему дает форму художник: Свету или Тьме, работает он во Славу Божию или в помощь дьяволу. Ничего третьего на Земле нет, нет никакого самостоятельного существования человека — только Свет и Тьма, Бог и противобог, и человек выбирает между ними.
То, что я пишу сейчас, мои мысли о сущности искусства, то, что я формулирую, как принцип работы художника, медленно осознавалось на протяжении всей моей творческой жизни. Сложилось все в систему взглядов, по существу, недавно, может быть лет 15–20 тому назад. Дело в том, что раньше не было этого термина «самовыражение». Вот когда он возник, тогда и стало во мне расти осознанное противостояние самому этому понятию, в том числе и такому взгляду на труд художника.
Что же было раньше? Что было в начале, что привело меня к моей профессии? К искусству, конечно, привели все детство и юность: музыка, звучавшая в доме с первых дней моей жизни, мамина мечта о театре, папа, который колебался между наукой и музыкой и, хотя выбрал науку, музыкантом-то хотел стать театральным.
К счастью, я рано поняла, что при советской власти мне надо выбирать работу с закрытым ртом. Молчаливую профессию. Это и был путь в изобразительное искусство и, прежде всего, в живопись. А дальше, возможно, сработали особенности характера. Я так любила природу, так любила быть в ней одна, так застывала в очарованном восторге перед самыми разными, самыми простыми пейзажами, совершенно забывая о себе, что естественно было стать пейзажистом.
Ни минуты в жизни не приходило мне в голову выражать в пейзаже себя. Да по правде говоря и не знаю, как это можно было бы сделать, как влезать в Божее творение с какими-то своими вопросами.
Вот так и родилось то, что можно назвать моим Credo.
А теперь мне хочется тихонько отойти в сторонку и попробовать найти слова об искусстве трех удивительных людей, с которыми Господь свел меня в моей жизни.
Конечно, ничего искусствоведческого в моих словах не будет, только слова благодарной восхищенности и преклонения.
Прежде всего о Данииле. Двадцатидвухлетней, девчонкой не по возрасту, меня познакомил с ним и ввел в его родной, добровский дом Сережа, мой первый муж. Мы подружились сразу и навсегда. С первых дней знакомства Даниил ввел меня в круг своего творчества (Сережа-то в нем давно находился). С первых строк «Странников ночи» мы жили в пространстве этого романа. Потом — фронт. А потом мы — муж и жена, и я с ним вместе живу в восстанавливаемом романе с первых его страниц.
Потом — арест, следствие, уничтожение «органами» всего творчества, потом срок, годы неведения, и с 1953 года, с нашего месяца июня (в июне 44-го мы решили быть вместе) сначала — письма из тюрьмы, наполненные новыми стихами, и, наконец, последние 23 месяца его жизни — завершение по тюремным черновикам «Розы Мира» и его смерть.
Так вот, за все годы, всю жизнь, целиком отданную творчеству, у этого очень большого поэта и человека не было ни мгновения, ни желания «выразить себя». Всегда, во всем он воспринимал себя как инструмент в Божьих руках, как передающий людям увиденное и услышанное там, то есть, принимая его терминологию, вестником. Этим полна «Роза Мира». А стихи? Вот из далекой-далекой юности: «Мечты высокой вольный пленник я только ей мой стих отдам…» (курсив мой. — А.А.).
В конце моей жизни Господь подарил мне две встречи с людьми, творчество которых вызывает благоговейное изумление.
Дирижер Евгений Колобов[1].
Я — счастливый человек: всю мою внутреннюю жизнь, с детства, не сопровождала, а наполняла музыка, самое лучшее, что есть на свете, самое близкое к Богу. И привелось мне слышать многих прекрасных музыкантов, вероятно, самых прекрасных из тех, которые были. И конечно, никто из них, исполняя музыку, не стремился показать себя, не «самовыражался», потому и был прекрасен. Тем сильнее было потрясение, когда судьба привела услышать музыку из рук Евгения Владимировича, услышать ее ближе, чем из первого амфитеатра Большого зала Московской Консерватории (я уже писала, что он был одним из главных «храмов» Москвы).
Мы даже немного познакомились с Колобовым, мне даже разрешено было иногда на минутку заходить в его кабинет после спектакля, видеть его еще не полностью вышедшим из того океана, в котором он только что был. Именно был в океане музыки, а не «распоряжался» ею, не управлял снаружи, а, не помня себя, был весь погружен в этот мир Голоса Бога и оттуда приносил его нам, слушателям. Потому его исполнение всегда волшебно, потому от него исходит колдовское, а правильнее сказать, магическое, захватывающее слушателя обаяние и власть над оркестром, над певцами и над всеми нами в зале…
Потому так удивительны бывают у него давно знакомые вещи — они звучат по-иному.
Я еще немного видела, когда мы познакомились. Я еще видела эти колдовские руки, эти тонкие пальцы, держащие всю музыку спектакля. Я еще видела Колобова на сцене, вышедшего на приветствие восторженной публики. Всегда было впечатление, что он попал на сцену неожиданно для себя, откуда-то из другого, прекрасного мира, где был «дома», где звучал Божий Голос, а никак не «самовыражался».
Режиссер Петр Фоменко.
А счастье знакомства с этим удивительным человеком, это-то за что мне дано? Как-то в разговоре я, очень рассмешив Петра Наумовича, сказала, что он похож на огромный, старинный замок, где не знаешь, куда войдешь по переходам и каменным лестницам: то ли в рыцарский зал с оружием и щитами на стенах, то ли в маленькую, таинственную комнату с узким окошком, выходящим на серебряное озеро. Он, развеселившись, стал фантазировать на тему комнаты пыток в этом замке, а я-то мысленно поднималась на высокую башню, с которой видно далеко-далеко кругом, с которой раскрывается огромная долина духа. Я вполне отдаю себе отчет в странности этого образа: замок, как определение человека, но не могу от него отказаться. Возможно, здесь как-то звучат отголоски давней моей работы — эскизов к «Гамлету», погибших после ареста. Я немногие из своих работ любила, но эту работу любила очень. И образ замка, цельного, могучего, загадочного и прекрасного, мне близок и дорог.
Спектакли театра Петра Фоменко не смотришь, на них не присутствуешь, их, находясь в зале, глубоко переживаешь вместе с актерами, с действующими лицами, которые стали совсем родными и любимыми. Но переживаешь не жалостливо, не в бытовом, будничном смысле. Может быть, лучше всего это состояние передано Даниилом в стихотворении «Художественному театру»:
…Казалось, парит над паденьем и бунтом В высоком катарсисе поднятый зал, Когда над растратившим душу Пер Гюнтом Хрустальный напев колыбельной звучал.Каждый спектакль прекрасен, целен и кажется естественно выросшим, как чудесный цветок у дороги. А ведь все не так, ведь все, что происходит, все образы, которые там есть, возникают и живут в огромной душе, в горячем (а потому и больном) сердце этого человека, который так, совсем попросту, называется режиссером.
И как бы ни был спектакль безжалостен и жесток по содержанию, надо всем всегда, как веяние крыльев, — доброта. О нет, не назидание, не поучение — нет! Может быть, самое правильное сказать: каждый спектакль обращен к лучшему, что есть в зрителе. Даже если зритель этого в себе не знает.
И все, что творится этим человеком, никогда не имеет целью «самовыражение».
Самовыражение, как цель, есть свидетельство гордыни, она же — прямой путь к духовному падению, за которым неотвратимо возникает образ падшего первоангела Люцифера…
Глава 33. РОЗА МИРА
Весной 1997 года в Москве в Музее народов Востока проходила моя выставка. Среди посетителей появилась женщина, которая, увидев маленький пейзаж, рядом с которым висела табличка «Место на Кавказе, где зарыт экземпляр „Розы Мира“», подошла ко мне и сказала:
— Алла Александровна. Вы зарыли «Розу Мира», зарыли так, что найти ее, оказывается, уже нельзя, а смотрите, «Роза Мира» пробивается везде.
И это правда.
После смерти Жени я опять осталась одна с рукописями. Рукописи пока тихо лежали. Семидесятые были очень страшными годами, я понимала, что стоит мне вылезти с произведениями Даниила, как меня снова заберут, а эти рукописи сожгут. И на этот раз никто уже ничего не восстановит.
Моя жизнь поворачивалась самыми неожиданными сторонами. Откуда-то возникла целая компания хиппи во главе с Алхимиком и его другом Валерой. Они начитались отрывков из «Розы Мира», бродивших по Москве, и отыскали меня, предварительно помолившись в соседнем храме. Явились застенчивые, длинноволосые, все в бусах. Мы потом много бродили по Москве, разговаривая обо всем на свете.
Вернулся из заключения, отбыв 10 лет, Коля Браун, сын петербургского поэта Николая Леопольдовича Брауна, напечатавшего, как я уже рассказывала, в конце 60-х годов в «Звезде» несколько стихотворений Даниила. Из лагеря Коля привез прекрасные стихи, и много времени я провела в Комарове под Петербургом, перепечатывая их. А за стенами дома летали дятлы, прыгали белки, по ночам было слышно, как шумит море.
Коля познакомил меня с Львом Николаевичем Гумилевым. У нас был очень интересный вечер: мы пришли в гости к Льву Николаевичу и его милой жене Наталье Викторовне. Так получилось, что сначала Лев Николаевич рассказал, как он сидел в конце 30-х годов, потом мы с ним сравнивали, как оба сидели в конце 40-х, а потом Коля рассказывал, как он сидел в конце 60-х. А потом все мы начали смеяться — так что же это такое в России — тюрьма? Где же была настоящая жизнь, по какую сторону забора?
Через Колю я познакомилась с ассирийцем Михаилом Садо. Он был членом ВСХСОН. Это особая страница современной русской истории. ВСХСОН расшифровывается как Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. После тех трагических антисоветских групп, в которые как-то объединялись отчаянные и отчаявшиеся люди сталинского времени и которые тут же уничтожались, ВСХСОН — его программа теперь известна и напечатана — был первой русской православной организацией, ставившей своей целью свержение коммунизма. Организация эта в основном зародилась в Ленинградском университете в среде студентов-гуманитариев. Членов ВСХСОНа посадили по доносу предателя в 1967 году. Его руководитель Игорь Огурцов сидел, считая ссылку, 20 лет, с 1967 по 1987 год; Михаил Садо — 13 лет, с 1967 по 1980 год, когда мы с ним и подружились. Писатель Леонид Бородин (это был его первый срок), эфиопист Вячеслав Платонов и еще несколько человек получили меньшие сроки.
Освободившись, Михаил Садо стал преподавателем Петербургской духовной академии. С ним, как и с Колей Брауном, меня до сих пор связывает дружба, основанная на глубоком душевном единстве.
В 86-м году Даниилу исполнилось бы восемьдесят лет. Я всегда в день его рождения 2 ноября ездила на Новодевичье. Одна. На кладбище и в церкви я любила бывать одна.
Могила тогда выглядела так: два холмика, между ними дубовый крест и вокруг много сирени. Ограда была прямоугольная с прямыми прутьями, ее еще Даниил ставил.
В тот день я приехала и — остолбенела. Не было ни креста, ни холмиков, ни сирени. Во всю площадь могилы лежала огромная гранитная плита, а на ней громоздился гранитный «шкаф». Больше я тогда ничего не увидела — бросилась бегом прочь. Уборщица, которая меня хорошо знала, сказала:
— Идите скорей к директору!
Директора я не застала, было воскресенье. Произошло же вот что. Великолепный скульптор Николай Андреевич Андреев, автор старого памятника Гоголю, тоже похоронен на Новодевичьем кладбище. Его родные хлопотали, чтобы Министерство культуры поставило ему памятник. И рабочие, найдя могилу другого Андреева, решили, что это она и есть. Вышла чудовищная ошибка.
В тот же вечер я позвонила в Петербург своему другу Коле Брауну и все ему рассказала. Ночью он перезвонил мне:
— Начало твоего телефона — 229. Запомни: по статье Уголовного кодекса 229-й надругательство над могилой влечет уголовную ответственность сроком до трех лет.
На следующий день я кинулась к директору. Сначала он заявил, что я вообще никогда не бываю на кладбище и понятия не имею, кто у меня тут похоронен. Я молча вынула толстую пачку квитанций оплаты уборщицам, положила перед ним.
— У вас была не могила, а козий загон!
Я сказала:
— Русская могила — это холмик с травой и крестом. Поняли?
Он продолжал хамить. А у меня и правда никогда не хватало духу выдирать ландыши, сыпать песок. Я всегда просила, чтобы зимой оставался снег, а летом — трава. Это было похоже на деревенскую могилу и было мне дорого.
Мы долго препирались, а потом я сказала:
— Да что вы так со мной разговариваете? Вы же знаете, статья 229 — до трех лет. О чем вы спорите?
Он мгновенно переменил тон, стал кому-то звонить:
— Вот она говорит, что русская могила — это земля, трава и крест… ага… угу…
Гранит все-таки содрали, а крест потом нашелся далеко в Подмосковье. В 1986 году у меня совсем не было денег. Тут уж взялись помогать все. Кончили мы только к лету. Мне до сих пор трудно бывать на кладбище, не могу забыть тех двух холмиков с крестом посредине и кустов сирени.
Мы всегда праздновали день рожденья Даниила. И тогда, в 1986 году, вечером пришли Боря Чуков и еще молодые ребята, которые Даниила не знали, но очень любили. Я никак не могла прийти в себя после того, что произошло. Пришлось рассказать. Боря расшумелся:
— Все изменилось, теперь Горбачев, перестройка, надо печатать стихи Даниила Леонидовича.
— Не хочу получать по морде! — отвечала я. — Это все то же самое, что было!
— Вы чего еще ждете?! — кричал он. — Вот уже надругались над могилой. Чего вам еще надо?
Мы довольно долго орали друг на друга. В конце концов я сказала:
— Ладно. Берите, несите.
— Я понесу в «Новый мир».
— Еще не хватает «Нового мира»! Какое «Новому миру» может быть дело до Даниила Андреева! Ладно. Валяйте! Несите и получайте по морде вы!
Боря Чуков отнес стихи в «Новый мир» и по морде не получил. Это было то, с чего потом все началось: первая публикация стихов Даниила в «Новом мире», сделанная Олегом Чухонцевым. Быть может, без того издевательства над могилой, без того особого состояния у меня и у тех, кто меня слушал, история публикаций творческого наследия Даниила сложилась бы иначе.
Публикацию в «Новом мире» прочитал Борис Николаевич Романов. Он дружил с Витей Василенко, издавал его стихи. Романов разыскал меня и стал «пробивать» в издательстве «Современник», где тогда работал, очень тоненький, как он сначала предполагал, поэтический сборник, который потом стал прибавлять и прибавлять в объеме. Это был 1987 год. Борис Николаевич включил в эту книжку стихотворение «Беженцы» — о войне:
Шевельнулись затхлые губернии, Заметались города в тылу. В уцелевших храмах за вечернями Люди ниц рыдают на полу — О погибших в битве за Восток, Об ушедших в дальние снега И о том, что родина-острог Отмыкается рукой врага.В издательстве Романова тогда проработали на «пятиминутке», а стихотворение сняли. Теперь его печатают везде, а Борис Николаевич — редактор всего собрания сочинений Даниила. В 1989 году в «Новом мире» опубликовали первые отрывки из «Розы Мира», главы о Лермонтове и Блоке со вступительной статьей Станислава Джимбинова «Русский Сведенборг». А потом публикации пошли одна за другой.
Наконец, странная психологическая перемена произошла и во мне. Все годы после смерти Даниила я жила как бы опустив голову и закрыв руками его произведения. И вдруг как будто с меня сняли страх. Не сняли, а снял Даниил — я в этом совершенно уверена. Я подняла голову и заговорила. Заговорила даже буквально — стала читать его стихи. По приглашению Саши Андреева, сына Вадима, в 1987 году я поехала в Париж и там впервые читала стихотворения Даниила собравшимся русским парижанам. С тех я читаю постоянно, от Лондона до Владивостока, где только можно.
На одном из выступлений в Смоленске меня смущенно предупредили:
— Знаете, Алла Александровна, вы будете выступать в библиотеке, в Союзе художников, а вот еще очень просили сотрудники исправительно-трудовых лагерей. Вы простите, пожалуйста, но они так просили…
Я ответила:
— Да что вы извиняетесь! Мне это самой интересно. Художникам я уже читала, писателям тоже, а сотрудникам «органов» — еще нет.
Зал был полон, и почти все в нем — в погонах. Сначала мне стало не по себе, а потом думаю: ну, как хотите, а сейчас будете слушать.
Сначала я рассказала им биографию Даниила и, когда дошла до ареста и следствия, учитывая специфику их работы, говорю:
— Вам, наверное, это будет профессионально интересно…
А им и вправду было интересно. Затем прочла стихи и сказала:
— Теперь любые вопросы…
Глянула в зал и увидела на глазах слезы.
С тех пор как я начала читать, меня не оставляло чувство, что Даниил рядом и что он снял с меня страх за свои стихи, за «Розу Мира». Это были совсем не легкие годы, но я выступала, не опуская головы. И бывают странные моменты во время чтения стихов. Я выхожу, читаю стихотворение, над которым много работала, так, как задумала. И вдруг — что-то происходит. Я начинаю читать гораздо лучше, забываю о плохом самочувствии, полностью растворяюсь в тексте. И кажется, что кто-то рядом. Даниил рядом. И здесь надо, мне кажется, подробнее сказать об особенности его дара.
Мы живем в разделенном, раздробленном мире. Разбиты наша жизнь, все понятия. Разорвана связь физической жизни с духовной, раздроблены на части все профессии. Иногда еще соединяются в одном лице поэт и прозаик, но чаще даже поэты пишут или лирические, или гражданские стихи, а талантливая шутка породила пародиста как профессию.
Но если бы мы отправились в глубокую древность, босиком или в грубых сандалиях прошли по выжженным солнцем пыльным или каменистым дорогам очень давних и очень дальних стран, то неминуемо встретили бы на одной из таких дорог человека, который казался бы странным только для нас, но для тех, кто жил рядом с ним, был совершенно понятен. Кто он? Поэт — в том древнем значении этого слова, которое мы сейчас потеряли. Вероятно, и в древности, как и позже, в самой обыкновенной семье рождался странный мальчик и вырастал необычным человеком. Он слышал, а часто и видел то, о чем окружавшим его людям было известно только «умственно». Такова уж особенность душевной структуры человека, наделенного религиозным чувством. Такими были и поэты Древней Эллады, и ветхозаветные пророки, и средневековые миннезингеры — не авторы куртуазных любовных песен, а создатели «Парсифаля» и «Тангейзера».
Люди этого строя воспринимали мир цельным, образным и нераздельно слитым с миром Иным. Для них религиозный, философский, поэтический и музыкальный лики Вселенной представали как единое целое, не поддающееся расчленению, нашей теперешней раздробленности.
Во все времена были люди, обладавшие особым свойством: они слышали не земное, а Божье время. Такими были первые христиане, ожидавшие немедленного пришествия Христа, такими были обезумевшие от страха перед близившимся концом света последователи Аввакума и Савонаролы. Такими бывают поэты, таким был Даниил Андреев в своей мечте о братстве и единении перед Богом всех живущих на земле. Он слышал Божью правду и Божье время, порой смешивая его с земным, потому что сам жил на некоей пограничной полосе. Только такой человек и мог стать автором «Розы Мира».
Жизнь распоряжалась по-своему. Как из светлого тумана возникают лица. Все молодые, все очень разные, но одинаково бедные той самой всеобщей советской бедностью, которую сейчас как-то быстро подзабыли и которую на Западе называют нищетой. Не было ни у кого из них ни денег, ни положения, ни «будущего», ни, естественно, никакой власти. У всех были семьи, которые они любили и берегли. Именно они тихо обступили меня и стали помогать: ксерокопировали, переписывали, сверяли.
Только у меня были все подлинники произведений Даниила. Что-то со мной случится — и все: останутся искореженные, Бог знает какие, ксерокопии. Неожиданно приехал Юра Кочетков, а с ним Таня и Сережа Тарасовы, тогда еще жених и невеста, казак и казачка, высокие, милые. И втроем они сфотографировали первый экземпляр «Розы Мира». Это был уже 1985 год. А потом Таня, беременная, перепечатывала с фотографий книгу, печатала и смотрела, сколько осталось страниц до конца и сколько недель, а потом и дней до родов. Успела допечатать рукопись и родила сынишку.
Весной 1987 года появился и тот, кто сумел сделать казавшееся невозможным: издать впервые «Розу Мира». Его зовут Саша Палей. К печати книгу готовили Саша и моя крестница Вероника Сорокина. Корректуру читали у меня дома. Первое издание «Розы Мира» — момент исторический и об этом надо рассказать отдельно.
Издательство «Прометей», впервые напечатавшее «Розу Мира», принадлежало МГПИ им. В. И. Ленина, где научным сотрудником на педфаке и работал Саша Палей. Он был знаком с директором издательства Валерием Николаевичем Букреевым, философом по образованию и человеком смелым и рисковым. В этом издательстве, кстати, впервые в СССР, был опубликован сборник работ Н. А. Бердяева. И это самое издательство фатальным образом оказалось единственным на тот момент, где можно было попытаться опубликовать «за счет средств автора» книгу такого содержания (у автора, точнее у его вдовы, денег не было совсем, поэтому «Роза Мира» издана на средства, собранные друзьями). Выпустить книгу было очень трудно по целому ряду причин, и она вышла только в 1991 году, хотя и немыслимым для нынешнего времени стотысячным тиражом (машинописный оригинал был сдан в издательство в мае 1988 года). Знаменательно, что «Роза Мира» впервые увидела свет в год окончательного краха коммунистической системы в России — за несколько месяцев до августовского путча.
А круги расходились все шире. Появилась Ирина Залешева — русская, замужем за чехом. Она организовала перевод на чешский язык и издание «Розы Мира» в Чехии. Тогда же, в 1990 году, Саша Козачков перевел большую часть «Розы Мира» на испанский. Книгу издали на острове Майорка, там, где жили Шопен и Жорж Санд. В 1997 году вышло в свет английское издание «Розы Мира». Японец Юсике Сато перевел «Розу Мира» на японский язык. К сожалению, все эти переводы, кроме чешского, не полны.
Первый диплом по творчеству Даниила Андреева защитила в МГУ моя крестница Маша Гладкая. А теперь диссертации, посвященные его творчеству, защищают по всему миру от Германии до Австралии.
Еще в черные андроповские времена, в 1983 году, мне удалось переправить хранителю «Русского архива» в Лидсе Ричарду Дэвису подлинники тюремных черновиков Даниила. А он смог привезти мне в Москву ксерокопии всех этих рукописей только через 10 лет — в 93-м, до этого его сюда не пускали. В 1994 году я была в Англии и мы вместе с Ричардом разбирали и приводили в соответствующий архивный вид эти тюремные записи.
Наступил 1996 год — девяностолетие Даниила. Мы его отметили тепло и красиво в Музее музыкальной культуры имени Глинки. Все было особенным и теплым. Евгений Колобов — оказалось, что он любит и знает творчество Даниила, — с присущей ему широтой и щедростью прислал своих лучших молодых певцов, а у него поют только молодые. Вот тогда мы с ним и познакомились.
Композитор Алексей Рыбников привел свой камерный хор. Он автор очень интересной, значительной работы «Литургия оглашенных». Она навеяна тремя русскими судьбами: отца Павла Флоренского, Осипа Мандельштама, Даниила Андреева. Его хор пел отрывки из этой «Литургии». Когда я услышала эти чистые, ясные молодые голоса, я поняла, что мой корабль качнулся и вышел в какие-то другие волны и меня окружает безбрежная ширь горизонта.
Ждала нас всех еще одна радость. В 2000 году, в том самом нашем с Даниилом июне, была установлена мемориальная доска его памяти. История возникновения этой доски достойна отдельного, почти детективного рассказа, и я ее опускаю. Самым главным была необыкновенная творческая удача талантливого скульптора Валерия Евдокимова. Доска была открыта под звуки первого концерта Чайковского. На открытии присутствовали члены московских городских властей, самые близкие и дорогие мне люди и многие из тех (кто смог прийти), для кого творчество Даниила стало неотъемлемой частью жизни. Полную машину роз привез Андрей Шестопалов, так называемый «новый русский» родом из Тюмени. Именно Шестопалову мы обязаны материальным воплощением этого замысла. Он же был одним из тех немногих людей, которые оказывали материальную поддержку во всем, что связано с именем и творческим наследием Даниила. Доска установлена во дворе Литературного института им. Горького в Москве на Тверском бульваре рядом с досками памяти Андрея Платонова и Осипа Мандельштама.
Весной 1997 года тоже было чудо. Началось оно просто, с телефонного звонка из Германии. Композитор Александр Сойников просто и буднично сообщил мне, что написал мистерию «Роза Мира», посвященную Даниилу Андрееву, и она в мае будет исполняться в Иркутске.
Я пропускаю наш разговор.
Мы познакомились у трапа самолета, направлявшегося в Иркутск, и подружились во время полета.
Мне позволили быть на всех репетициях, и я впервые в жизни присутствовала при рождении музыкального произведения — с первых нот и до конца. Дирижировал Олег Зверев.
А потом были три премьеры: 13, 14 и 15 мая в Ангарске и Иркутске.
Никогда я не забуду, как стояла перед стоя аплодирующим залом. Я стояла, зажав в руке розу, между великолепным композитором, написавшим эту музыку, и таким же дирижером, ее исполнившим.
Я чувствовала, что большая волшебная птица, которую я берегла и хранила — творчество Даниила, — взята из моих рук и на волнах дивной Сашиной музыки летит во весь Господний мир — без меня.
Без меня?
А я?
Теперь я всегда встречаю Новый год одна и очень люблю это. Я празднично накрываю стол, наряжаюсь, ставлю вкусную и красивую еду, вино, два бокала — стол накрыт для двоих. Второй бокал — для тех, кто со мною в эту Новогоднюю ночь. Даниил всегда со мною. И за этим новогодним столом вспоминаю все, только не помню ничего плохого. Я помню все светлое, глубокое и прекрасное, что видела за свою уже очень долгую жизнь.
Отсюда я слышу, как звенит янтарный песок на высоких дюнах Неринги, и вижу, как встает огромная луна. Журчит река Прут, и над Карпатами сияет моя любимая вечерняя звезда. А на Памире над пятитысячником поднимается небесный охотник — Орион. Невыразимо прекрасно пахнет бескрайняя монгольская степь. И переулочки, и закоулки Праги — сердца средневековой Европы, Мальта — золотой остров. Пологие холмы Англии, по которым скачет на белом коне рыцарь-король Артур. И последнее, что я видела в 1995 году, расставаясь со зрением, — прекрасный силуэт Троице-Сергиевой лавры.
Смысл жизни — преодоление. Это путь человека к Богу. Возможно, что какое-то зло в себе самой и в окружающем меня мире я преодолела.
Теперь я опять одна и свободна. Далеко остались музыкальные ручейки, когда-то лепетавшие и журчавшие у далекой детской постельки с белым пологом. Мой кораблик вынесло в прекрасное сияющее море музыки, самое близкое к Богу. Ведь Слово, бывшее в начале, неразрывно слито со смыслом и музыкой в том древнем, настоящем, неразделенном мире.
Нас с Даниилом связывало то, что мир иной, который он слышал непосредственно, был и для меня реален. Но это была реальность веры и понимания, а непосредственную связь я ощущала только через Даниила. Его уход из этой жизни был не только потерей любимого человека. Передо мною как бы закрылись, наглухо задвинулись ворота крепости — ворота туда. И больше тридцати лет я ходила около крепостных стен, зная, что за ними — самое главное.
Милость Господня безгранична и приходит к нам неизвестными путями.
Я знаю, что подобные Даниилу избранники Божии есть в мире всегда. И как не стоит мир без праведников, так не может он стоять и без них, избранных. Но среди тех прекрасных, умных, добрых, преданных людей, которых я встретила после ухода Даниила, такого не было до недавнего времени.
И вот теперь, в конце жизни, Господь указал мне еще одного. Им отмеченного на несение света и креста — они всегда нераздельны. Только теперь он вдали от меня. Я не могла не узнать этого дуновения мира иного.
Поэзия была жизнью Даниила, она была его дыханием. Жизнь же и дыхание этого человека — Музыка, он сам воплощенная музыка и держит ее в своих волшебных руках. Да будет над ним благословение Божие.
С благоговением молясь о любимых, я жду, когда мой корабль с парусами войдет в Небесную страну. Он войдет туда сквозь радугу. Много лет назад я написала эскизы к «Сказанию о невидимом граде Китеже», там была только одна находка — радуга не дугой, как на земле, а кольцом. Сквозь это кольцо и приходят люди в свою Небесную страну.
Что же я скажу перед теми закрытыми вратами?
— Господи, я такая, какая есть. Стать лучше, стать ближе к Твоему замыслу обо мне я не сумела. Прости меня.
1996–2003
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Еще вместе. Даниил и Алла Андреевы. 24 февраля 1959 г.
Леонид Николаевич и Александра Михайловна Андреевы. Берлин, 1906 г.
Шурочка Велигорская, мать Даниила, с дедом Варфоломеем Шевченко, троюродным братом и свояком Тараса Шевченко. Конец 1880-х гг.
Родители Аллы Андреевой
Александр Петрович Бружес, военный врач, 1915 г.
Юлия Гавриловна Никитина-Бружес, 1910 г.
Сидит (слева): Елена Александровна Бружес-Панченко, бабушка Аллы Андреевой по отцу. Стоит: Юлия фон Дитмар, прабабушка Аллы Андреевой
Слева направо: Александр Бружес, отец Аллы Андреевой, его двоюродный брат Евгений, будущий крестный Аллы Андреевой, и Юлия фон Дитмар
Алла Бружес (Андреева), 1918 г.
Даниил Андреев, 1909 г.
Филипп Александрович Добров
Дом Добровых. Малый Левшинский переулок, д. 5 Фото Е. И. Белоусова
Алла Бружес (Андреева) 1925
Семья Бружес дома, на Петровке, 1928 г.
Алла Бружес
с братом Юрой
Зоя Васильевна Киселева, близкий друг Даниила Андреева, 1930-е гг.
Александра Львовна Гублер (Горобова), первая жена Даниила Андреева, 1930-е гг.
Галина Сергеевна Русакова (третья слева), 1957–1958 гг.
Даниил Андреев, 1936–1937 гг.
Алла Бружес, 1931 г.
Портрет Аллы Бружес (Андреевой). Художник Арон Ржезников, 1933 г.
Портрет Аллы Бружес (Андреевой). Художник Сергей Ивашёв-Мусатов, 1941 г.
Семья Левенков, друзей Даниила Андреева, в Трубчевске
Даниил Андреев (третий слева) на Нерусе, 1932 г.
Даниил Андреев. Ленинградский фронт, 1943 г.
Фотографии, сделанные при аресте
В Мордовском лагере, 1954–1956 гг.
Даниил Андреев — сразу после возвращения из тюрьмы, апрель 1957 г.
Даниил Андреев. Горячий Ключ, 1958 г. Фото Аллы Андреевой
Вместе. 24 февраля 1959 г. Фото Б. Чукова
Даниил Андреев, 1959 г.
Протоиерей Николай Голубцов. Венчал Аллу и Даниила Андреевых в июне 1958 г. и отпевал Даниила
Могила Даниила Андреева на Новодевичьем кладбище. Фото Б. Чукова
Здесь зарыт 2-й экземпляр «Розы Мира». Горячий Ключ, осень 1958 г.
Одна. Алла Андреева, 1959 г. Фото Б. Чукова
Сережа и Женя Белоусовы, 1910 г.
Евгений Белоусов и Алла Андреева. Воркута, 1963 г.
Счастливые дни в Новом Свете и Коктебеле, 1968 г.
Алла Андреева и Евгений Белоусов на Полярном Урале, 1968 г. Фото Е. Белоусова
Алла Андреева в Архангельском Фото Е. Белоусова
Алла Андреева в Карпатах Фото Е. Белоусова
Алла Андреева. Дома, 1970-е гг.
Выступления Аллы Андреевой
С пианистом Михаилом Кандинским
Работы Аллы Андреевой
Автопортрет, 1960-е гг.
Салехард, 1968 г.
Город, 1960-е гг.
Клайпеда, 1974 г.
В доке, 1974 г.
Автопортрет, 1960 г.
Братья, 1978 г.
Трубчевск. Городище, 1991 г.
Освящение мемориальной доски Даниила Андреева отцом Валентином Дроновым во дворе Литературного института
Алла Андреева и отец Валентин на теплоходе, 1997 г.
На открытии музея Леонида Андреева. Орел, 21 августа 1991 г.
Выступление в Литературном музее. Саратов, 1994 г.
Алла Андреева и Л. Е. Бежин на освящении часовни во Владимирской тюрьме, 1992 г.
Алла Андреева рядом со своей работой — пейзажем того места, где зарыта «Роза Мира». Музей Востока, 1997 г.
Выставка в музее Востока, 1997 г. Фото А. Окунева
Алла Андреева и автор Оратории «Роза Мира» композитор Александр Сойников
Исполнение Оратории Александра Сойникова «Роза Мира». Мировая премьера. Иркутск, май 1997 г.
Примечания
1
Евгений Владимирович Колобов, гениальный русский дирижер, родился в день Крещения Господня в 1949 году, скончался на Троицу в 2003.
(обратно)
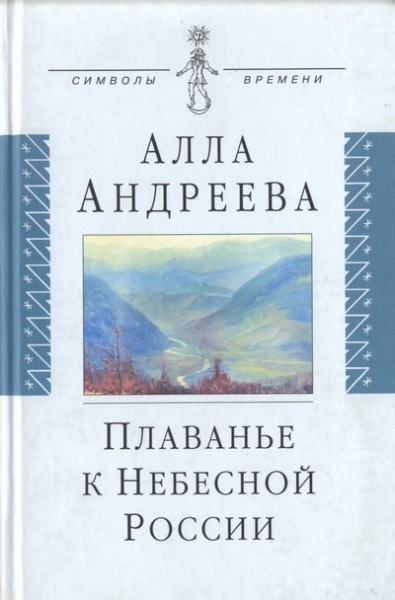


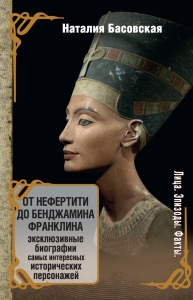

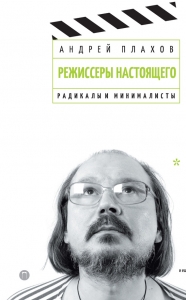

Комментарии к книге «Плаванье к Небесной России», Алла Александровна Андреева
Всего 0 комментариев