Сергей Рудольфович Минцлов Петербург в 1903–1910 годах
Предисловие
За всю свою жизнь я никогда не состоял ни в какой политической партии и не принимал участия в политических кружках и делах. Я всегда оставался свободным человеком и мои записи не подсказаны мне партийной дисциплиной, а являются точным отражением того, что совершалось перед моими глазами и тех настроений, которые с каждым днем все глубже и шире захватывали все слои общества и революционировали его. Мы жили на вулкане и постепенно отравлялись его газами: вот точка зрения, с которой должен будет смотреть на события этих лет историк-патолог нашего времени. Поэтому да простит мне читатель те, быть может излишние, резкости, которые он найдет в моих записях и которые свидетельствуют не о моих убеждениях, а о степени нервного возбуждения, какое мы переживали четверть века назад во дни первой революции.
С. Р. Минцлов
1903 год
4 мая. Угрюмые всегда петербуржцы повеселели: сегодня разрешено женщинам ездить на верхах конок[1]. Невольно улыбаешься, видя, как неумело, подобрав юбки, и сконфуженно, подымаются по крутым лесенкам барышни и дамы; глаз не привык встречать на империалах среди чуек и смазных сапогов нарядные жакетки и шляпы с цветами. Нынче обще-петербургское представление и первый женский дебют.
7 мая. Телеграф принес весть об убийстве уфимского губернатора Богдановича[2].
Весть эта принята обществом довольно равнодушно: смерть Боголепова и Сипягина[3] приучила уже к подобным событиям, да Богданович и не пользовался расположением.
В газетах, конечно, помещены трогательные некрологи, где он выставлялся в некоторого рода ореоле, но… чего не печатают в наших газетах!
8 мая. Дожди и дожди. Будет прискорбно, если празднование 200-летия Петербурга пройдет при такой погоде!
Городской голова Лелянов[4] возил к министру внутренних дел церемониалы торжеств для утверждения; Плеве[5], увидав их, замахал руками и произнес: «Короче, как можно короче!»
Есть слухи, что в юбилейные дни произойдут беспорядки; солдатам приказано выдать по 35 патронов на человека.
9 мая. П. П. Шенк[6], заведывающий библиотекой Императорских театров, рассказал мне любопытный случай с покойным Д. Григоровичем[7]. Он был председателем Литературно-театрального комитета и однажды явился в библиотеку, передал Шенку протокол заседания и ушел. Шенк пробежал протокол. Трактовалось о какой-то пьесе: разделывали ее, что называется, под орех: и не сценична, и деланна, и характеров нет, и т. д., и т. д.
Проходит несколько дней — в библиотеку ураганом врывается Григорович.
— Где протокол? где протокол? возбужденно спрашивает он у Шенка. Тот отдал ему бумагу, и старик Григорович стремглав бросился вон, как оказалось потом, опять в комитет.
На другой день является он в библиотеку и отдает Шенку протокол о той же пьесе. Читает он его и глазам не верит. Пьеса хвалится до небес — и сценична она и характеры выдержаны, и мастерски написана. Что за метаморфоза?.. Загадка скоро разъяснилась.
М. Г. Савина
Передав в библиотеку первый протокол, Григорович поскакал к М. Г. Савиной[8]: пьесу неизвестного автора представила она для своего бенефиса. У Савиной сидел А. С. Суворин[9].
— Помилуйте, матушка Марья Гавриловна, заговорил войдя Григорович. — Я сейчас из заседания, читали представленную вами пьесу: это, простите, черт знает что — никуда не годная вещь!.. — и пошел честить ее.
Д. В. Григорович
Марья Гавриловна молчала и улыбалась. Наконец, Григорович кончил.
— А вот позвольте вам представить автора этой пьесы, сказала Савина, указывая на Суворина.
Григоровича словно ужалило; он забормотал, залепетал, растерялся.
— Да вы про что, Марья Гавриловна? Про какую пьесу? Вы ведь представили их две… (пьеса была представлена ею только одна, и М. Г. усмехнулась). Так это я вот про ту… а эта, Алексея Сергеевича, она нет, она великолепна, она одобрена!..
Схватил шапку и убежал как мальчик, переделывать протокол[10].
Сегодня опубликовано высочайшее повеление об увольнении бессарабского губернатора фон Раабена за допущение им кишиневского погрома евреев[11]. Говорят, что истинный виновник погрома — Плеве, задумавший, якобы, его с целью отвлечения внимания общества от брожения и беспорядков, происходящих повсеместно на Руси.
10 мая. Петербург готовится к юбилею: не все их праздновать литераторам да чиновникам! На Невском и Литейном врывают в землю высокие шесты с орлами, сооружают арки и т. д. Погода прояснилась, тепло. По городу во множестве рассылаются и раскидываются прокламации, призывающие всех примкнуть к беспорядкам, предположенным во дни празднеств. Думаю, что именно вследствие этих прокламаций ничего не произойдет, и листки эти предназначены лишь для отравления спокойствия Плеве и градоначальника Клейгельса[12].
14 мая. Усиленно говорят, что рабочих на петербургские празднества не допустят и заставят работать под угрозой немедленной высылки. Сперва предполагалось торжествовать все три дня, теперь «юбилей» продлится всего один — шестнадцатого. В ночь на 17-е все украшения, флаги и пр. приказано убрать.
Стоило возводить и устраивать всю эту миллионную мишуру на один день! Лучше было бы не затевать совсем ничего и не приглашать заморских гостей за сто верст киселя хлебать!
15 мая. По фабрикам и заводам объявлено, что 16-го работы должны производиться; неявившиеся будут уволены и высланы немедленно.
Украшений мало. На Невском расставлены какие-то нелепые, плохо окрашенные красные шесты с гербами; часть их окружена как бы круглой решеткой, опирающейся на остовы кораблей; постаменты под этими кораблями зеленые. Недурна арка на Английской набережной; в основаниях ее два корабля со снастями и пушками типов петровской эпохи. Прочие части города, кроме Невского, Морской и Сенатской площади, в смысле украшений пусты. Неизвестно зачем и для кого — для провинции, что ли — газеты врут об этих украшениях. Прочитаешь их — кажется, сейчас выйдешь из дома — увидишь какую-нибудь сказку из 1001 ночи, а выйдешь — полное разочарование! С нетерпением ждут все вечера: 16-го предполагается феерическая иллюминация.
Настроение в городе тревожное, мало кто интересуется Петром Великим и юбилеем — до них почти никому дела нет, интересуются и говорят об ожидающихся скандалах. Кроме прокламаций рассылаются и подметные письма: один сенатор получил предупреждение, чтобы женщины и дети не выходили 16-го на улицу, так как помимо беспорядков будут производиться обливания серной кислотой[13].
16 мая. Утро чудесное! Пошел по Невскому пр. пешком к собору Исаакия. Пестреют флаги и драпировки, магазины закрыты. Против Невского у Николаевского вокзала стоит арка с тремя картинами: средняя изображает бурю на море и Петра, спасающего тонущих; левая — вид Петербурга, правая — вид Невы до основания города. Народ лился по обеим сторонам густой и спокойной волной; много было простонародья, все приодеты, чистенькие, трезвые: винные лавки были закрыты еще накануне.
Некоторые дома украсились художественно. Всероссийски известный пройдоха — Генрих Блок весь футляр, закрывающий новостроющийся дом его[14], завесил гигантским полотном с цифрою 200 среди нарисованных цветных гирлянд. Дурацкие шесты обвили ельником; на панели против Гостиного двора устроен сквозной зеленый трельяж, тоже перевитый ельником. Это место — лучшее в Петербурге. Против средних ворот устроен дикий уголок первобытной Невы: скалы, ели, и среди них с топором в руке стоит Петр, как бы озирая простор перед собой. Задумана декорация и выполнена художественно. Несколько наискосок, со стен Пассажа, выдвигается нос оснащенного белого корабля с надписью «Россия»; на нем опять Петр. Дума украшена безвкусно: перед какой-то размазанной по полотну яичницей, долженствующей изображать лучи восходящего солнца, вычурно и напыщенно стоит Петр, опираясь на трость; боковые картины тоже аховые, не выше работ домовых маляров; одна представляет иллюстрацию к стихотворению о починке Петром разбитой ядрами лодки рыбака; Петру сделали такую физиономию, точно он не лодку чинил, а стрельцов рубил!
Городская дума в дни празднования 200-летия Петербурга
На углу Михайловской ул. устроен деревянный фонтан — скверно выкрашенный; везде елки, елки без конца, словно на похоронах по первому разряду.
К Исаакию с Морской не пускали; на Неву доступа без билетов не было. Мосты были разведены, а через Николаевский и Литейный публику пускали по рассмотрении физиономий полицией. Многотрудные обязанности возложены на нее, бедную; и «тащщи» и «не пущщай» и физиономистом будь! Последнее слово, впрочем, трактуется по-особому: бить по физиям.
По окончании церемонии освящения нового Троицкого моста — долгонько строили его, сердешного![15] — через Машков переулок я пробрался к Неве, как раз в момент открытия пальбы. Вся река вдоль левого берега была покрыта разнокалиберными судами, увешанными гирляндами флагов; ясный день, многочисленные суда, флаги на домах — все давало красивую картину. Белые дымки, то и дело взлетавшие над крепостью и с бортов судов, делали ее еще более величественной; громы орудий не смолкали.
Народа везде море. Вдоль Невы, мимо трибун против Троицкого моста, мимо памятника дикарю без штанов с надписью «Суворов», через Царицын луг прошел я на Литейный пр. и направился домой.
Всюду было удивительно чинно и спокойно — ни свистка, ни шума, ни обычной на улицах семиэтажной брани нигде не слышалось. Зато не видел и веселых лиц; казалось, что был не народный праздник, а просто приказали сотням тысяч людей вырядиться получше и явиться в центр города; они это исполнили и пришли несколько удивленные, недоумевающие. Письма не подействовали: барынь и барышень на улицах пестрело видимо-невидимо. Однако, нашлись и такие, что этим писаньям поверили и просидели дома, все время ожидая чего-то ужасного.
Вечер. В девять с половиной час. вечера поехал прокатиться по Невскому и полюбоваться иллюминацией. Народа — гибель. Частные общественные экипажи не ходили; конки набиты битком. По обе стороны улиц — тесная, едва двигающаяся, поразительно чинная лава людей. Ни шуток, ни смеха — точно громадная процессия медленно движется за гробом, или крестным ходом.
Я проехал к памятнику Петра на Сенатскую площадь и обошел ее. Более безвкусно-нелепых украшений, чем какие стоят там, выдумать трудно.
Отступя от памятника, полукругом расставлены, начиная от царской палатки, увитые ельником мавзолеи со щитами на них. На каждом щите — года смерти царей: 1725 — год смерти Петра, 1727 — Екатерины I, и т. д., и т. д. … Не забыт и несчастный Иоанн Антонович: год его царствования красовался тоже. На последнем мавзолее виднелся на щите только вензель: Н. II. Впечатление было такое, словно мы попали на Александро-Невское кладбище. Чья фантазия родила эти мавзолеи — не знаю!
Празднование 200-летия Петербурга на Сенатской площади
Зато площадь — еще недавно угрюмая, голая, вымощенная булыжником — предстала в новом, прекрасном виде: чудным цветником, примкнувшим к парку. Работы над этой затеей шли спешные и были закончены только накануне. Публика гуляла и ожидала зрелища, но иллюминации не было. Только на темной Неве довольно эффектно осветились три судна: одно в виде звезды, на другом среди огненных рей краснела в воздухе огромная буква П. В толпе шныряли продавцы флажков, жетонов, платков; торговали этими вещицами бойко.
Наконец, разнеслась весть, что иллюминация отменена. Как, зачем, почему?! Ничего не известно. Ожидавшая зрелища публика раздражилась, да оно и понятно! Юбилеи Петербурга бывают не каждый день, и жители вправе были требовать и хотеть, чтобы им дали возможность полюбоваться хоть чем-нибудь: «особы» были приглашены на разные спектакли и обеды, а весь миллионный город, платя всякие налоги, рассчитывал только на эту иллюминацию. Многие истратили значительные для них суммы на проезд на дорого стоивших извозчиках исключительно ради нее — и вдруг отмена. Мирная толпа наэлектризовалась, и достаточно было двух-трех смелых голов, решительного какого-нибудь крика — и скандал был бы готов. Но смельчаков, или охотников, не нашлось, и лава из десятков тысяч людей продолжала течь по Невскому.
В 12-м часу вернулся домой. Только на корабле Пассажа горел красный огонь и эффектно вырисовывал из мрака первого революционера земли русской. Получилась аллегория: всеобщая тьма и среди нее — одинокий великий Петр. Не любят у нас света! И неужто власть имущим не придет в головы, или в то, что заменяет их, что если бы захотела толпа учинить беспорядки, — учинила бы их и впотьмах, как и при свете, и что, собственно говоря, сами же они подстрекали ее этой отменой к буйствам?
17 мая. Авторы подметных писем могут-таки поздравить себя с достижением цели: верхи терроризованы, и для широкого доказательства этого отменили иллюминацию.
Беспорядки, как оказалось, все-таки были. В Народном доме какие-то карманники крикнули: «тигры вырвались», и бросились в толпу. Произошла паника, и в результате, как говорят, — девять убитых и несколько раненых. Передавали, что Клейгельс, узнав о творящемся в Народном доме, с перепугу принял это за начало настоящих беспорядков и приказал не зажигать иллюминацию. У страха глава велики, хотя и то сказать: здорово у него должны были быть напряжены нервы за эти дни!
Все украшения — шесты, флаги и т. д. все, кроме громоздких арок, исчезло за ночь… Город выглядит ободранным… Позорно мы отпраздновали предполагавшуюся «неделю» Петра! Газеты полны восхвалений и восхищений насчет удачи праздника. Может быть, он и очень удался в Думе за обеденными столами, но на улицах, там, где был весь Петербург, в публичных местах… Нет, не удался наш праздник и не удался, благодаря неуместной и позорной трусости! «Все врут календари», сказал еще Фамусов; «все врут газеты», скажу и я вместе со всеми очевидцами этого торжества, на которое убили сотни тысяч!
20 мая. Сильно поговаривают о войне. Если вспыхнет где-либо — надо ждать всемирной клочки. Говорят, что Куропаткину очень хочется подраться, но Витте[16] сдерживает задор его. Не знаю что — глупость или трусость обнаруживают наши русские политики. Русские!! Опять, должно быть, придется русским людям просить государя, чтоб наградил их — пожаловал в немцы.
Июнь. Неспокойно на Руси! Везде беспорядки, беспорядки… Что-то новое и неотвратимое надвигается на нас, и как жалки и тщетны кажутся наблюдающему со стороны усилия власть имущих остановить в России колесо мирового закона!
Куда ни придешь — везде толкуют или о висящей над нами войне, или о беспорядках.
Когда я ехал в этом году в Крым, в одном купэ со мной находилась харьковская помещица, одна из очевидиц недавно бывших там и в Полтавской губернии разгромов крестьянами помещичьих усадеб. И грозного много было в этом стихийном движении, но и смешного, наивного без конца!
Разгромы были следствием пропаганды; в народе ходили толки о «золотой» грамоте, этой вечной побрякушке, за которой всегда тянулся у нас многомиллионный младенец. Будто эту золотую грамоту прислал царь и указал в ней поделить крестьянам все «панские земли» и т. д. И вот между прочими, известными всем сценами, происходили и следующие.
Во двор одного имения вваливается целая орда баб и мужиков; начался дележ и разграбление усадьбы. Одна баба облюбовала себе карету и, чтоб ее не захватили другие, уселась в нее, а мужик побежал домой за лошадью. Привел он конька, впряг в карету, и баба поехала с торжеством домой, а как на грех навстречу казаки.
— Стой! Кто такие? Чья карета?
— Моя, — отвечает уверенный в своей правоте мужик. — Мне она досталась!
Казаки его за шиворот, но мужичок продолжал защищать «свое» добро и в конце концов его растянули с его бабой и всыпали им «добрэ», как выразилась помещица.
В Полтаве было еще курьезней.
Там всю улицу перед казначейством в один прекрасный день запрудила огромная толпа баб. Стоят и ждут кто с мешком, кто с кульком в руке. Стали их разгонять местные городовые — бабы не идут.
— Да-что вам здесь надо? Чего наперли сюда, черти? — кричали на них.
— А як же, отвечали некоторые. — Мы за грошами пришли!
— За какими деньгами?
— А вот как казначейство делить будут — получим: мы и мешки припасли!
В другом месте в село, уже занятое казаками, явилась вереница подвод с мужиками, бабами и подростками и спрашивают:
— А где здесь контора, где наймают, щоб панов бить?
Что поделать с такой темнотой? И как удержать на земле темноту, когда начинает вставать солнце — просвещение?
Много возбуждений и тревог вызывает предстоящее прославление Серафима Саровского. Особенно усиленно заговорили после письма митрополита Антония в «Новом времени»[17]. Известно было, что комиссией от Святейшего Синода освидетельствованы были останки Серафима и признаны достойными прославления; но как это происходило, что нашла в гробу комиссия — газеты молчали. Письмо Антония брызнуло, как масло в огонь. Он начал с того, что вследствие ходящих по городу подметных писем и угроз силой разоблачить якобы обман духовных лиц, он, Антоний, считает нужным сообщить то, о чем не говорилось до сих пор. Да, в гробу Серафима найдены лишь кости и волосы, все прочее истлело, но не по нетленности останков судят о святости и т. д.
Кому подбрасывались эти письма, что они заключали в себе, ни я, и ни никто из моих знакомых не знал и не слыхал до прочтения этого письма. Много было споров и негодований на это новое прославление; вспоминали императора Николая I, который запретил появление чудес и святых, и таковое прекратилось, а вот теперь Второй Николай приказал им быть — и они стали являться снова, а потому настоящими чудотворцами являются цари.
Е. Н. Чаплин
Переделывают почтамт. До сего времени, чтобы сдать или отправить какую-либо корреспонденцию, публике приходилось тратить уйму времени на поиски надобной экспедиции по разным закоулкам и переулкам. Теперь же решено один из внутренних дворов многочисленных зданий почтамта накрыть стеклянной крышей и устроить общий, грандиозный зал. На эту перестройку ассигнована значительная сумма: во главе дела стоит Ермолай Чаплин[18] — почт-директор, недавно назначенный на этот пост из управляющих Сухопутной таможней. Ранее он был управляющим у светлейшей княгини Юрьевской и нажил порядочную деньгу. Между прочим, некий Мохов, подрядчик, имевший с ним дела, рассказывал мне, что как-то пришел он к Чаплину сдать что-то по условию; Чаплин ему 70 р., а расписку потребовал на 100… Дальнейших пояснений не требуется. Службой своей он почти не занимался, но показать все умел с казовой стороны[19] и удивительно мог оказываться приятным и любезным нужным ему людям. Так, напр., по таможенному тарифу свиное мясо во всех видах запрещено к вывозу; между тем в таможню прибывает на имя высокопоставленного лица ящик с вестфальской ветчиной. Помощник пакгауз, производивший досмотр вместе с членом[20], заявил, что хотя это и высокопоставленной особе, тем не менее, он не считает себя вправе нарушать закон, обязательный для всех. Член, зная Чаплина, не решился высказаться так же и пошел к Чаплину. Тот выслушал члена.
— Какое же в действительности мясо? — спросил он.
— Если вы спрашиваете меня, как Ермолай Николаевич, ответил член, — то я скажу: свиное. Если же как г. управляющий, то докладываю вам, что по моему мнению мясо говяжье.
— Хорошо-с, сказал Чаплин. — Я приду и лично досмотрю с вами.
Помощник был отстранен, передосмотр произведен, и вестфальская ветчина превратилась в оленину. Вот какие Серафимы чудотворцы бывают в таможенном мире! Почтамтские чиновники назначением к ним Чаплина очень недовольны, и причин этому много.
Прежний почт-директор Чернявский был очень вежливый человек — этот же с подчиненными, да еще такими, как почтовые чинуши, но имеющие никакой протекции за собой — Тит Титыч. Чернявский занимал квартиру в 17 комнат; этот же, как только поступил, сейчас же отнял у фельдшера квартиренку и отдал ее своему кучеру; квартиру ему самому отделывают в 31 комнату. Вся же семья его — он, сын да дочь. И это тогда, когда все кричат о тесноте почтамта, недостатке помещений, о том, что чиновники задыхаются в своих конурах и т. д.
Тридцать одна комната — не шутка! Бесцеремонность его с подчиненными настолько велика, что напр. сравнительно крупные лица в мире почтовом — экспедитора — приходят домой со службы и вдруг видят среди гостиной огромные сквозные дыры в полу; мебель и др. вещи в беспорядке, кучей свалены в угол. Что такое? Оказывается, Ермолаю нужно было вешать какие-то массивные люстры, и для этого потребовалось прорезать потолки и сверху, на полах, поставить огромные железные круги.
И он, даже не предупредив хозяев, прямо посылает рабочих, и те идут в чужие квартиры, распоряжаются с вещами, сверлят. Возмутишься вчужине[21].
Одно из нововведений Чаплина — появление на службе в почтамте женщин.
Июль. Газеты полны сообщений о Саровских торжествах. Исцелений, говорят, десятки.
Раздаются толки, будто бы освидетельствованы и прославляются останки не Серафима, а кого-то другого. Утверждают, что отыскался старик и притом из таких, которому рот зажать и на которого цыкнуть неудобно, чуть ли не какой-то отставной местный губернатор, помнивший хорошо могилу Серафима; этот старик заявил комиссии, что могилу они вскрыли не ту, но заявление это — в силу ли запоздалости, или еще почему-либо — комиссия оставила втуне. Тогда тот поскакал в Питер и заварил здесь кашу, будто бы решено по этому поводу сделать исследование и другой могилы. Ну, а если старик прав, и Серафим найдется в другой могиле, тогда что? Этот вопрос теперь у всех на губах.
Но помимо чудес были и беды. Мудрено было рассчитать точно цифру могшего привалить люда, и ошибка была сделана самая опасная: цифру богомольцев взяли меньшую; на торжества явилось <чуть> ли не вдвое большее число, чем то, на которое рассчитывали. Не было ни мест для ночлега, ни пищи; несколько дней царил буквально голод; фунт черного хлеба доходил до 25–30 и выше копеек, тогда как обычная цена его — 2–2 1/2 коп.
Август. Совершенно неожиданно ушел с поста министра финансов Витте. Ему дана почетная отставка — место председателя совета министров.
Газеты поют ему хвалебные оды, по городу же циркулируют самые разнообразные слухи.
Вчера слышал о причине почетной отставки Витте: по возвращении с востока, куда он ездил обозревать свою манчжурскую дорогу, он представил государю доклад о всем найденном. Великий же князь Александр Михайлович[22], Куропаткин и Плеве — враги его — с неоспоримыми данными в руках насели в последнем заседании на Витте и доказали, что он налгал. Витте пришлось молчать, так как на недосмотр другого свалить было нельзя. Вел. князь Александр Михайлович горячился, что у нас все порты черт знает в каком виде, между тем как на них убиты миллионы. (По городу пошел каламбур, что трагическая минута на носу, а Россия без «портов»). С заседания великий князь, несмотря на поздний час, проехал прямо во дворец и в три часа ночи Витте получил приказание прибыть поутру во дворец с управляющим Государственным банком — с Плеске[23]. Плеске находился на даче; ночью его разыскал курьер и передал приказ от Витте наутро в полной форме явиться во дворец. Весьма удивленный всем этим Плеске приехал в назначенное время во дворец; ни он, ни Витте не знали, что значил такой неожиданный вызов.
Витте, вошедший первым, три четверти часа пробыл у государя, наконец позвали Плеске. Государь взволнованно ходил по кабинету; Витте сидел в кресле бледный и осунувшийся.
— Примите дела от него, сказал государь, обращаясь к Плеске: — я назначаю вас управляющим министерством финансов.
Плеске был поражен чуть что не до онемения.
Записываю это со слов людей, которым рассказывал Плеске.
При прощании с министерством Витте был как бы пришибленный, хотя и старался скрыть это. Поговорка: «два медведя в одной берлоге не уживутся» — оправдалась; Плеве съел в конце концов Витте. Насколько правдив, не знаю, но во всяком случае очень характерен для обоих следующий рассказ, ходивший по Петербургу.
И. Репин. Портрет С. Ю. Витте (1903)
Будто Плеве, после обычного обмена с Витте ядовитыми шпильками, сказал ему:
— При подобном направлении политики вашим высокопревосходительством Россия дождется революции через каких-нибудь пять лет!
— А при вашей она дождется ее через два года, — с обычной резкостью возразил Витте.
Чиновники о Витте сожалеют. Говорят, будто бы он не набил себе карманов на таком «карманном» посту, как сделали это его предшественники. Очень может быть. Но хотя сами министры и вообще «знать» из чиновников и не берут теперь взяток — это слишком грубо — зато берут их жены. О знаменитой Матильде — жене Витте я слышал, года два тому назад, от жены лейб-медика Головина[24], Марии Александровны, следующее: как-то случилось ей зайти в Гостином дворе в ювелирный магазин. Почти одновременно с ней вошли две каких-то дамы, и хозяин засеменил перед ними. Дамы рассматривали, разбирали какие-то вещи, наконец отобрали некоторые и стали торговаться. Ювелир запросил 800 р.
— Ну нет, триста, — решительно сказала одна из дам. — И пришлите сейчас же.
Ювелир улыбнулся и развел руками.
— Для вас — извольте-с. Немедленно же будут посланы!
Дамы ушли. Головина с недоумением слушала этот разговор и обратилась к хозяину.
— Послушайте, — сказала она. — Я не знаю теперь, как иметь с вами дело! Вы запрашиваете 800, а отдаете за 300. Это же Бог знает что такое!
— А знаете-с, кто эти дамы? — таинственно спросил ювелир.
— Нет.
— Супруга его высокопревосходительства г. Витте! — многозначительно сообщил хозяин магазина.
— Да вам-то что за дело до Витте?
Тот усмехнулся.
— Верьте совести, что я не запросил ничего лишнего с них, сказал он. — А госпожа Витте дама нужная: биржа в их руках…
Головина поняла наконец.
Конечно, это не взятки… щенки борзые гоголевские! Добавлю еще, что Матильда — еврейка и ни в дворец, и ни в какие высокопоставленные дома ее не приглашали. Ее это выводило из себя, а вельмож, вынужденных лавировать между нежеланием царской семьи встречаться с этой госпожой и самолюбием всесильного еще тогда Витте, ставило в затруднительное положение.
Город до сих пор полон рассказами о похождениях великой княгини Марии Павловны, о ее приключениях по ресторанным кабинетам с Гитри, артистом Михайловского театра, результатом которых явилась стычка Гитри с великим князем Владимиром Александровичем и высылка первого из Петербурга[25]. Не менее мамаши гремела на весь Петербург и даже Россию и дочка ее, великая княжна Елена Владимировна… Про сынков и толковать нечего[26]. Всем памятно, как они шествовали по общей зале ресторана с голой француженкой, что страшно возмутило публику, и дело чуть не дошло до «скандала» (как будто появление голой в публичном месте не есть скандал!) и как они кутили и пили по всем шато-кабакам и т. д.
26 августа. Строительная горячка, несколько лет назад охватившая наш Богом подмоченный Петербург, продолжает свирепствовать. Везде леса и леса; два-три года тому назад Пески представляли собой богоспасаемую тихую окраину, еще полную деревянных домиков и таких же заборов. Теперь это столица. Домики почти исчезли, на их местах, как грибы, в одно, много в два лета, повыросли громадные домины; особенно быстро похорошела Третья Рождественская. Вообще город сильно принялся охорашиваться. Четыре-пять лет тому назад торцовой мостовой были покрыты только набережные до Троицкого моста, Невский пр., Большая Морская, Пушкинская, Караванная, Сергиевская и, частью, Миллионная. Теперь почти все улицы потянулись за ними; Литейный сбросил свои бруски-граниты и оделся в деревянные кубики. К этим перекройкам присоединились еще и другие работы: прокладывают глиняные трубы для нового городского телефона, город изрыт весь точно во время осады; пешеходы, конки, экипажи, — все лепится к одной стороне.
Замечательно и то, что иные дома стоят еще без дверей и окон, из них тянет, как из погребов, сыростью и холодом, а уже в газетах пестреют объявления о сдаче квартир в них. Нарасхват идут!
Дом Елисеева в 1906 г. Фотография К. Буллы
Понемногу открывается новый дом Елисеева[27], что против памятника Екатерины на Невском. Многие нарочно ездят на верхах конок, чтобы полюбоваться этим зданием, предназначенным, к сожалению, не для музея или театра, а для магазина — монстра по части выпивок и закусок. По углам этого нового дворца высятся громадные бронзовые статуи: Торговля, Промышленность и, вероятно, Искусство и Просвещение. Первые две уместны и понятны, а причем вторые две? Вероятно, Елисеев полагает, что искусство и просвещение тоже будут помещаться в его дворце; что ж, он прав: чем не искусство — искусство выпить и чем не просвещение — знание, чем закусить? Облупленный Александринский театр угрюмо выглядывает из-за сквера напротив в виде иллюстрации к тому, что такое в наш век искусство и что выпивка.
Кстати, курьез. На Литейном вдоль Арсенала вытянут ряд старинных пушек с дулами, направленными прямо на противостоящий Окружной суд. Ехидные языки переиначивают и говорят, что «пушки у нас направлены на правосудие»!
30 августа. Чиновничий мир озабочен предстоящим возникновением нового министерства — торговли. Департамент торговли и мануфактуры остается поэтому за штатом, и кто попадет в новое министерство и на какие места — это вопрос. Утверждают, будто бы великий князь Александр Михайлович будет главой этого министерства, и очень не хотят этого; он очень тянет за собою своих офицеров, что помимо заступания дороги старослужащим вводит особый дух, еще большее — чин чина почитай — в среду чиновничества. Хорошо служить — конечно не «канцлером», т. е. не канцлерским чиновником в этих департаментах! На службу являются к часу, походят по коридору (в Министерстве иностранных дел в коридорах царят французский язык, пшютики — будущие вороны по части прозевыванья всяческих осложнений, кроме своих служебных); все одеты по последней картинке, с проборами на затылках; поболтают, почитают газеты, полистают дела и в пять часов за ними нужно гнаться с собаками. Тепленькие места!
Слыхал, что уходит знаменитый Беллюстин — директор таможенного департамента — давно пора! Таможенный мир его ненавидит; этот господин, бывший прежде старшим юрисконсультом министерства финансов — грубый, резкий человек — явился в это ведомство с убеждением, что все таможенные — воры — это мнение было высказано им Иванову, теперешнему юрисконсульту; сделавшись таможенным, он и сам, значит, стал вором: это он и доказал в конце концов. Между прочим, года два тому назад с ним произошла «маленькая» историйка. Единственная его дочка вышла замуж за архитектора, который, разумеется, сейчас же получил место архитектора при д<епартамен>-те.
Был я как-то в редакции «Юного читателя»[28]; ко мне подходит муж издательницы — Малкин, инженер, и разговорились мы с ним. Он с Гаррисоном взял подряд на миллионные постройки пакгаузов и таможни на знаменитом Гутуевском острове[29]. Все было сделано ими, но в качестве чего-то терся при них и зять Беллюстина; пришло время получать деньги, и оказалось, что таковые причитаются не им, а зятю Беллюстина. С этой комбинацией, однако, инженеры не помирились, а обратились в департамент за разъяснениями, а оттуда к Витте. Витте, рассмотрев «дело», призвал их и сказал, что дело их возможно разобрать только судом, но что он предпочитает покончить все миром и, вместо причитавшихся им 72 тысяч, предлагает получить сейчас же, без проволочек — чего не было бы в случае суда — 36 тысяч. Подумали, подумали те… Витте человек сильный, Гаррисон имеет от него много работ (одесские пакгаузы строил он же) — и согласились.
Зять получил другую половину. Затем разгорелась история с контролером: зять получил какие-то работы в таможенном ведомстве; Беллюстин — зоркий Беллюстин, следящий недремлющим оком за ворами — не родственниками — утвердил их, несмотря на то, что за один и тот же план для однообразных построек были назначены солидные суммы за каждый чертеж особо — как за новый план.
31 августа. В городе открыли тайную типографию, принадлежавшую какому-то высокопоставленному лицу из министерства внутренних дел. Произведены многочисленные аресты. Витте будто бы сказал государю, что не мешало бы обратить особенное внимание на это министерство, так как там творятся невозможнейшие дела, и изложил все известное ему.
Это министерство действительно тепленькое и с другой стороны. Неопытные люди диву даются: чины полиции содержание получают не ахти какое, а живут отлично, одеты всегда с иголочки. Пристава — это уже полубоги; вид у них по меньшей мере фельдмаршальский, а апломба, красоты в жестах!.. Гоголевские именины в день своего ангела и на Онуфрия[30] еще во всей силе… Но именины еще ничего; бывает и похуже! В бытность мою в Одессе служил там пристав — фамилию его забыл — специалист по части изловления всяких воров. Разгорелась какая-то история, и нежданно из Москвы нагрянула в Одессу сыскная полиция; краденые вещи, из-за которых разгорелся сыр-бор, нашлись у этого самого лихача пристава. Конечно, граф Шувалов — тогдашний градоначальник — немедленно хотел отдать его под суд, но… у того помимо краденых вещей отыскались и записочки бывшего градоначальника, ныне почетного опекуна и большой шишки — Зеленого[31], из которых явствовало, что Зеленый позаимствовал у «бедного» (по формуляру) полицейского пристава, своего подчиненного — 30 или 40 тысяч… Разгадка этой шарады канула в Лету, так как Зеленый, конечно, выгородил своего, скажем деликатно, — любимца; кстати сказать, этот любимец ныне помощником полицеймейстера в той же Одессе…
Зеленый был не градоначальник, а нечто вроде неограниченного повелителя; о нем ходят целые легенды. Хам он притом был невероятный: ругался, не стесняясь, на улицах во все горло, как два извозчика; между прочим, знаю о нем — я его еще застал в Одессе — такого рода рассказец. Как-то нежданно вздумал он ночью прогуляться пешком по особо вертепистым улицам. Конечно, сбоку тротуара почтительно рысил рядом с ним струхнувший пристав; позади маршировала, как водится, остальная братия — околодочные, городовые и т. д.
«Заведения» должны были быть в тот час все закрыты; однако зоркий глаз одесского Гарун-аль-Рашида усмотрел, что двери многих трактиров только притворены, а внутри свет и шум.
— Открыты? — проронил Зеленый. — Почем берешь? — вдруг обратился он к приставу, думавшему уже, что пришел его последний час. — Да ну, смелее!
— По сто рублей, ваше превосходительство… — пролепетал пристав, пронизанный недреманным оком.
— Мало! — решил Зеленый. — Больше с них, мерзавцев, брать надо! — и величаво проследовал дальше.
П. А. Зеленый
Все лавочки и дома в Одессе были в мое время — четыре года назад — обложены негласными сборами; напр., маленькая молочная, куда иногда заходил я выпить молока, платила околоточному по 3 р. в месяц. Платили, потому что иначе не было бы житья, как говорили обложенные: замучили бы протоколами. Портные, переплетчики, сапожники — все цехи работают даром на полицию: это уже всероссийский закон — его же не прейдеши! По таможенному ведомству несколько лет тому назад было любопытное негласное распоряжение: отнюдь не принимать на службу лиц, служивших раньше в полиции. Веселая нация — русский народ!
Удивительно: в мае месяце старый Троицкий мост развели и так и забыли его у берега Петропавловской крепости; а между тем сколько жалоб и толков из-за того, что на Охту нет моста. Прислать только пару буксиров и отвезти его[32] на Калашниковскую набережную и сделать въезды — и дело бы с концом. Каким только местом думают у нас в Думе? А она у нас не только именитая, но и чиновная. По случаю юбилея городской голова Лелянов получил, к общему недоумению, чин действительного статского советника; я на его месте стал бы отныне торговать за своим прилавком в магазине (у него меховой магазин на Морской) не иначе, как в генеральской тужурке: и лестно и от публики бы отбоя не было! Одним «инаралом» больше стало у нас на Руси.
1 сентября. Сегодня опубликовано о беспорядках, произведенных армянами в Тифлисе; какой-то священник Тер-Араратов произнес даже анафему по высочайшему адресу, замененному в официальных сообщениях словом «правительству». Была пальба, убитые и раненые. Дело разгорелось по поводу отобранных у армянских церквей земель[33].
4 сентября. Странные зори стоят над Петербургом; словно весь горизонт объят пожаром и ало-фиолетовое зарево как дымом заливает небо. Несмотря на зажженные фонари, цвет неба кажется до позднего вечера мутно-огненным.
10 сентября. На Невском и др. главных улицах понемногу стали убирать, по приказу полиции, навесы над подъездами, выступавшие над всем тротуаром и опиравшиеся на железные колонки. Красоты в них было мало, зато в минуты внезапного, или очень усиливавшегося, дождя под ними спасались целые группы народа.
До каких курьезных нелепостей доходит у нас наша бдительная опекунша-полиция! Если извозчик везет троих седоков — городовые сейчас же хватаются за свои книги судеб и записывают № бляхи, что влечет за собой истечение из извозчичьего кармана трех рублей. Между тем, купчина-собственник на своей лошади может везти хоть кучу людей и никто не посмеет вмешиваться. Другая ерунда: — по воскресным дням после 5 часов вечера нигде нельзя купить спичек. Мелочные открыты, спички в них есть, а купить нельзя: воспрещено.
14 сентября. Из театральных сфер узнал, будто бы Савина подала в отставку. Известие сенсационное, но желательное. Эта почтенная старушка возомнила о себе превыше небес и положительно давила всю труппу. Я лично бывал свидетелем, как на репетициях она презрительно фыркала и строила величаво-оскорбительные физиономии на малейшие замечания режиссера Гнедича[34], и он не стыдился во время перерывов плясать перед нею на задних лапках, целовать ручки и заискивать милостей. Газеты страшно раздували талант и игру Марьи Гавриловны, да оно и понятно: отзывы пишут по большей части люди прикосновенные к театру или в качестве авторов, или приятелей их и не скупятся на похвалы нужным людям; Савина играет прекрасно, но — надо смотреть ее для сохранения впечатления не более раза-другого: она однообразна, она везде и во всем та же слегка гнусавая Марья Гавриловна; даже грим ею почти не изменяется.
История разгорелась из-за «Пустоцвета» — драмы неизвестной авторши — Персианиновой. Травлю начала «Петербургская газета»[35], напав на неизвестную еще никому пьесу и кивая попутно на Савину, под давлением которой, якобы, ставилась эта пьеса.
16 сентября. Дирекция Императорских театров заявила, что «Пустоцвет» она ставит по собственной инициативе, а не по настоянию Савиной. Савина остается. Приходится только руками развести перед степенью неуважения к себе дирекции. Да и то сказать — было бы за что ей уважать себя! Теляковский[36] — нынешний директор, — бывший гвардейский офицер, производящий впечатление переодетого в штатский костюм солдата, в бытность свою управляющим московскими театрами заслужил печальную репутацию. Делом заведовала его жена, доведшая свое безграничное нахальство до раздачи артистам ролей и вмешательства решительно во все. Какой-то машинист театра подвергался особенно преследованиям ее; тогда жена этого машиниста, доведенная до белого каления, явилась в театр и отвесила Теляковскому пару оплеух. История эта весьма порадовала в свое время закулисный мир Малого театра, Теляковский же, по примеру других битых властей, получил повышение: его сделали директором. Не будь умен, а будь бит! — говорит современная мудрость.
Перед Теляковским директором был князь Волконский, еще молодой человек, декадент и большой руки сибарит. При нем ставились и с треском уехали в Лету пьесы, вроде А. М. Федоровских, писались вызывавшие недоумение декорации, убивались уймы денег на постановки базарных опер личных его друзей, вроде «Ледяного дома» и т. д. Делом при нем заправляли Философов и редактор «Мира искусств» — Дягилев[37].
Князь известен был тем, что свободное время проводил в созерцании достаточно-таки дурацких барельефов, что на стенах Александринки (для удобнейшего созерцания у окна в его квартире устроили массивные подмостки, грозившие провалом потолку), и ушел со своего поста из-за стычки с балериной Кшесинской[38], особой к роду Романовых прикосновенной.
М. Кшесинская в костюме из балета «Камарго», в связи с которым произошла ее стычка с кн. С. Волконским
27 сентября. Был на днях в Исаакиевском соборе со специальною целью посмотреть на его знаменитость — протодиакона Малинина[39]. Народа было много, но меня провел один завсегдатай-богомолец на клирос, и я удостоился лицезреть Малинина. Это здоровенный, косоглазый детина, типичный представитель жеребячьей породы. Перед ним выходили на амвон и читали ектении басистые дьякона, но когда вышло и взревело это огромное чудовище — получилось что-то неистовое. Рыло у него — лицом никак нельзя назвать эту часть тела — все перекашивало, страшный голосина рвал ему грудь и горло, пасть разверзлась такая, что все рыло как бы исчезло в ней. Мне стало неловко: словно в церковь в самый торжественный миг впустили буйвола или носорога, и он взревел во все хайло. Рев действительно изумительный!
Что значит век психопаток! Не только у Фигнера и «душки» Собинова[40] есть сотни поклонниц, но и у этого буйвола тоже. От дам и девиц ему отбоя нет. Пьет Малинин страшно и всегда бывает подшефе; состоит любимцем у царской семьи и особенно у вел. князя Владимира Александровича[41], поэтому груб и дерзок до невозможности, как и все пользующееся фавором. Несколько лет тому назад, когда митрополит Антоний сделал ему замечание, тот обругал его в алтаре «ревельской килькой». Конечно, сейчас же раба Божьего сослали куда-то на покаяние, но изгнание его длилось недолго: в ближайший же царский день, в эти дни Малинин особенно отличался иерихонским многолетием — вел. князь Владимир спросил, почему нет Малинина, и велел возвратить его. Малинин водворился снова. Экземпляр во всяком случае поразительный!
И. Репин. Великий князь Владимир Александрович (1903)
30 сентября. Сегодня переполох в почтамте. Из Америки пришло открытое письмо на имя какого-то Короткова, Морская, д. 28, приблизительно следующего содержания: «Плеве, фон Валь, Раабен, Крушеван[42] и еще кто-то двое осуждены и будут убиты. Кости и кровь убиенных ими вопиет о мщении, не успокоимся, пока не покончим всех их. Наши уже поехали для этой цели, выезжаю завтра и я». На почтовых чиновников возложена обязанность прочитывать все открытые письма, и бранного содержания задерживаются. Конфисковано, разумеется, и это и будет препровождено в сыскную полицию. Не сомневаюсь ни минуты, что это лишь фарс со стороны какого-нибудь русского американца.
Пикантная подробность. Министерство финансов занялось развитием народных домов и попечительств о трезвости; народ, конечно, в этих домах спиртных напитков не пил, вернее, пил тайком принесенное с собою, и вот в конце концов министерство обратилось вдруг с запросом в попечительства: «Когда же наконец будут пить монопольку в них?» По крайней мере откровенно!
* * *
Много толков о Дальнем Востоке: того и гляди разразится война с японцами. Как бы именно в эту сторону не пустили г.г. Плеве и к-о<мпания> народное напряжение, взрывающееся то здесь, то там в виде беспорядков!
3 октября. Эту неделю слухи очень усердно назначали разных «особ». Между прочим, уверяли, что Клейгельс получит место киевского генерал-губернатора. Слухи остались слухами, но всплыл забавный анекдот, пущенный насчет Клейгельса. Градоначальник сей, как то у именитых русских градоначальников в обычае, любит щегольнуть русскими словцами, и из сего произошло следующее. На Петербургской стороне появился некий хулиган, Васька Кот. Производил он дебоши и скандалы, разгромлял «заведения», и полиция не знала, что с ним делать. С рук ему все сходило потому, что этот субъект, попав в первый раз в участок, стал там орать на пристава и грозить ему, что пожалуется своему «незаконному отцу» Клейгельсу. Всероссийский герб-кулак перед таким аргументом бездействовал, и дебоширник с каждым днем делался все невозможнее. Пристав терпел, терпел до последнего, наконец надел мундир и поехал к градоначальнику. Представляется ему и говорит: так и так, ваше превосходительство, явился доложить, что уж очень безобразничает в участке Васька Кот-с…
Н. В. Клейгельс
— Что же, приняли меры?
— Да ведь это Васька Кот, Ваше превосходительство…
— Что ж из этого? Что вы сделали?
— Кот-с это… Ваше превосходительство… — совсем умирая от избытка почтительности и страха, пролепетал опять пристав.
Генерал рассердился.
— Кой вы мне черт Кота этого все поминаете, кто он такой?
— Кот?.. Сын… Ваше превосходительство… Ваш сын…
— Мой?.. Что вы, ошалели? Кто вам сказал?
— Они-с… Кот…
— Притащить его, мерзавца, сюда!
Кота притащили. Генерал с пеной у рта накинулся на него,
— Как ты смел, сукин сын и такой и эдакий, болтать вздор, что я твой отец? А?! Кто тебе сказал?
— Вы-с… — развязно ответил Васька.
— Я??? — генерал остолбенел. — Когда?..
— Да в прошлом году-с… Иду я по Александровскому парку, думаю — не знаю я ни папаши, ни мамаши, и так это грустно мне. Вдруг вижу, вы изволите идти с господином приставом, увидали меня, да как крикните: «пшол вон отсюда, так-то твою мать». У меня и отлегло от души. Слава те, Господи, думаю: мамаши не знаю, зато хоть папаша обнаружил себя!
Табло![43]
Кстати сказать — «Петербургский листок»[44] поместил портрет этого хулигана; в связи ли это прославление с потешающим город анекдотом — не знаю.
Хулиганъ (босяку): Ты, да я, — насъ двое.
«Герои нашего времени». Карикатура из газ. «Петербургский листок» (1903)
6 октября. Встретил утром на Невском проспекте странного субъекта в подряснике и с высоким посохом в руке. Несмотря на снег, он шел босой и с непокрытой ничем головою. Лицо широкое, пожалуй, приятное, обросшее густой большой бородой. Навел о нем справки, сказали, что это некий странник Василий[45], путешествующий в таком виде в самые лютые морозы и собирающий на построение церквей. Говорят, что он пользуется широкой известностью не только у простого народа, но и у сильных мира сего.
В царской семье есть глубоко религиозные люди: это вдовствующая императрица Мария Феодоровна и молодая — Александра Феодоровна. Обе бывшие лютеранки… Первая перед родами великой княгини Ксении была очень больна, и кто-то надоумил ее съездить на Смоленское кладбище, где похоронена «блаженная» Ксения; народ очень чтит эту могилу и по праздникам протесниться к ней бывает немыслимо. Туда ездят и возят массы больных, и вера в частые исцеления на могиле крепко живет в петербуржцах, не ошибусь, если скажу, всех слоев общества.
Государыня поехала на Смоленское и, помолившись, дала обещание, если выздоровеет, назвать первую же дочь Ксенией. Блаженная, вероятно, была очень польщена этим, и государыня выздоровела; вскоре родилась дочь, и назвали ее Ксенией.
Молодая императрица сделалась набожной после странного случая с ней. В царской семье есть обычай заезжать невесте перед венцом в Казанский собор и молиться там; неисполнившим это предание грозит бесплодием, или рождением только одних девочек. Когда Александре Феодоровне сказали об этом, она засмеялась и в собор не заехала. Презрение ее к стародавнему обычаю не понравилось, и тогда же многие стали многозначительно покачивать с неодобрительным видом головами. Угроза предания сбылась между тем над императрицей во всей силе: у нее родятся, несмотря на всевозможных Шенков[46] и К-о<мпанию>, только девочки. Такое странное исполнение предреченного, говорят, сильно подействовало на императрицу и круто повернуло ее в сторону православия. Государыня и по сие время часто посещает могилу Ксении и молится на ней.
13 октября. Мраморный дворец в Петербурге заслужил репутацию передового и либерального. Великий князь Константин Константинович[47] пользуется, или, вернее, пользовался одно время, благодаря своему «красному» оттенку и поездкам по России, широкой популярностью. Популярность эта, как слышно было, государю не понравилась, а казус с избранием Максима Горького в академики окончательно загнал в угол великого князя. Казус этот я слышал от поэта К. К. Случевского, гофмейстера, бывшего тогда главным редактором «Правительственного вестника»[48].
Рассказывал он следующее: однажды вдруг по телефону вызывают его приехать запросто, в чем был, в Мраморный дворец. Случевский приезжает, и вел. князь Константин Константинович с весьма довольным видом сообщает ему, что Максим Горький только что выбран в академики (выбор этот был произведен под некоторым давлением К. К.) и просит Случевского поместить сообщение об этом в «Правительственном вестнике». Пораженный Случевский спрашивает, где он прикажет поместить его — в отделе правительственных сообщений, или же как извещение от Академии? Вел. князь замахал руками и так как недоумевал, куда его сунуть, то порешили тиснуть его между рубриками. Случевский (старик крайне оскорблен всем этим и равнодушно не может говорить об этом избрании) отправился домой и, не желая брать на себя ответственность за помещение такого, наверное, нежелательного в высших сферах сообщения, передал в двух экземплярах копии — министру внутренних дел Сипягину, а другую начальнику Главного управления по делам печати на разрешение.
Заметка была помещена; на другой день Случевского вызывает к себе Сипягин и показывает ему собственноручное письмо государя, подлинных выражений которого не помню, но в котором ясно сквозило глубокое недовольство происшедшим и, между прочим, стояла фраза, что М. Горький хотя и талантливый человек, но работал еще слишком мало для того, чтобы удостоиться выбора в члены Академии.
Случевский передал свой разговор с великим князем. Сипягин подошел к телефону, попросил великого князя и передал ему содержание письма государя. И тут Случевский убедился, что великий князь струсил и… и отстраняет вину от себя, отказываясь от выраженного им «настоятельного» желания видеть такую заметку в «Правительственном вестнике» и сваливая все на Случевского…
Сипягин, тем не менее, передал все дело государю в надлежащем виде; Академия затем, под председательством того же Константина Константиновича, — как унтерская вдова, сама себя высекла, — исключила Горького из числа своих членов, и великий князь сразу же как-то притих в своем Мраморном дворце.
Затем он перенес тяжелую, кажется, психическую болезнь, и ярко взошедшая было в общественном мнении звезда его померкла в тумане.
16 октября. Телеграммы сообщили, что на кн. Голицына — главноначальствующего на Кавказе, произведено было «разбойниками» покушение. Его поранили кинжалом в голову, но не опасно; газеты подвиг этот относят на счет разбойников, общественное же мнение говорит другое.
Дело в том, что этот старикашка держит там себя настоящим сатрапом, и в покушении склонны видеть личную месть каких-нибудь крепко обиженных им людей[49]. На Кавказе его очень недолюбливают.
Н. А. Рубакин
31 октября. Виделся с только что возвратившимся из-за границы Н. А. Рубакиным[50]. Много рассказывал он о наших эмигранческих, весьма многочисленных, кружках за границей; этого человека нельзя упрекнуть в консерватизме, а между тем все, что передавал он об этих наших, якобы передовых людях — все сопровождалось им неизменными словами — «грустно», «очень грустно», «безобразно». Везде там царят сплетни, дрязги, ругань, доходящая порою до драк, словом черт знает что. Занимаются главным образом болтовней, беганьем друг к другу и спорами.
6 ноября. С утра тускло и безнадежно серо; на улицах грязища такая, что в мелких калошах не везде перейдешь; на более узких улицах, вроде Бассейной и др., стены домов почти на рост человека вышиною забрызганы грязью из-под резиновых шин.
Ровно без пяти минут одиннадцать сделалось вдруг необычайно темно, совершенно как ночью; все, кто были дома, побросались к окнам; небо все клубилось какими-то странными тучами, похожими на дым от торфа, слегка отсвечивавшими по краям; казалось, вот-вот разразится гроза. Удивительное явление продолжалось минут пять, затем мало-помалу рассвело и день разъяснился. Впечатление было точно такое же, как во время полного солнечного затмения. Ничего подобного не запомнит никто.
8 ноября. На днях в Белом Острове задержали учительницу гимназий Оболенской и Таганцевой; таможенные чины, обходя вагоны, заметили, что на одной госпоже как-то странно оттопыривается платье; ее попросили в отдельную комнату, осмотрели и нашли на ней огромное количество «Освобождения»[51]. Из обеих гимназий, конечно, ее удалили, и дело, вероятно, разыграется для нее плохо. Гони природу в дверь — она войдет в окно!
Говорят, что государь и близкие его больны той же холериной, от которой умерла в Скерневицах бедная девочка — немецкая принцесса[52]. Есть слухи, будто бы все они отравились какими-то устрицами, и будто бы такие устрицы поднесены были преднамеренно. Передают и другую новость: вел. князь Кирилл Владимирович просил у государя разрешения вступить в брак с какой-то немкой, разведенной принцессой, но тот отказал ему. Вел. князь Кирилл устроил своим однополчанам-офицерам прощальную пирушку в ресторане и укатил за границу[53].
11 ноября. Сильный ветер с моря и дождь. Глухо ухают пушки, извещая о начинающемся наводнении.
12 ноября. Пушки палили всю ночь; гудение и визг в трубах ветра и отдаленные частые удары пушек производят какое-то гнетущее, тяжелое впечатление. Стрельба продолжается (половина девятого утра); на дворе сильнейшая снеговая метель: хлопья летят словно пули в направлении почти параллельном земле.
Наводнение 1903 г. На Большом проспекте
В 10 ч. утра отправился посмотреть на Неву; конка по Невскому пр. ходит в три лошади вместо обычных двух; Фонтанка выступила из берегов, Екатерининский канал и Мойка тоже; пристани пароходиков кажутся стоящими на берегах. Проезд между Александровским садом и Зимним дворцом залит водой; на площади против дворца целое озеро. Торц, которым вымощен проезд, кажется клавишами изуродованного фортепиано: вода выперла его сплошными грудами вон; Дворцовая и Адмиралтейская набережные — сплошь под водой; деревянный Дворцовый мост вспучило, въезд на него перегорожен рогаткой, но въехать и немыслимо: подъем образовался чуть не в 45 проц.<ентов>. Народа толпится гибель, мост и сухое место перед въездом — все пестреет любопытными. Нева имеет грозный вид — вся взъерошенная, свинцовая, с белыми гребнями идущих обратно валов.
Наводнение 1903 г. Большая Подьяческая
Оттуда мимо Александровского сада направился к Исаакию; вокруг него тоже озеро и настолько глубокое, что колеса экипажей тонут по ступицу; говорят, Коломна превратилась в Венецию; про Гавань и др. места и толковать нечего. У Исаакиевского собора встретил нескольких матросов, бегом волочивших спасательные лодки; кучи мальчишек с азартом помогали им, в Почтамтском переулке попалась навстречу какая-то похоронная процессия: факельщики, шествующие обыкновенно впереди, сидели верхами на конях, покрытых черными попонами и из-под длинных одеяний их выглядывали полуголые ноги в каких-то невозможных опорках; остальная черная команда висела, обхватив гроб в самых разнообразных позах, по бокам катафалка; лошади шлепали по воде, обдавая встречных ливнем грязных брызг. Родственники и провожавшие гроб пробирались по деревянным мосткам около почтамта; у иных огромные венки были надеты на шеи, многих перетаскивали вброд. Вдобавок в историко-филологическом факультете университета сильный пожар и часть за частью летят туда по этому потопу через Николаевский мост.
На моих глазах буря сломала и повалила в Александровском саду огромное дерево.
Давно не бывало ни наводнения, ни ветра такой силы!
5 ч. дня. В 3 с половиной часа поехал к Дворцовому мосту, но вода уже сильно убыла, панели освободились и только кое-где стоящие лужи да исковерканная торцовая мостовая указывали на бывшее наводнение. Вода подымалась выше 9 футов.
Масса щегольских экипажей катило к Неве, разодетые в дорогие меха дамы с детьми одна за другой высаживались у угла дворцовой ограды и направлялись к реке. Ветер продолжал дуть со страшной силой, но направление его изменилось. Что имело особенно поразительный вид — это небо! Над Петербургом раскинулся вдруг ярко-синий, совершенно южный купол. Жена говорила, что ей даже страшно, так оно необыкновенно.
На Невском у многих домов десятки людей работают помпами: залиты водой (из труб) все подвальные этажи; торговцы в нашей части города — называю так левый берег — понесли значительные убытки. А что должно делаться в Гавани?
Наводнение 1903 г. В Гавани
13 ноября. Нева хотя и спала, но все же выше ординара, и вчера поздно вечером снова стреляли пушки. На Адмиралтействе днем висели белые и красные флаги, а вечером такие же фонари.
Беднота пострадала жестоко; говорят, было несколько утонувших.
По Английскому проспекту плавали на лодках; жители Коломны, Васильевского острова и др. мест голодали до двух часов дня, так как выбраться из домов не было возможности. Несмотря на ледяную воду и холод, многие, не имея возможности добраться до домов, брели по пояс в воде; везде, где было возможно, полиция расставила ломовых извозчиков и установила таксу за перевоз через улицу — по две копейки с человека; в прошлое наводнение эти молодцы драли за такой перевоз на углу Екатерингофского и Садовой по 15 коп., а дальше, в глубине Коломны, по рублю и по полтора.
В день наводнения, вечером, при первой вести об опасности, полиция перебудила и подняла на ноги жителей всех подвалов; альгвазилы так разусердствовались, что заставили встать подвальников и у нас на Песках, в местности, где никогда не бывает наводнений. Но — отдаю дань справедливости — полиция во главе с Клейгельсом — действовала энергичноё и оказалась предусмотрительной.
17 ноября. Много негодования и толков вызывает история, происшедшая недавно в гимназии Гуревича[54].
Один из воспитанников, кажется Бажин, учился очень плохо и был оставлен на второй — нынешний год.
Успевал он по-прежнему, несмотря на старанье, неважно и, кроме того, подвергался постоянным нападкам со стороны некоторых учителей и в особенности священника. Как-то на днях поп закатил ему единицу и пожаловался еще директору. Гуревич прилетел в класс и разнес бедного малого. Тот вернулся домой и застрелился.
Тогда 8 класс возмутился и решил устроить демонстрацию. По всем гимназиям были разосланы приглашения прибыть на похороны и в день их со всех концов города явились толпы гимназистов. На панихиду приехал Гуревич, и гимназисты выгнали его вон из церкви. Шествие выстроилось грандиозное.
Один из очевидцев уверял, что позади гроба развевалось знамя с надписью «еще одна жертва педагогической рутины». На Литейном мосту шествие было остановлено полицией и отрядом казаков; приказа разойтись молодежь, конечно, не послушалась, и произошла свалка. Гроб, который несли на руках, опрокинули в грязь, в ход пошли кулаки и нагайки и — шествие было разогнано. В числе избитых гимназистов называют Гарина — сына писателя[55]; много арестованных и сильно пострадавших.
Ожидаем новое наводнение 19 числа. В простонародье упорно твердят, будто отец Иоанн Кронштадский предсказал близкое громадное наводнение и глубоко верят в истинность его.
19 ноября. Сильный юго-западный ветер. Вода поднялась, но из берегов не выступает.
20 ноября. Вода сильно прибывает. Было несколько пушечных выстрелов.
Вчера впервые появились в городе небольшие желтые автомобили, развозящие почту. Давно пора сменить тощих почтовых одров, таскавших за собой тележки!
24 ноября. В университете неспокойно. Была большая сходка и, по каким причинам, не знаю — закончилась скандалом.
Скандал же произошел и на праздновании юбилея В. Короленко.
Чествовавшие его собрались у Контана[56] и туда же явились депутации от учащейся молодежи с адресом.
Выходит к ним распорядитель, Михайловский[57], и спрашивает, что им угодно.
— «Хотим поднести адрес, разрешите пройти в зал».
— «Нет, это неудобно… мы там сейчас будем обедать… я попрошу его выйти сюда!»
Н. К. Михайловский
Молодежь, конечно, возмутилась. Как, люди являются с адресом, хотят принять участие в чествовании и вдруг их принимают чуть не в передней?
«В таком случае, заявляют, мы уходим и видеть его совсем не желаем!» Начался шум, пререкания; Михайловский ушел тем временем в зал и явился Короленко.
На него накинулись с упреками и претензиями.
Юбиляр был смущен и заявил, что он здесь не хозяин, а гость и что не его надо винить за происшедшее и т. д. и т. д. Депутации ввалились наконец в зал, прочли адреса и вручили их юбиляру; при этом отличился «маститый» Вейнберг[58], позволивши себе вслух бухнуть «чего лезут эти господа, куда их не просят!» и получивший тут же достодолжную отповедь.
Затем все уселись наконец за обед, а г. г. депутатов пригласили в соседнюю комнату, куда подали им чай.
27 ноября. Встретил Н. А. Рубакина и справился, верны ли слухи об истории на юбилее Короленко. Он присутствовал там и рассказал следующее: в зале была теснота страшная, т. к. на обед явились много более, чем записалось, и в это время ввалились депутации от молодежи. Вейнберг, «очень генеральствующий» (выражение Н. А.) грубо заявил им — «станьте, станьте к стороне, или уходите вон»; другой «генерал» Михайловский отпустил тоже что-то подобное и вот тут-то поднялся скандал. Более он ничего не знал и не слыхал.
27 ноября. Движение в учебных заведениях усиливается; слышал, что были сходки и скандалы в Лесном институте, у путейцев и т. д. Арестован профессор университета Аничков[59], провозивший через границу пресловутое «Освобождение», превратившееся для него в «Заключение». Толкуют о производящихся многочисленных арестах и обысках; предвещаются крупные беспорядки среди студенчества и рабочих.
29 ноября. Вместе с Аничковым арестована писательница Борман[60]; приключение их описывают следующим образом: в Белом Острове таможенные чиновники производили досмотр вещей в вагоне, где сидела эта парочка и, не найдя ничего, уже собрались уходить далее, как вдруг Аничков громко обращается к своей соседке и с облегчением говорит по-французски: «ну, кажется, на этот раз мы свободны»! Чиновник, понимавший французскую речь, быстро вернулся и заявил, что в таком случае просит их в ревизионный зал. Там их осмотрели и нашли кучу «Освобождения».
* * *
Рассказывают — вероятно, вздор — что какой-то студент пришел к какому-то профессору и, уходя, забыл у него на столе шифрованные документы; профессор, увидав их, струсил до смерти и поскакал с ними к градоначальнику; там якобы разобрали их и открылся целый заговор на жизнь государя. Пахнет ахинеей, а там Бог весть!
2 декабря. Стоят десятиградусные морозы при полном отсутствии снега. Тянет легкий ветер, по улицам носится пыль, ездим на колесах.
6 декабря. Много толков вызывает обыск, произведенный за границей в редакции «Освобождения». Как, на основании каких прав ухитрился добиться этого Плеве — интересный вопрос. То-то, вероятно, переполох произошел среди тайных корреспондентов этого нового «Колокола»! К счастью, никаких адресов не захвачено: об этом Струве заявил в письме в редакцию, кажется, «Франкфуртской газеты».
Либеральные кружки негодуют на Ивана Ивановича Янжула[61], — когда-то ярко-красного (в московские времена его деятельности), а теперь перешедшего под правительственный стяг. Мещерский[62] оказывается пророком: «лучший способ борьбы с российскими либералами — это производить их в действительные статские советники!»
7 декабря. Слышал много негодований из-за проектирующегося перехода податных инспекторов в министерство внутренних дел. Чуть не половина инспекторов грозит уходом со службы; думаю только, что ярые слова эти произносятся ими везде, кроме… здания министерства. Может быть, два-три человека уйдут, а остальные — переведи их хоть в департамент полиции — останутся!
8 декабря. Забавный курьез. Кто-то, фамилию забыл, — вздумал издать сборник речей императора Александра III; для этого перерыл «Правительственный вестник», где помещались они в свое время, и представил в цензуру… цензура запретила. Стало быть, одно из двух: либо Александр III говорил нецензурные речи, либо они таковы, что в большом количестве показывать их не следует!
Антоновский[63], переводчик Ницше, рассказывал мне следующий эпизодик. Несколько лет тому назад издан им был «Заратустра», цензура сделала массу урезок.
Тогда, приступая ко 2-му изданию, он все эти вырезки вставил, представил книгу в цензуру, и типография получила ее обратно неразрезанной при выпускном билете. Таким образом, 2-е издание проходит нередко с вычеркнутыми раньше местами: весь фортель заключается в том, чтобы типография вогнала книгу с добавками йота в йоту в прежний размер, тогда гг. цензора, сверив формат и количество страниц, пропускают, не читая. Правнуки не поверят нашим рассказам о том глумлении, которому подвергаются рукописи в этом анафемском учреждении!
9 декабря. Саней нет до сих пор и в помине. Поразительно темные утра: в половине девятого едва начинает брезжить слабый свет; везде видны горящие лампы. Воздух полон не мглою, а чем-то коричневатым, словно бы густым дымом от торфа. Электрические фонари на улицах тушат в четверть девятого.
13 декабря. Вчера в церкви ев. Спиридония (в Александровском саду) служил обедню Иоанн Кронштадский. Народу была гибель по обыкновению, толпа стояла и дожидалась его и на улице. Во время богослужения вдруг с хор перегнулся какой-то мужчина и исступленно крикнул: «Отец Иоанн — Господь Саваоф»!
Полиция добралась до него и вывела; прошло немного времени — в экстазе выкрикнула то же самое женщина.
Такие истории, говорят, происходят почти на каждом служении о. Иоанна. Поразительно он захватывает толпу!
Отец Иоанн Кронштадский
20 декабря. С минуты на минуту ждем войны с японцами. Уверяют, будто на третий день праздников объявят ее.
23 декабря. Есть сведения, что государь в сильно угнетенном состоянии духа и последние несчастия свои приписывает проклятиям армянского духовенства. Смерть племянницы, приехавшей с отцом по приглашению его на охоту, затем случай с собственной дочерью — ей дверцей кареты отхлопнули палец, и его пришлось ампутировать, болезнь жены — все это разом свалилось на него и подавило.
Суворин — весьма осведомленный старик — поет в своем «Новом времени» о «весне», конечно, иносказательной; ходят радостные слухи о близких реформах, конституции, падении Плеве и т. д., и т. д. И в общем не верится ничему… Для крупных реформ нужен и крупный характер, особенно при наличности гг. Плеве и присных его! Рассказывают, что государь и вел. князь Александр Михайлович изыскивают слово, в какое переименована у нас будет конституция.
28 декабря. Клейгельс действительно назначен киевским и волынским генерал-губернатором. Полная неразбериха у нас наверху: и Богу пытаются служить и чертям свечки ставят!
Недаром острят по городу, что теперь для карьеры надо поступать только в городовые: дальше дорога открыта!
31 декабря. Умер Василий Львович Величко[64], с позволения сказать поэт, и с еще большего позволения — переводчик с восточных языков, которых он не знал совершенно. Личность во всех отношениях второстепенная и притом враль первой руки. Явившись однажды из Тифлиса, где он получил хлебное местечко редактора газеты «Кавказ», на один из «литературных» обедов (наши литераторы теперь все обедают, или ужинают, или чествуют друг друга по ресторанам и, разумеется, «литературно») и начал рассказывать.
— Вышел я, — говорит, — однажды из Тифлиса в горы, гуляю, вдруг на меня наскакивают разбойники. Выхватили кинжалы: дэньги, кричат, подавай или убьэм!
— Друзья, — говорю я, — я бедный поэт, у меня нет ничего…
— Кто ты такой?
— Я Величко…
— А, Вэлычко… Знаэм; наших паэтов харашо пэрэводишь. Атпусти его, ребята…
Даже привычные российские литераторы — встретили такой рассказец молчанием и покряхтываньем. Записал все это дословно, как передавал мне в свое время покойный А. К. Шеллер (Михайлов)[65], присутствовавший на этом обеде.
Я не разделяю взгляда, по которому про покойников надо говорить лишь хорошее. Надо говорить правду; иначе внуки и праправнуки наши канонизируют какого-нибудь такого субъекта, что все святые будут в претензии!
1904 год
6 января. 4 января закрыли съезд по техническому образованию. Съезд собирался в здании университета, и что ни день, там разыгрывались инциденты. Право входа на заседания имели лишь члены; тогда, чтобы дать возможность проходить всем, члены перестали предъявлять свои билеты и поснимали значки. Секции, собранные для обсуждения вопросов о коммерческом образовании, рассуждали громоносно о вреде и позорности земских начальников, другие — технические — о свободе печати и конституции… Вопросы, несомненно, благие, но кончились они грандиозным скандалом и кошачьим концертом, устроенным двум каким-то участникам кишиневского погрома, а на другой день съезд был закрыт, и здание университета оцеплено городовыми и околоточными надзирателями.
11 января. По тем же причинам закрыты и все остальные съезды. В общем — полная путаница в представлении петербуржцев: зачем собирались эти съезды, что они натворили, за что их закрыли — все толкуют разно об этом. Относятся к происшедшему, как к какому-то весело разыгранному фарсу и интересуются только скандалами.
14 января. Каждую ночь по Николаевской дороге уходят поезда на Дальний Восток с боевыми грузами; от гвардейских полков из каждой роты взято по 15 человек и отправляют туда же. Бумаги сильно упали в цене; толки о войне увеличиваются.
17 января. Опубликовано Высочайшее повеление о разгроме непокорного и самого деятельного и интересного из земств — тверского. Один взмах пера — и нет его, другой — нет закона. Далеко зашел, однако, этот Плеве, не в цивилизованной стране живем мы, а словно где-то в персидской сатрапии!
20 января. Субъекты, изгнанные со скандалом из съезда, оказались Степановым и Прониным[66]. Первого знаю хорошо по Новоселице, где он работал в качестве подрядчика. Субъект он малограмотный, но с деньгой и убежденный ненавистник еврейства; заветнейшая мечта его была: «получить орденок, хоть паршивенький» и для этой цели он лез из кожи, жертвуя на разные благотворительные дела кучи денег.
Его хотели даже бить на съезде, но желавшего произвести это удержали, и Степанов под ругань, рев и свист выскочил на улицу без шубы и шапки. Как попали эти франты на съезд по совершенно чуждому им образованию — не могу постичь!
В результате масса обысков у читавших даже невинные рефераты и много арестов; слышал, что арестован, напр., довольно известный адвокат Переверзев[67] и др. Ходит рассказ, как всегда из «самых достоверных источников», будто бы государь совещался с министрами и спросил их мнение, долго ли может продержаться настоящее положение вещей; Плеве ответил: «Сколько угодно», другие — пять, десять лет, и только один Витте сказал: «Не более года, Ваше Величество».
Витте вообще пользуется расположением общества и даже в легендарных случаях слухи приписывают ему самую честную и прямую роль.
С Кавказа идут тоже неладные вести: готовится будто бы армянское восстание. Приезжие из Тифлиса разсказывают, якобы главноначальствующий получил извещение, что дворец его собираются взорвать подкопом, и он вызвал сапер, и вокруг дворца вырыты слуховые траншеи и ямы, в которых расставлены часовые.
24 января. В министерстве народного просвещения скандал: министр его, Зенгер[68], вдруг неожиданно для всех сделал сальто-мортале и проснулся сегодня… сенатором.
Даже обычных слов в рескрипте, в роде «Всемилостивейше увольняем» нет, а прямо: «увольняется по прошению». Толки самые оживленные и разнообразные, но наиболее упорные те — что он уволен за школы тверского земства. Рассказывают, что ревизия обнаружила в них чуть ли не сплошь анархизм, преподаватели будто бы и воспитывали детей в самом революционном духе и т. д. И когда государь, призвав Зенгера, стал говорить ему об этом, тот слушал, выпучив глаза, так как и не подозревал ни о чем подобном. Второе, в чем те же правительственные круги обвиняют Зенгера, — юдофильство и большое процентное содержание евреев в гимназиях и университетах. Скандал, во всяком случае, незаурядный: обыкновенно таких господ сдают в Государственный совет, но никак не в Сенат. Одним сторонником республики в России будет больше!
Каждую ночь на Дальний Восток идут и идут войска, артиллерия и боевые грузы. Иногда собираются целые толпы провожать их, раздается «ура», машут шапками, шлют отъезжающим лучшие пожелания. Начинает просыпаться энтузиазм. И не только в военных кругах, но и в обществе всюду наталкиваешься на разговоры о том, что Россия срамит себя теперешней политикой и настала пора проучить этих макак. Гм… макаки-то эти не выше ли нас, авосек?
Есть слухи, будто государь в самом удрученном состоянии, плачет и твердит: «пусть будет японцам уступлено все, только чтоб не началась война».
25 января. Около часу дня по улицам забегали разные оборванцы с кипами оттисков телеграмм в руках. «Объявление войны с японцами, объявление войны с Японией», выкрикивали на каждом углу. Телеграммы раскупались нарасхват. Оказалось, что японцы отозвали из Петербурга своего посланника и вследствие этого отозван и русский. Везде сильное возбуждение.
26 января. На бирже паника: бумаги опять повалились и, надо думать, понизятся еще. На улицах большое оживление, газетчики торгуют на славу.
27 января. Весь Петербург всполошился; пришла телеграмма, что японские миноноски ночью вошли в Порт-Артурский рейд и «причинили пробоины» трем нашим броненосцам, стоявшим там. Что это за «пробоины», как могли пробраться незамеченными, кстати сказать, не объявившие войны японцы, — все это загадки; телеграммы, выпущенные днем, берутся с боя; целые толпы окружают продавцов, вырывая друг у друга листки. Читают их все — извозчики, дворники… даже простонародье не жалеет пятака и гривенника, чтоб только узнать, что творится на Дальнем Востоке.
На бирже — новое падение цен.
Итак — война началась, и мы уже осрамились. Конечно, цыплят считают по осени…
Уверяют, будто пост министра финансов снова предложен государем Витте, но тот отказался. Да, теперь нужна не такая выеденная скорлупа, как Плеске!
Везде негодуют на моряков, «проспавших» подход японцев. Так ли еще это, узнать сперва надо.
В 6-й гимназии, говорят, между прочим, был обыск, думали найти революционные издания, но только нашли… очень много табаку. Веселый обыск и приятные результаты!
Кстати сказать, от многих лиц и в том числе от Л. Ф. Рогозина[69], знающих Плеве и совсем не разделяющих его взгляды на политику, — слышал, и притом не раз, что как человек, дома, он прекраснейшая и симпатичнейшая личность. Что за загадка после этого душа человеческая!
27 января, 11 с половиной ч. ночи. Зимний дворец полон представляющимся офицерством. Приезжающие оттуда сообщают последние известия: Алексеев[70] телеграфировал, что семь японских миноносок уничтожено; из судов только «Ретвизан» пострадал сильно, а остальные два подвели пластыри и вместе с остальной эскадрой вышли навстречу японцам. Теперь в эти минуты идет бой… Нервное напряжение в городе страшное, подъем духа необыкновенный.
Этой ночью государь едет в Москву для традиционного объявления войны: на Николаевском вокзале стоит уже готовый императорский поезд. Говорят, государь весьма удручен происшедшим, вдовствующая государыня тоже. Рассказывают, что из Парижа телеграмма сообщает, будто весь рейд Порт-Артура покрыт обломками миноносок и японскими телами; макаки бросались на наш флот, как бешеные. Завтра прочтем и проверим все.
В. Табурин. Чтение манифеста 28-го января в Петербурге у Аничкова моста (1904)
28 января (утро). В ночь от разрыва сердца умер Н. К. Михайловский; умер один, без всякой помощи, так как в квартире никого не было.
Утром в «Правительственном вестнике» появился манифест о войне; расхватывали номера, платя по 30–40 коп. На углах улиц вывешены телеграммы о ходе военных действий; простонародье, военные и дамы теснятся и жадно слушают чтение их.
Вчера площадь Зимнего дворца была вся запружена экипажами; гремело ура, словом, творилось нечто необычайное. В театрах играли гимн «Боже, царя храни», и публика трижды требовала повторения его. Ура не умолкало.
Москва уже пожертвовала на военные нужды миллион рублей.
Купил листок телеграмм; японцы бомбардировали Порт-Артур и подбили еще четыре наших судна; их же потери неизвестны; войска потерпели незначительный урон… И только. Что сей сон значит? Толки идут самые нелепые — вплоть до сдачи Порт-Артура.
Говорят, что Скрыдлов[71] поведет на Восток свою черноморскую эскадру, а Куропаткин примет главное начальство над сухопутной армией. Что же тогда останется делать наместнику Алексееву? Почему молчат его телеграммы о японских потерях в судах?
Адмирал Е. И. Алексеев в Порт-Артуре
Вечер. В 3 часа дня произведены в мичмана гардемарины; также произведены в офицеры старшие курсы морского инженерного и Павловского училищ. Воинский начальник и Главный штаб осаждаются офицерами и нижними чинами запаса, желающими идти на войну. Огромному большинству отказывают. Произведенная нежданно молодежь в неистовом восторге, но на улицах свеженьких офицериков не видно: ни у кого не оказалось готового обмундирования. В телеграммах есть сообщение, что японцы отбиты от Порт-Артура, и что у них погиб один крейсер. Только одна «Петербургская газета» выпустила прибавления под громкими названиями: «Победа. Разгром японского флота» и т. д., и там сказано, будто бы нашими потоплено три крейсера, а всего судов у японцев уничтожено 12; при этом исчислялось даже подробно количество убитых и раненых врагов. Перед телеграммами крупными буквами была набрана дико кликушествующая статья о «желтолицых и рыжеволосых» врагах, о мощи России, — словом, так и виднелись из строк пьяные глаза и засученные кулаки савраса, вызывающего «удариться» с ним весь мир. Номера эти расхватывались по полтиннику и несколько подняли дух в публике; многие, — да так и следует, — им не верят, но слышал толки, будто бы наборщик «Правительственного вестника», имеющего монополию на первое напечатание телеграмм с Востока, тайно продал текст той телеграммы «Петербургской газете». Дай Бог нашему теляти волка съесть!
Среди моряков толкуют, будто бы султану заплачена крупная сумма денег за пропуск черноморской эскадры, но будет сделан вид, что русские суда форсируют проход и пройдут под огнем, конечно безвредным, береговых батарей на помощь тихоокеанцам. В штабе деятельно готовятся к войне на три фронта; войска тянутся к Афганистану в виде угрозы Англии. Сколько ни приходилось сталкиваться и говорить с выдающимися сухопутными военными и моряками — все жаждут войны и более всего — с Англией, и общий хор и военных и штатских боится не Англии, не коалиций, а русских дипломатов. Это все такая патентованная, вылощенная бездарность, такая ходячая трусость, что без возмущения ни один русский человек не может говорить об этих гг.
29 января. Алексеев молчит. 7 наших броненосных судов выбыло из строя, около 70 убитых и раненых — в этом и все наши сведения.
Вчерашнее сообщение «Петербургской газеты» нигде не подтверждается: все, стало быть, выдумка.
Кстати, сегодня ее у разносчиков нет: запретили в розничной продаже за вчерашний номер на две недели.
В городе недоумение; удивительный барометр публика: малейший пустяк выводит ее из равновесия и лишает возможности думать и соображать что-либо. Предположим даже, что нас разгромили в Порт-Артуре — Корея и Манчжурия велики, есть еще где встретиться и померяться силами!
В почтамте была сегодня телеграмма из Лондона, будто бы русский броненосец потоплен японцами, а два транспорта захвачены в плен с 2000 наших войск. Чего ради молчит «Правительственный вестник»? Лучше знать самую скверную правду, чем слушать и верить — как делает публика — в десять раз преувеличенному вранью о чем бы то то ни было!
Кстати, интересная подробность: японский посланник перед выездом из Петербурга уплатил по предъявленному ему нашим телеграфом счету за тринадцать последних дней — десять тысяч рублей.
Петербург щегольнул: пожертвовал полтора миллиона на войну; со всех сторон начинают стекаться пожертвования; газеты полны сообщениями о них.
30 января. В немецких газетах есть телеграммы, что два русских крейсера — «Варяг» и «Кореец» сдались без боя японцам в Чемульпо.
По городу расклеены объявления о потерях японцев при Порт-Артуре, причем о потоплении их крейсера нет ни слова; в конце публика извещается: «ввиду распространившихся в городе разных неблагоприятных слухов из неблагонадежных иностранных источников, что подтверждения их не имеется».
Вчера около 8 ч. вечера по Невскому шли две роты стрелков, отправлявшихся на Дальний Восток. Гигантская толпа залила всю ширину улицы, солдаты шли вперемешку со всяким людом, давка чрезвычайная. Гремело ура, в воздух летели шапки.
К. Булла. Солдаты отправляются на фронт (1904–1905)
Как, однако, всколыхнулась Россия!
Иностранные газеты сильно (и по делам) нападают на Алексеева, называют его бездарностью и т. д. Номера с этими статьями и телеграммами задержаны. Биржа вчера немного окрепла, что-то произойдет сегодня? Слышал, что вчера от государя была телеграмма Алексееву с требованием немедленных донесений о подробностях боя у Порт-Артура.
Вечер. Около 8 ч. вечера по городу начались манифестации. Толпы студентов и штатских вперемежку с дамами и национальными флагами в руках направились к Зимнему дворцу, оттуда по Невскому к Аничкову с пением «Боже царя храни» и «Коль славен». Тысячеголосое ура и пение гимнов у дворцов вызвали к окнам несколько фигур придворных.
Около 11 часов вмешалась полиция и стала разгонять наиболее неугомонных, причем некоторым пламя патриотизма пришлось погасить в участке; разгоняли кулаками и ножнами «селедок»; кое-кому долго придется попомнить начало японско-русской войны!
31 января. Нашею же миною взорван наш минный транспорт «Енисей». Что и говорить, на славу начали войну! Слухов в городе — не обобраться.
Рядом с проснувшимся патриотизмом приходится наталкиваться и на другие речи: на желание, чтобы японцы поколотили нас — для нашей же пользы. Говорят, что если мы побьем, то близкое уже «освобождение» России отодвинется опять вдаль, зазнаемся, все пойдет еще хуже, чем шло. Скорбят, что все другие интересы поглощены войной, и народное движение, так разраставшееся везде, ринулось в новое русло. Я лично желаю, чтобы прежде всего не легло срама на Русь. Что делать? Пусть реформы отодвинутся на несколько лет, жаль, но раз заварилась каша — надо выходить из нее с честью!
Сильное возмущение в ультра-либеральных кружках произвела всеподданнейшая телеграмма со всякими верноподданническими чувствами от тверского, на днях так посрамленного правительством, земства.
Вчерашние демонстрации происходили, оказывается, и около французского и английского посольств. Союзникам, конечно, орали ура, пели гимны, а англичанам устроили кошачий концерт. Тут-то, рассказывают участники, полиция и попросила их «честью» разойтись по домам. В общем же полиция теперь стушевалась почти совершенно.
Похоронили Михайловского.
Многотысячная толпа заливала всю площадь; в Преображенский собор нельзя было и протискаться. К изумлению и некоторому волнению публики, вдруг из одного из дворов появился жандармский отряд и направился к собору. К счастью, опричнина сия, переговорив с распорядителями и получив, вероятно, от них заверения, что беспорядков не будет, удалилась: быть бы скандалу иначе!
Гроб понесли на руках; на самом видном месте катафалка для венков, наверху, висел венок с надписью: «от находящихся в доме предварительного заключения».
Когда процессия двинулась — навстречу ей с Литейного донеслось «ура» — шли манифестанты-правительственники.
Разговоров велось гибель в толпе, увы, главным образом о войне, о студентах «белоподкладочниках», громко именующих свой кружок «Денницею» (переделанный их врагами, сторонниками стачек — в денник, т. е. конюшню) и организующих все эти гимны на улицах. Арабажин, напр., и др. убеждены (предлагали даже пари), что Япония побьет нас, так как наша Манчжурская дорога никуда не годна и может провезти в сутки не более 2000 чел. Вообще очень многие настроены весьма пессимистически и говорят, что как бы ни закончился национальный вопрос, — народный страшно пострадает. Предвещают голод и всякие ужасы вроде вмешательства Англии, полного обнищания и т. д., и т. д. Страшен черт, да милостив Бог!
Вечер. «Варяг» и «Кореец» погибли геройски, обороняясь от целой эскадры. «Кореец» затонул сам, а «Варяг» взорвал себя в последнюю минуту на воздух; крохотная владивостокская эскадра прорвалась в море и разгромила японский город Хакодате. Честь и слава молодцам!
Крейсер «Варяг»
Ехал домой и разговорился с извозчиком.
— Вот, — говорит, — барин, хозяин у меня четыре запряжки имеет, деньги, все у него есть, а в добровольцы ушел. Не могу утерпеть, говорит. Жена, теща плачут, куды, говорят, идешь, зачем ты? Не могу, говорит, утерпеть и кончено!
— Ну а ты как, — спрашиваю, — думаешь: кто кого — мы японцев побьем или они нас?
Ванька даже плюнул.
— Вот экакеньких-то да не одолеть? — он показал рукою на аршин от земли. — Одолеем. Мы смирно сидели, терпели, ну а теперь шабаш: теперь разворочались!
— Ну, а если все-таки побьют?
— Голову то есть себе об панель тогда расшибу!
Рассказал затем, хохоча всей утробой, что видел на днях такую сценку. Шел китаец, а какой-то мальчишка лет 13 подскочил к нему и кричит (шли манифестанты) «долой шапку!» Китаец растерялся, глядит на него, а тот «кээк даст ему в ухо, китаец и брык с ног, да бежать потом. Смеху, смеху кругом что было!».
Привожу это как иллюстрацию к творящемуся теперь.
На Невском толпы хватали моряков и с криками «ура» качали их; досталось-таки и новоиспеченным мичманам. Павловское училище, как оказалось, еще только страстно ждет производства.
1 февраля. Ни градоначальника, ни министра народного просвещения в Питере еще нет; Унтербергер, про назначение которого так упорно и убедительно возвещали, по слухам отказался, отказались и другие. Да теперь и не интересуется никто ими.
По городу звенят бубенцы, наехали обычные масляничные вейки на своих коньках. Конечно, среди них много переодетых русских[72], тем не менее работают на славу.
4 февраля. В берлинских газетах есть телеграммы из Лондона и Парижа, будто наша владивостокская эскадра наскочила где-то на японские мины, и три крейсера погибли. Что-то скверно пока идут дела у нас на Востоке! Отовсюду сыплются пожертвования… то-то начнутся теперь кражи казны и этих денег! Великосветские дамы тоже занялись теперь в Аничковом дворце «работами» для раненых: пьют чай и трещат, как сороки. Таковы, по крайней мере, рассказы сведущих лиц. Белье же, т. е. настоящая работа, сдано бедным мастерицам прямо по возмутительной цене (тоже, благотворители!..) — кальсоны по и коп. и халаты по 15 коп. со штуки за работу. С раненых, дескать, должны дешевле брать!
5 февраля. Вранье в городе идет неимоверное: сегодня дошли до того, что будто взят Порт-Артур. Английские газеты тоже принесли новость в этом роде: «московские бояре возмутились и взяли и разрушили Кремль и много церквей». Дальше этой новости уже не пойдешь, а потому с сегодняшнего дня перестаю записывать всякие вести о войне. «Слишком много вранья!» — должен был бы сказать современный Калхас[73].
6 февраля. Разговаривал с одним из моряков, участвовавших в поисках (и отыскавшего) погибшего несколько лет тому назад от собственной ветхости броненосца «Русалку»[74].
В городе тогда же ходили рассказы, что не подняли ее только оттого, что пришлось бы отдать под суд все высшее морское начальство, до того корпус судна был ветх и так мошеннически был он построен. Моряк подтвердил все дословно; по той же причине погиб в свое время и «Гангут»; моряк этот, штурман торгового флота, человек, заслуживающий безусловного доверия, утверждает, что ремонты этих судов, хорошо известных ему, производились на бумаге, на деле же их только перекрашивали снаружи. На «Гангуте» вечно работали машины, выкачивая воду, просачивавшуюся во все пазы. В точно таком же состоянии, говорят, находится и прочая береговая оборона наша, вроде разных «Адмиралов» и «Не тронь меня»[75]. Последнее имечко занятное: «не тронь меня, сам развалюсь», так переиначивают его моряки.
В некоторых учреждениях, где собирали подписку об отчислении процент, из жалованья на войну, между прочим и в портовой таможне, произошли при этом скандалы: несколько поляков отказались подписаться на том основании, что «не желают помогать России, притесняющей их». Нечто подобное произошло и в институте гражданских инженеров.
В университете на днях случилось побоище: студенты избили нескольких студентов же за протест против манифестаций; драка была такая, что бойцы разошлись в разодранных мундирах, с воротничками, перевернутыми назад, или же совсем без них. Убедительное приведение к соглашению, что и говорить!
Смешные и нелепые слухи ходят среди нашего мещанства. Как пример, привожу тот, что удалось мне слышать.
Элиза Балетта
Великий князь Алексей[76], моряк, подарил своей любовнице Балетта — французской актрисе (Михайловского театра) маленькую серебряную модель корабля с бриллиантовыми гвоздиками. И вот в каком виде перешло это «событие» в народ; передается притом все это с неудовольствием, с покачиваниями голов, охами, но, разумеется, тихо: «Чего уж добра ждать; сколько денег зря губится! Алексей-то Лексаныч любовнице своей, французинке, серебряный карапь подарил, да целые дни с ней по морю на нем и катается!»
8 февраля. На улицах гремят и звенят бубенцы: их слышно даже через двойные рамы. Народа снует гибель, справляют последний день масляницы.
Относительно причин воспрещения розничной продажи «Петербургской газеты» слышал еще версию: хлопнули ее по карману будто бы за статью, где корили наших порт-артурских моряков за то, что «позорно проспали» подход японцев.
Пишу эти строки, а с Суворовского проспекта доносится пьяное «ура». «Ндравам» теперь в отношении дранья глоток не препятствуется!
На Инженерной ул. у дома Красного Креста бессменно дежурят целые толпы студентов, женщин и мужчин всех сословий; предложений так много, что попадают в ряды сестер и братьев милосердия один из десяти и даже двадцати человек. Пожертвования льются щедрой рукой.
10 февраля. Пущен нелепый слух, будто бы Алексеев отравился.
Закрыты высшие женские курсы. Начальство, без ведома слушательниц, представило верноподданнейший адрес от их имени с изъявлением разных чувств; курсистки, узнав об этом, вознегодовали — и справедливо — и устроили весьма бурную сходку. Результат — закрытие курсов. Да, трудно теперь разобраться, где истинно «верноподданнейшие» чувства, а где вынужденное присоединение к изъявлению таковых! Достаточно какому-нибудь ферту в собрании предложить такое подношение, то, если бы все остальные присутствующие не одобряли — вынуждены были бы «поднести», чтоб не подвергнуться в свою очередь поднесению какого-нибудь сюрприза вроде высылки, отсидки и т. д.
Телеграмма от Алексеева принесла весть о потоплении нами четырех японских торговых пароходов и об отбитии новой атаки миноносцев. Все-таки, что-то вроде успеха; на безрыбьи и рак рыба! По слухам, дела наши неважны и российское ротозейство сказалось вовсю: мало войск на Востоке, а наша драгоценная, стоившая миллиард Манчжурская дорога более 2000 человек в сутки не может пропустить.
12 февраля. Назначен новый градоначальник, генерал Фуллон[77] из Варшавы.
13 февраля. По рукам ходит забавная пародия на манифест о войне, начинающаяся таким образом: «Мы, Божиею милостью и т. д. … царь Ходынский и Кишиневский, Полтавский и Харьковский, царь Эриванский» и т. д. — перечислены все места, где бывали беспорядки, закончившиеся секуциями.
Экземпляры литографированы и внизу имеют подпись: «печатать разрешается. Министр вн.<нутренних> дел фон-Плеве».
15 февраля. Отправляется на войну великий князь Кирилл Владимирович. Что, спрашивается, сей герой будет там делать? Конечно, в первую голову получит Георгия. Люди будут драться, а такие господа награды получат. Опять сложит армия песенку вроде той, которую принесла с войны 1877 года:
Оказались в эвтом бое Всего только два ироя — Их Высочества, Их Высочества!17 февраля. Умер Ванновский[78], бывший военный министр и министр народного просвещения.
В народе толкуют, будто бы о. Иоанн Кронштадский «благословил на 25-летнюю войну», т. е. говоря иначе предсказал, что она протянется 25 лет.
Компетентен ли в этом деле о. Иоанн, не знаю, а что вся Европа вооружается, минируют свои гавани даже такие государства, как Голландия и Швеция, и все вот-вот кинутся друг на друга, как псы по первому «втю» — это верно!
18 февраля. Университет оцеплен двойным рядом городовых; входы в него заперты. Вокруг здания толпа студентов и штатских. Что происходит — еще не знаю, говорят, устроена грандиозная сходка.
Сегодня получил первый № «Листка освобождения»[79], нового приложения, выпускаемого теперь Струве по случаю войны. Прочитал его и задумался: трудна задача будущего историка! Как разберется он в груде противоречий и сплошного вранья? Говорю это вот почему: в этом № имеется заметка «Казенный патриотизм и учащаяся молодежь», где значится: «Патриотические манифестации состояли из 3 элементов — полицейская провокация, хулиганство и баранство», ниже опять: «Патриотические манифестации производили главным образом гимназисты и неопределенного звания люди».
Я лично и десятки знакомых моих перевидали разные манифестации: их устраивало все живое, находившееся в те моменты и в тех пунктах. Это было что-то стихийное, пробиравшее до самой глуби костей; «толп гимназистов» я не видал, — мальчишки везде и всегда сопровождают процессии, — а видел взрослых людей, почтенных отцов семейств, молодежь — и студентов, и барышень, и дам разряженных, и бедноту — все, шли в этих процессах, охваченные энтузиазмом. «Наемным» путем чувств ни у зрителей, ни у толпы вызвать нельзя, и тот, кто был в эти дни в Петербурге, никогда не забудет их. Достаточно было крикнуть одному «ура» — и все приходило в возбуждение, все становились участниками манифестаций.
21 февраля. Со всех сторон сообщают о бегствах подростков, начиная с 10–11 летнего возраста, на Дальний Восток, на войну с японцами. Из гимназий и др. учебных заведений и от родителей до сих пор, говорят, подано в сыскную полицию до полутораста заявлений об исчезновениях юных воинов; на вокзалах кассиры теперь билетов детям не продают и таковых задерживают.
23 февраля. В университете что-то не все еще ладно. Уверяют, что среди студентов и курсисток отыскался кружок лиц, решивших выразить свое сочувствие микадо и японцам посылкой ему приветственной телеграммы и сбором денег в его пользу. Телеграмма эта — передают дальше — была подана на телеграф, но, конечно, доставлена совсем другому микадо: градоначальнику, а тот поскакал с нею к государю. Всему этому, зная мудрых наших будущих людей, еще можно поверить, несомненно, они знали, куда и кому попадет их телеграмма вместо Японии и подали ее нарочно с этой целью. Но дальнейшее пахнет выдумкой; просмотрев смехотворный в сущности документ, государь заявил: «Ничего не имею против депеши и сбора денег со стороны этих гг., только пусть они то и другое отправятся лично вручить микадо».
26 февраля. Со всех сторон передают, что запрещено селиться на лето под Ораниенбаумом, в Териоках, Сестрорецке, Куоккале и т. п. прибрежных местах. В Териоках возводится укрепление; в Выборге усиливается гарнизон. От комиссионеров слыхал, что в Кронштадте чуть ли не паника: с 1 марта он объявляется на военном положении, и жители готовятся к выезду и распродают за бесценок вещи. Ожидается война с Англией.
По улицам бегают мальчишки с листками в руках и выкрикивают: «Новое чудо святителя Николая на Востоке, цена пять коп.»
29 февраля. Сегодня в газетах появилось опровержение слухов о воспрещении селиться в названных выше местностях на дачах; сообщение это как-то неуверенно набрано петитом и почти незаметно. Тем не менее, толки об этом запрещении не прекращаются, а усиливаются.
Умирает последний могикан плеяды старых поэтов, К. К. Случевский; у старика рак, и положение его безнадежно.
Старик был оригинальный человек и притом почти ослепший за последние годы; страстно любил свой «Уголок» — дачу в Гунгербурге. «У меня есть вещи, который не умрут-с!» говаривал он иногда в минуты раздражения, ударяя себя кулаком в широкую грудь. Случалось это в такие минуты, когда заговаривали о новых российских академиках и российском Пелионе — Академии, так обидно забывшей о старике.
К. К. Случевский
По пятницам у Случевского собирались поэты. Всякий, кто состряпал на своем веку какую бы то ни было книжонку с виршами, имел право идти в пятницу к К. К.: двери были открыты для всех и каждого. Убеждения в расчет не брались, но, правда, из числа «пятничных» гостей по другим дням почти никого не принимали. Таскалась к нему вся поэтическая братия, рассчитывавшая, главным образом, как-нибудь и куда-нибудь пролезть при помощи К. К., гофмейстера и человека влиятельного. Бывал там и рыжекудрый Аполлон Аполлонович Коринфский[80], мало, увы, похожий на своего тезку; Коринфский был помощником К. К. в редакции «Правительственного вестника» и, не ограничиваясь устной хвалой патрону, произвел на свет книжицу: «Поэзия К. К. Случевского» и уж не помню теперь, в этой ли книжице, в стихах ли своих, заявил с пафосом, что Россия должна гордиться поэзией Случевского. Плохо думает о России г. Коринфский! У России есть чем погордиться и помимо посредственных, а за последние года, когда старик взбрыкнул за Москвой и ударился в декадентство, и прямо плохих стишков.
Пятничные гости эти острили, говорили «экспромты», сочинявшиеся, вероятно, с субботы, и так им эти остроты нравились, что вздумали познакомить с ними и публику и стали издавать свой журнал — юмористический[81]. Пятничные вдохновения эти были оценены публикой по достоинству, и после нескольких № журнал скончался.
Все это происходило несколько лет тому назад; что представляли пятницы последнего времени — не знаю, имею однако данные полагать, что к лучшему не изменялись. Окончательно прекратились они лишь на этих днях.
4 марта. Вчера беседовал с сановниками медицинского мира и полюбопытствовал узнать — что значил сей сон — отправка почти сплошь одних евреев-врачей в действующую армию. Оказывается, как «неблагонадежный» элемент, на случай мобилизации они были зачислены в самый отдаленный и, как предполагалось недавно, не угрожаемый войной округ. Нежданно-негаданно все перевернулось, и евреи пошли в первые ряды. Правы заграничные остряки, выпустившие теперь открытые письма, на которых изображен отдыхающий Саваоф. К нему является архангел и сообщает, что на земле неблагополучно: война. Саваоф махает рукою и отвечает: «Пускай себе дерутся: сами помирятся!».
— Да русские это с японцами воюют, Ваше Божество!
— Русские? Давай когда так кушак и шапку: эти без меня не обойдутся!
Со всех сторон доводится слышать глухие толки о беспорядках и сопротивлениях властям на Руси. Где происходили они, как — никто объяснить не может. В Царстве Польском, передавали, были даже отказы солдат идти на войну и т. д.
Отмечаю вновь проснувшееся во всех ожидание чего-то изнутри России; к войне публика уже несколько поохладела; листки с телеграммами куда меньше стали находить покупателей и теперь газетчики напрашиваются к равнодушно идущим мимо прохожим. Первая, острая стадия миновала… Что-то будет, когда все пресытятся и устанут от войны?..
5 марта. Читал сегодня письмо моряка-офицера Сергея Дмитриевича Бодиско[82] из Порт-Артура, описывающее кутерьму, происшедшую там от нежданной атаки японцев; все это известно по газетам, поэтому повторять не буду.
Слух, что взорвалось второе русское судно — письмо подтвердило: только погиб не «Баян», как говорили, а «Боярин», дважды напоровшийся на собственные мины. Газеты и правительственные сообщения молчат об этом — шило в мешок прячут!
6 марта. Вчера вечером и сегодня в разных местах слышал, будто повешен некий интендант Ивков[83], продавший Японии план расположения на театре войны продовольственных пунктов.
15 марта. В двух книжных складах сообщили мне, что Н. А. Рубакину предложено на выбор: или переселение в Восточную Сибирь, или же за границу навсегда. За что свалилась на него эта напасть — никто и сам он не знает. Вероятно, за январский съезд, где, хотя он и держал себя сравнительно скромно, но тем не менее попал под всевидящее око… У. Н. А. сильнейшая астма; «заграницу» и тамошних соотечественников он не особенно долюбливает; тяжело ему придется там! В последний раз я его видел вскоре после закрытия съезда и обыска у него; он принял меня в постели. Н. А. был поражен тем, что полиция, заставшая его в минуту приступа астмы, ввиду болезни его не приступила к осмотру квартиры, и пристав, запросив по телефону начальство, извинился за беспокойство и ушел со своей командой, отложив обыск, чтобы не беспокоить больного.
19 марта. Около 8 ч. вечера, выйдя на улицу, увидал на безоблачном небе не то тучу, не то столб дыма; дошел до Невского — на каланче мерцают три фонаря и над ними один красный, значит, где-то пожар и сильный. Горело, как оказалось, внутри Апраксина двора; за Екатерининским сквером стояло над домами словно громадное северное сияние: выделялись языки огня и летевшие высоко вверх искры. Садовую улицу запруживали извозчичьи пролетки; со всех концов лились на пожар черные реки людей и экипажей.
К. Булла. Пожар в Апраксином дворе
Здание Государственного банка стояло освещенное, как днем; мимо него никого не пропускали; сквозь решетку Пажеского корпуса видно было, как в конце переулка, ближе к Фонтанке, у Министерства народного просвещения бушевало пламя. Едва удалось протискаться к Екатерининскому каналу и мимо банка пройти на Гороховую и оттуда на Фонтанку. Взлетавшие на необычайную высоту искры подолгу мерцали на небе и падали на панель канала — расстояние от места пожара огромное. Теснота была такая, что вереницы экипажей подвигались шагом; в толпе слышались разговоры, что горит склад резиновых и целлулоидовых изделий «Проводник», и будто есть человеческие жертвы; иные уверяли, что погибло сто человек. Освещенная красным отблеском огня Фонтанка представляла необычайное зрелище. На более темном правом берегу ее виднелся ряд паровых машин, накачивавших воду; паровики реготали, выбрасывали клубы дыма и сыпали искры; кругом суетились, посвечивая медными шлемами, пожарные; проносились во весь опор, гремя и звеня, бочки с водой, а из-за зданий министерств вставало и крутилось море огня.
20 марта. Сегодня газеты насчитывают 12 жертв вчерашнего пожара, но пока не разыскано еще много приказчиков сгоревших складов — Клочкова и «Проводник». Пожар длился всю ночь; дежурная часть тушила его еще утром. Вчера и сегодня в пожарном отношении какие-то фатальные дни; иду нынче по улице Гоголя и вижу, что в доме на углу Гороховой выбиты во втором этаже стекла; читаю закопченную и скорчившуюся с одного края вывеску: «Редакция газеты «Знамя»»[84]. Вчера, оказывается, вспыхнул в ней пожар и уничтожил ее, хотя к сожалению, кажется, только отчасти.
Иду дальше — в Кирпичном переулке пожарные и толпы людей: горит где-то во дворе. Сел в омнибус, еду по Невскому — у Аничкого моста встречаю летевшую на новый пожар команду; лошади, видимо, не были еще отпряжены с вечера и носили следы мыла; люди выглядели утомленными — приходилось поспевать с пожара на пожар, не отдыхая.
Что это, однако, за праздники Красного Петуха настали??.. Куда бы ни шел — везде слышишь трубные сигналы пожарных и видишь их мчащимися по улицам во весь опор?
21 марта. Упорно повторяют, будто Гершуни[85] и др. повешены, между тем из достоверных источников знаю, что они помилованы. Виселица заменена Гершуни пожизненным одиночным заключением… черт возьми, виселица много гуманнее! На суде, говорят, разыгрался инцидент, произведший сильнейшее впечатление. Защитник одного из обвиненных, офицера Григорьева[86], — Мусин-Пушкин построил свою защиту на громоносном обвинении Гершуни. «Эти люди», говорил он, указывая на Гершуни, «отбирают у таких, как Григорьев, портреты и разные письменные свидетельства, чтобы они не могли уйти от них и, пожав лавры себе, заставляют потом идти на смерть»… и т. д., и т. д.
Когда он кончил, поднялся Гершуни и спокойно, но выразительно сказал следующее: «История не сохранила нам ни того, что говорили судьи, приговорившие Гуса к сожжению, ни кто они были. Но в памяти людей осталась та старуха, которая принесла «свое» полено на костер его. История запомнит и вас, г. адвокат, и ваш грязный камень, брошенный вами в человека, стоящего в саване и с веревкой на шее!».
Все были точно придавлены к земле этими словами.
Утром сегодня получил письмо от И. А Рубакина, где он пишет, что выезжает завтра за границу, хотя «надеется, что не навсегда» и прощается со мною.
31 марта. Со всех сторон сообщают, что погиб броненосец «Петропавловск» с экипажем и адмиралом Макаровым; по одним версиям, он взорван японцами, по другим, напоролся на собственные мины. Переполох сильный, одно за другим гибнут наши лучшие суда!
Неожиданно утром сегодня разыгралась снежная метель и обсохшие было улицы опять покрылись грязью; дни стоят теплые, серые; Нева вот-вот готова вскрыться, по Фонтанке уже недели две как бегают финляндские пароходики, похожие на крыс, шмыгающих под мосты.
1 апреля. Во многих церквах идут панихиды: слух, к несчастию, оказался верным, погиб Макаров и почти весь экипаж броненосца «Петропавловск»; Яковлев[87] и великий князь Кирилл ранены, но спасены. На дворе сильнейшая метель; день словно зимний, ненастный и, несмотря на это, на углах теснятся целые толпы людей и пробегают глазами вывешенные известия с Дальнего Востока. Впечатление страшное.
Гибель «Петропавловска» 31 марта 1904 г.
Полиция сегодня утром отбирала у всех газетчиков №№ «Петербургского листка» и каких-то еще газет; сопротивлявшихся тащили в участок; в газетную экспедицию почтамта полиция явилась тоже и конфисковала все названные №№. Тем не менее, я раздобыл «Петербургский листок» и успел наскоро пробежать его; особенного ничего не заметил; в отделе происшествий наткнулся только на заметку о том, что этой ночью в «Северной гостинице» произошел сильный взрыв, исковеркавший много номеров, полы и потолки; в одной из комнат найдены куски человеческого тела, разорванного бомбой. Что это за бомба, и кто был владетелем ее — загадка; по всей вероятности, здесь кроется что-либо анархическое, сыщики зачуяли следы и потому поспешили всякие сведения о происшедшем изъять.
В два часа дня на улицах снова продавался «Петербургский листок»; купил № — на месте заметки о взрыве белая полоса. Заметку выкинули, и газету отпечатали снова.
3 апреля. Смутно поговаривают о происшествии в «Северной гостинице»; будто бы в скором времени предстояло открытие памятника Александру III на площади перед этой гостиницей — конечно, в Высочайшем присутствии; анархисты заняли №, выходивший окнами на площадь, и подготовили бомбы для покушения[88], кончившегося для них неожиданной катастрофой. Что ж, не одним порт-артурцам нарываться на собственные мины!
Ходил смотреть на гостиницу; семь окон во втором этаже (считая сверху) изуродованы, опалены; стекла и рамы выбиты; внутрь помещения никто не допускается. Жандармы уже на следу и деятельно разыскивают участников; в почтамт поступила секретная бумага о задержании и доставлении в полицию всякой корреспонденции и посылок, могущих придти на фамилию некоего Раевского и еще каких-то лиц.
В среде самой полиции раскол. Достоверно знаю, что Лопухин[89], нынешний директор департамента ее, рвет и мечет и открыто высказывает свое неудовольствие на произвол и порядки, которые при его поступлении обещал устранить Плеве и которых, «заманив» Лопухина, конечно, не переделал.
Анненский[90], казначей Литературного фонда, выслан на несколько лет в Ревель… за «образ мыслей», вероятно, т. к. никаких иных прегрешений за ним не оказалось. Старались изо всех сил убедить его, что он произносил «неудобные» речи на могиле Михайловского, но это не выгорело, т. к. он не открывал даже рта, что и подтвердили свидетели — Короленко и др. Плеве деятельно взялся за чистку Петербурга, только, ой, не напороться бы и ему на собственную мину! Анненский и ему подобные люди языка, но не действий, а «чистка» может пробудить и боевые элементы!
Слышал, будто Плеве заявил, что высылать более в срединную Россию он никого не будет — «довольно разносить везде крамолу» — а будет отправлять в балтийские провинции. Это остроумно. Действительно, балтийские губернии — это дейтчланд и до руссланд им нет решительно никакого дела; сосланный туда пропагандист на полной свободе будет чувствовать себя со связанными руками. Анненский, кажется, первый открывает компанию в новые обедованные земли!
* * *
Командующим флотом на Дальний Восток назначен Скрыдлов; перебили горшки, а потом и посылают человека беречь их! Кирилл, оказывается, жив и здоров… вода не приняла! Забыл упомянуть, что Анненского выслали столь поспешно, что не позволили даже заехать домой и сдать ключи от денежного ящика, в котором 60 000 руб. о<бщест>-ва. Это уже потеха! Добродушный Анненский показался таким страшным, что вывезти его потребовалось экстренно… следовало бы потребовать для этого к Литейному мосту свободный броненосец и на сем надежном сосуде доставить столь опасного человека в Ревель!
5 апреля. Нарочно заглянул сегодня за грязный забор, украшающий Знаменскую площадь: пустырь продолжает красоваться во всей неприкосновенности, с грудами мусора, деревянным колпаком над цоколем будущего памятника, словом, запустение полное и, очевидно, ни о каком «близком» открытии не может быть и речи. Стало быть, и толки о цели снятия комнаты в «Северной гостинице» анархистами — вымысел.
По городу циркулируют еще и другие слухи; между прочим, говорят, что бомба эта предназначалась для Плеве на панихиде по Сипягине; другие уверяют, что для взрыва при спуске новых броненосцев, строящихся на эллингах, и будто бы даже в Неве найдено вчера несколько мин для самых судов; последний вздор повторяют усиленно; о взрыве в гостинице знает и говорит весь город. Вот результат «экстренной» и умной меры — конфискации газеты; выйди она с этой заметкой, и никто не обратил бы на нее внимания — мало ли за день происходит несчастных случаев!
15 апреля. Врем напропалую; что ни дом, то новые слухи! И Куропаткин ранен великим князем Борисом (по другим сведениям, отравлен), Вильгельм продал нам пять крейсеров, за что мы делаем ему уступки в таможенном тарифе, т. е. закабаляемся еще лет на десять и. т. д., и т. д. без конца.
Завтра приезжают моряки с «Варяга» и «Корейца»; приготовляются грандиозные манифестации.
С Дальнего Востока возвращается Кирилл Владимирович; повоевал, довольно с него! Второе чадо, Бориса, говорят, тоже скоро уберут оттуда: выделывает там черт знает что.
16 апреля. В девять часов утра пошел по направлению к Николаевскому вокзалу с дочерью; по Суворовскому, Лиговке, со всех сторон спешили туда же вереницы людей. Близко подойти к Невскому оказалось невозможным; вошел в церковь Знамения и за мзду сторож препроводил меня на колокольню, откуда открывался прекрасный вид. Не только чугунная ограда — деревья вокруг церкви, фонарные столбы — все сплошь чернело народом. День был серый, холодный; вдоль панелей Невского, по которому всякое движение прекратили с 8 ч. утра, тянулись красные, синие и малиновые ряды спешенных казачьих полков. Толпа внизу все прибывала и прибывала; устье Знаменской улицы запрудилось совершенно.
На извозчичьих пролетках, случайно оказавшихся там, и двух ломовых подводах с ящиками из-под пива, на сиденьях, на козлах и на ящиках стояли дамы и дети; двое каких-то субъектов взобрались даже верхом на лошадей; балконы и окна везде были открыты, отовсюду выставлялись люди и без конца люди; лепились они и на карнизах и на нижних вывесках.
Экипажи «Варяга» и «Корейца» на Невском проспекте 16 апреля 1904 г.
Толпа снизу все выпирала и выпирала казачьи шпалеры ближе к середине Невского. Правая сторона вскоре очутилась у самых рельс; тогда казаки оборотились и пошли в атаку, отпихивая и лупя, без церемонии, кого попало, руками; ненадолго осадить народ удалось, затем толпа с гулом надвинулась снова; те опять атаковали ее, и через минуту малиновые мундиры и косматые черные папахи разбились на кучки и затерялись, как бурьян в поле. На выручку прискакала конная полиция и стала оттеснять толпу лошадьми; раздались крики, визг, местами замелькали кулаки; толпа шарахнулась назад, и казаки выровнялись снова; со всех сторон поднялся свист и кошачий концерт. Видел несколько сорванных и брошенных прочь в толпу шапок, казачьих папах и две галоши. Сверху я заметил, что казачий полковник горячо заговорил о чем-то с распоряжавшимся вызовом беспорядков приставом и затем скомандовал казакам идти вперед. Те отошли почти до рельс, толпа вздохнула свободнее, и неурядица прекратилась. Гул на Невском стоял, как над морем. Общее внимание привлекали собаки, то и дело бежавшие на рысях к вокзалу: наконец, около половины одиннадцатого начали уезжать с вокзала встречавшие; когда проезжали в коляске двое каких-то моряков, обознавшаяся толпа встретила их недружным, сейчас же прекратившимся «ура», и развеселилась; пробежавшей затем собаке тоже прокричало с десяток глоток «ура»; это вызвало общий смех. Немного погодя со стороны вокзала донесся стихийный рев тысяч голосов; весь Невский загудел от криков; в воздухе замелькали шапки, платки, флажки, показался оркестр морских музыкантов; за ними, блестя золотом эполет, шел Руднев, Беляев[91] и офицеры; немного поодаль, все с георгиевскими крестиками на груди, наплывали сине-черные ряды матросов с «Варяга» и «Корейца».
Напором толпы шпалеры казаков были снесены с мест и очутились вплотную с рядами моряков; позади них шел и играл другой оркестр.
Фуллон был настолько наивен, что печатно заявил вчера во всех газетах, что «публика следовать за моряками допущена не будет», Но не успел еще второй оркестр миновать угла Знаменской, как линии казаков разом исчезли и черное, сплошное море людей захлестнуло и площадь, и Невский проспект. Кое-где, где кучками, где в одиночку, пестрели мундиры, и поток понес их и полицию, как в тисках, по течению. Авось это научит кое-чему г. Фуллона и присных его! Такого многолюдства я не запомню в Петербурге: даже «юбилейная» толпа является безделицей сравнительно с этой! Только что скрылся оркестр, напротив Знаменья какая-то кучка запела было, и притом прескверно, «Боже, царя храни», но ее затискали, не поддержали, гимн оборвался и стих в общем гуле и гомоне. Стал накрапывать дождь. Часа два после встречи на всех перекрестках Невского и на мостах творилось нечто невообразимое. Я поехал на извозчике в объезд по ул. Жуковского и Литейной в Щербаков переулок и на углу Невского должен был стоять среди моря экипажей и сплошной массы людей ровно двадцать минут.
23 апреля. Сильный дождь со снегом; погода все время стоит отвратительная.
Только что успокоился было Петербург, и опять начали раздаваться чересчур самоуверенные голоса — разнеслась весть о бое на Ялу. Мы потеряли 30 орудий, свыше 2000 людей и спешно отступили. Новость эта вызвала чуть не панику; телеграммы опять раскупались нарасхват; везде только и разговоров, что о войне, о взятых японцами в плен 20 офицерах и 2000 солдатах, пушках, генерале Засуличе[92], виновнике этого боя, и т. д. Действительно воюют макаки с кое-каками, меткое словечко пустил в оборот старик Драгомиров![93]
Недовольство постепенно растет и растет кругом. Страшно возмущены многие, напр., назначением заведомого вора-взяточника, бывшего кронштадтского полицеймейстера, уполномоченным Красного Креста. Говорят, назначение это он получил благодаря императрице Марии Феодоровне, пред которой, вероятно, когда-то сумел блеснуть распорядительностью.
Бумаги сильно опять упали в цене. Купцы и все деловые люди жалуются на застой: особенно это заметно на книжном рынке. Ходко идут только книги о Японии и Корее, остальные не двигаются. Издательства почти совершенно приостановили деятельность; некоторые приказали даже разобрать начатые наборы новых книг.
27 апреля. Рассказывают, что виновником покушения на взрыв громадного Кронштадтского склада пироксилина, о котором на днях сообщали газеты, оказался какой-то артиллерийский штабс-капитан; когда он был арестован и увидал, что улики все налицо, то нагло заявил: «что ж, у меня сорвалось, зато брат отправил «Петропавловск» на дно!» Брат его служил на этом погибшем броненосце артиллеристом же, или минным офицером; невероятно, но… в наше время все может быть! Гибель «Петропавловска» действительно подозрительна во всех отношениях; из показаний очевидцев как бы выходит, что первый взрыв произошел на корабле; где правда — узнается, конечно, не скоро. Общие насмешки вызвал Кирилл, спешно бросившийся в воду, чтобы спасать свою драгоценную жизнь, при первом же взрыве; в недурном положении оказался бы этот «герой», если бы броненосец уцелел, и его струсившее высочество пришлось бы вылавливать потом из воды. Приезд его в Петербург прошел незаметно, и только кучка гвардейских прихлебателей встретила его «ура» на вокзале. Вероятно, в числе кричавших «ура» в его честь были и Кюба и Донон и Тумпаков[94] с компанией. Недаром прокатилась острота по городу, что: «Как же было утонуть Кириллу в море, когда он воспитание получил… в «Аквариуме»»!
С Дальнего Востока вести не первосортные: Порт-Артур отрезан и изолирован; разбитый на Ялу Засулич подсчитывает свои потери, равняющиеся чуть не 30 проц. всего состава отряда. У Засуличей, очевидно, родовое неуменье вести дела: сестра его, Вера, стреляла в свое время в полицеймейстера Трепова — и не попала[95]; этот целил в Георгиевский крест, а попал в себя самого!
28 апреля. В начале двенадцатого часа проезжал днем на финляндском пароходике по Неве к Финляндскому вокзалу и видел красивое зрелище. Начиная от дворца, вдоль набережной вплоть до Летнего сада стояли линии конных гвардейских полков; хоры играли «Боже, царя храни», а государь ехал в темном мундире с синей лентой через плечо, около коляски императрицы, запряженной цугом, с голубыми жокеями, за коляской пестрели разнородные мундиры свиты и генералов. Полки, после обычного «здравия желаем», начинали кричать «ура», но очень уж по-казенному, так что впечатление от этого «восторга» совсем неважное. Публика, конечно, ни пешая, ни экипажная, на набережную допускаема не была, и царский кортеж медленно подвигался мимо рядов солдат по казавшейся пустынной набережной. Зато из окон домов, на балконах — всюду выставлялись головы.
29 апреля. Все, сколько-нибудь остроумное, сказанное, или якобы сказанное в высших сферах, приписывают у нас Драгомирову. Так, передают, что когда вел. князь Владимир Александрович разгорелся желанием ехать на войну, и государь, поставленный им в неловкое положение, сообщил об этом совету, то Драгомиров среди общего красноречивого молчания заявил: «Я боюсь одного, Ваше Величество, японцы народ воспитанный и, пожалуй, никогда не покажут спины Его Высочеству?»
Газете «Русь» за статью Амфитеатрова о студентах[96] объявлено предостережение и воспрещена розничная продажа; Амфитеатров скоро сделается специалистом по части приканчиванья газет. Как только где-нибудь пойдут дела плохо — будут приглашать Амфитеатрова на гастроли: докончи, мол, отец родной!
Со студентами, как с биржей, «тихо». Идут беспорядки только у горняков; они повесили у себя в курилке портреты ярого руссоненавистника Бебеля. Коновалов,[97] директор, узнав об этом, пришел в курилку и велел убрать немца; в ответ на это ему заявили, что он, директор, не имеет права… входить в курилку и — распоряжаться портретом. Коновалов разгорячился, обругался, потом извинился, потом опять обругался, словом, разыгралась глупейшая история; шумят и высшие женские курсы, продолжая пережевывать старую историю об адресе.
5 мая. Забродила по городу новая ахинея: будто бы арестован в Порт-Артуре контр-адмирал князь Ухтомский[98], и его везут сюда, как устроителя взрыва на «Петропавловске». По части вранья, и притом художественного, Петербург всякому Царевококшайску сто очков вперед даст!
9 мая. Ехал сегодня утром в так называемой трясучке, — омнибусе, ходящем вдоль Невского, и вдруг, вижу, влезает в нее и становится на площадке странник Василий; опять он был, конечно, без шапки и босоногий, в одном темно-синем подряснике; все глядели на него с любопытством. Реденькие длинные волосы на голове его намокли; в руке он держал знаменитый жезл свой с крестиком наверху и огромным острым железным копьем внизу — одним из тех, что ставятся на железных оградах, только еще больше и шире.
Василий Босой
Карманы этого святого мужа отдувались от брошюр, собственных его жизнеописаний; он их раздает желающим, а если ему дают за это деньги, то тотчас же опускает их в какую-то кружку, хранящуюся за пазухой. Не так давно он судился у мирового за скандал и драку: швейцар в Казанском соборе не впускал его с жезлом, а тот обиделся и, заявив: «Мне император Александр III разрешил всюду ходить с этим посохом, а ты не пускаешь?», взял швейцара за ворот. Произошла потасовка, и порядком помятого святителя еще и оштрафовали.
15 мая. В газетах часто стали проскальзывать заметки, восхваляющие почт-директора Чаплина и приписывающие ему все улучшения последнего времени. Все эти газетные дифирамбы — вздор: за почтамт взялась энергичная рука товарища министра Дурново[99] и все делается по его инициативе. Чаплин держится Дурново в черном теле и ни во что серьезное не вмешивается. Единственное, что сделано по инициативе Чаплина — допущение женщин на службу в почтамт, да куплены новые, желтые экипажи для перевозки почт. Впрочем, есть еще одно: обстриг хвосты и гривы почтамтским лошадям; по этому поводу острят, что он и с лошадей щетинку снял.
П. Н. Дурново
В почтамте Дурново зовут каторжником и живорезом за его безмерно резкое, наглое и нетерпимое обращение с этими и без того загнанными маленькими людьми. Чуть случится что — первая фраза Дурново — «выгнать»! И говорится это отрывистым жестким тоном; весь он — маленький и худой — с тяжелым взглядом темных глаз, производит злое, отталкивающее впечатление…
Прошлое этого человека не без пикантности, и потому запишу о нем несколько слов.
В царствование Александра III был директором департамента полиции и находился в связи с женой одного из своих приставов. Барыня эта — очень красивая — вела себя ветрено и Дурново заподозрил ее в неверности. Не долго раздумывая, призвал он к себе околодочного надзирателя того участка, где жила приставша, и дал ему секретное поручение (под угрозой чуть ли не Сибири в случае болтовни) — следить за ней. Прошло несколько дней — околодочный явился к Дурново и сообщил, что барыня эта с каким-то господином заехали в гостиницу и заняли там отдельный № — Дурново приказал полицейскому немедленно взять городовых и скакать с ними в гостиницу, арестовать барыню с господином, составить об этом протокол; если же не отворят двери — он приказал последние выломать.
Околодочный явился в гостиницу и стал требовать впуска в №; конечно, его не впустили; городовые сломали дверь и глазам кучи людей, собравшихся на шум, предстали в дезабилье приставша и с нею… португальский посланник.
Скандал вышел грандиозный[100]. Португалец немедленно поскакал требовать удовлетворения к министру иностранных дел и история разгорелась. Доложили императору и тот, рассердившись, приказал Дурново «выгнать к черту». Тогда обратили внимание его, что чиновник этот весьма дельный, давно служит и стали просить смилостивиться над ним.
— Назначить дурака в Сенат! — положил наконец резолюцию Александр III — «но с тем, чтоб и нога его никогда там не была!» Злобного старика заставили извиниться перед послом и махнули его на бумаге в сенаторы. Долго сидел у моря в ожидании погоды Дурново и наконец дождался: всплыл Сипягин, всплыл и он за ним и получил в полное распоряжение свое всю почтовую часть Российской империи.
20 мая. Разнесся слух, что министр иностранных дел Ламздорф[101] получил плюху «за измену» от какого-то высокопоставленного лица, не то Долгорукого, не то Аргутинского-Долгорукого. Вообще за последнее время толки усиленно стали налегать на измену: изменил и подкуплен, якобы, Ухтомский (за 12 миллионов), Алексеев, Ламздорф и даже Куропаткин; словом, плетется обычная дребедень, всегда сопровождающая военные неудачи.
21 мая. Ламздорф действительно отколочен. Он проходил по Морской мимо ресторана, и в эту минуту оттуда выскочил субъект с палкой и начал тузить его с криком «изменник». Ламздорф бежал, а палочный герой (Долгоруков)[102] был схвачен дворниками и доставлен в Казанскую часть (там сыскное отделение); государь, которому немедленно доложили о происшедшем, лично назначил комиссию психиатров для определения состояния мозгов патриота, и десять умных, как говорит пословица, ежедневно путешествуют расхлебывать кашу одного Долгорукого. Начинают уже поговаривать об отставке Ламздорфа; сомневаюсь: у нас за битого двух небитых дают! Недаром клоун Дуров[103] лет с десяток тому назад в Москве отмочил следующую штуку: в университете разыгралась история с ректором; один из студентов, по жребию, дал ему плюху в публичном месте; студента мгновенно забрали и услали куда-то, а ректору дали орден. Только получил он этот орден — кажется, звезду — в цирке выходит на арену Дуров и тащит за руку другого клоуна — рыжего.
— Давай, — говорит, — играть с тобой!
— Как?
— А вот как: ты будешь студент, а я буду твое начальство!
— Студеент? — рыжий делает свирепую рожу и начинает сучить кулаки. — Ты начальство?..
Дуров пятится от него, пятится, наконец получает затрещину и летит на песок. Потом медленно встает, отряхивается, лезет в карман, доходящий до пяток, выволакивает оттуда огромную сусальную звезду, налепляет ее себе на бок и, горделиво выпятив пузо, обходит с геройским видом арену. Смех, конечно, был неистовый, а раба Божия Дурова тут же, с места в карьер, выслали из Москвы.
То же, что с этим ректором, будет вероятно и с Ламздорфом!
1 июня. Дачные местности заселяются по-обычному. В свое время я не записал, так как считал это вздорным слухом, которых и так записано достаточно, — происшествие в Павловском военном училище. На днях видел нескольких знакомых юнкеров, и они подтвердили его. Этой зимой кто-то из юнкеров — оставшийся не открытым, — ночью изрезал ножом огромные царские портреты в сборной зале. До лиц некоторых, напр. Николая Павловича, икс этот достать не мог и потому искромсал портреты от плеч до рамы. Скандал получился сугубый и, как ни желал замять его начальник училища, в дело ввязались жандармы, но открыть ничего не открыли. Как предполагают, одной из причин, могших вызвать такую выходку, было то, что из-за отказа в кредите на будущий год для сверх-комплектных юнкеров (а таковых в П.<авловском> уч.<и-лище> довольно много, чуть ли не 60 чел.) решено было «срезать» на экзамене 60 чел. и оставить их на 1 курсе на второй год и таким «простым» образом сразу поставить училище в норму. Иногда не все простое, оказывается, так просто!
4 июня. Смертельно ранен в Гельсингфорсе генерал-губернатор Бобриков[104], и это событие на несколько времени отодвинуло интересы войны на задний план. Всюду только и толков, что о покушении на него, но при этом почти неизменно прибавляют: «Этого и нужно было ожидать». Общественное мнение не на стороне Бобрикова; огромное большинство ругает его и называет грубым и резким человеком.
15 июня. «Биржевые ведомости»[105] вечером вышли с замаранной полосой, заключавшей сообщение, что в последнем бою под Порт-Артуром броненосец «Севастополь» получил удар миной и, чтобы не потонуть, выбросился на камни, а крейсер «Диана» получил тяжкие повреждения. Известие это, тем не менее, распространилось по городу, но особого впечатления не произвело: слишком уж привыкли мы читать каждый день: «японцы нас обошли и мы отступили»… «под натиском значительных сил противника мы отошли» и т. д.
4 июля. Сильнейший ветер со взморья, минутами кажется, что вот-вот разразится ураган как в Москве и начнет рвать трубы и крыши. Было несколько пушечных выстрелов.
Вчера газеты принесли грустную весть — умер А. П. Чехов.
Трудно жить в Петербурге летом, в знойные дни, а еще хуже того в тихие вечера после них: дышать нечем; на улицах висит сизоватая пелена каких-то промозглых испарений, начинает пахнуть даже на лучших улицах гнилью, навозом.
Старый Петербург все уничтожается и уничтожается… Нет ни одной улицы почти, где бы старые двух и даже трехэтажные дома не ломались; теперь на их месте возводятся новые кирпичные же громады… Удивительно много построек в этом сезоне, несмотря на тяжелое, военное время.
А на войне все что-то неладно. Что ни телеграмма оттуда, то «бой длился упорно, но затем было замечено обходное движение японцев и мы отступили в полном порядке», — последняя фраза сделалась стереотипом. Мы так насобачились в отступлениях, что иначе, разумеется, производить их и не можем!
15 июля. В половине одиннадцатого утра узнал, что убит Плеве[106]. Взял извозчика и сейчас же поскакал к месту происшествия — к «Варшавской гостинице». По Измайловскому проспекту шли и бежали туда же люди; меня обогнала карета Красного Креста. Ехать к вокзалу не пропускали; я слез с извозчика и вмешался в толпу, сплошь запруживавшую панели с обеих сторон. Везде сновала пешая и конная полиция. На середине мостовой против подъезда гостиницы валялись разметанные осколки кареты, изорванные в клочья подушки сиденья и окровавленная шапка; их еще не убирали; на камнях алело несколько пятен крови. Огромный многоэтажный дом, где помещается гостиница; стоял без стекол; в зданиях, что напротив и рядом, стекла выбиты тоже. В толпе было несколько очевидцев взрыва; швейцар противоположного дома рассказал мне следующее. У подъезда гостиницы торчали двое каких-то господ, один из них высокий, полный, и разговаривали, видимо, поджидая кого-то. Только что поравнялась с ними карета, в которой ехал на вокзал Плеве — один из них кинул бомбу и грянул оглушительный удар. Карету разнесло вдребезги. Кучера откинуло на мост и его замертво унесли в больницу; лошадей искалечило. Министр остался на месте в страшно изуродованном виде, с сорванной нижней частью лица: на него было страшно смотреть. На тело накинули шинель.
Кидавшие бомбу были ранены: один упал, другой с окровавленной шеей стоял, держась за чугунный столб навеса подъезда, и шатался. Кроме них, говорят, пострадало до 16 человек прохожих и находившихся в соседних домах; у одного извозчика лошади перебило ногу.
К. Булла (?). Полицейские чины осматривают место убийства Плеве (1904)
Фасад Варшавского вокзала, глядящий на мост, стоит без стекол. Доски и клочья от кареты и платьев валялись и на противоположной стороне улицы: под ноги мне попал кусок дверцы с никелированной ручкой. Карета Красного Креста стояла у гостиницы; в нее внесли одного из раненых виновников взрыва, против него и по бокам уселись два полицейских офицера, и карета помчалась назад; впереди нее и по бокам густой стеной скакала конная полиция, и рассмотреть сидевшего я не успел.
К. Булла. Остов кареты Плеве у Варшавского вокзала 15 июля 1904 г.
Толковали, будто устоявший на ногах сам заявил, чтобы его арестовали, и притом «скорее».
В публике волнения и возбужденных толков не замечалось: более было любопытства.
Дождался-таки Плеве своего часа!
Кстати сказать — полиция на месте катастрофы была любезна до сверхъестественности.
19 июля. Собирая справки по библиографическому вопросу, зашел сегодня к известному Николаю Петровичу Полякову[107] — истратившему в семидесятых годах целое состояние на издание книг, из которых многие были уничтожены цензурой, не увидав света.
Типичный, похожий на Влад. Соловьева, старик, с длинною седою бородою и еще черными, густыми клокастыми бровями — принял меня, лежа в постели, с которой не сходит уже седьмой месяц. Разговорились мы, и он порассказал много интересного; так как он не ведет дневника, то записываю все в этой своей «летописи».
Когда еще Александр III был наследником, Поляков обратился к нему с письмом (отвез его сам во дворец и передал адъютанту), в котором просил защиты. У Полякова пожгли уйму изданий, и на 65 тысяч рублей заставили понести убытка; кроме того, его предали суду за выпуск одной книги, воспользовавшись законом, вышедшим позже этого издания. В письме к наследнику, написанному вообще резко, была между прочим такая фраза: «Говорят, что Вы человек справедливый, докажите же это на деле»; главное, на что упирал Поляков — юрист сам — что суду его предавать не смели, так как закон обратной силы не имеет.
Письмо возымело действие. Под председательством наследника состоялось три тайных заседания комитета министров, и Поляков был освобожден от суда, причем из сумм Министерства внутренних дел ему вернули 10 % потерь его. Письмо же его наследник пометил в резких местах синим карандашом и велел передать Полякову, что хотя письмо написано смело, но оно ему понравилось, так как так мог писать лишь невинный и честный человек, и что он его не забудет. И в год смерти императора Александра III — Полякову довелось доказать, что он составил о нем правильное мнение.
Министр Вышнеградский[108] — скупой человек — переезжая с квартиры по уходе с министерского поста, поручил дочери все ненужные бумаги выбросить и продать вместе с прочим хламом. Та исполнила это, но по незнанию, или по ошибке, очистила и шкаф, где хранились секретные дела и тоже выбросила их в мусор.
В один прекрасный день к Полякову — а он любитель книг и известен всем букинистам, — является один из таковых и говорит:
— Вот, Николай Петрович, какое дело! Купило нас трое александровских (с «развала») старую бумагу у Вышнеградского, да такие вещи там отыскали, что не знаем как и быть нам!
— Что такое?
— Дела секретные: сто пятнадцать штук!
— Привезите несколько штук, — отвечает Поляков, — взгляну, что такое!
Тот отправился назад и привез кипу. Николай Петрович поглядел и ахнул. Забыл про больное горло, закутался и поскакал в дебри Александровского рынка. Дело было нешуточное; торговцы видели это сами и трусили. Заставили они Николая Петровича поклясться перед образом, что им худа не будет, и отдали ему все 115 дел за 250 рублей.
Привез он их домой и давай пересматривать. Дела были все серьезные и секретнейшие: напр., о тайной покупке с политическими целями железных дорог в Сербии, доклады военного министра о полной неготовности России к войне, с подробными донесениями о всех слабых сторонах крепостей, о мерах обороны, об устройстве портов, между прочим, разработанный проект ревельского, который хотели тогда превратить в военный (сделали это потом с Либавой), стоимость чего вычислили в 75 миллионов и т. д. Много дел держалось в секрете даже от министров и имело надписи: «Показать только военному министру», «Только министру иностранных дел» и т. д., с целыми уймами пометок и собственноручных бумаг государя.
В руках у Полякова был клад: отвези он его за границу — там дали бы за него сотни тысяч рублей. Но Поляков прежде всего русский человек. Он решил вернуть дела. Но как сделать это? Началось бы следствие, и прежде всего поплатились бы ни в чем не повинные старьевщики. Думал он, думал, затем отыскал ход к великому князю Михаилу Николаевичу[109] — через фрейлину, и тот ответил, что он возьмется только доложить государю, но что дело это настолько казусное, что за последствия, могущие обрушиться на Полякова, он ручаться не может. Надо было искать другое лицо.
Наконец, все уладить взялся великий князь Александр Михайлович; дела были размещены тайно от государя по министерствам. За ними к Полякову приезжал великокняжеский адъютант и увез их. Александр Михайлович настаивал на умолчании о его участии, так как Александр III не терпел, чтобы великие князья мешались в дела.
Спустя несколько дней Полякова вызывает к себе Дурново, благодарит и обещает доложить государю о такой выдающейся заслуге с его стороны; вместе с тем, с него берут подписку о молчании о происшедшем и о содержании дел. Затем Дурново стал расспрашивать, как попали они к нему; Поляков рассказал, что он купил их случайно и, так как подобное важное происшествие не могло пройти без расследования, сам стал просить о назначении следствия. Но так как Вышнеградский, чтобы выгородить себя, ни минуты не задумался бы сказать, что дела эти у него украли — Поляков выразил желание, чтобы к допросу вызвали прислугу Вышнеградского, без всякого извещения последнего — зачем и почему.
Так и сделали. Под присягой люди показали, что действительно в зал была повыкидана груда бумаги, и все было продано торговцам.
Прошло несколько месяцев — о докладе государю ни слуха ни духа.
Идет раз Поляков по Морской и видит, едет его родственник — известный Оттон Борисович Рихтер[110]; карета остановилась, Рихтер забрал его к себе и говорит горячо:
— А ведь доклада о вас государю этот сукин сын Дурново до сих пор не сделал, и знаете почему?
— Почему?
— Взятку ему отвалил Вышнеградский. Как узнал, что за история и чем пахнет она, — поскакал к нему и отвалил. (Дурново был крепко слаб на лапу).
О. Б. Рихтер
Приехали они в Комиссию прошений, где служил Рихтер, и продолжали там разговор.
— Ну да, я ж ему удружу! — закончил наконец последний: — я сам доложу государю.
Так и сделал.
Александр III был поражен. Полякову была выражена высочайшая благодарность — негласная, конечно — и прислан подарок и 1000 р. А у Дурново на вопрос, почему он не доложил в свое время о подобном деле, имел наглость смиренно ответить, что он докладывал, но Его Величество изволило позабыть, за что удостоился Высочайшего матюка, на которые был не скуп покойник.
Вот какие дела случаются в Питере и таятся в неизвестности!
Поляков просил меня сохранить рассказ его пока в тайне и не опубликовывать его, но записать его для будущего. Желание его исполнено.
В общем, смерть Плеве только всколыхнула и заинтересовала всех — не более. Петербург даже острит, что Николаю II следовало обидеться: на него не обращают никакого внимания и, очевидно, считают царствующими его министров (Сипягин, Боголепов, Плеве). Зато на него, говорят, впечатление произведено ужасное. 15-го предполагалось производство юнкеров в офицеры, так по крайней мере ждали и говорили юнкера, но ничего подобного не произошло; по слухам, у государя сделалась желтуха.
20 июля. На другой день после убийства Плеве все редакторы периодических изданий были экстренно вызваны в Цензурный комитет и там им было «поставлено на вид», что о смерти Сипягина говорилось в печати весьма мало и в слишком сдержанном тоне, и поэтому в настоящем случае «предлагается им отнестись к событию с более горячим участием и поместить «соответственные» статьи». Особенно ядовиты молчанием «Русские ведомости»!»[111]
30 июля. В третьем часу дня мне показалось, что стреляют пушки; вышел на улицу — вижу, дворники суетятся везде у домов и вывешивают флаги. Говорят, будто государыня родила наследника.
Вечер. То-то, я думаю, радость во дворце: действительно родился наследник и назван по имени Тишайшего царя; таков ли он будет! Да и будет ли вообще когда-нибудь на троне?
31 июля. Вчера вечером была иллюминация; несмотря на летнюю, глухую пору, на улицах сновала оживленная толпа; весть о рождении наследника всколыхнула всех, не говорю уже о простом народе, но даже и либеральные кружки. Общество к этому вопросу относилось слегка иронически, как всегда к людям, у которых родятся только девочки.
По поводу государя даже острили, что он усиленно «интригует» против брата, наследника, но что толка из этого все не выходит. «Интриги» теперь увенчались успехом.
4 августа. Ехал сегодня от 12-й линии на таможенном пароходе — на Гутуевский; сейчас же за Балтийским судостроительным заводом, близ строящегося броненосца «Слава», увидел несколько военных шлюпок с матросами, занимавшимися усердными поисками чего-то в реке. Обратился к знакомому, постоянно курсирующему в тех местах, и он сообщил, что ищут бомбы. В день смерти Плеве некий субъект нанял ялик и стал переезжать через Неву; близ броненосца он вдруг начал выбрасывать какие-то предметы в воду; яличник задержал его, и оказалось, что он вез бомбы[112] — вроде той, от которой погиб Плеве. Вот эти-то брошенные бомбы и разыскивают, но безуспешно, до сих пор. Предполагают, что он хотел подготовить взрыв «Славы», когда ее повели бы на буксире, но это, конечно, вздор, так как такая бомба хотя и достаточна для гибели всемогущего министра, но для броненосца — пустяки.
Историю с этими бомбами, вероятно, брошенными растерявшимся сообщником убийцы для сокрытия концов в воду, я слышал на другой же день после смерти Плеве, но счел ее тогда за продукт разыгравшейся народной фантазии.
8 августа. Льет дождь, глухо доносятся пушечные выстрелы. Нева в этом году начала пошаливать необыкновенно рано, лето было преотвратительное даже для Петербурга.
27 августа. Виленский генерал-губернатор кн. Святополк-Мирский[113] назначен министром внутренних дел. С любопытством ждем — что будет. Виленцы им были довольны и от одного тамошнего помещика-поляка слышал, что при Мирском у них были «блаженные времена»: поляки всюду допускались на равных правах с русскими на службу и только остающееся в силе запрещение полякам покупать там земли напоминало прошлое и «Кахановскую эпоху». Одно пока достоверно известно про князя, что он очень болезненный человек и старый, несмотря на свои 47 лет.
П. Д. Святополк-Мирский
Странное дело — публика будто обладает даром предчувствия: одно время усиленно заговорили про гибель и плен «Петропавловска» — через очень небольшой промежуток времени именно этот броненосец взлетел на воздух; затем вдруг стали черт знает что болтать про адмирала Ухтомского, дошли даже до такого вздора, что убежденно толковали, будто он арестован за измену и что его везут в оковах из Порт-Артура. Прошло несколько месяцев и Ухтомский осрамился в бою, растерял эскадру и неопубликованным приказом отрешен от командования, а на его место назначен Виренн[114], бывший командир заслужившего добрую славу крейсера «Баян».
22 сентября. Кто-то пустил по городу в ход якобы приказ по войскам микадо.
«1. Кто убьет генерала Куропаткина, — тому 10 миллионов иен.
Кто убьет Стесселя, тому 5 миллионов.
Кто убьет Мищенко… Фока… и т. д., и т. д., — награды спускаются до 100 000 иен».
Затем:
«Кто убьет генерала Орлова — того на десять лет в тюрьму.
Кто убьет князя Ухтомского — тому смертная казнь».[115]
2 октября. Общее настроение пессимистическое. Упорно твердят, будто Куропаткин перешел в наступление вследствие заявления царя: «Пора переходить в наступление», и вот в результате новые неудачи.
Все чают больших благ от нового министра Святополк-Мирского… не оказался бы он в конце концов Окаянным! Императрица-мать назначением его очень недовольна, так как она сторонница политики Плеве, но царь будто бы заявил ей, что если ей новый курс не нравится, то в Дании еще много места для нее. Блажен, кто верует…
На войне дела, кажется, поправляются. Пора, а то уже начинали острить, что скоро вместо «Боже, царя храни» национальным гимном у нас сделается «кина-чонг» — из оперетки «Гейша»![116]
12 октября. Несмотря на воцарение нового министра, аресты в городе продолжают идти своим чередом. Причина — якобы подготовлявшаяся антивоенная демонстрация.
В 39 № журнала «Право»[117] была помещена сильная статья на тему о том, что слова министра — суть слова царя, так как министр у нас только исполнитель, и виленская речь Святополк-Мирского рассматривается как указание на желание свыше конституции. Мирский, очевидно, струхнул от такого нежданного реприманда, и № 40 с продолжением статьи задержан. Между прочим, очень верна и характерна одна фраза из этой статьи, что Россия представляла до сих пор собой дортуар в участке. По недосмотру иностранной цензуры проскользнули в английских журналах к нам забавные карикатуры, изображающие Николая II: он предлагает разным лицам министерское кресло, а под креслом наложены бомбы.
Царь на охоте в Финляндии: «Черт побери, в третий раз упускаю медведя! Господа, нет ли у кого-либо при себе бомбы?» (карикатура из немецкого журнала «Югенд»)
19 октября. Вчера студентами университета была подана петиция на имя государя о прекращении войны с Японией.
Начались опять демонстрации и довольно нелепые. 17-го числа в Казанский собор — излюбленное студентами место для скандалов, явилось несколько человек молодежи и один из них обратился к священнику с просьбой отслужить панихиду по Молчанове — имени его не помню. Священник заметил, что в праздник, да еще в царский день, панихиду в соборе служить неудобно. Тогда студент вышел из алтаря к ожидавшим его товарищам и громко возвестил им об отказе; толпа возбужденно заговорила; ее стали оттеснять к выходу, и вот тут-то произошла сцена избиения дворником какой-то курсистки, описанная в газетах. В общем, демонстрация кончилась благополучно, благодаря спокойствию и уменью градоначальника говорить с толпой.
Другая демонстрация произошла Выборгской стороне перед тюрьмою.
Студент Молчанов, арестованный по делу Плеве, повесился в тюрьме и перед смертью послал письмо отцу своему, в котором просил его никого в его смерти не винить и писал, что ему надоело жить, что он чувствует себя лишним, ненужным и не годным никуда, а потому накладывает на себя руки.
Депутация студентов, не зная ничего о подобном письме, явилась на квартиру к отцу Молчанова и стала выражать свои чувства по поводу новой жертвы произвола. Старик показал им письмо и не знаю, вежливо или нет — выпроводил от себя опешившую депутацию.
Перед тюрьмой было устроено шествие с венками на палках, перевязанных красными лентами; затем процессия явилась на Финляндский вокзал и стала требовать экстренного поезда на Успенское кладбище, где похоронен Молчанов. Поезда не дали, а вместо него явился градоначальник и, отпустив всю полицию, один вошел в толпу демонстрантов, потолковал с ними, и все мирно разошлись по домам.
21 октября. Усиленно говорят об уходе Мирского, утверждают даже, будто он подал прошение об отставке. Причины — недовольство им за чересчур либеральные речи, обещания и послабления… В преемники ему прочат плевенца — некоего Штюрмера[118].
Газеты последних двух дней вдруг сделались совершенно бесцветными, точно замерли в ожидании после нескольких дней свободы.
Порт-Артур при последнем издыхании; очень дурное впечатление произвели на всех последние телеграммы Стесселя, где он просил благословения царя и «матушек»-цариц.
22 октября. Встретил сегодня на Суворовском проспекте бабу, странницу лет пятидесяти, шла она, переваливаясь, как утка, в посконном платье и белом платке на голове; в руке торжественно несла жезл вроде того, что у странника Василия, только покороче и победнее. Парочка оригинальная и питерцам небезызвестная.
3 ноября. Много говорят о скандальчике, учиненном на днях в Михайловском театре.
В Царской ложе сидел вел. князь Алексей Александрович и, когда на сцене появилась вся в бриллиантах его любовница Балетта, поднялось шиканье; Алексей с грозным и недоумевающим видом высунулся из ложи, чтобы лучше рассмотреть, что происходит — шиканье усилилось, начали даже раздаваться свистки. В антракте перед этим какой-то господин, став у барьера оркестра, громко и горячо сказал при падении занавеса: «Вот, любуйтесь, господа, куда ушли наши деньги, пожертвованные на флот: на бриллианты любовнице этого господина» и указал рукой на Алексея.
Упорно твердят, что растрата эта — факт; озлобление против этих двух братьев, Владимира и Алексея, большое.
6 ноября. Сильный ветер; Фонтанка вздулась наравне с берегами.
7 ноября. Ночью проснулся от сильного стука в окна: град и дождь с такой силой били в них, что, казалось, вот-вот все стекла разлетятся вдребезги. С Невы доносились, возвещая о наводнении, пушечные выстрелы.
8 ноября. Почти обнажился от лесов новый громадный дом Зингера[119] на Невском против Казанского собора; весь он построен из железа и камня. Немножко переложили строители золота для ознаменования, что мол мы, значит, при капитале, но это ничего. В общем, Петербург прихорашивается, да и пора сменить наши угрюмые ящики, именуемые домами, на что-нибудь более удобное и красивое!
Дом Зингера на Невском проспекте
20 ноября. Переживаем новое смутное время Российского государства. Старики, помнящие хорошо брожение 60-х годов, говорят, что тогда не было ничего подобного. Тогда оно — ясное и определенное — было делом нескольких групп, теперь же оно почти всеобщее. И главное — полная смута в умах; даже сам министр Святополк как будто не знает, чего хочет и куда приведет его «новый курс». И это шатание политики ведет к общим сомнениям в том, что дадут ли нам хотя что-либо из того, чем поманили: со всех сторон начинают раздаваться голоса: когда так, все к черту!
Вчера произошел крупный скандал на Моховой ул. Начало его, собственно говоря, было дней десять тому назад в помещении Мирового съезда, где в юридическом обществе предполагался реферат об изменении законодательства о печати. Заседание это, по чьей-то неостроумной мысли, решили сделать публичным. Разумеется, народа, главным образом студенчества всех видов, явилось гибель; зал не мог вместить всех, и председательствовавший заявил, что заседание отлагается, и будет приискано новое, более обширное помещение для такой многочисленной аудитории. Тогда какой-то юный студент вскочил на стул и крикнул на весь зал, что он, «представитель социалистов», приглашает всех присутствовавших пожаловать в воскресенье (14) на Казанскую площадь и там всенародно обсудить вопрос о пересмотре законов.
Выходка смехотворная, но возбуждение теперь вообще так велико, что смеха она не вызывала; по городу начали расходиться в большом числе прокламации и приглашения на сходку, причем предполагалось произвести ее с оружием в руках… Полиция, конечно, об этом знала, и накануне я слышал даже о мерах, принятых ею на всякий случай, причем в виду «нового курса» отряды городовых были переодеты в штатское платье и пущены в публику.
Сверх ожидания, манифестация не удалась: народа набралось порядочно, но — или не было главарей, или духа не хватило — всесословная сходка эта тянулась вяло и тихо; полиции видно не было, никто никого не трогал, и манифестанты чувствовали себя довольно глупо. Наконец, приехал Фуллон, как всегда без всякой свиты, очень умело поговорил с толпой, и она стала весьма мирно расходиться. Тем всенародное обсуждение законов и кончилось. Юридическое о<бщест>-во для нового чтения реферата избрало зал Тенишевского училища, и вот вчера устремились туда желавшие слушать со всего Петербурга. В зал, вмещавший 700 ч.<еловек>, набилось около 3000; давка была невероятная, тем не менее, с улицы буквально ломились новые толпы; вся Моховая битком была набита народом. Вышли распорядитель и Фуллон, и первый заявил, что в зале негде упасть яблоку, и что здание может развалиться от такого количества людей; чтение реферата обещано было повторить.
По уходе их, спустя несколько минут, толпа интеллигентных дикарей вновь принялась ломиться вперед, и дело дошло до того, что кто-то из приставов выхватил шашку; раздались крики и угрожающий рев, толпа рванула дверям, и тогда пешие городовые начали оттеснять ее; все-таки в общем все кончилось бы сравнительно хорошо, но вдруг вылетел на помощь пешим конный отряд; несколько человек было смято и попало под лошадей, и толпа в паническом ужасе бросилась кто куда. На Симеоновской произошел хаос и смешение языков; движение конок, и экипажей, все временно остановилось от массы народа, как саранча, заполнившей улицу.
Консервативных голосов что-то не слышно, притаились. Нет дома, где бы не толковалось теперь о конституции, смутах и 19 февраля, в которое ждут вторичного освобождения.
Война совсем где-то на заднем плане.
21 ноября. Вчера умерла известная Петербургу целительница Надежда Юльевна Шабельская. Она была вдова гвардейского офицера и ютилась со своей приятельницей Каррель в небольшой квартирке на углу Фонтанки и Лештукова переулка; денег за визиты к ней не брала, хотя особыми достатками не обладала и была удивительно симпатичная и приветливая женщина; кто ее знал, или побывал у нее по рекомендации знакомых (иначе к ней попасть было нельзя) — уходил от нее очарованный. Лечила она пассами и хотя отрицала внушение и магнетизм в своей системе, тем не менее она весьма близка и к тому и другому. Во всяком случае, многих обе эти женщины облегчили и, говорят, были даже случаи полных исцелений жестоких болезней.
Прозвище молва дала Шабельской — святая. Теперь она лежит в часовне при Владимирской церкви; весь гроб ее полон цветами; народа на панихидах очень много. Послезавтра хоронят ее на Смоленском кладбище; проводы, вероятно, будут весьма торжественные.
После нее остались два ревностных и «сильных» ученика — ее подруга Каррель и неизвестный мне Кудрявцев, господин с симпатичным, вернее просветленным какою-то душевною силой, лицом.
29 ноября. Вчера скопище учащихся политиков обоего пола устроило демонстрацию против Гостиного двора и на Михайловской ул. Были, конечно, красные флаги и т. д. Окончилось побоищем. В газетах есть правительственное сообщение об этом. Был, говорят, только пролог: настоящую историю собираются устроить в день суда над убийцей Плеве — 30 ноября. На Невском проспекте какие-то люди открыто приглашали публику явиться к зданию суда и участвовать в освобождении подсудимых. Публика от таких пригласителей отшатывалась весьма пугливо…
30 ноября. Убийцы Плеве, Сазонов и Сикорский, приговорены: первый бессрочно, а второй на 20 лет каторги[120].
День прошел сравнительно мирно: у суда толпилось, правда, много народа, но особых инцидентов не было. С Выборгской стороны студенчество сделало попытку толпой человек в 600 перейти через мост с красными флагами, но казаки оттеснили их. Тем и ограничилось все. История обычная: если много обещают, то наверное мало сделают.
1 декабря. На три месяца приостановлен «Сын отечества»[121]. Снова заговорили об уходе Святополка, на место его прочат Витте.
Ходит маловероятный слух, что 6 декабря выйдет манифест о конституции. Эдакое, можно сказать, угощение да станет «он» подносить себе в день именин!
6 декабря, 3-го числа министры были у государя: происходило совещание относительно конституции, причем Ермолов[122] сказал очень сильную и либеральную речь. Решено, что в министерствах будут участвовать выборные люди от земств.
10 декабря. Плохие советники у государя! Сегодня напечатано во всех газетах его «собственноручное начертание» (эко язык-то эфиопский!) с выражением негодования на телеграфное ходатайство черниговского земского собрания (о реформах). Начертал: «Нахожу поступок дерзким и бестактным»…
«Весну», по-видимому, хотят прекратить, но мыслимо ли это? Куда толкают этого безвольного человека окружающие его?
Негодование начертание вызвало всеобщее.
14 декабря. Дождались, наконец, манифеста — довольно туманного[123], но все же подающего надежды на близость лучшего будущего. Поживем — увидим!
15 декабря. В газетах появилось «правительственное сообщение»… Видно, вчерашний манифест показался слишком многообещающим и потому из-под него поспешили высунуть кукиш. Чудные у нас на Руси законы: только издадут один, сейчас же вслед начинают закапывать его «разъяснениями», «дополнениями» и «сообщениями».
Желание победы японцам в общем все усиливается. «Авось японец поможет», говорят не только здесь, но и голоса из провинции.
20 декабря. Заграничная почта пришла вчера вечером и сегодня утром с опозданием на 12 часов. Говорят, что где-то взорван мост: приготовлено было покушение на государя, поехавшего провожать войска на Дальний Восток, но царский поезд будто бы успел проскочить благополучно, и запоздалый взрыв разрушил только мост позади него. Официальных сведений об этом пока не имеется.
21 декабря. Порт-Артур сдался… На улицах простой народ обращается с вопросом — правда ли это, и приходится отвечать — да. Все подавлены.
И что возмутительней всего — новость эту мы узнаем не от своего правительства, а из парижских и берлинских телеграмм. У нас же опубликованы только дурацкие телеграммы Стесселя, что 6 декабря он торжественно праздновал «тезоименитство», и кричали «ура» на параде.
В Артуре убит Кондратенко[124], истинная душа обороны; недаром шла такая молва о нем. Умер Кондратенко — умер и Артур с ним!
Вечер. Вечерние телеграммы хватают подробностями за сердце. Горит «Севастополь», взрывают и топят «Ретвизан», «Победу», «Палладу»… Уничтожаем самих себя! Правду сказали «Новости дня»[125]: «Сдан Порт-Артур, выстроенный на миллиарды полунищего народа и залитый его кровью». Беспримерней этой войны по возмутительности ничего не было в нашей истории! За что платил свои миллионы не полунищий, а нищий русский народ? За ничего не делающих дипломатов, не видящих, что творится у них перед самым носом, за мерзавцев министров и т. д.?? Украли ни к чему не годную и ненужную нам страну, ухлопали в нее миллиарды и, обманывая всех, не нашли нужным даже приготовиться к обороне, не снабдили этот многострадальный Артур ни снарядами, ни припасами и люди там гибли без еды, без оружия и без медикаментов.
Воровство идет везде возмутительнейшее; Красный Крест пойман с поличным: из вернейших источников знаю, напр., что громадные ящики с «хинином» на Дальний Восток в действительности заключали в себе только по фунтовой коробке с ним и т. д., и т. д.
21 декабря. О Стесселе, как о человеке, давно уже и со всех сторон (даже от бывших его сослуживцев-офицеров) слышал только дурное. Отдаю ему должное за защиту Артура, но должен сказать, что телеграммы его на меня и на многих производили отвратительное впечатление. Так пишут или дуры-бабы из глухих деревень, или прохвосты. «Держимся молитвами матушек-цариц» — чудодейственные молитвы этих матушек были у него на каждом шагу!
Покушение на государя было; слышал о нем в измененной версии — будто бы взорвалась бомба в самом поезде.
Среди монархических партий есть сильное течение в сторону бывшего наследника Михаила Александровича[126]. Его хвалят и поговаривают, что в один прекрасный день мы можем узнать о дворцовом перевороте.
Так ли это — наверное не знаю, но что государь как бы опасается этого, доказывает то, что, отлучаясь из Петербурга во все свои путешествия, он увозит с собой и брата, несмотря на то, что отношения между ними совсем не нежные. Поскорее бы это всеобщее напряжение разрешилось чем-нибудь! Вечная жизнь в таком Артуре невозможна!
23 декабря. Хотел купить новую газету «Наши дни»[127]; оказывается, вчера ей запретили розничную продажу. За последнее время газеты вырастают как грибы, но и исчезают из обращения, как мухи!
Возродившийся «Сын отечества», «Наша жизнь», «Р.<усская> правда»[128] — все успели нахватать предостережений и запрещений; идет своего рода газетная вакханалия: все точно торопятся высказаться покруче, пока есть возможность к тому.
Говорил с академиками Генерального штаба; уверяют, что у Куропаткипа не 400 000 войска, как сообщали газеты, а всего 200 000. По их словам, дело стоит на мертвой точке: сибирская дорога может доставлять теперь только необходимый фураж, провиант и пр. для этой массы людей и подкрепления могут идти по ней только за счет голодовок армии.
Нечего сказать, хорошенькое положение!
Интересно бы подсчитать, во что обошлась нам эта манчжурская авантюра, включая Китайскую дорогу, Дальний и пр.?
31 декабря. Общественное мнение начинает заметно изменять курс в отношении к Стесселю; развенчивать людей мы любим чрезвычайно, и достаточно кому-нибудь написать или сделать что-либо выдающееся из ряда — сейчас начинаем искать, не другой ли кто это сделал, но во всяком случае нет дыма без огня. За тысячу верст чувствуется что-то неладное; странно и то, что Стессель торопится вернуться в Россию и не пожелал разделить со своими полками и генералами их участь и в Японии. Говорят в оправдание его, что ему нужно представить отчет государю, но это детский лепет; отчет его уже сделан: — «Флот уничтожен, и Артур сдан». Этим и все сказано. Точно торопится Стессель поспеть к государю ранее остальных генералов и адмиралов…
1905 год
3 января. Забастовал Путиловский завод. По слухам, неспокойно и на Франко-Русском, изготовляющем машины для флота.
4 января. Забастовал Франко-Русский завод.
В Питере в числе других находится корреспондент-англичанин, командированный сюда для специального наблюдения за возникшими общественными движениями; с грехом пополам он объясняется по-русски и очень негодует на наши привычки. «Помилуйте», — говорит, — «везде в и ч. люди уже в постелях, а здесь к одиннадцати часам начинают только съезжаться». Корреспондент этот торчит на всех наших «митингах» и собраниях, внимательно выслушивает ораторов и все заносит в свою книжку.
Бастующие рабочие у ворот Путиловского завода. Январь 1905 г.
5 января. Не работают уже шесть заводов. Оригинальнее всего, что стачка эта ведется под руководством какого-то священника[129], шествующего всюду во главе депутаций. Пока что протекают они мирно. По газетным сообщениям, причина их — домашние счеты с администрацией; городские слухи добавляют некоторый плюс, а именно — недовольство рабочих тем, что 80-ти миллионный заказ дан правительством Германии, тогда как собственные русские заводы вынуждены наполовину сокращать деятельность и штаты. Конечно, не сами рабочие додумались до этого; среди них давно ведется оживленная агитация.
Интересны результаты пропаганды в Малороссии. В Полтавской губернии запасные не хотели идти и были потешные, хотя по существу глубоко верные, замечания с их стороны.
— За що нам идти воеваты? — спрашивали хохлы.
— Как за что? За веру, царя и отечество!
— Яка там вира? Бусурманска; отечества нема — там Кытай; и царя нема — вин там рендатель!.. (арендатор).
6 января. Яковлев (Николай Матвеевич, бывший командир броненосца «Петропавловск»), только что вернувшийся из дворца с Крещенского парада, сообщил, что во время салюта с Васильевского острова — там были поставлены гвардейские батареи — вдруг зазвенели и посыпались в зале, где он находился, стекла и куски люстры. На полу он нашел потом крупную картечину. На улице в толпе произошел переполох, оказались раненые. По ошибке ли, или преднамеренно какое-то орудие вместо холостого заряда хватило по Иордани, где находился государь, картечью. Бедняги артиллеристы поплатятся жестоко!
Очень озабочены охраной Балтийского судостроительного завода от забастовки; предположено послать в него военную команду.
8 января. Сегодня не вышло ни одной газеты — все забастовало.
Толпы рабочих весьма чинно расхаживали вчера по улицам, заходили на фабрики и даже в небольшие заведения вроде переплетных, сапожных и т. п. и везде прекращали работу. Извозчик, на котором я ехал утром на Варшавский вокзал, сообщил, что часов в шесть утра слышен был сильный взрыв, но где он произошел — неизвестно. Я ездил в Лугу, на всех станциях ожидали с нашим поездом газет и оживленно допрашивали, что творится в городе; на обратном пути слышал толки в вагоне, будто убит градоначальник, и что на завтра, в воскресенье, ожидаются беспорядки. На Пороховых заводах забастовали тоже; вероятно, там происходит что-нибудь особенное, так как туда поскакали жандармский эскадрон и конная полиция. Это первая грандиозная забастовка на Руси; рабочих здесь целая армия, и нужно очень немного, чтоб разразился бунт.
В вагонах Варшавской дороги грязь была невероятная; спрашиваю истопника — почему это? — тот ответил, что никто из чистильщиков не явился; в мастерской рабочие забастовали тоже и даже пробовали устроить прекращение движения поездов, но это не удалось им. Истопник с большим возмущением сообщил мне об отношениях к ним начальства и порядках у них. Действительно скоты!
Напр., его отправили с поездом запасных в Иркутск; он пробыл бессменно в дороге 2 месяца, и ему не потрудились выдать вперед жалованье; предупредили о таком назначении за 4 часа и, не успей он перехватить у товарища 10 р., или не найди их — «подох бы с голода, как собака» (его выражение). По выражению лица и голоса видно было, что человек глубоко, всем нутром чувствует это отношение к нему, как к собаке. Затем — новый начальник дороги вдруг распорядился, чтобы за кипяток, раньше выдававшийся служащим на станциях бесплатно, взыскали по 1 коп. за чайник, за поездку это составит добрый гривенник, что бедному человеку, получающему их в обрез, чувствительно. Кроме того, тот же начальник велел уменьшить скидку, которою служащие пользовались в буфетах…
Словом, везде и всюду бепредельное проявление «нраву моему не препятствуй: желаю и конец!».
9 января. Из газет вышел только «Правительственный вестник», такой же пустой, как и само правительство.
В час дня отправился посмотреть, что творится на Невском; швейцар сообщил мне, что утром с ближайших фабрик валила толпа, но на Кирилловской ул. их встретили казаки и, несмотря на мирные заявления рабочих, что они идут к царю, заставили их свернуть в боковые улицы.
Кавалерия в Петербурге 9 января 1905 г.
Вышел из подъезда, вижу, по Суворовскому проспекту где стоят спешившись, держа коней в поводу, где разъезжают отряды драгун в красных фуражках; перекрестки Невского охраняли пешие и конные заставы, приблизительно по взводу пехоты и по полуэскадрону кавалерии; солдатики, по случаю ветра и мороза, развели костры и выплясывали около них; во дворах по 1-й Рождественской улице стояли походные кухни. Конечно, движение по Невскому было прекращено.
Шествие демонстрантов 9 января 1905 г.
Взял извозчика и велел ехать к Адмиралтейству; народа в том направлении шло много, но оборванцев и пьяных видно не было; фабричные, все принаряженные и выглядевшие очень прилично, попадались на каждом шагу; иные, по-двое, ехали на извозчиках. У Полицейского моста движение по панелям было невозможно; народ стоял густой стеной, многие взобрались даже на перила и оттуда смотрели, что происходит впереди. Вереницы экипажей плелись шаг за шагом, и на углу Морской, запруженной с обеих сторон, остановились окончательно: у Александровского сада их не пропускали; под аркой Главного штаба чернела особенно густая полоса толпы; я отпустил извозчика и направился туда посмотреть на Дворцовую площадь. Криков и особенного шума не было, толпа вела себя чинно.
У Зимнего дворца 9 января 1905 г.
Втиснулся в самую гущу под аркой и увидал, что площадь пуста; близ дворца стояли какие-то спешенные войска; ни со стороны Миллионной, ни из-под арки никого на площадь не пропускали; выезды из улиц охраняли эскадроны конногвардейцев. Постояв несколько минут и видя, что все обстоит более чем мирно, я решил зайти со стороны Миллионной: оттуда доносились крики, и один из эскадронов, обнажив палаши, поскакал туда.
Только что успел я завернуть за угол Невского, вдруг позади раздались вопли; опрометью понеслись с Морской, хлеща лошадей, извозчики, собственные экипажи, люди; я прижался в выемке стены к запертой двери табачного магазина Елисеева и пропустил мимо ошалевшую толпу; были в ней и студенты, и простонародье, и барышни, сующиеся везде, где им не следует быть. Затем бросился назад к углу и увидал, что конногвардейцы, очистив арку и часть Морской, шагом возвращаются обратно; бить, очевидно, никого не били, а только напугали. Не успел я взойти на Полицейский мост — со стороны Александровского сада грохнул залп; минуту спустя — другой. «Холостыми это, холостыми палят», заговорили кругом, но мне они показались не холостыми: совсем другой звук у последних. На набережной Мойки кучами чернели рабочие; иные вели зажигательные речи; особенное внимание мое привлекла какая-то женщина-брюнетка, в платке и черной кофте поверх желтого платья. Она металась от одной кучки к другой и все спрашивала: «Где наш-то союз? Не выдавайте, братцы, что же вы? Идемте!» Против придворной капеллы, у моста, толпа была возбужденнее; раздавался свист и крики; против нее, загораживая весь проезд ко дворцу, стояли ряды конногвардейцев; несколько человек из толпы были вываляны в снегу; одного, сильно помятого, усадили на извозчика и повезли прочь — их сбила с ног конница во время атаки; по говору кругом, солдаты били не плашмя, а как следует. Как всегда, было много трусов, мявшихся и вполголоса уговаривавших наиболее горячих: «Да брось, пойдем лучше отсюда», но были и прямо вдохновенные типы; один, еще молодой парень, стал среди моста и, потрясая кулаками, кричал: «Пущай убьют! Все едино конец, скорей будет!»
Солдаты колыхались на своих огромных конях и только поглядывали, но никто, даже полицейский, находившийся рядом, не тронул его. Разогнанная всего за несколько минут назад толпа все прибывала; видел двух студентов, вполголоса говоривших: «Только спокойно держитесь, братцы, помните — главное, спокойствие!» Некоторые из вновь подходивших рабочих здоровались с ними, как со знакомыми: очевидно, движение это не без руководительства, и студенчество не беспричастно.
Постоял в толпе минут с десять, послушал озлобленный говор и направился к Марсову полю; за мной раздался вой и крики; оглянулся и вижу, что кавалерия, блестя палашами, летит на мост, и толпа бежит врассыпную. Противоположная сторона Мойки, сплошь залитая пародом, всколыхнулась и загудела. Послышались свистки, ругань. «Убийцы, убийцы! Подлецы! Палачи!» неистово орали десятки голосов, а гг. конногвардейцы, во главе с выхоленными офицерами, уже шагом следовали под этот концерт по противоположному берегу, окончательно очищая его от публики.
У придворно-конюшенных зданий и на Марсовом поле стали обгонять меня извозчики с ранеными; стрельба оказалась настоящею. Беспомощно прислонившиеся к сопровождавшим фигуры в черных пальто с кровавыми пятнами то спереди, то сбоку производили тяжкое впечатление; рабочие, кучками стоявшие по дороге к Цепному мосту и видевшие их, возбужденно грозили по направлению дворца кулаками; одна женщина разрыдалась и, крича: «Что ж это делают с вами? Жить не дают, да и бьют еще?» — разразилась проклятиями. Много я их наслушался за сегодняшний день! Один извозчик, везший бесчувственного раненого, сам, видимо, взволнованный, громко пояснял останавливавшимся встречным: «Раненого везу; пулей вдарило; у Ликсандровскаго саду палили!» Извозчиков с такими поклажами проехало мимо меня четверо. Полиция вела себя удивительно галантно и ни во что не вмешивалась; сегодня обычную ее роль исполняли военные.
Расстрел демонстрации на Дворцовой площади g января 1905 г. Кадр из фильма В. Висковского «Девятое января» (1925), распространявшийся в виде фотографии и ставший символом «Кровавого воскресенья»
Фамилия священника, руководившего и вдохновлявшего рабочих — о. Георгий Гапон: говорят, личность исключительная и пользующаяся среди них популярностью почти до значения пророка. Третьего дня происходило на Васильевском острове громадное сборище рабочих; свящ. Гапон с возвышения благословлял всех крестом, и многочисленная толпа присягнула «стоять до конца друг за друга».
Г. Гапон
Говорят, что в ночь после этого свящ. Гапон был схвачен, но насколько это верно — не знаю. На водокачке и электрических станциях работали сегодня солдаты: купцы уже пользуются случаем и накинули цены на керосин, с трех с половиной коп. прыгнувший на 10.
Во многих местах идут сборы в пользу рабочих; совет присяжных поверенных уже собрал 800 р., и приношение это рабочими было встречено восторженно.
Думаю, что рабочие, к сожалению, не выдержат!
Из среды их была выбрана депутация к царю, но, конечно, эта депутация не увидит его; когда кто-то высказал эту мысль на Василеостровском собрании рабочих — раздались голоса: «Так долой царя тогда! Зачем такой нам нужен?»
Да, если бы войска были хоть наполовину так подготовлены, как рабочие — не желтый штандарт развевался бы, вероятно, сегодня над Зимним дворцом, из которого, кстати сказать, Николай заблаговременно укрылся в Царское! Толков в городе не обобраться.
10 с пол. час. вечера. Опять ездил по городу; на углах многих улиц войсковые биваки; в жаровнях горят уголья; около составленных в козлы ружей виднеются лазаретные фуры; солдаты сидят и стоят, греясь у огней. Пред дворцом расположены войска всех трех родов оружия; по улицам то и дело проезжают конные разъезды или медленно проходят пехотные патрули. На Невском тротуары чернеют от народа; несмотря на поздний час, оживление необычайное. Извозчики рассказывали, что на Гороховой ул. и за Нарвской заставой были большие побоища, и убито много людей; в больницах будто бы нет уже места — так много раненых. Путиловских рабочих в город, по слухам, не пустили. На завтра ожидается продолжение. Но что и начало и продолжение значат при пустых руках?
10 января. В 9 ч. утра вышел из дома; Суворовский между 2-й улицей и Невским был запружен эскадронами драгун и казаков, державшими коней в поводу. Невский просп. имел обычный вид; ходили конки, многолюдства не было. Уселся на верх конки и поехал к Адмиралтейству.
Подъезд дворца вел. князя Сергея Александровича, что у Аничкова моста, изуродован: все зеркальные стекла со стороны Фонтанки и три с Невского выбиты. «Поленьями жарили», повествовали очевидцы, ехавшие вместе со мной. «Да стекла какие крепкие — рраз, рраз по нем, а оно все цело!»
Газетный киоск против Казанского собора и окна в кондитерской Бормана[130] разбиты вдребезги. Остальные магазины нетронуты.
У дома гр. Строгановых, у Полицейского моста, группы прохожих рассматривали стены; последние выкрашены в темный цвет, и на них ярко белеют многочисленные выщербины — следы от пуль. На Дворцовую площадь пропускали свободно; войск на ней видно не было, хотя во многих дворах Невского я заметил скрытых казаков. Весь угловой полукруг панели у Александровского сада и камни под оградой залиты кровью; дворники посыпали это место песком, но, тем не менее, кровь ярко проступала всюду; ближайшие деревья сада носили следы от пуль. Много народа внимательно рассматривало это место вчерашней казни.
По рассказам, мирно ведшая себя сначала толпа, раздраженная избиениями, разгромила 4-ю линию Васильевского проспекта и Большой пр. на Петербургской стороне. Отправился на остров.
Николаевский мост охраняла пехота, мирно сидевшая на грудах досок; по линиям разъезжали патрули уланов. Было людно, но спокойно. На 4-й линии дома почти не пострадали; выбиты в нескольких дрянных лавчонках грошовые стекла, и только; жестокая бойня и расстреливанье происходило на ней у Среднего проспекта. На Малом дело было еще серьезнее; стекол перебито порядочно, спилено и повалено несколько телеграфных столбов, рассказывали, что там была устроена баррикада, но я ее не видел.
Большой проспект на Петербургской стороне пострадал сильно; магазинов на нем уйма, и все крупные; стекла почти во всех выбиты, винный погреб Шитта разбит и разграблен; такому же разгрому и грабежу подверглись и другие магазины: напр. с готовым платьем и колбасные; торговля почти везде прекращена, большинство дверей и окон забиты наглухо белыми досками, или закрыты щитами и заперты. Оба тротуара кишели народом — больше всего дамами и разных сортов девицами, разглядывавшими места погрома. Открыто было всего десятка два магазинов, но и на их окнах были щиты, а у дверей стояли другие, чтобы в каждую минуту иметь возможность наглухо закрыть все.
Публика спокойна, ни криков, ни особо возбужденных лиц заметно не было.
В вышедшем сегодня клочке «Правительственного вестника» сообщается, что убито 76 и ранено 233 человека; цифры эти лживы[131], так как за одной Нарвской заставой уложено больше путиловцев. Путиловцы двинулись со своего завода с образами и крестным ходом, имея во главе облаченного в ризы свящ. Гапона; расположенный у заставы Павловский полк встретил их залпами, причем по одним версиям перебито и переранено 1000 человек, а по другим 500; свящ. Гапон будто бы убит; пули попали и в образа. Так встретил царь-отец депутацию детей, отправлявшуюся к нему!
Больницы в городе переполнены действительно; у двух, мимо которых проезжал, стояли толпы женщин, отыскивавших своих пропавших мужей и братьев; в ворота их почему-то не впускали.
Озлобленная дикой и незаслуженной расправой, толпа отплатила за это на Морской нескольким офицерам; избит, между прочим, до полусмерти какой-то генерал и кавалерийский полковник.
Между убитыми есть и дети; находившиеся у Александровского сада очевидцы рассказывают, что толпа стояла там мирно и на площадь пройти не порывалась. Несмотря на это, офицер, командовавший пехотой, вздумал орать и приказал разойтись. Его не послушались, и он заявил, что будет стрелять; не подействовало и это; тогда грянули два, слышанные мною залпа, и уложили многих, в том числе и несколько детей, взобравшихся на садовую решетку; судя по тому, что лично видел, — я вполне этому верю, тем более, что слышал одно и то же от разных лиц.
Возмущение всеобщее, особенно против гвардейских офицеров, из числа которых многие с увлечением разыгрывали роль самых зазнавшихся и наглых околодочных; настоящие околодочные совершенно не вмешивались во вчерашнюю историю.
Если б царь так позорно не ускакал из города, а принял бы депутацию рабочих, если бы хоть сколько-нибудь сердечно отнесся к положению их — какой бы громадный козырь он получил в свои руки! Эх, вспоминаются слова Грозного: «пономарем бы тебе родиться, Федя, а не царевичем!»
Половина шестого вечера. Наш Суворовский проспект тонет во мраке: электричество не действует. Сейчас прибежала в страхе прислуга и сообщила, что на углу 8-й в нашем доме выбили окна в магазине Ветчинкина; находимся как бы в осадном положении.
Керосина нет нигде; цену за него догнали до 30 коп. за фунт; трехкопеечное открытое письмо в лавках стоит пять.
Пишу эти строки, а на улице спешно закрывают магазины и гасят везде огни; тьма стоит кромешная.
Половина восьмого вечера. Сейчас вернулся с обхода. Вышел из двери — на лестнице горят, поставленные на стулья, свечи; швейцар держит дверь на замке. На улице глубокая темнота; кое-где светятся сквозь занавески окна — и только. На панелях смутно рисуются кучки стоящих и идущих людей. Магазины закрыты все. На углу 8-й улицы остановился около четырех рабочих и разговорился с ними. Один только что вернулся от Гостиного двора и рассказывал, как его громили: «это все хулиганы, швырковой народишко, пакостят!» негодуя, восклицал он. «Мастеровой разве станет? Не затем шли!» Затем обрушился на студентов, и стоявшие с ним, хотя и вяло, но поддерживали его. «Еще с ними расчет у нас должен выйти! Что они присосались к нам? Зачем свое к нашему делу припутали?» Как выяснил дальнейший разговор, студенты чисто экономическому движению рабочих стараются придать революционный характер и огромное большинство недовольно этим.
Направился я с одним из рабочих к Невскому; в одиночку идти было опасно, так как хулиганы разгулялись и бушуют везде вовсю; полиция скрылась, как под землею, да и что может сделать какой-нибудь городовой в этой тьме с десятками и сотнями валящих куда-то людей? Конечно, сообщение везде остановлено. Бассейная и Знаменская ул. освещены: там газовые фонари — газовый завод, вероятно, успели охранить. Магазины, тем не менее, закрыты и на освещенных улицах. Спутник мой сообщил, что вопреки слухам, будто некоторые заводы восстановили работы, — не действует ни один; оказывается, поджидали колпинцев, но на поезд их не допустили; тогда те двинулись в город пешком и разобрали железнодорожный путь, прервав таким образом общение с Москвою; в 8 час. вечера назначена на Невском всеобщая сходка. По дороге колпинцы спиливали телеграфные столбы и рвали проволоки. Уверяли, будто вчера Семеновский полк отказался стрелять, и почетную работу эту выполняли преображенцы; расстреливали народ во многих местах, между прочим, у мостов и на Каменноостровском проспекте.
Знаменская была усеяна кучками людей, толпившимися у подъездов; ворота везде были заперты и из-за железных решеток отовсюду выглядывали лица. Невский темен и мрачен, как гроб; нигде ни фонаря, ни освещенного окна, панели полны стоящим народом; киоск на углу исковеркан. В толпе рассказывали, что незадолго до нашего прихода у Николаевской ул. подожгли такую же газетную будку и туда, светя факелами, прискакала пожарная часть с лестницами и бочками. Встретили ее, конечно, улюлюканьем и смехом. Не больше, как за полчаса до нас, казаки отгоняли народ от Знаменья: рубили шашками, «но не дюже», а иные так и просили даже: «Братцы, да расходитесь же, неприятно нам бить вас»! Да нет, не затем пришли! Бейте, коль вам мясо человеческое нужно!
Каждого проезжавшего мимо офицера, заметного по серому цвету пальто, толпа провожала свистом и воем; у Лиговского бульвара стояла казачья сотня, но при мне ни во что не вмешивалась; надо думать, что утомились-таки солдаты, хотя на помощь петербургским войскам вызваны полки из Царского, Пскова и др. мест. Обещают, что завтра перестанет действовать водопровод; это будет, действительно, фунт! Между прочим, рабочие, узнав, что лавочники повышают цены, обещали разгромить за это лавки; в одном месте рабочий зашел купить керосину и, услыхав, что за два фунта с него требуют 50 коп., взял и облил данным ему керосином все съестные припасы на прилавке.
Хозяйки спешно закупили до закрытия магазинов всякую всячину: завтра, вероятно, ничего нельзя будет достать.
Между прочим — утром сегодня слышал, что Святополк-Мирский подал в отставку, и отставка эта принята. Кандидатами называют четырех: двух Оболенских, Штюрмера и еще четвертую каналью под стать названным. Думают, стало быть, вернуться к плевенскому режиму. Что говорить, самое время… для того, чтоб ускорить революцию! В общем, день сегодня прошел тише, хотя на окраинах была стрельба; результаты ее неизвестны.
10 ч. вечера. У нас на проспекте зажглись некоторые электрические фонари; на лестницах нет света по-прежнему.
11 января, вторник. Водопровод действует, и на улице спокойно. На Суворовском проспекте магазины торгуют; на углах Невского по-прежнему стоят войсковые охраны, но уже сильно уменьшенные. Конки по Невскому не идут, очевидно, по распоряжению полиции, тогда как везде по другим улицам они пущены. Движение на Невском несколько усиленное, публика, главным образом, преобладает любопытствующая; от Знаменья и вплоть до Аничкова моста в магазинах за ночь перебита масса стекол; между прочим, разбито громаднейшее стекло у Соловьева на углу Литейной — стоило оно несколько десятков тысяч. Газетные киоски, за исключением одного, у Казанской ул., разнесены, а некоторые и сожжены; за Аничковым мостом погромов магазинов, кроме одного бормановского, не было. Выбоины от пуль на доме Строгановых уже заштукатурены и закрашены, но, тем не менее, очень заметны; дом, т. е. половина его, ближайшая к мосту, был точно вспрыснут пулями; некоторые пробили рамы и если никто из находившихся в нижнем этаже не убит и не ранен, то это чудо. Из-под песка на панели видны сплошные темно-красные пятна крови; людей расстреливали там почти в упор, и пули пронизывали по нескольку человек. В Гостином дворе со стороны Невского повреждений мало; главный разгром, говорят, был со стороны Садовой, но туда я не сворачивал. Торговля в Гостином и на Невском почти прекращена; на панелях спешно пилят доски или прямо прилаживают к окнам крышки столов и приколачивают их гвоздями; вид города такой, точно он осажден неприятелем, и ожидается вторжение; в немногих торгующих магазинах приотворены только двери — окна сплошь забиты и закрыты.
Из газет вышел опять полулист «Пр.<авительственного> вестника» и «Ведомостей градоначальника» с перепечатками вчерашних сообщений. Какой-то уродливый, но сметливый карла примостился на тумбе около разбитого киоска у Гостиного двора и продавал московские газеты по гривеннику; публика расхватывала их у него чуть не с боя.
Петербургский градоначальник И. А. Фуллон и Г. А. Гапон с представителями «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» (1904)
Рассказывают, что вчера у Мариинской больницы на Литейном просп. произошло побоище: там, по слухам, находится свящ. Гапон — одни говорят убитый, другие раненый — и народ желал его видеть; к этой толпе присоединилась другая — отыскивавшая своих родных, но в больницу их не пустили и в результате произошло новое столкновение и новые пациенты для больницы. Во многие мелкие промышленные заведения возвращаются рабочие и заявляют о желании начать работы, но хозяева, опасаясь мести и погрома со стороны толпы, отказывают сами; некоторые обещали уплатить им за эти дни жалованье, но только, чтоб не начинали работ.
Передают, будто горят Колпино и газовый завод; на послезавтра обещаны еще небывалые беспорядки; многие учебные заведения закрыты.
Магазин Невского стеаринового товарищества, находящийся близ Казанской ул., полон покупателями; все запасаются свечами, так как в лавках они иссякают и вздорожали до 35 коп. за фунт, вместо 26; магазин допродает уже последки, с завода же везти ничего нельзя, так как рабочие не пропускают подвод с ящиками. Любопытно, что будут делать питерцы, если стачка продлится еще с неделю? О чем думают гг. революционеры? Очевидно, нет настоящего вожака у движения; начал было сильно выдвигаться свящ. Гапон, но с ним счеты уже покончены. Как рассказывают, администрация устраивала на него облавы, но он счастливо избежал их при помощи оберегавших его рабочих. Спектаклей вчера в театрах не было, нет их и сегодня. Начавшиеся представления в воскресенье были прерваны; между прочим, в Александрийском театре, после первого действия, в райке начался скандал, кричали оттуда, что не время забавляться, кто-то провопил Варламову[132]: «Костька, ты хороший парень, перестань, стыдно нынче камедь ломать!» и т. д. и т. д.
Сенная площадь — там молодцы в лавках все дюжие — обороняла сама себя, и лупка хулиганам происходила у них «первый сорт». Их перехватывали, накрывали мешками и бузовали беспощадно.
Между офицерами ходят те же толки об отказе семеновцев и Егерского полка стрелять по толпе; сильно возмущен навязанной ему ролью полиции конно-гренадерский полк, в котором есть сильно пострадавший от побоев офицер. Измайловский, а по другим передачам Павловский полк (форма у них почти одинаковая), за Нарвской заставой во время стрельбы по крестному ходу убил свыше ста семидесяти человек; переранено огромное число и между ними много совершенно неповинных и непричастных ни к чему лиц: убит, напр., лавочник, услыхавший пальбу и выскочивший на порог своей лавки и т. д. Есть убитые гимназисты и студенты — эти уже в городе. На Васильевском острове рабочие оборонялись от войск кирпичами; там, на Малом проспекте, тоже легло много голов.
Войска, по сведениям от власть имущих, сбились с ног, да так и должно быть: им надо охранять все, везде и каждую минуту. К какой роли свели гвардию: исполнять роль палачей в столице!
12 января. В городе полное спокойствие, и все вчерашние тревоги были напрасны; напрасно потратились и магазины на доски для заколачивания дверей и окон: нигде ничего не тронуто, скопищ не было тоже. Щиты теперь почти везде сняты. Ночью, — я возвращался домой около двух часов, — улицы были освещены и пустынны, и только кое-где патрулировали казачьи разъезды по 2–3 человека в каждом. Электричество и газ действовали повсюду. В обществе страшное возмущение стрельбой. По рукам ходят литографированные копии с письма свящ. Гапона ко князю Святополк-Мирскому. Привожу его дословно.
«Ваше Высокопревосходительство!
Рабочие и жители г. С.-Петербурга разных сословий желают и должны видеть царя 9 января 1905 г. в 2 ч. дня на Дворцовой площади для того, чтобы выразить ему непосредственно нужды всего русского народа. Царю нечего бояться: я, как представитель фабричных рабочих, и мы, сотрудники, товарищи и рабочие, даже все так называемые революционерные группы разных направлений, гарантируем неприкосновенность его личности. Пусть он выйдет, как истинный царь, с мужественным сердцем к своему народу и примет из рук в руки нашу петицию. Этого требует благо его, благо обывателей Петербурга и благо нашей родины.
Иначе может произойти конец той нравственной связи, которая до сих пор еще существует между русским царем и русским народом. Ваш долг, великий нравственный долг, перед царем и всем русским народом, немедленно, сегодня же довести до сведения его императорского величества как все вышесказанное, так и прилагаемую здесь петицию.
Скажите царю, что я, рабочие и многие тысячи народа мирно и с верой в него бесповоротно решили идти к Зимнему дворцу. Пусть же он с доверием отнесется на деле, а не в манифесте, к нам».
Подписи.
Затем более мелко:
«Копия с сего, как оправдательный документ нравственного характера, снята и будет доведена до сведения всего русского народа».
Прими только царь депутацию, поговори с ней, и какой бы эффект, какую бы популярность сразу создал бы он себе! Но вместо этого навстречу мирным людям были пущены штыки и пули… Да… кто идет ко дну с камнем на ногах, тому не вынырнуть! Говорят, что Мирский настаивал на приеме депутации, и царь собирался уже ехать в Петербург, как вдруг отменил поездку.
Газет нет и сегодня; кстати — единственное сообщение, дозвоволенное Телеграфному агентству[133] 9 числа в другие города — именно эта фраза. Дальнейшие сообщения московских газет опираются только на «Правительственный вестник». Правительство точно думает «скрыть» происходившее на глазах у миллиона людей. Нет, залпы были слишком громки для того, чтобы остаться в тайне! Вместо разумных мер для успокоения города сегодня выпалили манифестом: «признали мы за благо отменить в Петербурге градоначальство и учредить генерал-губернаторство»…
Весьма мудро, но еще почти сто лет тому назад Крылов написал: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!» К мудрому манифесту вышло и мудрое дополнение: бывший обер-полицеймейстер Москвы, недостреленный там Трепов[134] назначен генерал-губернатором. Повышение такой классической фигуры, — это уже издевательство и вызов всему Петербургу! Мирский, к сожалению, ушел, и власть его пока в руках товарища министра Дурново.
Д. Ф. Трепов
Надо думать, скоро появятся на сцену запоздалые бомбы. По ком промахнулась Москва, по тому попадет Питер!
В Москве, как слышно, тоже начинаются забастовки; сегодня знаменитый Татьянин день: чем-то порадует нас матушка первопрестольница?
Рабочих на улицах не видно почти совершенно: говорят, будто бы вся масса их повалила в Петергоф к царю; войска исчезли тоже, вероятно, они стянуты к местопребыванию высочайших особ.
На улицах увеличилось количество мужчин, просящих милостыню — безусловно не профессиональных нищих. Это несомненно один из результатов неудачной забастовки.
Теперь у нас, можно сказать, действительно полная свобода печати: «Правительственный вестник» может печатать все, что ему угодно, — опровержений не будет! Этим он пользуется и сообщает, разделенные на пять, цифры убийств. Сведующие люди находят, что он действует еще по-божески.
Отовсюду, начиная с рабочих, слышно о намерении последних расправиться со студентами; что за счеты между ними, определенно не знаю, но озлобление на них большое. Чуть ли не им многие приписывают даже неудачу дела. В общем, думаю, что иностранные корреспонденты, понаехавшие в Питер «наблюдать революцию», поражены: революционеры-рабочие вели себя спокойно и корректно, а буйствовали и безобразили гвардейские офицеры и хулиганы. Нда, во всякой стране свои обычаи!
13 января. Тихо. Жизнь вошла в обычную колею, хотя по Невскому изредка лениво патрулируют маленькие отряды городовых с околодочными во главе. «Революция» кончилась… На стенах домов расклеены везде обращения министра финансов и генерал-губернатора к рабочим, в которых уверяют, что государь император близко принимает к сердцу интересы рабочих, а потому призывает их возвратиться к работам.
В переводе на более понятный язык это значит, что будет устроена комиссия для разбора этих интересов и нужд, в помощь ей дадут штук пять подкомиссий, и пойдут они препираться и переписываться, дондеже свет стоит.
Свящ. Гапон, как уверяют теперь, только контужен, и рабочие скрывают его; в городе начались аресты, причем иных забирают и сажают, как острят, «до отыскания причин». Во многих гимназиях, напр. у Гуревича, у Стоюниной, у Стеблин-Каменской открыто идут сборы на рабочих; учителя Тенишевского училища и Стоюниной (называю тех, о которых мне известно достоверно) беседуют с учениками о последних событиях, оценивая их, разумеется, по заслугам. Присяжные поверенные устроили тоже нечто вроде стачки и решили пока воздерживаться от ведения гражданских дел.
Все это показывает, насколько назрела потребность в ином режиме в обществе.
До 9 января был момент, когда Николай II мог разом повернуть курс истории в свою пользу; риска с его стороны не было, но даже если бы и был — момент требовал и стоил его! Прими царь депутацию на площади, обставь прием нарочно возможно торжественней и призрак революции, которой так боится он, разом бы померк и отошел вдаль. Одним ударом приобрел бы он популярность и любовь в стране — и он этого не сделал, не схватил чутьем того, что висело в воздухе, чувствовалось всеми! Царизм проиграл сражение, это несомненно; скольких сторонников он разом сделал врагами себе!
Некоторые из раненых рабочих вне себя восклицали: «Нет теперь ни государя, ни Бога!»
Слово «бомба» и сожаление, что они не пущены были в ход, слышится везде, во всех кружках, даже самых умеренных; революционеры уверяют, что движение рабочих застало их врасплох; это — ложь, так как только мертвые не знали в Петербурге о готовившемся событии, и только наивное простонародье могло полагать, что все произойдет именно так, как оно хочет.
На Малом проспекте избивали сегодня студентов; одни ли рабочие упражнялись в этом, или благосклонное участие принимали и другие — не знаю!
В общем, точную цифру убитых и раненых привести нельзя, так как очень многие были увезены прямо на собственные квартиры или к частным докторам, и узнать о них можно только случайно; во всяком случае, судя по сведениям, идущим со всех сторон, количество пострадавших в эти дни надо считать около полуторы тысячи человек и отнюдь не более 2 <тысяч>.
Почты из Германии сегодня не было: почтовые чиновники привезли весть, что там грандиозная забастовка и разрушен путь близ Эйдкунена.
14 января. Жизнь вошла в обычную колею; заводы и фабрики начали кое-где работать.
Город полон рассказов и толков о происшедшем; мрачное и сильное впечатление производят рассказы лиц, искавших по больницам пропавших близких и видевших груды трупов. Только очень и очень немногим «по протекции» разрешено было взять своих покойников из больниц; остальным обещали выдать мертвецов в понедельник, но когда те явились за ними утром — мертвецкие и сараи были уже пусты: полиция, чтобы избежать новых манифестаций, в ночь вывезла всех на Преображенское кладбище и похоронила в общих могилах; где кто зарыт — неизвестно. В гробы-ящики складывалось по 4 и более человек; один знакомый, имеющий родственников, служащих на Николаевской железной дороге, говорит, что убитых вывезено было на Преображенское кладбище сорок вагонов. Так ли это в действительности, и по скольку человек находилось в этих 40 вагонах — судить не берусь и, если окажется возможным, постараюсь выяснить в будущем; думаю только, что цифра очень преувеличена.
Высланы за границу два корреспондента-француза, за распространение сведений, не согласных с данными «Правительственного вестника». В последнем появилась сегодня телеграмма, произведшая на многих гнусное впечатление: будто все движение рабочих было устроено на деньги Англо-Японского союза, приславшего для этой цели в Россию 18 миллионов. Может быть, какие-нибудь кружки, неразборчивые к средствам, и пользовались японскими деньгами, но рабочие чисты. Кто видел их в то время, тот не может сомневаться в этом: люди шли за идею, а не подкупленные. Наконец, за разбитие петербургских стекол это слишком большая плата; за 18 миллионов можно бы было устроить кое-что посерьезнее!
От врачей, лично принимавших у себя на квартирах раненых во время беспорядков, слышал, что раны многих, несмотря на малый калибр пуль, были ужасны; никелевые оболочки на пулях прескверные и, надрываясь еще в стволе ружья, действовали как пресловутый «дум-дум». Война отошла совсем на задний план и даже еще дальше; что там творится — никто ничего не знает, да и не хочет знать.
На улицах продаются, кроме официальных, московские газеты и еще какое-то, неизвестно когда вынырнувшее на свет «Военное время».
15 января. Вышли почти все газеты; писать что-либо о беспорядках им запрещено, и «Новое время» прямо заявило, что кроме перепечатки из «Правительственного вестника» ничего сообщить не может. «Слово»[135] и «Русь», несмотря на это, поместили дельные передовые статьи и, надо думать, попадут на цугундер.
Завтра ожидаются студенческие беспорядки.
16 января. В редакциях газет «Наши дни» и Наша жизнь» и у сотрудников их произведены были усиленные обыски; проф. Ходского[136], редактора второй, раздели чуть не до рубашки. Газеты эти не выходили до сих пор, так как забраны все статьи и все материалы из редакций. Вероятно, Трепов прослышал, что названные газеты решили пойти на закрытие и собирались подробно описать события этих дней, и напечататься притом в огромном количестве экземпляров для возможно широкого оповещения России.
17 января. Никаких студенческих демонстраций вчера не было. Студенты спешно запасаются штатским платьем, так как со всех сторон сообщают о случаях избиения их рабочими.
Знаменитая телеграмма о 18 англо-японских миллионах оказалась фабрикацией некоего Череп-Спиридовича[137]; Сергей расклеил ее в тысячах экземплярах по Москве и только тогда, так сказать с полувысочайшей санкции, ее напечатали в Петербурге правительственные газеты. Английский посол заявил протест и справедливо: в глупости обвинять англичан нельзя!
18 января. Идут усиленные аресты. Арестованы: Максим Горький, Богучарский, Анненский, Пименова, Кареев, Мякотин[138] и т. д. — целый ряд литераторов.
Утром не прибыла почта из Варшавы; почтальоны, приехавшие оттуда, передают, что там бунт, и Варшава горит. Все возможно! Наступают словно последние времена государства русского. За что ни ухватись — все ползет по швам!
Имеем газеты, «гласность», а живем, как в лесу. В газетах в изобилии имеются сведения о том, что делает король на Сандвичевых островах, и ровно ничего о том, что творится у нас кругом. Москва и дальнейшие города правду о нас узнают только с «оказией», письма же по почте не доходят, на что слышатся повальные жалобы. Перлюстрация производится грандиозная. Не доходят даже телеграммы, срочные и с оплаченным ответом, если касаются события 9 января: знаю этому примеры…
Дикие, темные времена!
19 января. Толки об отказе Семеновского полка участвовать в избиении, по проверке, оказались мифом.
В «Инвалиде»[139] опубликована отставка «по болезни» кн. Святополк-Мирского.
Среди мрачных историй нашего времени приходится отмечать иногда и перлы высокого юмора. Так, Святейший (?!) Синод «по указу Его Императорского Величества» опубликовал и приказал вставить в церковные ектеньи следующие два прошения.
1. О еже не помянута грехов и беззаконий наших и истребити от нас вся неистовыя крамолы супостатов, Господу помолимся.
2 О еже утвердити в земли нашей безмятежие, мир и благочестие, Господу помолимся.
Господа Бога тревожат — Он-де все выслушает, — а на собственный хвост оглянуться нужным не находят!
20 января. Из газет узнал, что вчера государем была принята какая-то подозрительная депутация рабочих… Не лучше ли бы было начать с этого, а главное не припутывать каких-то политических тенденций к действительным целям действительных рабочих??.. Фраза из речи его: «Я вас прощаю» — это верх изумительности! Людей расстреляли, избили за желание видеть царя и изложить лично ему свои нужды и их же милостиво прощают за это!!.
По слухам, Гапон находится в Швеции и уже прислал оттуда прокламации к рабочим. Город кишит прокламациями: есть, между прочим, «призывы к революции», подписанные Горным и Технологическим институтами.
21 января. Вчера провалился Египетский мост, но, к счастью, никто не убит и не утонул. Судьба, кажется, хотела отомстить за петербуржцев; вместе с мостом рухнула в Фонтанку часть эскадрона конных гренадер[140], переезжавших реку, тоже достаточно-таки отличившихся в битве 9 января. Крушение моста наделало много шума; что такое был этот мост — говорит катастрофа, а как чинили его, расскажу я со слов подрядчика, три года тому назад умывшего руки и отошедшего на покой.
К. Булла. Катастрофа на Египетском мосту (1905)
Мост этот нужно было разобрать и поставить новый; вместо этого «на ремонт» его было ассигновано думой 575 р. Но и эта сумма значилась только на бумаге, подрядчику же выдали всего 175 р., заставив расписаться в полной сумме… правда, зато никакого ремонта с него никто не спрашивал. «И так в России все ведется!» воскликнешь вместе с Шекспиром.
Приехавший с театра войны профессор Академии генерального штаба Колюбакин[141] рассказывает, что настроение войск бодро действительно, а не по газетным версиям; в Куропаткина верят, но у последнего не хватает решимости. Это, впрочем, видно и из картин бывших уже боев. Интересны отзывы о Стесселе: «мерзавец и трус». В Китайскую войну его выручила храбрость Анисимова, командира 12 стр.<трелкового> сиб.<ирского> полка; в штабе знали, что это за гусь, и когда он остался на Квантуне главным начальником, Куропаткин, бывший еще тогда в подчинении у Алексеева, хотел отозвать его перед самой осадой Артура, но Алексеев отказал в этом: Стессель умел заискивать перед ним.
Генералы Фок, Смирнов, Кондратенко — все были в ссоре со Стесселем, Смирнов[142] даже не разговаривал с ним, и только Кондратенко, ведший всю оборону, был между ними связующим звеном.
Записываю этот рассказ, так как то же самое слышал от многих военных, близко стоящих к делам Востока.
Как мы ведем войну и чего стоим в настоящее время, показывает следующее: Владивосток — исконная крепость на Дальнем Востоке, хорошо укреплена с моря; с суши же возведены так называемые «временные» укрепления, т. е. способные противостоять лишь полевым орудиям. Такого сорта формы[143] «найдены достаточными», так как с суши мы «не предполагаем» возможной осаду…
Под Порт-Артуром мы «не предполагали» возможным употреблять для осады орудия свыше 6-д.<юймов>, японцы же привезли 11-д.<юймовые>, и все пошло к черту от этих «не предполагавшихся» снарядов.
Словом, за все эти оказавшиеся «непредположения» нам наколотят шею, и кто же — вчерашние «макаки», предлагавшие нам перед заключением договора с Англией союз, от которого мы отказались, как от чего-то с величием России несогласного, чуть ли не унизительного!
Японские войска торжествуют победу в Порт-Артуре. Японский эстамп (1905)
Особенно возмущают военных два факта: отсутствие в такое особенно страдное время главного работника и вдохновителя в их мире — именно начальника главного штаба. Очевидно, говорят, эта должность не нужна, раз во время войны в течение почти года не замещают ее. Действительно: с начала кампании, т. е. с уходом Сахарова[144] в министры, место начальника гл. штаба пустует. В штабе идет неурядица, так как кому охота впрягаться в лямку каторжника для того, чтобы по окончании войны предоставить это место другому? А между тем, что может быть важнее начальника главного штаба в военное время?
Затем, негодуют на замещение важнейшего в военном отношении из генерал-губернаторств — туркестанского, интендантским генералом Тевяшевым[145], человеком не только глубоко ограниченным, но и буквально ничего не знающим, кроме цен на солдатские штаны. Все эти «веселенькие» явления, за которые потом приходится платиться целой стране, результаты протекций…
Министром внутренних дел назначен бывший московский губернатор Булыгин; Трепов, Булыгин — все это ставленники Сергея Александровича[146], и хорошего ждать от них трудно.
Великий князь Сергей Александрович
Как выясняется, депутация, ходившая к царю — простой «ход» перед западом, общественное мнение которого надо было чем-нибудь умаслить. Собрана она была по распоряжению полиции, явилась во дворец в виде толпы безмолвных баранов для выслушания заранее написанной речи, и только… Судя по газетам, пародия эта за границей, кажется, имела успех. Впрочем, разве можно в наше время узнать правду из газет??..
22 января. Министр юстиции, Муравьев[147], совершил новый ловкий ход: получил назначение в итальянские послы…
В достопамятное собрание министров, обсуждавших с государем вопрос о конституции, Муравьев отличился наиболее консервативной речью; вместе с бессмертным кащеем Победоносцевым они доказали, что государь (это «самодержавный»-то монарх!) не имеет права ограничивать власть свою.
У революционных партий Муравьев давно занесен на черную доску; после же татарской речи его с ним решено было управиться, как с Плеве, и Муравьев был извещен, что имя его стоит первым в списке осужденных на смерть. Любитель самодержавия, как умный человек, почуял, что в воздухе действительно начинает пахнуть бомбами, и увильнул в послы, не теряя значения и положения, добытых им в жизни подобными же ловкими изворотами.
Так судят о происшедшем в обществе, и вот слова, которыми неизменно сопровождаются разговоры о нем: «ловкая каналья». Этот эпитет Муравьев имел полное право включить в герб свой!
Сегодня уже в правительственном сообщении число убитых 9 января (перечислены по фамилиям) возросло до 130. Эта цифра тоже неверна, так как в нее включено еще только одиннадцать неопознанных трупов, между тем в действительности неопознанными осталось немало, да иначе и быть не могло при спешке с похоронами и по многочисленности мест, где были разбросаны мертвые.
23 января. Уволена артистка Императорских театров — Куза[148].
9 января она проезжала в своей карете мимо стоявшего отряда Преображенского полка и, высунувшись из окна, крикнула офицерам: «Поздравляю вас с первой победой»! Ей пустили вслед ругательства, а затем донесли по начальству, и в результате Кузе было предложено оставить труппу.
А. Головин. Портрет Е. И. Куза (ок. 1900)
На театре войны творится черт знает что. По имеющимся у меня сведениям из Академии генерального штаба, Гриппенберг дал телеграмму государю[149], в которой заявляет, что служить более с Куропаткиным и лить понапрасну кровь он не желает и просит уволить его. Последнюю битву завязала его армия, одержала уже успех, но Куропаткин не только не поддержал, но еще приказал отступить; во время отхода мы потеряли 10 000 чел., между тем как атака и взятие японских позиций обошлась всего в 2000.
Гриппенберг вызван для личных объяснений к государю.
Так торжественно отправленный на войну, чуть не триумфатором, Скрыдлов явился с нее сильно поджав хвост и, кажется, на этом франте, весь век занимавшемся фокусами и саморекламированьем, поставлен окончательный крест. Еще более раздутая знаменитость — Стессель выясняется все более и более во весь рост и в самом гнусном виде… Как это все больно, как это обидно! Все это очень волнует общество.
24 января. Оттепель. На 28 января ожидаем манифеста, которым будет нам «все» дано, что желаем… так будто бы выразился Трепов и Георгий Михайлович (великий князь). Блажен, кто верует!.. А пока, в ожидании манифеста, по городу распространяются неизвестно где напечатанные памфлеты и стихи на царя и царицу.
26 января. На Путиловском заводе — пострадавшем более всех во время расстреливания, и на резиновой мануфактуре опять нелады и забастовка. Рабочие возмущены приказом Трепова о назначении им депутации к государю, причем выбрать в депутаты приказано только «из благонадежных», т. е. по усмотрению полиции, а не тех, кого хотели бы рабочие. Разумеется, «депутация» эта только и могла, что упасть в ноги и окончательно осрамить их дело, к которому свыше, для оправдания себя, так ловко успели уже подклеить революционную подкладку. И как быстро гипнотизируется общество: люди, вчера еще знавшие истинное положение вещей, после уверенной правительственной лжи начинают сомневаться, а многие и верят в нее!
Арестованных писателей, профессоров и т. д. выпускают одного за другим. Спрашивается — для чего было сажать их? Для пущего озлобления общества?
В учебных заведениях — говорю про высшие — смута. Решается вопрос об общей забастовке; среди младших курсов недовольство против нее большое, так как, в случае прекращения занятий в этом году, первые курсы снова должны держать конкурсные экзамены. Трепов вчера, созвав высшие персоналы институтов и др., заявил им, чтобы было произведено голосование среди учащихся относительно продолжения занятий. Если за последнее окажется большинство — меньшинство будет исключено, и занятия пойдут своим чередом; если наоборот — все высшие учебные заведения будут им закрыты на год, а учащиеся не только навсегда исключены, но и все высланы из столицы, без права въезда в нее.
28 января. В мастерских Варшавской жел. дороги убит рабочими главный мастер; на Путиловском подготовлялось убийство целого ряда мастеров, но кто-то выдал заговор, и мастера успели скрыться, а выдавший и вместе с ним еще несколько человек поплатились жизнью. Так говорят в городе, добавляя, что убит Смирнов — злосчастный упрямец, из-за которого и начал бастовать Путиловский завод, где он состоит директором[150]. Около трех часов дня туда спешно поскакал конногвардейский эскадрон и жандармы; дело там несомненно неладно.
В Казанском соборе служили панихиду по Михайловскому; народа, главным образом всякого студенчества, набралось гибель; по выходе толпа запела «Со святыми упокой», но была рассеяна полицией и казаками; говорят, работали нагайки; но много ли и как — еще не знаю.
Манифеста, разумеется, нет как нет. «Обещанного три года ждут», говорит пословица. И получают кукиш, добавлю я от себя!
29 января. Мстят Максиму Горькому: по распоряжению властей снимают везде с репертуара новую пьесу его «Дачники». Ставят, говоря иными словами, Горького в угол… то-то умники! По городу ходит басня, будто бы в пресловутые дни этого месяца ожидали революцию и уже было выбрано (кем?) временное правительство, среди которого значился и Максим, вследствие чего его и арестовали.
3 февраля. На заводах все еще неспокойно, то тут, то там происходят забастовки. Все слои общества, даже московское купечество, дружно высказываются за конституцию; есть адресы к государю, написанные прямо замечательно. Начинаются елейно, а кончаются неизменным припевом о земском соборе. Эти два слова теперь у всех на языке.
В Тенишевском училище произошел водевильчик — по плевенским временам трагедия. Среди уроков явился в один из классов министерский инспектор (училище это в ведении министерства финансов) и задает одному из учеников вопрос — что вы проходите теперь по истории? Ученик попался, как на грех, недалекий. «Об ограничении императорской власти в России» — выпалил простофиля.
Конечно, произошло замешательство; кто-то усиленно стал подсказывать «в царствование Анны Иоанновны», но впечатление было уже произведено. Инспектор встал и, заявив: «Я, вижу, застал вас здесь врасплох!», с многообещающим видом оскорбленной добродетели удалился. Острогорский (директор)[151] решает теперь шараду: что будет с ним и училищем; оно давно «в подозрении» у начальства, или у бюрократии, как теперь в моде выражаться.
Тенишевское училище
4 февраля. В Москве убит взрывом бомбы главный советник государя, великий князь Сергей Александрович. Телеграммы об этом произвели большой и притом радостный эффект в городе: «Кто будет № 2?» задают вопросы друг другу. Ставленники Сергея — Трепов и Булыгин, очутились без почвы под ногами и вряд ли будут долго у власти.
Положение Трепова глупейшее: сидит вместо государя во дворце безвыездно, как в каземате, под охраной сыщиков и пр. челяди; как будто может все сделать, но в сущности властен только над маленькими людьми, а большие щетинятся, особенно Государственный совет.
Разрушенная взрывом карета великого князя Сергея Александровича в Кремле. Снимок фотографа Уголовного отделения Министерства юстиции
5 февраля. Сергея разорвало на куски. Кинул бомбу субъект в рабочем костюме лет 35, говорит с иностранным акцентом. Работа заграничная, что говорить! И тут нам, видно, «немец» потребовался! Петербуржцы не только радуются, но и поздравляют друг друга с этим убийством. Славную репутацию заслужил покойник!
Выпущен Высочайший манифест, по обычаю высокопарно надутый и приглашающий всех соединиться в молитвах за упокой души Сергея и высказывающий уверенность, что вся Россия разделяет скорбь царствующего дома. Люди радуются, а их скорбеть зовут!
Интересно, как будут хоронить Сергея; в Питер везти опасно: хватят бомбой в процессию — разом от всей фамилии только мокрое место останется; полагаю, что выдумают благовидный предлог и погребут его в Москве, где он царствовал. И чего ради люди так судорожно держатся за власть: живут, как загнанные звери в норах, боятся показаться куда-нибудь, дрожат перед каждым шагом и все-таки не хотят поступиться ничем! Именно «ничем», так как, в сущности, что такое, как не фикция, власть теперешнего государя? — это власть — Плеве — Сергея — Марии Федоровны — Витте и т. д. и т. д., только не его самого. А уж им ли бы не жить, что называется, всласть?
Приехал с войны Гриппенберг.
6 февраля. Высшие круги возмущены прибытием Гриппенберга; запальчивый генерал кинул, как уверяют, армию и прискакал в Питер без всякого разрешения. Поступок смелый, и настолько крупный, что, надо думать, что у Гриппенберга есть и большие основания к нему.
7 февраля. На заводах везде работают, но поговаривают, что мы накануне обшей железнодорожной стачки; Виндавская дорога уже не работает. Окончательно прекращены занятия и во всех высших учебных заведениях. Оригинальным путем идет у нас революция: забастовками!
Вел. князь Владимир, Мария Федоровна и Трепов, говорят, получили и продолжают получать письма с извещениями о приговоре их к смерти. Никто из высочайших на улицах не показывается, а еще недавно, стоило выйти на Невский или Морскую, и непременно встретишь кого-нибудь из них.
На три месяца поставлены в угол газеты «Наша жизнь» и «Наши дни» за «непрекращающееся вредное направление».
8 февраля. Грандиозная обще-университетская сходка студентов приняла резолюцию: прекратить занятия до сентября месяца. Такие же вести приходят и отовсюду. Сходка, между прочим, закончилась скандалом: один из студентов вынул красный флаг с надписью: «Долой самодержавие» и воткнул его в громадный портрет государя, стоявший в зале. Затем портрет был разодран окончательно.
9 февраля. Завтра «временно» хоронят в Москве то, что осталось от Сергея; ни государь, ни братья убитого присутствовать не будут…
Прощен живший до сих пор за границей великий князь Павел Александрович, попавший в опалу за женитьбу на баронессе Пистолькорс[152].
11 февраля. Воспрещена розничная продажа газеты «Русь». На заводах опять нелады, многие остановились.
13 февраля. Забастовки охватывают всю Россию; на некоторых железных дорогах прекращается движение; на Кавказе идет форменная резня; прекратили рейсы в Батум пароходные общества русские и иностранные… Картинка, в общем, размышления достойная!
Напомнили мне сегодня очень давно слышанный мною рассказ об разговоре Николая I с известным Авелем[153]. Николай велел его позвать к себе и спросил, кто будет царствовать после его сына, Александра.
— Александр, — ответил Авель.
— Как Александр? — изумился император. — Старшего сына его зовут Николай! (в то время последний был жив и здоров).
— А будет царствовать Александр, — подтвердил Авель.
— А после него?
— После него Николай.
— А потом?
Монах молчал; царь повторил вопрос.
— Не смею сказать, государь, — ответил тот.
— Говори!
— Потом будет мужик с топором! — сказал Авель.
Рассказ этот я слышал еще мальчиком в царствование Александра III.
Не грядет ли и впрямь царство мужика с топором?
Интересно, как широко охватила идея освобождения не только все классы, до и все возрасты: в гимназии Стоюниной[154], по получении известия о смерти Сергея, священник решил отслужить панихиду и на уроке заявил об этом классу, добавив, что это долг всех верноподданных.
«Совсем мы не верноподданные!» дружно закричали девочки (лет 14–15), и ни одна на панихиду не явилась. У Гуревича вышло еще проще: на приглашение идти в церковь гимназисты ответили, что если будут служить молебен по случаю происшедшего, то они пойдут, на панихиду же идти не желают. И не пошли.
Сведения эти безусловно верные.
Среди забастовок есть и курьезные: забастовала… консерватория. Требования ее сводятся к уменьшению платы и праву бесплатного посещения опер (это тогда только для них одних Мариинский театр существовать будет!) и т. д. Единственный разумный пункт, кроме первого, — требование вежливого обращения со стороны профессоров и профессорш, позволяющих себе отпускать учащимся «дураков» и «дур» и сравнивать их по таланту с коровами и другими, столь же музыкальными особами.
10 февраля. Приехал Стессель; у Знаменья и на противоположной стороне Невского стояли небольшие кучки народа, замечался усиленный наряд полиции — и только. Ничего подобного встрече «варягов» и «корейцев»… На вокзале его приветствовали разные «председатели», но в общем все прошло незаметно… Бросалось только в глаза полное отсутствие моряков; между последними и стесселевцами идет какая-то вражда, но из-за чего, почему — неизвестно.
Почтамт во взбудораженном настроении: в экспедиции его подкинули прокламации с угрозами взорвать здание, если к 19 февраля все не забастуют. Многие этой ерунде верят и сильно встревожены; трусит между прочим и Ермолай и шатается по экспедициям в неурочные часы для поддержания бдительности в своих подчиненных.
17 февраля. На 19 число ждем чего-то грандиозного во всех отношениях. Со всех сторон говорят о новой забастовке, о серьезных погромах и стычках с оружием в руках против войск. Обещана даже новая Варфоломеевская ночь. Каково настроение у многих — можно себе представить; всякий слух принимается на веру, и достаточно будет произойти пустяку, чтобы вспыхнула паника.
20 февраля. Полное спокойствие. Ночи на 18 и на 19 дворники во всех домах под командою старших просидели спрятанные за воротами; войска были наготове тоже, но и 18 и 19 — сорочины 9 января — прошли тихо, несмотря на многочисленные прокламации, усердно разбрасывавшиеся по заводам и в которых все призывались к возмездию «Николаю Кровавому».
Этой ночью Петербург казался вымершим: на сравнительно оживленном всегда Невском и пр. улицах совершенно не встречалось обычных путников из интеллигенции; изредка попадался кое-кто из простонародья. Так напуганы питерцы обещанием Варфоломеевской ночи!
26 февраля. В 4 ч. утра сегодня в меблированных комнатах «Бристоль», что против Исаакиевского сквера, произошел взрыв. Выбиты рамы и стекла во всей середине дома, причем особенно сильно пострадал второй и первый этажи. В 10 ч. утра я проходил мимо; проезд для экипажей около дома закрыт конной полицией; окна спешно исправляются. Передают, будто виновник взрыва — какой-то субъект в форме студента[155]; катастрофа произошла в его комнате; есть убитые и раненые, так как разрушены и соседние комнаты в обоих этажах. Вероятно, приготовлялась бомба, угодившая в самого автора…
На войне новый разгром: взят японцами Мукден, сожжены наши миллионные склады и т. д., и т. д.
Сражение под Мукденом в феврале 1905 г. Лубочная картина
4 марта. Высочайшим приказом смещен Куропаткин и назначен Линевич[156].
6 марта. Носятся слухи об арестах в Пажеском корпусе. Взрыв в «Бристоле», разорвав на куски виновника и превратив в щепки всю комнату, случайно не тронул чемодана, в котором отыскались переписка и разные бумаги, указавшие на прикосновенность к делу камер-пажа, фельдфебеля роты Его Величества, Верховского. При обыске у последнего нашли будто бы бомбы… Кроме него, говорят, арестованы и посажены в Петропавловку еще три пажа.
9 марта. Уже недели две или более, как изменены (безо всякого оповещения публики) бандероли на папиросах: с них исчез государственный герб — орел. Это подало повод к толкам, что акциз с табака и винный негласно проданы правительством Ротшильду. Говорят об этом усиленно.
14 марта. Слух об аресте в Пажеском корпусе подтверждается. Биржа угнетена страшно, и рента наша опустилась еще. Объявлен новый заем по курсу 96 за 100 и 51/2 % заем этот внутренний, так как внешний не удался… между тем заем японцев прошел с успехом! Вести со всех сторон плохие: в Варшаве пошли в ход бомбы, в десятках других городов — стрельба губернаторов, полицеймейстеров и даже городовых. Мужики грабят помещиков; словом, разлад и беспутица полнейшие… Настроение у большинства какое-то устало-подавленное: нервы притупились. Все разговоры, сходки, волнения наши, порывы — все это толчение воды в ступе! Уж теперь ясно видно, что пресловутая конституция будет простое надувательство, «обман глаз», как говорит народ, и ничего более. Ждать пути приходится только от бомб и только на них и начинает рассчитывать все большее и большее число людей. Указывают на май месяц, как на срок наступления революции; я в это не верю — слишком много называли нам сроков, и ничего в эти сроки не было!
17 марта. Около 1 1/2 ч. дня на Морской произошло загадочное событие. Трое одетых в штатское платье проходили мимо стоявшего на углу Почтового пер. посыльного; один из них толкнул его; посыльный огрызнулся, и в ту же минуту двое других штатских разом схватили его сзади. Посыльный успел вырвать из своего кармана револьвер и сделал два выстрела, но оба впустую. В ту же минуту у места свалки оказалась карета; в нее втиснули схваченного, и все трое штатских умчались с ним. Оказалось, что штатские были сыщики и уже два дня выслеживали посыльного. История последнего такова: несколько дней тому назад на упомянутом углу появился новый посыльный; местные артельщики, стоявшие на противоположном углу, конечно, сейчас же приметили коллегу, но никто не знал его. На другой день они дали знать в полицию, что появился самозванец в форме их артели; учредили за ним надзор, и посыльный оказался совсем другой птицей[157]. Кого караулил незвестный — не знаю; говорят, будто Трепова, который впервые за все время сегодня решился, наконец, выехать в Государственный совет.
Придет же в голову нелепая затея переодеваться в форму артельщиков, знающих друг друга наперечет, и помещаться перед глазами у них! Не богат мозгами, видно, попавшийся.
18 марта. Из двух источников слышал, что на наследника, маленького Алексея, произведено было покушение. По одним версиям, его хотели украсть, по другим задушить, причем мамка явилась спасительницей его. Предание свежо, а верится с трудом!
Николай II и младенец-цесаревич Алексей
21 марта. Говорят, будто на Морской в Трепова стреляли, но неудачно. Не преувеличила ли молва происшествие на уг.<лу> Морской и Почтамского пер.? Даже количеством выстрелов они сходятся. Всюду толкуют о близкой революции, политические разговоры просто оттошняли: где собрались двое, там уже идут горячие дебаты о политике; вся Россия, можно сказать, состоит теперь из министров!
3 апреля. Многие с тревогой ждут наступления мая; со всех сторон на него указывают, как на месяц, в который должна произойти революция. Так ли или не так, только правительство, видимо, подготовляется к худшему; с Дона, напр., выписаны еще казаки, ни одна гвардейская часть не посылается на войну и т. д. Слышал, что рабочие вооружены чуть не поголовно; деньги и оружие будто бы в большом количестве непрерывно идут к ним из-за границы. Вообще толков и арестов много; многие обыватели намереваются покинуть Питер и переселиться на дачи до 1 мая; дачи в Финляндии идут нарасхват, так как только эта окраина признается теперь наиболее безопасной от грядущего террора.
Немало разговаривают о каком-то загадочном происшествии: застрелился молодой гвардейский офицер и две родственницы, кажется, племянницы Трепова; причина — открытие их участия в чем-то политическом.
6 апреля. Все сильнее разгораются толки о грядущих беспорядках. Срок наступления их перенесли уже на первый день Пасхи, и намеченными жертвами называют не более и не менее, как всю питерскую интеллигенцию. Слухи об этом ходят повсюду; многие уезжают, другие собираются выехать из города; общее настроение тревожное. Слышал, будто бы несколько лиц, пользующихся некоторой популярностью среди рабочих, получили анонимные дружеские предупреждения от них; затем будто какая-то дама, учительница, встретила в глухом месте вечером босяка и на просьбу его о милостыне дала ему, со страха, все, что имела с собой — рубль. Босяка, оказавшегося безместным рабочим, это так тронуло, что он в виде благодарности сообщил учительнице, что на первый день будут избиения, и она хорошо сделает, если оставит город на всю Святую.
«Только 2 коп.! Черт побери! А я кажется ясно сказал, что требую 10 коп.! (……брань)». Почтовая открытка 1900-x гг.
10 апреля. Весь город говорит о близких избиениях; уверят, что народ будет врываться в квартиры и избивать интеллигенцию наподобие Пскова и др. мест. В литературных кружках заявляют, что избиение это организует полиция и пострадают наиболее неприятные правительству лица.
14 апреля. Погода теплая и хорошая. Вчера заговорили о тревожащих всех слухах «Биржевые ведомости»; сегодня отозвались «Петербургская газета» и «Русь»: в Думу сделаны запросы, какие меры примет город для предотвращения погромов.
Лично я в возможность их не верю; Петербург не Кишинев, и правительству устраивать Варфоломеевские ночи не время; хулиганству же, на которое, между прочим, тоже указывают толки — такая затея не по плечу: интеллигенции здесь все же больше, чем их братии.
В общем — огромное большинство общества сильно утомлено политиканством, во многих домах гостям ставят условия — о войне и политике не говорить. И правильно!
Осточертели все эти нелепые толки вкривь и вкось; проку от них нет, а только одно раздражение и надсадка ушей и горла. Нервничаем все сильно.
15 апреля. На улицах расклеены объявления Трепова, призывающие обывателей успокоиться и заверяющие, что слухи об избиениях ложны, и что всякая попытка к чему-либо подобному будет немедленно энергично подавлена.
16 апреля. На перекрестках усиленное количество полиции: во дворах многих домов поставлены отряды солдат; весть об этом подействовала успокоительно.
17 апреля. Вот и 17 число… Везде тихо и мирно, хотя пьяных хоть пруд пруди с самого утра. Полиция расправляется с ними энергически. «Тащщи» и «не пущщай» сегодня действует в полной силе, да оно так и следует: в праздники из Питера хоть уезжай, до того отвратителен он со своими потоками пьяных людей на тротуарах, заражающих воздух запахом водки и сверхъестественными ругательствами!
Но накануне больших праздников, особенно Пасхи, Питер интересен.
Я всегда встречаю Светлый Праздник на улице; кто хочет получить настоящее настроение, хочет ощутить душой праздник, тот не должен идти в церковь. Домовые церкви, куда устремляется большинство интеллигенции — это выставки нарядов и противны они донельзя; прочие храмы все до единого способны привести в исступление: теснота в них страшная, давка самая бесцеремонная, пихают вас как на рынке и, разумеется, там уж не до настроений!
Петербург. Александро-Невская лавра в 1900-х гг.
В прежние года я ходил обыкновенно в Александро-Невскую лавру и из сада следил за службой. Голоса едва долетают вглубь старых березовых аллей, вокруг церкви толпится народ с бесчисленными звездочками огней в руках, на колокольне ярко пылают смоляные бочки, фантастически озаряя белые стены и колокола.
Наконец из дверей церкви, склоняясь, показываются хоругви; это красивейшие минуты — выходит крестный ход, раздается торжественное «Христос воскресе».
Вчера очень удаляться от дома я не решился, хотя и плохо верил толкам. Прошел к Смольному монастырю, оттуда вернулся по Суворовскому проспекту.
Извозчики, конечно, отсутствовали совершенно, по обе стороны беспрерывно лил народ; встречалось довольно много солдат и, кое-где, офицеров. Некоторые шли весьма медленно и, дойдя до 2-ой улицы, поворачивали обратно к Смольному: вероятно, в эту ночь были наряжены негласные патрули…
На улицах у церквей везде устроены длинные скамьи для священия пасх; особенно красива была площадь вокруг церкви Рождества Христова, вся полная народом и огоньками; почти у всех в руках были пасхи и куличи. В церковь, конечно, протискаться нечего было и думать!
Начал накрапывать дождь и я вернулся домой.
30 апреля. Видел скверно напечатанные пишущей машиной прокламации, вернее, воззвания «революционного комитета», призывающие к оружию на завтра. Воззвания эти найдены подброшенными на парадных лестницах; написаны они глупо и все еще твердят про «январскую кровь»… Питерцы уже поостыли к ней; впечатления так долго здесь не держатся!
Сентябрь. Срамная война с Японией срамно и окончена: мы отдали половину Сахалина, Манчжурскую дорогу и т. д., и т. д. Мир ратификован. Ни одной победы, ни одной светлой страницы, на которой бы мог отдохнуть глаз! Разнузданность, воровство, бездарность — вот с чем выступили мы в борьбу со сплоченным народом. Как и Крымская война, эта открыла нам глаза, но вопрос, всем ли и надолго ли? Уроки Крыма забыты были очень скоро!
2 октября. Хоронили ректора Московского университета князя С. Трубецкого[158]. У клиники Елены Павловны собралась огромная толпа; впереди колесницы выстроились бесконечные пары студентов и разных учащихся с венками; полиция почти отсутствовала и порядков не наводила, а потому он был образцовый. Шествие тронулось на Суворовский проспект. Я шел почти сейчас же за гробом, но мало-помалу отстал. Толпа пела «Коль славен», но крайне нестройно; в одном месте пели начало, в другом конец, а в третьем совсем иное.
Против Николаевской академии вдруг раздались крики, вопли, и толпа, как безумная, шарахнулась к тротуарам; многие бросались и влезали на железную ограду. Оказалось, что жандарм, следовавший близ гроба и на которого начали кричать из толпы: «Долой полицию, вон сволочь», повернул лошадь и поехал прочь. Ближайшие, думая, что он хочет напасть на них, перепугались и произвели панику в задних рядах. Кое-как все успокоились, шествие пошло дальше; часть студентов — вероятно, распорядителей — шедшая близ гроба, опять запела «Коль славен», позади раздалась марсельеза и «Вы жертвою пали». Жандармы исчезли окончательно и поступили умно.
Когда вышли на Невский, гроб уже сворачивал к вокзалу. У забора, ограждающего до сих пор место будущего памятника Александру III, виднелись шапки и султаны отряда конной полиции; мы протеснились до площади, но дальше пройти возможности не было. Гроб уже скрылся, но все стояли и чего-то ждали.
Очень насмешила какая-то женщина — вроде лавочницы; протискивалась она назад мимо нас и во все горло заявила: «Вот так погребали, с песнями!» Это было так верно и так забавно, что все кругом засмеялись.
Сейчас же позади нас раздалось пение марсельезы; в революционных песнях главным образом слышались женские голоса. Как бы в ответ на это из-за угла, со стороны Гончарной, показался эскадрон конных жандармов; я успел выбраться направо к тротуару и стать под защиту железного фонарного столба. Эскадрон доехал до «Северной гостиницы»; рыжий подполковник, ведший его, скомандовал перестроение; блеснули обнаженные шашки, и жандармы тихой рысью, почти шагом, по три в ряд, двинулись на толпу. Что тут произошло — неописуемо! С дикими воплями, не видя ничего, ринулось все в стороны; на тротуаре близ нас несколько человек упало; моментально образовалась на них целая гора, и по ней неслись студенты, курсистки и т. п. Слышался плач, визг, треск доломавшейся зеленой ограды вокруг насаженных там деревьев; люди лезли на них, бросались к дверям домов, куда попало. Напрасно десятки голосов, в том числе и я — кричали: «Стойте, стойте, ничего нет!» — паника продолжалась.
Теснимые безусловно никого не трогавшими жандармами, мы выбрались переулочком на 1-ю Рождественскую улицу, и я направился домой. По дороге везде царило смятение: спешно запирались и даже заколачивались ворота и двери домов, и торговцы с лотками товаров тщетно стучали в них и молили о впуске. Жена уверяла меня, что были 2 выстрела; я слышал треск, но уверен, что это трещала деревянная ограда около деревьев.
И вот такая-то братия, нервы которой не могут выдерживать блеска обнаженных сабель, идет устраивать демонстрации! Кстати сказать, толпу составляла почти сплошь интеллигенция, простонародье было в виде единичных исключений.
4 октября. Газеты полны описаниями похорон Трубецкого; тон возвышенно-лирический, особенно у «Руси»; в действительности же процессия производила даже на нас, участников, далеко не то впечатление. Шла огромная орда не понимавших друг друга людей, шла прилично и нестройно распевала разные песни. Уверения, что были 2 выстрела из толпы в жандармов, слышал от нескольких лиц; возможно, конечно, но я их, во всяком случае, не различил, да и зачем же было устраивать такую пальбу.
7 октября. Газеты сплошь заняты телеграммами из разных городов Руси о забастовках, демонстрациях, и п. д. Везде на сцене войска, патрули и артиллерия. Гражданская война разгорается все больше и больше.
11 октября. Разрастается железнодорожная забастовка.
12 октября. Питер отрезан от всей России; все железные дороги, кроме отказавшейся примкнуть к движению Финляндской, забастовали. На Николаевской дороге, около Фарфоровского полустанка, разобран путь. По городу распространяется паника; уверяют, что сегодня вечером прикроются и забастуют все магазины, и достать что-либо будет немыслимо. Колбасные, булочные, бакалейный и т. п. осаждаются покупателями; все делают запасы провизии. Цена на мясо шагнула с 16 на 22 коп. за фунт.
Все средние учебные заведения закрылись; распустили сегодня и мы свое коммерческое училище. Некоторые девочки остались у нас, так как живут на Обуховском заводе и попасть туда нет возможности. Ожидаем больших беспорядков, и, конечно, детям на улицах теперь лучше не показываться.
14 октября. Окна магазинов заколочены досками и щитами; электричество сегодня не действует. Внутри магазины тускло освещены или парой свечей, или какой-нибудь грошовой лампочкой; все имеет такой вид, что при первой тревоге остается только захлопнуть дверь, задуть огонек, и получится нечто вроде крепостцы.
15 октября. В Питер подходят войска из окрестностей; говорят, пришла пехота из Пскова и гвардейская кавалерия из Царского. На улицах то и дело проезжают кавалерийские разъезды; ворота домов заперты; за железными решетками их видны сидящие в косматых шубах дежурные дворники.
Газет сегодня нет. Это — вторичная забастовка их в этом месяце; в первый раз они трехдневными прекращениями работ выражали свою солидарность с московскими типографиями.
Царь находится в Петергофе, и там же стоит под парами императорская яхта «Полярная звезда», готовая принять его и отплыть в Данию. Место зловещее: вспомнил бы он Петра III и попытку его уйти в море!..
На углах улиц еще вчера вывешены объявления Трепова, успокаивающие население, причем добавлено, что всякая попытка к беспорядку будет немедленно подавлена; войск достаточно, и им приказано холостых залпов не давать и патронов не жалеть[159].
Любопытен слух о забастовке конных городовых; их, действительно, что-то совершенно нигде не видно.
Магазины торгуют без перерыва; немецкие булочники остались совершенно без дрожжей и командировали в Выборг одного из своих. Тот привез 15 фунтов, более не мог раздобыть; на весь город это слишком маловато!.
16 октября. На улицах тихо и малолюдно; аптеки везде позабиты наглухо досками, так что появилось правительственное сообщение о том, что нуждающимся в лекарствах таковые будут отпускаться из госпитальных аптек. Говорят, вчера были разгромлены три частные, не желавшие бастовать. Вообще забастовки наши далеко не дружные; бастует меньшинство, и только террором заставляет примкнуть к себе остальную массу. Невский проспект вчера вечером освещался прожектором, установленным на Адмиралтейской башне; эффект замечательный.
Вечер. Электричество капризничает: то на улицах темнота, то вдруг затрещат и вспыхивают фонари и опять гаснут через некоторое время. Очевидно, на местах производств идут свалки и одолевает то одна, то другая сторона. Прожектор освещает Невский и сегодня, но нынче он какой-то желтый и освещает сквозь дождь плохо: будто какой-то огромный ярко-желтый глаз глядит из мглы и тумана.
Ходят толки, что «революция» произойдет 20 числа, теперь же будто бы все рабочие и революционеры запасаются оружием. Вся эта, хотя бы и вооруженная банда, конечно, и гроша медного не стоит перед регулярными войсками, и весь вопрос в том, на чьей стороне будут они. Старший д-р л.<ейб>-гв.<ардии> гусарского полка, А. И. Воскресенский, говорил мне, что даже за этот полк ручаться нельзя: солдаты толкуют, что «конечно, что говорить — нехорошо это они (т. е. рабочие) делают, только как тоже в своих-то стрелять?» Словом, часть войск верна правительству, другая ни шатка, ни валка, примкнет к тому, кто будет энергичнее, а третья намерена стрелять в тех, кто станет стрелять в народ. Это слова какого-то офицера, сказанные им на митинге в университете среди многочисленной толпы; погоны офицера были при этом закрыты платками.
Кстати, на том же митинге произошло следующее: какой-то господин попросил слова и предложил всем записать то чрезвычайно важное, что он имеет сообщить. Кто мог, достали карандаши и бумагу, и неизвестный продиктовал толпе рецепт бомб и исчез.
17 октября. Тревожное настроение усиливается. В редакции «Всходов» слышал, что было совещание газетных представителей Петербурга и все, кроме князя Ухтомского (редактор «С.-Пб. ведомостей»)[160] и еще какой-то маленькой газетки, решили следующее: газетам завтра выйти, причем с цензурными правилами более не сообразоваться и устроить между собою круговую поруку и поддержку на случай закрытия газет правительством. «Союз союзов»[161] разогнан; Политехникум Трепов приказал очистить от студентов (там огромное общежитие) в 24 часа и пригрозил, в случае сопротивления, штыками. Все высшие учебные заведения заняты войсками и пулеметами; уверяют, будто царь слышать не хочет ни о каких уступках, и в верхних кругах твердо решили «залить революцию кровью». Похоже на ерунду, но тем не менее записываю, так как об этом усиленно твердят в городе, увеличивая общую тревогу. Рассказывают, будто морской министр Бирилев[162], поехавший на Черное море, взорвался или взорван с каким-то броненосцем, а остальная взбунтовавшаяся эскадра ушла неизвестно куда.
Забастовали, т. е., вернее, распущены чиновники Государственного банка: остановился, можно сказать, последний жизненный пульс Руси.
Забастовала и Финляндская железная дорога вплоть до Гельсингфорса. Питер теперь отрезан совершенно.
В министерств<ах> произошли тревоги: в Департамент государственного казначейства явились сегодня трое каких-то господ (двое узнаны — какой-то присяжный поверенный и помощник присяжн. пов.). Шипов (директор)[163] вышел к ним в коридор, и они предложили ему от имени «временного нового» правительства прекратить занятия и распустить чиновников. Шипов крикнул на них: «Вон отсюда», и послал за стражей. «Временное» правительство быстро ретировалось.
В здании, где д<епартамен>-т Шипова, помещается целый ряд их; мгновенно о случившемся узнало все чиновничество, высыпало в коридоры и зашумело. Стали раздаваться голоса — какое право имел Шипов отвечать так за все департаменты и т. д. Начало становиться довольно бурно, но… появился Федоров[164] (начальник отдела торговли), и чинуши попритихли; на просьбу о сходке Федоров ответил решительным отказом, но добавил, что в виду тревожного времени, кто боится за себя или за семью свою, тот может не ходить на службу.
В Государственном контроле директор созвал своих начальников отделения и сказал то же самое, прибавив при этом, что сам он будет оставаться на своем посту до тех пор, пока его не удалят силой, но чиновников своих подвергать этому не хочет, и оставляет поэтому за ними полную свободу действий.
На улицах тихо. Окна магазинов по-прежнему заколочены, но торгуют везде, кроме аптек и газетчиков. Эти политических забастовок устраивать права не имеют!
Электричество действует почти повсюду.
18 октября. Ура! Мы свободные люди!!
Вчера был в гостях у Сиверса (члена ученого комитета Министерства финансов): вдруг за ужином раздался звонок; хозяин вышел посмотреть, кто пожаловал, и быстро возвратился с листком в руке.
— Господа, манифест!
Дважды прочли его и от души чокнулись за новую Россию. Нашлись и в нашем небольшом кружке скептики, но в общем шаг вперед сделан, и большая тяжесть свалилась с души!
Ночью возвращался от Сиверса по Невскому; везде горело электричество; по тротуарам и за извозчиками бегали мальчишки, размахивавшие листами бумаги и выкрикивавшие: «Манифест! Высочающий манифест!»
Манифест Николая II и Всеподданнейший доклад С. Ю. Витте с программой реформ в прибавлении к «Правительственному вестнику» (17 октября 1905 г.)
Сегодня на улицах вывешены флаги, на углах у расклеенных манифестов толпятся кучи прохожих. День серый и тусклый.
Говорят, что сегодня Николай приезжает из Петергофа в Зимний дворец, и что манифест этот дело рук Витте, который читал несчастному императору чуть ли не целые сутки историю французской революции с российскими комментариями.
Ночью, оказывается, не обошлось без происшествий. Около часу все бывшее на Невском бросилось на Загородный к Технологическому институту: в нем студенты устроили форт Шаброль[165], и их оцепили войска. В эти войска из института бросили бомбу, убили городового и извозчика; солдаты ответили залпом.
Затем — только что появился на улицах манифест — на углу Литейного и Невского остановился какой-то субъект и, собрав вокруг себя значительную толпу, начал говорить, что «Нет, теперь уж этого нам не нужно! Мы должны вести революцию до конца и т. д.» Там же мирно присутствовали пристав и два околодочных. Очевидно, слышавший эту речь А. Беграмов струсил, как сам признался, и поспешил скорей прочь.
12 часов дня. На Невском большое оживление; тротуары забиты народом. Конок все-таки нет. Николаевский вокзал закрыт; движение поддерживается только частными омнибусами. На углу Невского и Дегтярной я и шедший со мной А. И. Воскресенский были свидетелями любопытной сценки. Видим там небольшую толпу; некоторые из нее (было все простонародье) кричат: «Мерзавец! Палкой бы его, подлеца, по голове. Манифест смеет позорить!»
Оказалось, что какой-то субъект, прочтя прибитый к стене манифест, обругал его, за что едва не поплатился боками и должен был удирать во всю прыть.
2 часа дня. Поехал с женой на Невский проспект. Люди и экипажи запрудили его совершенно. Извозчик сообщил, что с заводов прибыли 2 парохода с рабочими, и что сегодня утром он был очевидцем, как у Технологического института гусары изрубили за что-то саблями какого-то господина: он получил три раны в голову[166].
На Невском у угла Суворовского мы встретили толпу рабочих, о которых сообщил извозчик. Впереди шли дети, было много простых, но чисто одетых женщин, мужчины производили опрятное, хорошее впечатление. У всех на левой стороне груди алели красные банты из лент; над процессией развевались два небольших, складных красных флага.
Теснившиеся по тротуарам прохожие махали шапками и кричали ура. Шествие отвечало тем же. Как-то странно и радостно было видеть эти красные флаги, банты, еще вчера бывшие под жесточайшим запретом, а сегодня мирно и беспрепятственно двигающиеся по городу! Николаевский вокзал открыт; около него, как всегда, белели ряды носильщиков, подъезжали извозчики с кладью и пассажирами — дорога, очевидно, работает.
На углу Владимирской мы свернули с Невского и направились к Технологическому институту: я хотел проверить рассказы о творившемся там. Несколько окон института со стороны Загородного проспекта пробиты пулями; дырки в стеклах второго этажа виднелись чрезвычайно отчетливо, но их очень немного, не более трех. Против подъезда стояла полурота гвардейской пехоты; из-за стекол закрытого подъезда выглядывали солдатские лица и виднелись штыки. Толпа вокруг стояла значительная; около подъезда и на тротуаре теснилась самая разношерстная публика. Мы сошли с извозчика и вмешались в нее. Один из технологов разъяснил, что в институте заперты под караулом 83 студента и 2 профессора; из окна института была брошена бомба, «никого не убившая и, несомненно, провокаторская». Ночью приезжал в институт Витте для разбора происшедшего, и теперь арестованных держат до «выяснения дела». Около нас, конечно, сейчас же собралась порядочная группа, один — брюнет, довольно посредственно одетый, нечто вроде рабочего, сообщил, будто в путиловцев сегодня опять стреляли.
«Одной рукой дают, другой берут. Вот вам и манифест!» слышались негодующие голоса.
Места, где произошел взрыв бомбы, я не мог найти — никаких следов повреждений мостовой нет, или же оно было занято солдатами. Последние в ответ на бомбу стреляли, но, как я уже говорил, следы пуль на окнах единичны, и из студентов никто не ранен.
Митинг у Петербургского университета 18 октября 1905 г.
Окружавшие нас говорили, что у Казанского происходит митинг, на который навалилась «черная сотня», что там идет побоище, и присылали просить помощи.
Мы с женой сели на извозчика и направились туда. Сквозь колоннаду собора увидали двигающиеся по Невскому флаги; их было семь: два белых с черными надписями «Да здравствует свобода и царь» и пять обычных, торговых цветов. За флагами валила огромная толпа любопытных; митингов и драк не не было и следа. Мы вмешались в толпу и последовали за процессией; флаги свернули на Морскую, к Зимнему дворцу и остановились перед средними воротами. Раздалось пение «Спаси Господи люди твоя», затем ура; в воздух полетели шапки, замахали руки, платки. Толпа притиснулась к самым воротам, из-за запертых решетчатых створ чернели косматые шапки гренадер. Толпа, занимавшая все пространство между дворцом и колонной, состояла почти сплошь из простого люда, рабочих, лавочников и т. п. Один полный, бородатый старик плакал, пели от души. Зазвучал гимн, опять «Спаси Господи», ревели «ура» — царь не показывался. Большой он враг себе, царь Николай! Позади, ближе к колонне и дальше, теснились не участвовавшие в демонстрации: там публика была отборнее; окна департаментов, что против дворца, форточки — все было открыто и отовсюду высовывались головы чиновников.
Флаги двинулись наконец влево, к адмиралтейству, но их остановили крики — «Назад, назад»; — в окнах правого выступа дворца показались какие-то фигуры. Грянуло новое ура, опять полетели вверх шапки и толпа, крича: «Бить анархистов! Долой анархистов!» повалила к выступу. На подъезде под ним стояли конногвардейские или кавалергардские офицеры; фигуры дам, принятых за царскую семью, и офицеры скрылись.
Демонстрация в Петербурге 18 октября 1905 г.
Толпа в этот момент была снята каким-то фотографом, с аппаратом стоявшим на извозчике. Народ повалил затем на Миллионную, мы же вернулись через Морскую на Невский; там творилось вавилонское столпотворение: лошади могли следовать только шагом; стена пешеходов едва передвигалась. Порядок тем не менее был замечательный. Медленно доплелись мы до Думы; около часовни Спасителя и на ступенях широкой лестницы в Думу чернело сплошное море голов; с первой площадки горячо говорил какой-то рыжеватый кудрявый человек с подвязанной щекой, без шапки, в пальто с барашковым воротником. Видом он походил скорей на рабочего. Только что мы успели перейти пол-улицы — он кончил и раздались аплодисменты. И вдруг часть толпы, слушавшей речь, в беспричинном страхе шарахнулась прямо на вереницы извозчиков; несколько минут происходила паника. Мы благополучно успели перебраться обратно; знакомые, слышавшие оратора, тут же рассказали содержание речи: он призывал не верить правительству, стоять на своем и требовать амнистии и освобождения всех политических арестованных. Затем неизвестный оратор назвал всех, кто славит царя, кто поет «Боже, царя храни» и т. п. — провокаторами, но приглашал ли их бить — я не успел узнать. Легко клеймятся у нас люди! Не наш — стало быть, провокатор!
Может быть, у Зимнего дворца и были ставленники правительства, но что много было искренних людей — свидетельствую. Они действительно пришли благодарить царя, уважение и любовь к которому истинно русский человек всасывает, вернее всасывал, с молоком матери!
После рыжего говорили еще какие-то ораторы, но мы их не слушали. На углу Садовой повстречали целый лес длинных красных флагов на высоких шестах и в виде хоругвей; явились они с Садовой, несшие их производили чисто хулиганское впечатление: испитые оборванцы — мальчишки и молодежь, ухарского, кабацкого вида. За этим пугачевским отрядом толпы не было, «ура» тем не менее гремело им с обеих панелей Невского. Среди хоругвеносцев выделялся какой-то солдат, форму полка его не успел разобрать.
На Аничковом мосту около ресторана Палкина, близ Надеждинской, опять повстречали красные знамена: толпы, сопровождавшие их, производили впечатление ошалевших орд, готовых на что угодно.
Проехал извозчик, на котором сидел какой-то весьма довольный собой субъект, а над ним развевался красный флаг с черною надписью: «Свобода». Этот был совсем шут гороховый.
Настроение напряженное; на улицах не праздник, а ожидание грозы, и если ее не произойдет сегодня — будет чудо!
Пишу эти строки в 5 ч. вечера; скоро отправлюсь опять на Невский: нужно видеть все самому, чтоб иметь право судить о происходящем. Переживаем величайший миг русской истории!
В 6 часов на углу Суворовского и 2 Рождественской показалось множество красных фонарей и флагов на высоких палках; на улицах полутьма, электрические фонари горят через два в третий. Громадная толпа, сопровождавшая эти флаги, остановилась против больницы, и кто-то из нее начал держать речь. Казалось, будто кровавое зарево стоит над самою улицей.
Речь то и дело прерывалась громовым ура; в окнах соседних домов показались люди, и вдруг освещенные квартиры одна за другой стали погружаться в мрак: гасили огни из боязни разгрома со стороны толпы. Приказчики спешно бросились закрывать щитами двери и окна магазинов. Толпа с революционными песнями двинулась дальше по Суворовскому; по обе стороны ее в большом количестве разбрасывались прокламации.
— Товарищи, за нами! — кричали проходившие: — разгромим тюрьмы, выпустим всех!
Буйств и безобразий никаких не происходило.
Невский полутемен и, сравнительно с утром, — пустынен. Магазины сплошь заперты и закрыты щитами и досками. На перекрестках чернеют что-то обсуждающие кучки людей; больше всего их около Гостиного двора и Казанского собора. Экипажное движение почти отсутствует — извозчиков можно пересчитать по пальцам. На обратном пути от Морской около Троицкой встретили новое шествие с красным фонарем и флагами; толпа сопровождала их многолюдная, но состояла, главным образом, из подростков и мальчишек простонародья; бородатые лица виднелись лишь изредка.
Ни городовых, ни войск не видно — и к лучшему. Тем не менее, все наготове, и в любом месте быстро могут появиться и заговорить пулеметы и артиллерия.
В центре города день прошел мирно.
19 октября. Улицы имеют обычный вид; флаги убраны, сборищ не видно. Только конок нет. Из газет вышли опять только градоначальническая да правительственная. На стенах домов белеют новые извещения Трепова — «День 18 октября», написано в них, «…к сожалению, не обошелся без насильственных столкновений разных групп населения между собой, а также с полицией и войсками»… Далее идет предварение о решительных мерах, которые будут употреблены впредь при подобных случаях.
Какие были столкновения, где — еще не знаю.
В типографии, куда я зашел, смущение: все встали на работу, как вдруг явились какие-то субъекты с требованием продолжать забастовку под угрозой расправы. Типография вся, как один человек, против забастовки, но работать боится. Стыдил их за глупый страх и повиновение каким-то оборванцам, желающим только анархии и слишком самонадеянно считающим себя чем-то вроде наставников и распорядителей судеб всего общества. Тем не менее, кажется, и после обеда типография не работала.
На Невском тоже особенного ничего не заметно; сегодня в Казанском соборе назначен торжественный молебен и, может быть, туда, а может и на какой-нибудь митинг — их теперь несть числа — шло много людей.
Витте, со дня ратификации мира, объявил, что обсуждается вопрос об амнистии лиц, арестованных по политическим делам.
6 часов вечера. Сейчас был преподаватель П. И. Шелков. Рассказывал, что, когда он возвращался вчера домой в 9 час. вечера по Невскому проспекту, у Казанского собора стояла многотысячная толпа, мирно обсуждавшая разные вопросы. На Аничковом мосту он повстречался с другой, меньшей, чисто хулиганского вида. Толпа эта срывала флаги с домов, ревела «Боже, царя храни» и сшибала древками флагов шапки с прохожих, не успевших снять их. У Казанского произошла драка, обошедшаяся без вмешательства войск, причем вторая толпа пострадала и была рассеяна.
Сейчас университет оцеплен войсками; около него убиты два студента. Как, кем — Шелков не знал.
83 студента, сидевшие под арестом в здании Технологического института, сегодня выпущены.
Как обострены теперь страсти! При малейшем сомнении в чьей либо ультра-красноте у людей появляется чуть не пена у рта; слова: «провокатор», «черносотенец», как прежде «шпион» — сыплются без всяких колебаний и рассуждений!
20 октября. Вечером был вчера у Константина Яковлевича Бодиско[167] и вернулся опять в смутном, подавленном настроении.
Константин Владимирович Крапивин, начальник отделения Департамента торговли и мануфактур, рассказывал, что он сам был очевидцем, как вчера в половине пятого дня на углу Конюшенной жандармы ни с того ни с сего принялись разгонять собравшуюся толпу и избивать ее сперва нагайками, затем саблями. Затем — через руки его проходят телеграммы со всей России, даже те, что не попадают потом, благодаря цензуре, в газеты — и он говорит, что содержание их ужасно: манифест принят везде восторженно, во всех городах устраивали радостные митинги, и почти везде опять выступили ступили на сцену против них нагайки и залпы.
18-го на Невском у дома Елисеева разыгралась кровавая свалка между огромными шествиями «националистов» — и «краснофлажцев». Пущены были в ход револьверы, были пострадавшие. Подобные же свалки с выстрелами, а также беспричинные паники, от которых в хаосе неслись, как безумные, в общем потоке, давя и сшибая все на пути своем, извозчики, пешеходы, дамы и сами манифестанты, происходили во многих местах; сильнейшие, повторяю, беспричинные, паники были у Полицейского моста и на углу Загородного и Лештукова переулка. Это показывает, в каком теперь состоянии нервы у массы.
Стачечный комитет (петербургский) объявил продолжение забастовки, и вчера опять стали начавшие работать железные дороги. Московский, наоборот, объявил о начале работ.
Представители периодической печати собрались к Витте и указали ему, что манифестом дарована свобода слова, но не печати; Витте ответил, что в настоящее время она еще невозможна, благодаря анархии; тогда ему заявили, что газеты не будут выходить совершенно… Нет их и сегодня.
Что это за дичь, как может существовать в свободном государстве несвободная печать, как мог Витте говорить и устраивать подобную шутку — понять нельзя! Недаром, видно, на одном из недавних митингов какой то оратор сказал: «Витте не либерал, Витте не консерватор, он просто каналья». Добавлю: преумная!
6 час. вечера. От многих слышал подтверждение о вчерашних избиениях казаками на Невском; уверяют, что они беспричинные.
Митинги 18-го постановили между прочими пунктами требовать — освобождения политических заключенных и увольнения Трепова. О нем толкуют чуть не со скрежетом зубов; говорят, 18-го числа войска получали то и дело приказы то от Витте, то от Трепова; от первого: не сметь пускать в дело оружие, от второго — стрелять.
Царь, подпадающий под влияние того, кто говорил с ним последний, вероятно, вчера поговорил с Треповым, и, благодаря этому, повеселились казаки, и уже прежней свободы собираться на улицах сегодня нет.
Кавалерия и демонстранты в Петербурге (1905)
И все-таки, несмотря на такие неблагоприятные слухи, огромное большинство общества с 18-го числа на стороне правительства и желает спокойствия.
На улицах сегодня расклеено воззвание к благоразумию общества; указывая на полную невозможность мгновенно пересоздать законы, оно призывает к порядку и снова обещает все действующие пока законы и постановления применять согласно манифесту. Да, но казаков следовало бы убрать куда-нибудь на задние дворы!
Убитых за вчерашний день и 18-е число насчитывают порядочное количество; свозили их в Обуховскую больницу; большинство погибло в междоусобных свалках.
Бухгалтер редакции журн. «Всходы» и рассыльный ее же вчера были свидетелями нескольких убийств у Казанского собора: встретилась толпа с красными флагами, среда которой было много студентов, и другая — поменьше, с национальными флагами. Студенты начали стрелять из револьверов, и трое из последней партии упало с ранами на головах. Публика кругом ринулась бежать, националисты, покидав флаги, тоже.
Курсистки вчера против Казанского собора и Гостиного двора а производили демонстрацию: появились целые полчища их с перевязками Красного Креста на рукавах.
На вопросы прохожих: «Что значат эти перевязки и такое количество их?» — отвечали: «А вы гарантированы от того, что вас не изрубят и не расстреляют сейчас здесь?» Словом, явились будто для подания на месте помощи лицам, могущим пострадать от «насилий войск».
Раненых на этот день много ожидало и правительство: весь двор армянской церкви, что против Гостиного двора, полон был лазаретными фурами и повозками. Солдаты сидели наготове, скрытые во многих местах, но бойни, к счастью, не произошло.
Путиловцы начали было работать, но туда явилась толпа, человек до 500 студентов, и опять взбаламутила пол-завода; между забастовщиками и желавшими работать пошла драка, в которую вынуждены были вмешаться войска, и опять были жертвы. Многострадальный этот завод!
Эти дни много разъезжал но городу на извозчиках и разговаривал с ними. Все, как один человек, против забастовок и против студенчества. Особенно возмущен был один, которого какой-то студент укорял в бесчувственности к общему делу и между прочим сказал, что революция стоила французам 100 000 человек.
— Что же, и у нас, стало быть, хочешь, чтоб легло 100 000? — спросил он его, добавив крепкое словцо и схватив кнут. Студент скрылся. Вообще, кроме заводов, в городах пропаганда их особым успехом не пользовалась.
Этот же извозчик — пожилой уже мужик — насмешил меня.
— Господи! — восклицал он, дергая вожжами. — Чего уж теперь больше нужно: одно слово — слобода! Вот, надысь, стою я на Вознесенском проспекте, вижу, извощик едет. Сидит на седоцкой подушке, а ноги на козлы положил. Что ты, говорю ему, сукин ты сын, делаешь? А городовой тут же стоит и ничего, глядит только.
«Не сукин он, говорит, теперича сын, а гриждинин!»
Сейчас приходил старший дворник с извещением, что назавтра ждут больших беспорядков; ворота домов приказано запереть и всем дворникам никуда не отлучаться от них.
Вместо газет теперь раскидывается и раздается революционный листок «Известия Советов рабочих депутатов»[168].
Электричества нет нигде: опять пришла лафа керосину и стеариновым свечам. «Известия» обещают полную забастовку всего, до магазинов включительно. Даже между докторами собирали подписку о забастовке.
21 октября, 11 часов утра. На улицах усиленное движение, но спокойно. «Правительственный вестник» опровергает сегодня действительно нелепую корреспонденцию, помещенную в «Русских ведомостях»; в ней сказано, между прочим, будто манифестантов шло 300 000; в действительности ни одна толпа краснофлажцев не превышала, пожалуй, и 1000 человек; нельзя же считать за манифестантов народ, теснившийся по всему Невскому! Националистов было и того менее. Неправ и «Правительственный вестник», говоря, что на всем Невском было 40–50 тысяч человек; прибавить ноль позади и будет вернее.
Вести идут самые революционные.
Но никто так дружно не ругает теперь царя, как консерваторы; вот человек! Нелегко приобрести такое расположение и своих и чужих!
18-го числа кучка манифестантов явилась в зал Консерватории и шумно потребовала прекращения спектакля. Произошел переполох, дамы падали в обморок, и спектакль вынуждены были прекратить. Оттуда «закрыватели» двинулись к Мариинскому театру; их встретил полицеймейстер и очень вежливо сказал им, что в театр толпой входить неудобно, так как может произойти паника, а пусть они выберут человек 10 и пошлют их в зал говорить с публикой. Те так и сделали. Надо заметить, что перед началом спектакля публика потребовала гимн и несколько раз повторила его — настроение, стало быть, было повышенное. Не успели депутаты кончить своего предложения, поднялась буря: раздались свистки, крики — вон, долой их! Стоявший ближе всех какой-то офицер принялся бить их ножнами шашки, и целая масса народа кинулась лупить злополучных закрывателей. Из лож летели в них стулья. Избитые депутаты едва нашли выход и исчезли. Весь театр стал требовать исполнения гимна, но музыканты, перепуганные начавшейся дракой, разбежались — кроме семи человек, и Направника[169], сидевшего на своем дирижерском месте. Направник тем не менее нашелся, подал знак поднять занавес и вызвал на сцену спрятанных за кулисами солдат-трубачей, те под его управлением исполнили гимн. Оперу не продолжали за исчезновением оркестра, и публика разъехалась.
6 час. вечера. Николаевский вокзал открыт и работает, электричество действует всюду. Есть вести, что здешний стачечный комитет постановил вчера — стать всем на работы с 12 час. сегодняшнего дня.
Движение по улицам очень большое: точно черные потоки лавы движутся по панелям. Всюду патрулируют усиленные разъезды казаков, конногвардейских полков и жандармов. Везде флаги, знаменующие (по полицейскому приказу) радость населения по случаю и-летнего юбилея восшествия на престол Николая II.
Министры уходят в отставку один за другим; остаются из старых только Ламздорф да Бирилев; первого-то бы следовало фукнуть, как следует. На место преподобных мощей — Победоносцева — в Св. Синод назначен кн. Оболенский[170], бывший генерал от питейных дел. Не по-русски: наш народ из церкви в кабак идет, а этого из кабака в церковь поставили!
10 час. вечера. Сейчас вернулся с Невского; порядок полный, и о каких-либо происшествиях не слышно. Обычной иллюминации нет и следа; только на 1-й Рождественской видел с десяток подвешенных перед домом на проволоке фонариков — вот и вся иллюминация в этой части города. Да и в этой половину задул какой-то проходивший пьяный мужик. Очевидно, домовладельцы опасались битья стекол и т. п. удовольствий в случае появления щитов, вензелей и им подобных обычных украшений.
Слова Крапивина о рубке людей на Конюшенной не подтверждаются: лупка была, а рубки другие не видали. Причина — нежелание толпы разойтись, несмотря на многократные требования.
Один пострадавший там мещанин со злобой говорил: «Свободу личности дали, ну а насчет спины, видно, распоряженья еще не вышло!»
22 октября. Высыпали как грибы все газеты и раскупаются нарасхват. Первые, действительно свободные №№!..
Трепову, принцу Ольденбургскому и им подобным достается жестоко. Есть описание стрельбы на Гороховой и в других местах; напечатаны между прочим и треповские приказы. Все это, конечно, не так страшно: надо помнить, что мы еще не привыкли к свободе, а гг. Треповы не привыкли к узде. Собака на цепи всегда сперва мечется; мечется теперь и предержащая власть в большинстве городов Руси. Это в порядке вещей. «Образуется», как говорят мужики!
В городе как будто ничего не происходило: звонят конки, торгуют, идут и едут люди.
Завтра готовится нечто грандиозное. Во всех газетах помещено извещение, вернее, опубликовано распоряжение разных комитетов, чтобы «тела всех борцов, павших за свободу», к 12 часам дня были доставлены к Казанскому собору, причем каждой части города назначен особого цвета значок; затем вся процессия должна двинуться оттуда по Невскому проспекту на Волково.
Забастовку решили прервать на 3 месяца, т. е., дали срок правительству сдержать обещания и проявить себя. По городу идет запись на получение от рабочего комитета револьверов Браунинга; каждый револьвер, стоящий в магазинах по 22 руб., будет выдан по 10 руб.; цель — вооружить в течение этих трех месяцев всех граждан для возможной революции.
Ходит упорный слух, будто к Петербургу идут английская и германская эскадры, каждая для охраны своих посольств.
23 октября. На улицах расклеены два объявления: одно генерал-губернатора, написанное весьма сдержанно и предваряющее, что похороны в том виде, в каком они предположены, допущены быть не могут. Другое от городской Думы, упрашивающее жителей быть благоразумными во время похорон.
Народа шло гибель; в и часов утра я уже стоял на левом крыле Казанского собора между колоннами и смотрел на площадь. На панелях Невского чернели сплошные стены людей; движение экипажей и конок, тем не менее, продолжалось совершенно свободно. Крылья собора и ступени тоже были полны народа; в сквере стояли и ходили небольшие кучки. В нескольких местах говорили какие-то речи; около фонтана вдруг над толпой взлетели на воздух белые листки, за ними взлетела другая пачка их, затем третья. Их жадно подхватывали, вырывая друг у друга.
По скверу бегало десятков пять уличных мальчишек; сперва они вскидывали вверх красный флаг с увязанным в него камнем, потом вдруг с криком «ура» шарахнулись в сторону; часть толпы из сквера перепугалась и бросилась бежать; я видел очень хорошо, как некоторые из этих же мальчишек обрабатывали карманы соседей.
Войск не было и признака, хотя в толпе и говорили, что окрестные дворы полны ими. На панелях, поодаль, стояла большею частью интеллигентная публика; в сквере и у собора, главным образом, фабричные и простонародье; студенческих фуражек виднелось с десяток, не более.
Стоявшие около меня уверяли, будто одних студентов было убито 60 человек.
Без десяти минут двенадцать внизу к нашему крылу подошла кучка заводских рабочих и громко объявила, что похорон не будет. Я сошел в сквер разузнать причину; никто, даже студенты ничего толком не знали. Одни говорили, что полиция ночью распорядилась похоронами, другие — будто рабочие сами отказались от затеи.
Я сильно промерз и отправился домой; панели Невского и углы улиц были полны публикой, главным образом, зеваками; порядок везде был образцовый.
Вернулся домой и узнал, что во всех газетах было помещено извещение от союза рабочих, что от проектированных похорон они отказываются, и шествия не будет. Удивительная странность: перед уходом я читал «Русь», но этого объявления не заметил; притом это произошло не только со мной, а и с три-четвертью обывателей Петербурга, заполнивших не только Невский, но и все улицы, по которым предположено было везти убитых.
Прочел сегодня о диком назначении; Дурново, этот заведомый палач, попал вдруг в министры внутренних дел!
Он — друг Витте, и Витте многим ему обязан, тем не менее такое назначение более, чем черт знает что!
А обязан ему Витте вот чем: Плеве был на ножах с последним, и наконец, Плеве удалось при помощи шпионов и документов установить несомненные связи Витте с революционной партией. В присутствии Дурново, Плеве имел неосторожность высказать, что песенка Витте спета, и теперь осталось немного: арестовать его и засадить в Петропавловку. Дурново сейчас же сообщил это Витте, а на другой день Плеве был убит. Дурново в качестве товарища министра тотчас же явился на его квартиру, опечатал кабинет с бумагами и «убрал» дело о Витте со всеми документами.
24 октября. «На Шипке все спокойно».
Газеты полны сообщений о кровавой гражданской войне, идущей по всей России. Во многих городах перевес уже за монархистами, кстати сказать, сплошь называемыми теперь «черной сотней». Революционеры хотели смешать их с грязью, дав имя, знаменовавшее не так давно простонародье, подкупленное полицией, но даже такие отчаянные монархисты, как Д. М. Бодиско[171], открыто приняли его.
Москва — шедшая во главе движения — избивает студентов и заподозренную в либерализме интеллигенцию. Некоторые города, не так давно еще требовавшие увода войск и замены их милицией, потребовали войска обратно для охраны от погромов.
Газеты, особенно «Русь», настойчиво требуют удаления Трепова, все упирая на знаменитый приказ его: «патронов не жалеть». Витте выступил его горячим защитником.
В заслугу Трепова ставлю вчерашний день, когда он предупредил грандиозное побоище: на Сенной площади собралась громаднейшая толпа торговцев и простонародья, к которым примкнула часть рабочих с заводов, и хотела идти к Казанскому, разгромить собравшихся туда на похороны «героев». Трепов послал войска, приказав не допускать их, хотя бы силой оружия.
25 октября. На улицах то и дело стали попадаться нищие, полиция не преследует их и вообще из рьяно-ретивой сделалась удивительно безучастной ко всему. Стоит, напр., городовой, перед ним начинается какой-нибудь скандал — он отворачивается и отходит в сторону.
Ларинская гимназия[172] опять забастовала. Мальчишки в ней устроили сходку и постановили требовать исполнения начальством целого ряда пунктов; между прочим, один гласит, чтобы гимназия управлялась не только директором, а и старшинами из гимназистов, начиная с 4-го класса. Занятия гимназисты сами постановили прекратить до января, о чем и уведомили родителей.
Эти «деятели», пишущие слово зеленый через два ять, мнят о себе теперь черт знает что; вообще анархия не только в учебных заведениях, но и в большинстве семей безмерная. Знаю примеры, когда эти, недавно надевшие штаны, революционеры осмеливались в пылу спора заявлять в виде угрозы своим родным — «Погодите, вот придет январь, мы вам покажем себя»!
На январь, как на месяц, в который должна произойти «настоящая» революция, указывают многие.
Я. Г. Мор
26 октября. Прекращены занятия еще в нескольких мужских гимназиях и в нашем Рождественском коммерческом училище[173].
Директор 6 гимназии Мор[174] расставил помощников классных наставников на улицах, ведущих к гимназии (она у Чернышева моста), для того, чтобы возвращать гимназистов с дороги; родителям он разослал довольно неграмотные извещения о том, что в настоящее время он не ручается за безопасность учеников на улицах и потому — находит лучшим временно прекратить занятия. Во многих гимназиях начальство советует учащимся ходить в штатском платье… Этот Мор славен своей глупой выходкой: во время всеобщей забастовки ученики среднеучебных заведений тоже устроили митинг, на который явился и он и громогласно заявил, что он приехал взглянуть, нет ли на митинге кого-нибудь из его гимназистов, и что таковой будет немедленно им исключен. Мальчишки, само собой разумеется, устроили скандал и выставили его вон.
Распространились тревожные слухи, будто Кронштадт весь в огне, и город бомбардируют форты и наши же военные суда. Причина — восстание, но где оно — в городе, или крепости, и кто по ком стреляет — разобрать нельзя.
Собирается забастовать для поддержки москвичей ресторанная прислуга.
Среди чиновников в министерствах большие волнения: ожидается увольнение чуть ли не половины их; это, конечно, несправедливо — следовало бы уволить три четверти!
27 октября. Вчера вечером Н. М. Яковлев передал мне по телефону, что вести о Кронштадте — правда: бунтуют солдаты и матросы, и туда на баржах послали войска. Газеты сегодня поместили ряд телеграмм и статей о Кронштадских событиях: погром там полный.
Петербург взволнован усиленными слухами о готовящемся на завтра еврейско-интеллигент<ск>ом погроме. Газеты твердят, что есть какой-то руководитель и организатор «черных сотен» и кивают на полицию.
Между тем я знаю истинного организатора, вернее, двух таких г. г. Один — автор монархически-патриотических брошюр, генерал Богданович, другой — прибывший из Москвы московский купец, устроитель особых московских черных сотен — Полторацкий[175]. Последний — невысокий человек, очень смиренной и скромной наружности (мать его, по его словам, грузинка) лет 40, с проседью. Впечатление производит скорее послушника, чем мирского человека, речь тихая, вкрадчивая.
Мой дядя — известный консерватор Дм. Мих. Бодиско, многих взглядов которого я не разделяю и с которым тем не менее часто видимся, так как оба не признаем нетерпимости, сообщил мне недавно, что он был на обеде у Богдановича и познакомился с Полторацким. Последний очень его заинтересовал, и они вели долгую беседу.
— Да, — сказал Бодиско: — я монархист, но я против Николая II.
— Плох он, плох… — тихо подтвердил Полторацкий. — А все-таки он царь. Надо его любить!
Разговор коснулся пропаганды Полторацкого.
— Вот-с как я ее веду… — начал своим вкрадчивым, размеренным голосом последний. — Приду на фабрику, на завод, а то и еще где беседование устраиваю. Покажу народу на красный флаг: братцы, говорю, скажите мне, знаете ли вы, что он значит?
Больше все — «нет» отвечают; другие «свобода», мол, «значит». Нет, говорю, не то: кровь он знаменует, кровь он зовет вас лить, братцы, своих же людей. А я к вам с крестом пришел… Вот так поговорю с ними, и знаете ли — сколько слушает человек, так все, всей толпой и крикнут: «За тобой идем! Долой красный флаг!» Сейчас мы подписку отбираем, клятву дают за царя стоять, старшин выберем.
Только мы не насилием, а словом действуем: такое обещание у нас, чтобы кровь не лить, разве уж защищаясь только!
Между прочим, у Полторацкого интересная фраза, что у них организована во дворце охрана, и, что бы ни случилось с царем — наследника они спасут и уберегут.
Сюда, в Питер, Полторацкий приехал с целью вести такую же пропаганду и среди здешних рабочих. В разных местах он устраивал уже митинги, мест и времени их не указывает и, видимо, не хочет, чтоб на них были даже единомышленники из другого круга. Это странно…
Производит он впечатление человека ограниченного, фанатика; я встретил его у Бодиско один раз, не знал даже, кто он, бесед с ним не вел, но мне почему-то показалось, что он должен быть раскольником.
Его девиз — крест, и слово «бить» не из его лексикона; думаю, что приезд его или только совпал с проявлением деятельности настоящей черносотенной сволочи, или же молва придала его пропаганде такой характер.
30 октября. Вчера ездил к себе в Кемере, по Финляндской жел.<езной>. дор.<оге>. Поезд был битком набит до того, что все 3 часа пути пришлось простоять на площадке с 6 пассажирами. Поразило меня обилие еврейских лиц; стал присматриваться — вижу, публика исключительно еврейская; говорить старается намеренно громко и только по-русски; студенчества среди них было изобилие. На каждой станции я выходил, желая узнать, куда именно стремилось это великое переселение, но ни в Перкиярви, ни в Териоках никто не оставался: все стремились в Выборг.
Дело в том, что наша красная печать уже несколько дней как бьет тревогу: все №№ газет выходили со всякого рода воззваниями, предостережениями, указаниями градоначальнику о готовящемся с 29 на 30-е (эка удивительная точность!) еврейско-интеллигентском погроме. По городу ходили самые невероятные слухи, будто еврейские магазины и квартиры отмечаются крестами; к дворникам будто являются неизвестные личности, выспрашивающие о составе жильцов дома и т. д.
Словом, все петербургское еврейство, начиная с четверга, ударилось в бегство, в единственную сторону, где рассчитывало на полную безопасность — в Финляндию, в ближайший город Выборг.
Что там происходило — узнал в тот же день вечером на обратном пути.
Вхожу в почти пустой вагон и вижу в нем опять-таки только несколько евреев; возвращение их в Петербург в ночь, назначенную для избиения, было странно. Я разговорился с ними и узнал причину. Выборг набит приезжими из Петербурга до такой степени, что нет ни №№ в гостиницах, ни угла в частных квартирах: все разобрано; в каждый № набилось по 2, по 3 семьи; вокзал переполнен теми, кому не хватило пристанища, до того, что спали ночь на стульях, на полу и даже просто на корточках, прижавшись спиной к стене. Тем не менее, каждый поезд из Петербурга приносил новые тысячи людей с детьми.
Возвращавшиеся со мной не могли вынести такого ада более суток и решили проскользнуть через Петербург и уехать на несколько дней, пока не успокоится все, в Вильну, где имелись у них родные. Магазины и квартиры бежавшие заперли и оставили пустыми на произвол судьбы. В Лесном паника доходила до того, что люди бросали все, захватив только детей, и бежали, как бы из горящих уже домов, позабыв даже запереть их.
Напрасно я убеждал, что все эти слухи вранье, пущенное какими-нибудь мерзавцами, что в Петербурге ничего подобного произойти пока не может — никто не намеревался даже заехать взглянуть на свою квартиру.
«И Бог с ней, и пусть все пропадет, только бы самим живыми остаться!» отвечали мне.
Прямо эпидемия паник!
Город, когда я ехал на извозчике, был пустынен (в половине двенадцатого ночи); извозчик рассказывал, что дома на Садовой все заколочены; то же и на большинстве окрестных улиц, где много еврейства, «людей как метлой вымело — одни кавалигварды да жандары ездят».
К бунту и разгрому в Кронштадте возница мой, лет ему на вид 35–40, относился очень неодобрительно.
«Ну погуляли день, а потом што? Под расстрел пойдут, да в каторгу на всю жизнь. Нет, это все студенты проклятые натворили!»
— Почему студенты?
«А так — на это их взять, людей смущать! А потом расстрел! Небось с красными-то флагами как ходили — сами не носили их, нашему брату, дураку, в руки совали, ну и носили их, куда хошь, за полтинник да за рупь!»
Высшие учебные заведения закрыты до января месяца.
31 октября. Гучков, один из отказавшихся от министерского кресла[176], сказал, что отказ их вызван тем, что Витте хотел сделать из них ширму, из-за которой намеревался управлять сам.
Всю ночь ездили и ходили патрули; «Русь» сегодня уверяет, будто почти всякое движение в городе к вечеру замерло; в 8 часов вечера я по Суворовскому вышел на Невский, затем поехал к Крапивину на Загородный просп. — народа везде была гибель, пожалуй, даже больше обыкновенного. Магазины и рестораны, правда, позакрывали щитами окна, но торговали. Врут вообще теперь газеты всех лагерей жестоко и беззастенчиво.
Любопытный факт: отец Иоанн Кронштадтский, пользующийся там страшным влиянием, во время разгрома города бежал…
1 ноября. На заводе С.<ан>-Галли произошло кровавое столкновение между забастовщиками и желавшими работать. Говорят, первые пострадали сильно, есть убитые.
2 ноября. В Либаве поймали какого-то несчастного чинуша, подозревавшегося в подстрекательстве к погрому; привели его во двор завода, устроили суд, и этот суд приговорил его к смертной казни, которая и была исполнена тут же выстрелом из револьвера. (Сегодняшний № «Руси»). В том же № «Руси» появилось сообщение от Совета депутатов рабочих, что они требуют отмены смертной казни над матросами Кронштадта и на основании этого, «сознавая свою политическую мощь», все рабочие в Петербурге с 12 ч. сегодняшнего дня забастовывают.
4 ноября. Заводы стоят, железные дороги тоже; из газет вышли только «Правительственный вестник» с новым манифестом о крестьянах и о сложении с них с 1 января 1907 г. выкупных платежей… опять опозданьице!
На Владимирской ул. разгромили окна огромной аптеки, не пожелавшей примкнуть к забастовке.
5 ноября. Возвращался домой в 2 часа ночи; стоял сильнейший туман; улицы казались погруженными во тьму, и только совсем вблизи неясно просвечивали сквозь него высокие электрические фонари. Окна магазинов забиты наглухо. По улицам, словно по громадным, темным ущельям, бродили патрули.
Рассказывали, будто где-то разграбили несколько квартир, но по Садовой, на Невском и на Бассейной, по которым я ехал, была полная тишина.
Э. С. Монвиж-Монтвид, только что вернувшийся из Харькова и Киева, утверждает, что погромы на юге были организованы полицией и властями. Весьма возможно; кому-кому, а им, жившим только произволом, разумеется, новые порядки не ко двору; конечно, без борьбы сдаться старая власть не могла, но все-таки как-то не верится мне в подлинность, например, одесских ужасов[177]. Что-то уж слишком 16-м веком пахнет!
По городу сегодня расклеены воззвания градоначальника, приглашающие давать мирный отпор группам забастовщиков, ходящим по городу, и тотчас же сообщать о появлении их полиции, которой даны надлежащие инструкции: тон уж несколько поднялся!
Забастовка в общем не удалась. Насколько первая была стихийная и дружная — еще небывалая в мире, настолько эта никуда не годная. Бастует, да и то частями, только Петербург; раздражение на эту забастовку чуть не всеобщее.
6 ноября. Часов около 4-х дня конки прекратили движение: на Васильевском острове что-то неспокойно, улицы полны хулиганами и рабочими; конки на окраинах, за Средним проспектом были забросаны камнями.
Возвращавшаяся около 9 часов вечера наша бонна с Литейного моста видела над Васильевским островом громадное зарево. Вечером по всему городу замечался усиленный наплыв фабричных; электричество то действовало, то вдруг все погружалось во тьму; на Невский проспект опять глядел прожектор.
6 ноября. Вчера начали работать некоторые дороги; газет все еще нет.
7 ноября. Вчера беседовал с Ф. К. Геккером (он же Ф. Плетнев — художник, получивший несколько лет тому назад 1-ю премию на выставке «блан и нуар»), только что вернувшимся с родительского совещания из Ларинской гимназии, где учится живущий у него уже 12 лет племянник.
Передаю рассказ его вкратце.
Вопрос, подлежавший обсуждению родителей, был — когда и как возобновить занятия, но его, разумеется, и не обсуждали, а по российскому обыкновению говорили обо всем, кроме главного.
Один из ярко-красных родителей предложил пригласить на совещание и старост; все согласились. Тогда встала какая-то дама и энергично воспротивилась этому, так как находила невозможным делать гимназистов свидетелями неурядицы и хаоса среди самих родителей. Согласились и с ней. Тем не менее, старост вызвали с тем, чтобы только выслушать их и узнать толком, чего хотят они.
Старосты явились — парни лет 16–17.
На предложение высказаться начали держать речи.
В общем, желания г. г. гимназистов таковы:
1) полная свобода в гимназиях;
2) предоставление им права выбирать учителей и устанавливать способ преподавания.
Т. е., в переводе на общепонятный язык, добиваются полного произвола. Что мальчишки воображают, будто они все знают и сами могут учить других — это понятно: такой период переживает каждый из нас; но что между родителями находятся люди, неспособные уразуметь всей нелепости таких требований — это удивительно!
В заключение отличился и директор. На вопрос той же дамы, «что же, будут или не будут заниматься в этом году», он ответил, что «старшие классы разрешили четырем младшим классам начать теперь занятия». Это «разрешили» — превосходно!
О Витте верного ничего не слышно; несомненно, что-то приключилось с ним, но что именно — неизвестно; толков о нем много: говорят даже, будто бы его хотели арестовать и даже был подписан приказ об этом… Во главе дворцовой партии, по слухам, стал новый главнокомандующий питерскими войсками — великий князь Николай Николаевич[178]. Человек он энергичный и настаивает на военной диктатуре; его поддерживают болгарско-российский мазурик гр. Игнатьев, Штюрмер, Стишинский[179] и Ко.<мпания>. Словом, начеку стоит новое министерство, готовое начать поливать Россию кровью.
Великий князь Николай Николаевич
Возникают русские союзы и общества, в общем в большинстве направленные к умиротворению страны. Первой появилась Партия правового порядка и др[180].
Укорял Д. М. Бодиско за манифест «Священного патриотического союза», написанный исключительно для черного народа и содержащий скверную фразу, призывающую охранять самодержавие. Охранять то, чего уже нет с 17 октября — нелепо, а призывать к охранению простой народ — значит призывать к резне.
Оправдывался, что не он писал манифест.
Конки опять работают.
Сейчас узнал, что за Невской заставой очень неспокойно: вчера там дело дошло до стрельбы, есть убитые.
Был сейчас Э. С. Монвиж-Монтвид и рассказывал о вчерашнем собрании редакторов.
Теперь любопытная минута: даже если бы кто-нибудь и желал выходить по-прежнему, с цензурой, — не мог бы этого сделать. Изданий в СПБ. — 250 (кроме газет); из них только 50 прислали своих представителей, да и тех почти половина пребывала в нерешительности и не знала, как быть с цензурным вопросом: махнуть ли рукой на цензуру, или вести дело по-старому.
Решительнее оказались наборщики; союз их прямо заявил, что они освободят всех от цензуры; собрание наборщиков постановило не набирать ничего, что будет иметь цензурную дату; те же типографии, которые не подчинятся, будут ими «сняты» с работы; на случай же артаченья владельцев, решили бороться с ними частными забастовками и на такой случай образовали фонд, куда уже журналы, издатели и пр. внесли около 15 000. Первая война будет с Каспари, издателем «Родины», жаждущим подчинения цензуре; вторая, посерьезнее, с вдовой Маркса, издательницей «Нивы»[181].
9 ноября. Был у А. Я. Острогорской-Малкиной, издательницы журнала «Юный читатель».
Муж ее, присутствовавший в воскресенье на «польском» собрании, рассказывал с негодованием следующее; в числе ораторов выступили и социал-демократы, и один из них заявил, что наша интеллигенция только примазывается к великому делу, произведенному рабочими, что она не при чем в нем, и смысл его наглой речи был — давайте свои двугривенные и убирайтесь вон. Много литераторов; со стариком Анненским даже сделалось от волнения что-то вроде обморока.
Раздражение против новых узурпаторов — самозваного и неведомого никому правительства — растет сильно даже среди либеральнейших кругов. Действительно — наглость его и его агентов начинает становиться чрезмерной!
Взять хотя бы способ печатания его лейб-органа «Известия совета рабочих депутатов». Ночью врывается в типографию (непременно имеющую ротационную машину) толпа вооруженных револьверами темных личностей, арестовывает находящихся в ней, берет самовольно бумагу и приступает к печатанию «Известий», которые затем увозятся на извозчиках. Так были напечатаны номера в «Сыне отечества», «Нашей жизни», «Руси», «Новой жизни» и др. Третьего или четвертого дня очередь дошла до «Нового времени» и там напечатали 7-й номер — и, вероятно — по крайней мере, таким образом — последний, так как «Новое время» опубликовало об этом происшествии.
Оно, конечно, курьезно, что Суворин напечатал 30 000 революционных листков, но, с другой стороны, такое насилие и грабеж непозволительны!
Брат Малкиной, А. Я. Острогорский, директор Тенишевского училища, рассказывал такой курьез. Являются к нему третьеклассники и просят разрешения собраться.
— Да ведь вы уже собралась, — отвечает он, прикинувшись не понимающим, в чем дело.
— Нет, это не то: мы хотим устроить митинг!
— Какой митинг, о чем?
— Поговорить хотим…
— Да о чем?
— О необходимости у нас демократической республики…
А. Я. рассмеялся и прогнал их.
На другой день приходит в класс, и на столе под тетрадью находит лист бумаги, а на нем надпись: «Александр Яковлевич — второй Трепов».
Кстати, о прокламациях.
Встретился на днях с капитаном I ранга Н. Дибичем — владивостокским героем: рассказывал, что экипажи прямо засыпаются этими листками; часть матросов в несомненном брожении, другая, — огромное большинство, — относится индифферентно.
10 ноября. Получил от книжников любопытное сведение о Максиме Горьком; дело в том, что сочинения его, продававшиеся раньше «как хлеб», по выражению торговцев, теперь совершенно не идут.
«Знание», товарищество, основанное им, начинает трещать[182] и над Горьким вот-вот разразится крах.
Это знаменательно! Посмотрим, что скажет тогда этот босяк, вспоенный, вскормленный и за уши вытащенный из грязи интеллигенцией, которую он обливает теперь помоями!
Погода серая, на улицах грязь. Нищенство везде усиленное и наглое. А. Беграмов и Д. Н. Бодиско, шедшие по Невскому пр., были остановлены одним из горьковских типов просьбою о милостыни. «Сегодня я прошу», заявил этот тип, «а завтра я у вас сам возьму!»
15 ноября. В Севастополе взбунтовавшиеся матросы выгнали от себя всех офицеров, но порядок поддерживается образцовый; ночью ходят патрули и забирают… безбилетных и пьяных матросов. Вчера в день рождения Марии Феодоровны устроили молебен, а после него парад, который принимал фельдфебель; словом, все идет, как будто там ничего не произошло.
Это не простой бунт, на него надо взглянуть поглубже!
Много разговоров возбуждает арест фельетониста «Руси» — Шебуева; забрали его и запечатали типографию «Труд» за выпуск и напечатание первого номера «Пулемета», шебуевского сатирического журнала[183]. Особо остроумного или интересного в нем нет ничего, и только на последней странице находится манифест 17-го октября с отпечатком на нем кровавой ладони и подписью: «генерал Трепов руку приложил».
«К сему листу Свиты Его Величества Генерал-Майор Трепов руку приложил». Карикатура из журнала «Пулемет», № 1,1905
Трепов скоро станет чем-то вроде тещи юмористических журналов прежних лет. Пора бы уж и забыть его!
Говорил с офицерами, только что вернувшимися с Дальнего Востока. Настроение армии, по их словам, злобное: солдаты и офицеры возмущены отношением к ним страны и происходящим теперь в ней.
17 ноября. Ходит везде слух, будто вел. князь Борис Владимирович стрелял в Николая и ранил его в плечо.
В Московском гв.<ардейском> полку происходило что-то вроде восстания; говорят об этом глухо, но со всех сторон. Тем не менее, гвардия считается более или менее надежной; лучшие круги общества настроены пессимистически. Причина — двуличие правительства: устраненных по дружному требованию общества разных господ, вроде одесского Нейгардта[184] и ему подобных, опять назначают в другие города губернаторами… Верят в близость диктатуры и даже предполагают провозглашение ее в эту субботу, т. е. послезавтра.
Вести из глубины Руси плохие — всюду сильно растет реакция и самая грубая — холопская.
Забастовал почтамт: злосчастные парии не выдержали-таки гнета этого ломброзовского типа — Дурново! Удивляюсь только изумительному долго терпению их!
18 ноября. Есть слух, что среди гусар и желтых кирасир неспокойно и будто бы в Царское передвигают семеновцев. Уверяют, что в первых двух полках произведено много арестов. Не в связи ли это с делом в. кн. Бориса — гусара?
Слышал повествование генерала Волкова, человека, честность которого, кажется, вне сомнения, о недавно умершем генерале Церпицком[185], герое войны. Повествование удручающее!
Неужели и впрямь нет честных людей на Руси?
В знаменитую китайскую «войну» грабительством занимались все, но особенно выделялись Стессель и Церпицкий, грабившие храмы, частные дома и увезшие целые возы драгоценностей из Китая. Церпицкий, ради выставления себя героем, жег мирные деревни и городки и о таких победах писал яркие реляции…
К. В. Церпицкий
19 ноября. Почтовая забастовка продолжается; она всполошила даже иностранные посольства. За этот год, можно сказать, мы прошли через огонь и воду и медные трубы: испытали, как жилось людям в XV веке в городах без фонарей, как они обходились без продуктов во время осады, видели войну на улицах, наконец, узнали, как жилось без дорог, без почты и телеграфа. Разорение принесла и несет последняя забастовка — страшное. Рента сегодня — 78. Такого курса не бывало и после Цусимы! Дисконт поднят до 8 проц. Золотая валюта висит на волоске. Все, кто имеет малейшую возможность, берут свои деньги и уезжают за границу: за какой-нибудь только месяц переведены туда десятки миллионов (в том числе и великими князьями).
20 ноября. Крестьянское движение растет. Разорение и истребление всего идет бессмысленное и беспощадное; у одного помещика, напр, вырезали весь конский завод, у другого перерезали и бросили в овраг 5000 баранов и т. д. Все бежит в города. Здесь проживающие помещики спешно уезжают в имения разорять их, т. е. продавать все живое и всю движимость, чтоб не совсем даром пропала она.
В министерстве земледелия получаются шифрованные сообщения о движении аграрных беспорядков, и впечатление от них такое: растет девятый вал.
22 ноября. Необыкновенно гнусные, темные дни. Опять начинают поговаривать о новой и близкой «мертвой» забастовке. Предполагается ее будто бы устроить на 6 недель и притом абсолютно всеобщую.
Почтово-телеграфная забастовка продолжается; забастовщики страшно возмущены тем, что у нас в Петербурге выступили добровольцы и разбирают вместо них письма. Любопытнее всего, что между этими добровольцами много студентов.
Доходящие со всех концов Руси вести нерадостны: в Киеве, Воронеже, Батуме — везде начались восстания войск — все это вразброд, все без связи и, конечно, безрезультатно.
23 ноября. Убит в Саратове генерал-адъютант Сахаров, посланный для усмирения аграрщины. Застрелен женщиной, объявившей, что она действовала по приговору социалистов-революционеров.
Положение сильно напряженное… живем точно на пороховом погребе!
И весь сыр-бор горит из-за одного человека, упорно не понимающего положения вещей! Из министров вреднейший — Дурново: все распоряжения, все действия его уничтожают по частям манифест 17 октября. Кой черт может тогда успокоиться и «верить» такому правительству?.. Больше месяца прошло с объявления свободы, и что же? — собрания по-прежнему начинают разгонять, председателей и делегатов арестовывают, высылки из города продолжаются и т. д., и т. д. Общество сильно винит Витте и право: если нельзя сломить дворцовую камарилью, то надо уйти прочь, не тянуть волокиты, чтоб общество ясно увидело, с чем имеет дело и приняло соответственные меры.
Курьез: вдова гофмейстера Софья Петровна Хитрово[186] обратилась к моей жене с просьбой найти лектора и устроить у нее в доме нечто вроде сообщения о происходящих событиях, причем общество будет исключительно, конечно, из высшей аристократии. Причина такого желания та, что аристократические дамы не могут читать теперь газет, так как почти ничего не понимают в них. «Там все такие слова… напр. автономия, эсдеки, эсэры, что это такое?» — нужно объяснить, словом, все жупелы гг. аристократкам. Некоторые из них даже схватились теперь за Добролюбова и спрашивают по знакомым: «Не знаете ли вы, где найти его?..» Такую плебейскую книгу в их домах сыскать, конечно, трудно!
Хитрово, имеющая свой дом на Песочной ул., переехала теперь на Сергиевскую — излюбленную улицу нашего «большого» света. Причина — боязнь близости фабрик и заводов.
На дверях почтамта вывешено объявление, что в услугах посторонних лиц почтамт более не нуждается. Это не значит, что почтовые чиновники вернулись к своим занятиям, а только то, что добровольцев и числившихся «кандидатами» на должности вполне достаточно.
Не вовремя забастовала почта! Примкни она ко всеобщей, прежней — получила бы все. Теперь же еще большой вопрос…
Удивительная разрозненность действий: забастовки, бунты — все это вспыхивает то здесь, то там, или преждевременно, или очень поздно и дает бить себя по частям. Нет Наполеона у нашей революции!
24 ноября. Видел А. И. Воскресенского. Спрашивал его, как обстоят дела у них в Царском Селе и в их гусарском полку. Вытаращил на меня глаза и сказал, что гусары спокойнее, чем кто-либо, и ровно никаких брожений у них не происходило.
И врут же у нас в Питере, могу сказать!
26 ноября. Несмотря на резолюцию почтовой сходки, напечатанной во всех газетах, о продолжении забастовки, она сорвана. Очень многие вернулись на работы, и почта действует.
На помощь бастующим двинулись рабочие и сегодня была на Почтамтской ул. перестрелка: рабочие не пускали ходивших на работу почтальонов; говорят, были убитые.
27 ноября. Пасмурно; такие же и толки кругом.
Газеты сообщают об аресте Совета рабочих депутатов. Сделали это совсем легко и просто… оказалось, что для этого требовалось только немного решительности, которую и проявил Дурново.
Общее недоумение и раздражение вызывает высочайшая благодарность, объявленная казачьим полкам за их верную службу против «внутренних» врагов. Это вызов; очевидно, близок последний бой с самодержавием. Впрочем, со дня смерти Александра III нет самодержца на Руси, а есть только самодержавные министры.
На сегодня всюду назначены собрания и совещания.
28 ноября. Нечто об о. Гапоне. С. П. Хитрово, попечительница какого-то приюта, рассказала мне следующее. Г. Гапон получил место в их приюте, причем ни нравственностью, ни воспитанностью не отличался. Любил покутить и несколько раз каким-то образом ухитрился попадать в спальню к девушкам. Однажды встретил на улице какую-то из них (воспитанницу приюта) и отправился с ней в меблированные комнаты. Об этом узнали и предложили ему оставить приют.
Г. Гапон, кончив служить свою последнюю обедню в нем, вышел с крестом на амвон и произнес очень резкую речь, в которой предлагал девушкам не слушаться начальства, не желающего им добра и т. д. Закончил речь еще более странным возгласом: «А кто любит меня, иди за мной!»
В тот же вечер девушка, бывшая с ним в меблированных комнатах, пропала. Впоследствии она приходила в приют в весьма жалком виде, беременная и брошенная Гапоном[187].
Дальше: С. П. Хитрово уверяла, будто 9 января Гапон в толпе рабочих не был — были переодетые в рясы студенты — а сидел он в Вольно-экономическом обществе, ожидая прихода депутаций, с тем, чтобы идти во дворец «за министерским креслом».
С. П. Хитрово — дама, во многом очень осведомленная и наблюдательная — высказывала предположение, что Гапон, по всей вероятности, незаконный сын митрополита Антония; он выделывал такие штуки, какие другому не сошли бы с рук. Между прочим, Гапон за нетрезво-развратное поведение отсиживал в черной келье — заменяющей тюрьму у духовенства, но выпущен был очень скоро, далеко не отсидев присужденного срока.
Газеты сегодня вышли только частью. У газетчиков есть лишь «Новое время», «Слово» и «П.<етербургский> листок».
29 ноября. Слышал от офицера военного телеграфа, как произошла в действительности история в электротехнической роте, перевранная газетами.
Электротехники поставлены так, как не снилось солдатам даже гвардейских полков, и потому петиция, поданная ими командиру об улучшении пищи и т. п., являлась простым результатом пропаганды.
1) Солдаты-электротехники свободны после служебных часов, и им не препятствовали заниматься частными работами, что давало им солидный заработок.
2) За работы во время забастовок солдаты получали по 2 руб. в день (по освещению города), унтера от 4 до 6, а офицеры по 14 руб.
3) Деньги эти, якобы задержанные их командиром (по словам их петиции), в действительности не были еще даже получены им от градоначальника.
4) Солдаты являются в этой роте, в сущности говоря, бесплатными учениками, по выходе из которой сейчас же получают прекрасные места по 60–100 и более рублей.
Вот такие-то молодцы (220 из 270) подали командиру, под влиянием агитатора-механика, заявление, в котором требовали исполнения в определенный срок всех пунктов (точно их не помню).
Командир обещал ответить, ушел и дал знать по начальству и градоначальнику.
В 5 ч. вечера (а не ночью), когда было уже темно, во двор бесшумно вошел батальон Павловского полка; с ним явился и сам командир полка несколько в нетрезвом виде и приказал командиру бунтовщиков «обезоружить» их.
Тот приказал вызвать к себе роту наверх, якобы для ответа, и когда те явились — нижние помещения, где стояли ружья, были заперты дневальными, поставленными из числа верных людей.
Наверху он заявил, что переговорит с ними на более просторном месте — во дворе. Ничего не подозревавшие бунтовщики стали сбегать с лестницы и попадали прямо в объятия павловцев.
Когда вся рота была окружена и арестована, ей выкинули матрасы и шинели и повели в Петропавловскую крепость, где и разместили в маленьком манеже.
С почтовой забастовкой неразбериха: газеты твердят, что она продолжается, между тем письма весь Петербург получает исправно.
30 ноября. От П. М. Кошкина, члена совета министра внутренних дел, слышал подтверждение разсказа Хитрово о Гапоне.
Гапон, как и Зубатов[188], оказывается, тоже получал содержание из Министерства внутренних дел и является никем иным, как провокатором.
1 декабря. Государь, здоров и весел. «Цветет», по выражению видевших его лиц. Толки о стрельбе в него и ране, тем не менее, держатся.
2 декабря. После полудня сегодня у газетчиков конфисковано 7 газет: в них помещен «Манифест» Совета рабочих депутатов, социал-демократов и т. д. Манифест предписывает бойкот государственных бумаг, бумажных денег, обратное истребование вкладов и т. п.
На Невском проспекте буквально нет прохода от всякого возраста субъектов, выкрикивающих и предлагающих каждый день все новые и новые юмористические журналы и газеты. Плодятся, как грибы, теперь!
Обложка петербургского сатирического журнала «Ворон» (1906)
4 декабря. Левых газет в продаже нет до сих пор. Вчера в редакции «Руси» мне сказали, что она выйдет на днях под другим именем; так же поступят и остальные 6 газет.
В ночь на сегодня произведено много арестов.
У газетчиков полиция отбирала разные юмористические журналы.
5 декабря. На улицах расклеены правительственные афиши, предупреждающие, что лиц, подстрекающих к забастовке, будут штрафовать на 500 р., или сажать в тюрьму на 3 месяца.
Газета «Русь» вышла под именем «Молвы»: прочел в ней правительственное сообщение, взваливающее вину за все происходящее только на крайние партии.
Цель этих сообщений — еще более разъединить общество, и в этом отношении Дурново ведет политику умело!
Огромная масса общества уже струсила и под влиянием забастовок и рабочих манифестов пошла на попятный; то и дело слышишь всюду нападки на революцию, уже именуемую «безобразием».
Да, свобода нам действительно еще «не к рылу», как выразился один мой приятель!
Слышал сегодня толки, будто Семеновского полка офицеры, «запретившие» недавно «Руси» писать что-либо о них, явились третьего дня в редакцию этой газеты и перепороли розгами всех, начиная с Алексея Суворина. Кто только пускает такие утки?
7 декабря. С часа на час ждем новой всеобщей политической забастовки. Финансовое положение многих ужасное; рента, хотя биржевые бюллетени, составляемые казенными маклерами, показывают ее в 79–80 р., на самом деле уступается по 60. Банки дают под заклад ее только по 25 р. Разорение будет полное, но лучше пройти и через него, только поскорей был бы какой-нибудь конец!
От Л. В. Крапивина слышал нерадостные рассказы. Это отставной штабс-капитан, отказавшийся стрелять по толпе и самовольно бросивший полк, и за это попавший под суд.
Теперь он бедствует, живет в углах с рабочими на Шлиссельбургском тракте и постоянно вращается в их кругу.
Настроение среди рабочих, несмотря на все уверения газет — плохое; «жрать нечего» — это выражение Л. Крапивина я слышал не раз и от других лиц.
А тут еще праздники на носу, и всякий думает о лишнем гроше. Вдобавок, начинается возмущение против своих депутатов: вышла какая-то темная история с деньгами, которые собирались с рабочих в видах самопомощи.
Правительство играет в пятнашки: каждый день ловят и отбирают то № газет, то еженедельных журналов; вместо них появляются десятки новых, опять с остервенением накидывающихся на ловителей и т. д. без конца.
8 декабря. Объявлен бой: в 12 ч. дня назначена всеобщая забастовка. Лавки полны покупателями. Ночью арестован в типографии номер 3 «Северного голоса». «Молва» («Русь»), «Набат» («Русская газета»), «Наши дни» («Сын отечества») — полны резолюциями разных обществ и комитетов и так вызывающи, что наверное конфискуют и их.
Оружие (револьверы) припасено в каждой семье, но оно хорошо только против хулиганщины.
Полчаса седьмого вечера. Электричество у нас на Песках горит; в частных квартирах на Невском потухло в 3 ч. дня.
У газетчиков отобраны все юмористические журналы. Правительство круто повернуло на путь Плеве.
Из Кронштадта, для работ на электрических станциях, привезли минеров; на Морской, тем не менее, темнота.
Рисунок из сатирического журнала «Девятый вал» (Петербург, 1906)
10 декабря. На вокзалах везде войска. Вчера ездил вечером в Царское Село и вернулся около 2 ч. ночи. У всех дверей внутри вокзала стояли часовые-семеновцы. Электричество на улицах всюду работало исправно. На Загородном проспекте обогнал низкий, длинный фургон с вентиляторами на крыше и маленькой решеткой в верхней части двери, везший арестованных. Четверка добрых вороных коней довольно быстро везла этот странный экипаж плевенского изобретения, обращавший на себя внимание прохожих.
В городе вакханалия арестов. Из газет вышли только «Новое время» и «Свет». Двор типографии первой полон «охраняющими» казаками. На Васильевском острове вчера были кровавые столкновения рабочих с казаками и полицией, но в городе спокойно, и жизнь идет обычной чередой. Настроение у думающих людей смутное, подавленное: успех забастовки висит на волоске…
Москва бастует дружно и сильно; к ней примыкают другие города, и только у нас дело не клеится. Союзы разных профессий заседают усиленно, но надежда на хороший исход плохая: слишком безучастно у нас большинство!
Сегодня на Аничковом мосту несколько подростков продавали газеты и выкрикивали: «Новая финансово-политическая газета — Виттова пляска! Витте пляшет, Трепов барабанит! Витте пляшет, Трепов барабанит!»
Публика улыбалась и раскупала листки.
Забастовали гимназисты; сегодня кучки их ходили и закрывали женские гимназии. Союз учителей тоже постановил прекратить занятия.
11 декабря. Из Москвы доходят ужасные вести: там баррикады и форменная война с пальбой из орудий включительно. Это безнадежно! Вооруженное восстание одной толпы, без войск, немыслимо! Теперь не XVIII век; перед современными орудиями всякие баррикады пустая мечта!
Наша питерская забастовка ползет врозь: бастуют только рабочие на заводах кругом города, в городе же жизнь идет нормальной чередой.
На Митрофаньевском кладбище сегодня хоронили убитого молодого рабочего; толпа в несколько тысяч человек провожала его. Кладбище было полно войсками и полицией.
Как тревожно население окраин, показывает следующее: жена, ездившая на могилу матери, купила для посадки несколько елок; понес их сын хозяина ларька, где продаются венки. Парень разсказал жене, что они открыли один из склепов, снесли туда самовар, углей и кое-что из вещей и при первой тревоге всей семьей хоронятся туда. Уверял, кроме того, будто бы на кладбище рабочим доставили несколько возов оружия.
12 декабря. Нужда среди рабочих ужасная; многие семьи голодают, и, продлись еще забастовка — между самими же рабочими может вспыхнуть резня, так как бастовать желает только значительное меньшинство.
В газетах было помещено много писем от желающих на время забастовки кормить у себя на дому детей рабочих, но на эти призывы отклика нет. Во-первых, неудобно посылать детей за десяток верст, а во-вторых, рабочие не хотят этого из гордости.
Архангельская, одна из заведывающих столовой для бедного люда около Смольного, передавала тяжелые наблюдения; к ним в столовую приходит много изголодавшихся людей, главным образом, детей и женщин. Рабочие не могли бы, даже если б хотели, посылать в город своих ребят, так как не во что одеться, и рваные одежонки надеваются детьми по очереди.
Василеостровский бесплатный питательный пункт (фотография из журнала «Нива», декабрь 1905 г.)
Все взгляды забастовщиков устремлены были на Николаевскую жел. дор. — забастуй она, и весь город стал бы! Но она примкнуть отказалась: все главари и деятели прошлой забастовки схвачены и арестованы, и руководителей нет у нее.
Аресты продолжаются без конца.
По случаю объявленной 17 октября «свободы» все собрания разгоняются; разогнано было даже такое, как «Женского взаимного благотворительного общества», где бывают только женщины и совещаются об устройстве школ, чтений и народных столовых.
В позапрошлую субботу арестовано на митинге около 200 чел. боевой организации; бездействие Петербурга понятно…
Газет, кроме «Нового времени», по-прежнему нет. Это большая ошибка. Точно нарочно предоставили монополию суворинщине распространять свои идеи возможно шире! Поневоле теперь все покупают эту газету, чтоб узнать, что творится кругом.
Сейчас слышал подтверждение рассказа (вчерашнего) об убийстве на Шлиссельбургском тракте околоточного надзирателя.
Группа рабочих, человек около 300, собралась около одного дома слушать оратора. В это время явились казаки и околодочный надзиратель и арестовали говорившего; когда его увели, показался другой околодочный — очень нелюбимый в тех краях. Толпа бросилась на него; он побежал и вскочил на проходившую мимо конку; рабочие, выламывая на бегу колья из палисадов, помчались за конкой. Бывшие впереди, услыхав крики: «Держи конку», остановили ее, — опустив шлагбаум; рабочие ворвались в вагон, выволокли отстреливавшегося из револьвера околоточного на тротуар и измолотили его насмерть. Остервенение было так велико, что даже стенка вагона разнесена ими вдребезги. Дикая расправа эта происходила в нескольких саженях от окон квартиры Новиковых, видевших и сообщивших мне о ней.
13 декабря. Вчера на окраинах происходили мелкие стычки рабочих с войсками, есть убитые и раненые.
Из Москвы идут странные сведения. Там целый корпус войск и вот уже сколько дней не может одолеть восставших — очевидно, правительственные сообщения не точны, как всегда. Второе: в «битвах» принимают участие только казаки, драгуны и артиллерия — про пехоту не упоминается. А между тем в ней перед самым восстанием были бунты. Где же, на чьей стороне теперь она?
Вечером вышел № «Молвы».
14 декабря. Аресты без конца. Полиция запечатала 38 типографий. В Москву сегодня уходит экстренно вызванный Семеновский полк: стало быть, положение войск там не из блестящих. Бой на улицах Москвы продолжается.
В центре Петербурга спокойно, но с окраин идут тревожные вести. На Выборгской стороне, напр., казачьи разъезды стреляют даже по небольшим группам людей, совершенно к движению непричастных. Были убитые и раненые.
Внимание всех приковано к Москве; у нас ждут беспорядков 9 января, на день годовщины массовых убийств. В 9 января не верю: если ждать чего — то лишь весною! С юга к нам идет чума, на борьбу с которой мудрое правительство наше назначило 9000 р., тогда как разные гг. Дурново на «подъем» с одного места на другое получают по 40 000. Чуть не во всех губерниях надо ждать голода; промышленность остановилась и частью прекратилась совсем.
Положение рабочих отчаянное. Немногим лучше у других — не чиновников. Журналы, напр., сотрудникам уже не платят, так как подписчиков нет абсолютно. Даже такой ходкий прежде журнал, как «Мир Божий»[189], до сих пор не имеет ни одного. Под заклад вещей ломбарды дают гроши — менее половины того, что давали за те вещи раньше. Продавать что-либо — немыслимо, так как предложений много, а желаний купить нет совершенно.
Городской питательный пункт для безработных и увечных на Обводном канале (фотография из журнала «Нива», декабрь 1905 г.)
16 декабря. Москва воюет и расстреливается артиллерией. Адмирал Дубасов[190], генерал-губернатор ее, способен всех мирных москвичей превратить в боевиков-революционеров: пушками разбивают дома, откуда был хотя бы один выстрел и где живут сотни неповинных людей; жарят шрапнелью по всякой толпе без разбора, открывают ружейную стрельбу по кучкам в 3 человека, по глядящим в окна женщинам и т. д.
В центре Питера тихо и ожидать чего-либо скоро нельзя. Аресты продолжаются.
На окраинах, особенно по Шлиссельбургскому тракту, голод; среди рабочих раскол, так как большинство хочет стать на работы; вожаки все арестованы.
Телеграммы изо всех городов приносят вести о бесконечных арестах. Хватают всякого, зря, по-старому — до выяснения причин.
25 декабря. Революция подавлена… пока что, конечно! Пишу эти строки в Кемере. Из Петербурга и со всей Руси вести прежние, темные: повальные обыски, аресты и даже расстрелы.
Дурново и к-о<мпания> торжествует.
Разумеется, ни одно государство не потерпело бы ни баррикад на улицах, ни «манифестов» вроде выпущенного рабочими, но ни одно государство и не истребляло бы так бессмысленно-жестоко людей, как у нас, и не надругивалось бы со своей стороны над своими же законами.
У меня в Кемере скрывается в настоящее время один из членов первого Совета рабочих депутатов — рабочий Семянниковского завода Н. Ф. Климчинский. Он был изрублен 6 ноября казаками; по выходе из больницы Э. К. Пименова (писательница) направила его ко мне.
Это огромного роста человек, лет около 30, из крестьян Могилевской губернии, брюнет. Лицо умное, с глубокой складкой между бровей. На коротко остриженной голове у него краснеют три больших еще свежих рубца; кроме этих трех ран, у него было прикладами сломано 2 ребра, и перенести такое избиение могла только подобная железная натура; раньше он подымал 18 пудов.
Среди боевой организации зародилась мысль овладеть Кронштадтом.
Сперва у нас опаздывало во всем правительство, теперь начинает опаздывать революция!
31 декабря. Реакция торжествует по всей Руси.
Петербург готовится к выборам в Государственную Думу.
Наступающий год встречаем мрачными глазами. Много еще должно пролиться крови и разориться людей, прежде чем настоящий мир воцарится на русской земле!
1906 год
28 марта. Три месяца не прикасался к этой книге. Чуть не повальные обыски и бесконечные аресты, идущие и посейчас в Петербурге, заставили меня увезти ее в Кемере и хранить там, подальше от жандармских рук.
Несмотря на все ухищрения Дурново и Витте, несмотря на аресты, запрещения собраний, расстрелы, провокацию и всяческие приемы такого рода — одолела конституционно-демократическая партия: в Питере в выборщики прошли только ее кандидаты и почти во всех городах тоже[191]. Успех неожиданный!
В день выборов в Питере было очень оживленно: у Соляного городка, куда направился и я, как житель Рождественской части, с 9 ч.<асов> утра толпа. Распорядители были столь умны, что для входа и выхода многотысячной толпы предоставили только одну дверь, так что давка происходила, как на пожаре — одна волна втискивалась в здание, другая опрокидывала ее.
Я пришел к десяти часам. У входа раздавали разные черносотенные воззвания и глашения голосовать за Партию правового порядка; — раздатчики левых партий, даже кадеты допущены не были, и воззвания последних отбирались и уничтожались полицией.
Огромный сарай, предоставленный для выборов, имел вид собачьей выставки, где у стен, за черными решетками, как в клетках, сидели за столами приемщики. Над каждым столом возвышалась палка с буквами алфавита и №№, по которым должны были разделяться податели голосов. В загонах сидело по три приемщика; один принимал повестку и опускал ее в «урну», имевшую вид огромного почтового ящика, густо вымазанного сажей; сидевший посредине отмечал в книге фамилию. Я подал голос за «кадетов», перед самыми выборами переименовавших свою партию более понятным для массы образом — в Партию народной свободы.
Оправдает ли она наши ожидания??..
Несмотря на драконовые меры не только против редакторов сатирических изданий, но даже и против типографий, печатавших их, — число последних дошло до безумной цифры: с 17 октября вышло более шестидесяти названий. Их конфискуют, жгут, режут, а они растут себе, как ни в чем не бывало.
4 апреля. Ждали к Пасхе амнистии политическим заключенным, число которых, по официальным сведениям, свыше 70 тысяч, и ничего не дождались. В насмешку говорили, что амнистия будет дана только устроителям погромов!
На смену нам идет совсем другое поколение. Кто из нас в детстве имел понятие о забастовках, политических ссылках и т. п.? Теперь дети, даже у родителей, намеренно скрывающих от них все творящееся на Руси, — играют в забастовки, в митинги, с жадностью хватают газеты, так бесконечно скучными казавшиеся нам в 10–12 лет. напр., девочки в нашем коммерческом училище играют в митинги, и когда старшие являются угомонять возню, то пресерьезно отвечают, «как же быть — мы играем в митинг, надо же нас разгонять!»
Грошовые социальные брошюры идут нарасхват и покупаются, главным образом, подростками и рабочими. Кто в наше время в 12–13 лет променял бы Жюля Верна на Маркса и Майн-Рида на Бебеля?!
20 апреля. Напряженно ждем Думу. А пока что — лупят нас нагайками, разгоняют даже самые невинные собрания и усиленно обыскивают. Такой свободы давненько, со времен Грозного, не было еще на Руси!
Жена недавно была на одном из обычных, исключительно дамских, так называемых «воскресных» собраниях общества попечения о молодых девицах. Никакой политики это общество не касается; тем не менее, к ним пожаловал некий чин с оранжевыми кантами и весьма развязно уселся среди дам слушать их разговоры; возмущенные дамы отомстили ему тем, что сейчас же очистили места близ него, а хозяйка дома — (собрания эти происходят поочередно у дам-патронесс на квартирах) приказала обнести его чаем. Чин, однако, этим не смутился: кожа на них высокой выделки!
21 апреля. Пропаганда среди войск идет усиленная. Социал-демократы издают специальную газету для них «Казарму»[192], конечно, нелегальную. От членов военной организации их слышал, что Кронштадт настолько опять подготовлен к восстанию, что боятся, как бы не вспыхнуло оно у них преждевременно. Из питерских войск очень надеются на преображенцев, за исключением какой-то одной, кажется, царской роты, и на Петропавловский гарнизон. В Царском, Гатчине и др. окрестностях солдаты начинают устраивать митинги и, видимо, пробуждаются… Предание свежо…
Много говорят и пишут в газетах все эти дни о пресловутом Гапоне. Окончательно выяснилось, что за гусь и какую скверную, хотя все же еще загадочную, роль играл он в деле 9 января. Он действовал на два фронта и увлекался и там и тут.
26 апреля. Опубликованы «основные законы», — вернее, последние судороги самодержавия. Кем надо быть, чтобы придумывать и издавать новые законы чуть не за день перед Думой?..
На этих днях ушли в отставку Витте и Дурново, а с ними и прочие министры. Дурново в награду за труды получил 200 000 р.
По Питеру ездят и ходят войска, как перед генеральным сражением; вокзалы переполнены солдатами и жандармами; обыскивают пассажиров без стеснений, и на днях обыскали даже нескольких депутатов.
27 апреля. Вот и великий, долгожданный день! На улицах флаги, но праздничного оживления не заметно. Фабрики все работают. На углах улиц белеют плакаты, объявления нашего остроумного градоначальника, распорядившегося прекратить движение по двум мостам через Неву.
Вышел на Невский; народа даже меньше, чем в обыкновенные будни. Только на углах Морской, да под аркой штаба толпились небольшие кучки любопытных; ни к Александровскому саду, ни на Дворцовую площадь, ни по Мойке не пропускали никого. Постоял несколько минут под аркой, посмотрел на красную и белую линии казаков и кавалергардов, выстроенных перед дворцом, и пошел обратно. Во дворце происходил в это время прием Думы.
Депутаты I Государственной Думы у Зимнего дворца 27 апреля 1906 г.
6 ч. вечера. К 4 ч. члены Думы съехались в Таврический дворец. Войск и полиции нагнано было к нему вдвое больше, чем публики; толпа стояла все же весьма порядочная; преобладало студенчество, курсистки и интеллигенция. Чувствовали себя все чрезвычайно свободно и вскоре начали задирать войска: раздались свистки, крики «долой» и «прочь», словом, начался было скандал, и только появление обер-полицеймейстера, обещавшего удалить войска, успокоило толпу. Войска, действительно, сейчас же ушли, и публика взялась под руки, устроила цепи и успокоилась. Какой-то министр хотел подъехать к самому дворцу в карете; раздался вой, лошадей ухватили под уздцы и заставили его высадиться и шествовать пешим манером. Члены Думы пробирались гуськом, кланялись, жали тянувшиеся к ним руки; их встречали и провожали аплодисментами и криками: «Амнистию, амнистию!» Более всех оваций выпало на долю Родичева[193].
Речь Николая II к депутатам I Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца 27 апреля 1906 г.
10 ч. вечера. От бывших на приеме во дворце слышал, что государь тронную речь свою, состоящую всего из трех-четырех фраз, читал по бумажке; Мария Федоровна выглядела презлющей, молодая императрица сидела вся пунцовая, и обе, не досидев до конца, удалились. Богатая, хотя не подновленная и грязная, обстановка особого впечатления на депутатов-крестьян не произвела. Вообще все выборные были очень сдержанны и скорее угрюмы: значит, чувствуют, какая ответственность перед избирателями лежит на них! Один крестьянин глядел, глядел на раззолоченный мундир какого-то придворного и сказал вполголоса: «ежели б с одного его зада золото снять — две деревни цельный год прокормить хватило бы!»
30 апреля. Об амнистии по-прежнему ни слуху, ни духу. Дума собирается, газета членами ее издается, но ни о каких решительных шагах не слышно…
К 1 мая заготовляют войск больше, чем их действовало в Ляояне у Куропаткина. На войне пулеметы у нас отсутствовали, а теперь чуть ли не на каждого жителя по такой штучке найдется! На Троицкий мост и набережную Петерб. стороны наведены со стены Петропавловки два вновь взвезенных орудия. Отечески пекутся у нас о спокойствии народа!
Б. Кустодиев. Первомайская демонстрация у Путиловского завода (1906)
2 мая. Первое мая прошло мирно; заводы, конечно, не работали; в городе процессий не было, и только огромная толпа рабочих в красных рубахах и с красными флагами прошла из-за Невской заставы на Преображенское кладбище, к могилам жертв 9 января.
Ухлопали командира Петербургского порта, сильно жавшего рабочих и вообще слишком геройствовавшего среди подчиненных; убито и несколько рабочих, главарей черносотенцев, свирепствовавших на Семянниковском заводе.
Слухи о смерти Гапона подтвердились: тело его нашли на пустой даче в Озерках; он висел на веревке, и вскрытие показало, что он был повешен живой; тело его сильно разложилось, но лицо можно узнать, и факт установлен окончательно… Кто убийцы — неизвестно, хотя в газетах помещено было заявление боевой организации о том, что Гапон приговорен ею к смерти, и что приговор приведен в исполнение[194]. Заявлению этому почти никто но поверил, и считали его простой мистификацией. Вот и новая интересная тема для газетного романа!
Дума еще заседает, только надолго ли? Дворцовая камарилья уже точит на нее зубы.
Заседание Государственной Думы
5 июня. Понемногу ухлопывают на окраинах черносотенцев. Опять берет верх революционная партия, задавленная было арестами. На заводах происходят курьезы. На Семянниковском, напр., черносотенцы доведены до такого перепуга, что по малейшему окрику приносят свои значки — «истинно русских» людей и револьверы — по большей части скверные. Любопытно, что на квартирах двух убитых — Лаврова и Снесарева — главарей черносотенцев и страшилищ целых районов — рабочими обнаружены склады награбленных ими кошельков, часов, шапок и т. п. У одного напр., — у Лаврова, отыскано было 40 кошельков, 17 часов, 25 шапок. Эти франты со своими шайками с начала репрессий занимались везде на окраинах, под видом обысков, грабежом прохожих. Управы на них, кроме самосуда, никакой не было.
Настроение в общем, как перед грозой — душно, дышать хочется!
7 июня. Беседовал со многими издателями и вот неожиданное сообщение их: книжный рынок пресытился, словно захлебнулся тем страшным количеством книг и брошюр, что выбрасывается на него теперь ежедневно. Перестали даже идти разные социальные брошюры — еще так недавно нарасхват разбиравшиеся публикой. Мы пережили период книжной вакханалии: печать вырвалась из проклятых лап цензуры и закрутилась, как дервиш в пляске. Одно время книги, особенно брошюры, шли поразительно бойко; теперь «стали» и они. Казалось бы, при таком спросе, издательства и бумажные фабрики должны бы были процветать, между тем явление получилось обратное: все жалуются на упадок дел — даже газеты, поглотившие теперь все внимание публики. Причина проста: фабрики в большинстве случаев отпускают бумагу в кредит, иначе они стали бы совсем, так как наличных денег теперь сильно поубавилось на Руси; издательства берут в кредит и печатают; но продать теперь можно только что-либо очень резкое, и книги по выходе в свет весьма скоро конфискуются полицией. Результаты ясны. Газеты, несмотря на страшный спрос на них, в железных тисках и держатся только продажею в розницу в С.-Пб. Дальше их не выпускают: конфискуют или в почтамте, или же целыми тюками на местах получений. Даже дела такой распространенной газеты, как «Наша жизнь», висят на волоске; юмористические журналы поумирали уже почти все, а с 17 октября выпрыгнуло их в свет около 80.
Приезжающие из провинций рассказывают об особом роде нищенства, распространившемся на Руси: на станциях бабы, подростки и мужики выпрашивают у проезжих «газетку»… И это у нас, на России! Основательно же пробудил нас японский приклад!
20 июня. Беседовал с Д. М. Бодиско, только что вернувшимся из своей Тульской губернии. Он, еще недавно уверявший меня в глубоком монархизме крестьян, рассказывал, и не без горечи, что слово «царь» теперь мертвый звук для народа. Мертвый потому, что народ раньше рассчитывал, что царь и никто другой даст ему землю, теперь же все упования свои перенес на Думу. Потрунил я над ним. Царь-то у нас совсем как некрасовский барин, которого «все нету», который «все не едет!»
1907 год
30 мая. Кемере. В Петербурге открыли опять все игорные дома, в изобилии высыпавшие за последний год. Градоначальник было закрыл их, но сердце не камень и против предложенных 100 000 не устояло. Один Купеческий клуб за право сохранения азартных игр заплатил 20 000.
4 июня. Вторая Дума распущена[195].
Известие об этом привезла в Кемере К. Н. Новикова. Колония наша всполошилась. Питер равнодушен; если б не разъезды жандармов и казаков на улицах — и подумать нельзя было бы, что случилось нечто незаурядное.
8 июня. В Питере аресты и обыски без конца. Волнуется и бурлит молодежь, а громадное, подавляющее большинство взрослых людей, «публика» — почти равнодушно. Кто устал от политики, кому наплевать на все, кроме загородных садов и кабаков.
В. Л. Бурцев
18 июня. Вчера приезжал и сегодня уехал В. Л. Бурцев[196] — один из редакторов «Былого».
Немного выше среднего роста, худощавый, с несколько остроконечною головою, покрытой вихрами седоватых волос, человек этот находится в вечном младенчестве: идеалист, доверчивый, наивный, он производит на незнающего человека несколько странное впечатление. Встречался я с ним несколько раз в редакции «Былого»; человек он искренний и простой.
В этом году он заработал около 12 000 рублей и много отдал на дело революции, но еще больше разобрали у него приятели, т. к счета деньгам он сам вести не умеет. Ходит всегда неряхой и имеет вид человека, не успевшего вымыться; сегодня с увлечением занимался рыбною ловлей, причем стоял на мостках на солнцепеке без шапки и в сюртуке, без воротничка и манжет. Рассказывал об идее устроить музей революции, и что многие уже деятельно собирают материалы для него; рылись мы с ним и в моей библиотеке.
25 июня. Прибегал Бурцев — приехал погостить к Яковлевым (Богучарским). Страшно увлекается рыбной ловлей, сидит целыми часами на мостках и удит каких-то злополучных окуньков. Червей у них на участке нет и он прибежал ко мне за червями, ползал на коленях, в вечном своем сюртуке, по навозу и ковырял в нем палкой, уверяя, что предложенный мною для этой цели нож — не поэтичен.
Насмешил он нас с Яковлевым: последний — страстный охотник и возился при нем с ружьем; Бурцев и говорит: — послушайте, уберите эту штуку — я, как истинный террорист, весьма боюсь ее!
В этом шутливом замечании сказался весь Бурцев. Чем больше присматриваюсь к нему, тем прочнее убеждаюсь, что это настоящее, хотя и седеющее уже, дитя.
Между прочим: у него не хватило червей для ловли и он на крючок стал насаживать кусочки копченой колбасы; я ему советовал для успеха нацепить на другой крючок рюмку водки; сумасшедших окуней, к большому его сожалению, в нашем озере так и не оказалось.
Териоки. Вид вокзала в 1900-х гг.
10 июля. Вчера ездил в Петербург. Народу, по обыкновению, в поезде была гибель. Териоки теперь в некотором роде черта оседлости разных приговоренных к крепости редакторов, издателей и т. и.
На вокзале видел Бурцева, присяжного поверенного Маргулиеса[197] и др. Последний, чтоб пройти в Думу, вздумал создать новую партию, «радикальную».
Присутствовал раз и я на собрании этой партии, послушал разных «товарищей» и ораторов и написал об этих карикатурах в «Руси». Единственный настоящий говорун в этой «партии» был Маргулиес; говорит он хорошо, но особого впечатления произвести не может: глубины нет. Затея его, конечно, лопнула, и в последнее время, когда он являлся на какое-нибудь собрание, его приветствовали: — «А, вот и вся радикальная партия пришла!»
Вчера же был очевидцем грабежа, или, как принято теперь выражаться по-модному, — экспроприации.
Иду днем домой — по Суворовскому проспекту и вдруг слышу на 7-ой Рождественской сухие удары молотков по доске, затем крики: вижу, народ бежит к углу со всех сторон. Поспешил и я и увидал, что по направлению к Греческому скверу летит четверо людей; навстречу им выскочило двое городовых и двое же гнались за ними; убегавшие отстреливались, очевидно, из браунингов; дыма видно не было, а слышались только удары; одного из убегавших, здоровенного верзилу, поймали, остальные исчезли; несмотря на усиленную пальбу, ни раненых, ни убитых не было.
Против нашей квартиры, у чайного магазина Парамонова, толпилась публика; одно из окон его было разбито. Оказалось, что грабители вошли в магазин, выхватили револьверы и велели горбатенькой старушке-хозяйке подать деньги.
Она открыла конторку, вынула оттуда железную коробку с медью и, нежданно, запустила ее в окно. Стекла посыпались на тротуар и к магазину бросились любопытные.
Грабители в перепуге метнулись вон, успев захватить лишь сверток с 50 копейками.
16 июля. 14-е и 15-е числа провел в Петербурге.
Был, между прочим, в «Труде», книжном магазине на Невском, смотрел новинки. Декадентщина вытеснила в настоящее время все другие книги.
Кликушество и порнография — вот что теперь заполонило и журналы и книжный рынок. Любопытно, что чуть не все поголовно ругаются и смеются над корифеями этой марки, а… покупают только их! Одни объясняют такие свои покупки тем, что надо же быть в курсе современных течений в литературе, другие — модой и любопытством.
На вопросы мои, что требует и читает теперь провинция, сообщили, что провинции это течение пока не коснулось и что декадентщина оттуда не требуется. Купил несколько конфискованных книг для своей библиотеки[198]; продаются они, конечно, совершенно открыто и грозное когда-то слово «конфисковано» — в настоящее время звук пустой.
21 июля. Перестал читать газеты: их довели до того же положения, в каком находились они при Щедрине; опять требуется эфиопский язык и ухищрения для маскировки мыслей. Политический горизонт так же сер и скучен, как погода.
23 августа. В Петербурге за это время произошло освящение храма Воскресения, знаменитого не только тем, что он построен на месте убийства Александра II, а и тем, что двадцать шесть лет, все время своей постройки[199], весьма сытно кормил высоких особ. Не мало язвительно поострили на этот счет петербуржцы.
Освящение происходило весьма оригинально. Во-первых, прекращено было всякое движение через Неву по мостам, на пароходах и даже яликах; во-вторых, войска и полиция оцепили весь квартал, где стоит церковь, и без билетов никто решительно, даже в собственные квартиры, в этой части города расположенные, не пропускался; в-третьих, у каждого окна по пути следования стояло по городовому и всякое приближение к окнам жильцам было воспрещено…
Его Величество проследовало благополучно, и затем градоначальнику было объявлено благоволение за «отличный порядок».
Порядок, действительно, был великолепный: на улицах было — хоть в кегли играй!
21-го числа происходили новые казни: покончили на Лисьем Носу трех главных заговорщиков…[200] О казнях приходится слышать или читать каждый день; положение в общем не лучше, чем до «свобод». Печать опять гнут в бараний рог, штрафуют за всякую ерунду без милосердия.
28 августа. Ездил на Сайменский канал в гости к Д. Ф. Чепикову — приятелю и компаньону известного книгопродавца Карбасникова[201]; последний имел прежде книжный магазин на Литейном просп., затем, этим летом, перебрался в Гостиный двор. Купил там рядом с Вольфом[202] небольшое помещение за 136 000 рублей, и последний теперь предлагает ему 50 000 отступного.
Карбасников только поглаживает бороду да посмеивается. Это лысый невысокий человек с рыжеватой бородой, длинной, как у Черномора. Как собеседник — человек незаменимый: весельчак и балагур.
20 октября. Состоялись, наконец, выборы; как и следовало ожидать, благодаря всяким беззаконным «законам» Дума будет полна черносотенцами.
В Петербурге поразило меня, после долгого летнего отсутствия, обилие новых училищ, курсов и т. п. Особенно общеобразовательных курсов и коммерческих училищ развелось, как грибов. Всякие курсы — бухгалтерские, технические, общие — полным полны.
Обилие новых коммерческих училищ объясняется тем, что они находятся в ведении Министерства торговли, а не просвещения, откуда бежит, или выживается, все мало-мальски разумное. Три года тому назад сбежали и мы из этого милого министерства.
Чтоб описать всю дикую косность его — нужны томы; расскажу кое-что о некоем окружном инспекторе, Санчурском, под игом которого находилось и наше училище.
Дело у нас было молодое, но открытая женой школа (3-го разряда) уже имела два или три класса. Надо было хлопотать о правах второго разряда и вот тут-то господин Санчурский поломался всласть. Является, между прочим, в училище, приходит в первый класс.
— Ну-с, заявляет: — я желаю проэкзаменовать детей по Закону Божию…
Начинается экзамен, вызывает девочку.
— Скажите мне, кто у нас Государь Император? Наследник? Дяди государя? и т. д.
Это, по мнению г. инспектора, относилось к Закону Божию…
В другом классе экзаменует по естествоведению.
— Скажите, какие деревья приносят плоды?
Девочка отвечает: яблони, груши, сосна…
— Как сосна?, — изумляется инспектор.
— Да, у нее есть плоды.
— Какие? Где вы их видели?
— А шишки?
— Да разве это плоды? Плодами называется только то, что есть можно…
И господин с такими познаниями назначается на пост почти безапелляционного судьи над десятками школ.
Интереснее всего, что когда этот субъект, умерший года два назад от прогрессивного паралича, почти уже утратил речь и вместо связных фраз произносил неповинующимся языком непостижимую ерунду, он еще более полугода продолжал быть фактическим инспектором школ, с которым продолжало считаться министерство.
23 октября. Сегодня перебаллотировка выборов в Государственную Думу.
Перед первыми выборами я ездил в Финляндию и на вокзале встретился со Львом Федоровичем Рагозиным — председателем Медицинского совета. Со стариком я в очень хороших отношениях и он рассказал мне следующее.
Перед выборами к нему явился чиновник особых поручений из Департамента полиции и, всячески извиняясь и раскланиваясь, сказал, что он приехал от директора д<епартамента>-та с поручением «усиленно просить ваше превосходительство» о подаче голоса за столь полезного человека, как М. Меньшиков[203].
Курьезнее всего, что по подсчетам за Иудушку, оказалось, подано было всего… тринадцать голосов. И это при содействии величайшей власти в России — директора Департамента полиции!
25 октября. В Питере победили кадеты. Прошли все те же: Милюков, Родичев и Колюбакин[204].
26 октября. Слышал рассказы лейтенанта князя В., офицера с императорской яхты «Штандарт», так блестяще усевшейся на камни в финских шхерах[205].
По рассказам его, государь страшно любит и балует наследника. Трех- или четырехлетний мальчик этот делает решительно все, что ни взбредет ему в голову.
Например, явился во время поездки по шхерам к вахтенному офицеру и потребовал, чтобы играла музыка. Тот вытянулся, держа под козырек, перед крошкой и доложил, что музыка играла вчера, а сегодня по расписанию ее не полагается.
Цесаревич Алексей на борту яхты «Штандарт»
Наследник потребовал, чтобы музыканты явились; вахтенный доложил капитану и приказание было немедленно исполнено.
Сыграли марш, другой, затем Алексей вытребовал матросов и стал командовать ими, потом заставил командовать офицера, причем велел ему «быть папой». Матросы хором отвечали «рады стараться, Ваше Величество» и т. д.
Важнейшею фигурою при дворе является барон Фредерикс[206]; с ним государь беседует часами, между тем как министрам и даже премьеру — Столыпину уделяет на дела не больше четверти часа, и сух с ним настолько, что появление на «Штандарте» Столыпина производило впечатление не большее, чем приезд какого-нибудь разночинца.
Николай, не стесняясь, заявляет, что «вообще я штатских не признаю… даже чиновников».
А насколько он высокого мнения о себе и обо всем, с чем он соприкасается, показывает следующая фраза. Когда «Штандарт» напоролся на камень и остановился, Николай сидел в каюте и что-то писал. Дежурный офицер бросился к нему с докладом об аварии.
— Императорская яхта сесть на камень не может! — ответил Николай II.
В общем, мнение петербуржцев о Николае II довольно единодушное. Было время, когда добрая половина города его жалела и защищала. Теперь, с кем ни заговори, всякий машет рукой и отвечает бранью.
Забавно, что гг. монархисты и «истинно русские», те, что с гордостью, заслуживающей лучшего приложения, именуют себя черносотенцами, ненавидят Николая еще более левых.
8 ноября. Был на днях у Богучарских. Василий Яковлевич уехал в Париж, а без него стряслось несчастье — закрыли «Былое». Конфискованы были две книги подряд — сентябрьская и октябрьская, — первая за записки сенатора Безобразова, в которых попало царской семье, вторая просто, должно быть, за компанию, так как инкриминируемые записки Бороздина решительно ничего греховного не содержат.
Говорят, что сентябрьской книгой так были возмущены великие князья, что насели на кого следует и вынудили администрацию прикончить с журналом. Жаль, материала заготовлено уже книг на шесть и более!
Как передавала Богучарская, в ее отсутствие на кухню к ним пришел какой-то неизвестный субъект и предупредил, что на днях у них будет обыск. Моментально она выгрузила все документы в огромный чемоданище и, спросив предварительно согласие, отвезла его к Прокоповичам.
Э. В. Яковлева — одна из деятельных и видных участниц нашего нелегального Красного Креста; когда к ним ни приди — в передней у нее всегда высятся груды узлов со всякой всячиной, предназначенной для передачи политическим арестантам в тюрьмы; разносят их, помимо членов, еще и курсистки; последние в весьма большом числе.
Рассказывала мне о неприятном впечатлении, произведенном на нее и других членов Креста выходкой евреек. Крест, конечно, никогда никакой разницы между ссыльными ни по нациям, ни по религиям не делал, между тем вдруг еврейки, вызнав предварительно все нужное для ведения дела в Кресте, заявили, что они хотят выделиться и намерены помогать только своим, евреям.
В общем, состав революционеров страшно понизился. Всякая сволочь прикрывается теперь красным флагом.
Отовсюду приходится слышать жалобы на постоянные посещения квартир «политическими личностями», выпрашивающими пособия и которые, по проверке, оказываются просто шантажистами. Все это вводит Красный Крест в большие затруднения.
6 декабря. Давно не заглядывал в эту тетрадь: писать нечего. Все одно и то же: обыски, казни, грабежи. Все это стало так обычно, что не вызывает ни интереса, ни разговоров.
Сегодня Питер разукрашен флагами, коврами, вензелями и пр. по случаю царского дня. В газетах типа «Нового времени» восторженные описания иллюминации, убранства города, ликования и т. п. А на деле градоначальник объявил домовладельцам, что если убранства домов окажутся недостаточными, то они будут оштрафованы на 500 рублей.
Усиленные аресты и обыски идут и в Финляндии. Давно ли я писал, шутя, о Териоках как о черте оседлости наших революционеров? Теперь ее нет!
10 декабря. Встретил на Литейном похороны министра торговли Философова[207], внезапно умершего 6 декабря в ложе № 13 Мариинского театра. Гроб сопровождало почему-то множество жандармов с винтовками за плечами; кто его собирался экспроприировать — неизвестно!
12 декабря. Навестил Л. Ф. Рагозина. Смеется. Удивительный чудак этот человек! Доброты он безмерной, сановничьей важности ни малейшей, доверчив при этом Лев Федорович тоже безмерно.
Вся жизнь его — это сплошная цепь увлечений. Несколько лет тому назад он страстно увлекался часовым мастерством; я часто заглядывал к нему и, как ни придешь, сейчас же тащит показывать новинки: он чуть ли не каждый день ходил на толкучку и скупал там всевозможную дрянь, преимущественно карманную. Инструментов у него была гибель. Главное удовольствие Л. Ф. состояло в том, чтобы починить часы и повесить их затем над кроватью, где их у него тикало в ящике за стеклом штук восемнадцать.
Когда наступало время бить часам — в доме начинался Содом: во всех углах, на всех стенах принимались звонить, трещать и отжаривать часы всяких видов и размеров.
Особенно неистово и резко, словно молотком по стальному котлу, били у него часы в кабинете; это окаянное произведение ежечасно начинало свои концерты и я первое время каждый раз привскакивал в кресле от неожиданных, точно пистолетных, выстрелов над ухом.
Всякий другой в такой обстановке впал бы в бешенство через двадцать четыре часа, а Л. Ф. только гуляет по комнатам да радуется.
Увлечение часами сменилось увлечением топорами; как-то прихожу — тащит смотреть топоры: развесил их на стене целую коллекцию; после топоров появились на сцену ружья, из которых он вряд ли когда-нибудь стрелял и будет ли стрелять — неизвестно.
Курьезнее всего, что этот человек, имеющий, кроме имения в Калужской губернии, еще свыше 12 000 р. жалованья в год и, наконец, 60 лет на плечах, всегда, сообщая о цене той или другой купленной им вещи, прибавляет: — «только, смотрите, Александре Петровне (жена Л. Ф.) не проговоритесь; я ей сказал вдвое меньше!»
В доме у них, кроме шляющихся по комнатам бульдогов и злющей собачонки какой-то невообразимо паскудной породы, торчит клетка с попугаями и скворцами, а в столовой, вероятно для возбуждения ароматами аппетита — клетка с обезьянами.
Докторов Л. Ф., будучи главой медицинского мира в России, — ругает наповал. И зачем существует этот Медицинский совет, поглощающий такую уйму денег — уму непостижимо!
Л. Ф. бывает в Петербурге только по зимам, так с октября месяца по апрель, жалованье же получает и с апреля по октябрь; редкие заседания этих светил — ряд курьезов, заслуживающих историка.
Так, например, идет у них заседание. Секретарь «что-то читает» (записываю словами Рагозина), в это время проф. Тарновский, — он очень хотел сбыть свое крымское имение под Феодосией Рагозину — передает ему через стол записку. — «Покупайте, продаю дешево, не упускайте случай».
Рагозин отвечает запиской же. — «Погодите. Продам сперва татарину штаны: не хватает денег».
И т. д., и т. д. Остальные члены кто дремлет, кто рисует что-нибудь на бумажке.
Таким манером просидят люди часок, другой и разъезжаются с сознанием исполненного долга.
По политическим взглядам Л. Ф. чиновный либерал старых времен.
Заходил в «Труд». Здорово подтянули теперь и книжные магазины: нет уже целых выставок исключительно конфискованных книг, все такие книги тщательно прячутся, а главное — их уже магазины боятся.
Депутаты I Государственной Думы на вокзале в Выборге. Фотография К. Буллы (июль 1906)
18 декабря. Сейчас вынесен приговор суда над депутатами 1-ой Думы: за выборгское воззвание приговорены к заключению в тюрьму на три месяца[208]. Были овации.
Меньшиков в «Новом времени» на судившихся членов Думы извергал из своей плевательницы гнуснейшие статьи; читал одну, озаглавленную — «Сто шестьдесят шесть носов», в которой он глумится над подсудимыми и находит, что они, «гордо подняв кверху сто шестьдесят носов, входят в залу суда».
19 декабря. В Петербурге идут усиленные грабежи; что ни день, то новые случаи, удивительные по своей наглости.
Телеграмм из России в газетах хоть не читай; вся первая страница их сплошь занята известиями о казнях, убийствах и грабежах.
21 декабря. Густейший туман; с тротуара с трудом можно различить что-либо на середине улицы.
23 декабря. Был у меня Будницкий, рабочий Семянниковского завода, только что вернувшийся из Севастополя, куда ездил с товарищами в командировку от завода для работ на подводных лодках.
Настроение, говорил, среди матросов весьма острое; накалены, что называется, добела, постоянно происходят по ночам убийства или покушения на офицеров-моряков и все это — дело рук матросов.
Режим у них, после привольной жизни, установлен крутой: позже восьми часов вечера выход из казарм воспрещен, посещение гостиниц и т. п. мест тоже; все рабочие Семянниковского завода были строго изолированы от них и посещение их матросам не дозволялось.
Между тем, эти же рабочие плавали вместе с ними на своих подводных лодках во время испытаний; матросы удирают из казарм в штатском платье. Вражда между ними и сухопутными войсками — менее распропагандированными — жестокая; убийства и поранения происходят при всякой встрече.
1908 год
2 января. Были у меня Д. Н. Бодиско, ольвиопольский земский начальник и пристав его; Бодиско сбежал из Ольвиополя более месяца тому назад: туземные революционеры приговорили его к смерти — по его словам — за слишком большие добродетели, поведшие к тому, что народ отшатнулся от революционеров и «всей душой прилепился к нему».
О приставе он мне рассказывал много и раньше, как о каком-то чуде Российской империи. Пристав этот не берет взяток — явление действительно сверхъестественное! Его тоже приговорили к смерти… причина для такого приговора как будто несколько странная.
Беседовал с ним о современных бесконечных разбоях, а также об одесских историях, о которых рассказывают невероятные вещи все газеты. Пристав — очень спокойный и положительный человек; так же он относится и к сообщениям из Одессы, дела которой он знает хорошо.
Говорил, что все сообщения оттуда сильно раздуты. По его словам, выходит, что партия с.-р. опустилась у них до слияния с самыми простыми разбойниками и хулиганами[209]. Курьезно очень то, что все-таки ниже всего оба ставят в один голос партию Союза русского народа: «Это самые подонки!», таков отзыв их.
4 января. Была Э. В. Яковлева (Богучарская), просила меня спрятать чемодан со всевозможными документами из закрытого «Былого»: вчера к ней явилась какая-то незнакомая, очень хорошо одетая дама и, не называя себя, рассказала, что она была в одном, «очень важном доме», где слышала, что у Богучарских решено произвести обыск, и поэтому она сочла долгом приехать и предупредить ее.
Против нелегального Красного Креста начались большие гонения; Савинкова, напр., выслана по подозрению в участии в нем; издан циркуляр, запрещающий помощь заключенным.
5 января. Лопнул «Труд» — книжное предприятие богача Скирмунта[210]. Я был поражен этим известием. Магазин его, находящийся на Невском, наискосок от Аничковского дворца, вечно был переполнен публикой. Когда, бывало, ни заглянешь — в нем всегда стояла толчея; к огромному столу, находившемуся посередине магазина и заваленному книжными новинками, едва можно было протискаться.
Приказчиками служили студенты и интеллигентная беднота; «Труд» был в некотором роде клубом эсдеков; весь состав служащих исключительно из них, и туда заходила в огромном количестве ихняя братия поболтать, узнать новости и проглядеть книги.
Захаживал к ним частенько и я, но с другими целями: все конфисковавшиеся книги, а также вышедшие нелегальным путем, расходились, главным образом, оттуда; их-то я и добывал там для своей библиотеки.
Картину этот эсдековский муравейник представлял любопытную; во-первых, на хлеба к Скирмунту эсдеков набилось в качестве служащих пятьдесят человек, не считая мальчиков — цифра для книжного магазина дикая.
Крали у них неимоверно. Порядка в магазине и в отчетности не было никакого. На днях один букинист метко сострил про них. — «Торговали, сказал, — веселились — подсчитали — прослезились!»
А прослезиться есть с чего! Во дни «свобод» Скирмунт начал это дело с 600 000 руб. капитала, а в настоящую минуту, после двух лет, дошел до того, что банки не принимают к учету векселей с его подписью и поручительством.
7 января. С юга приходят тревожные вести: в Севастополе со дня на день может вспыхнуть восстание; настроение среди войск крайне напряженное. Железнодорожный союз (тайный, конечно) спешно послал туда делегата с тем, чтобы задержать взрыв насколько возможно. Если не удастся, будет только безрезультатное повторение Кронштадта и Свеаборга.
9 января. Безобразно растут на все цены: 3-х коп. булки превратились теперь во что-то такое миниатюрное, что скоро из прежней булки их будет выходить три. Дрова догнали до 7 р. 80 к. за сажень; не только бедному люду, но и людям средней зажиточности скоро придется отказаться от мяса, сколько-нибудь приличных квартир и т. п.
10 января. Положение политических заключенных из очень недурного сделалось приглядным.
Вчера был в издательстве О. Н. Поповой (умершей в прошлом году)[211] и встретился там с редактором, служившим у нее. Он приговорен к году тюрьмы и должен сесть на днях; слышал от него, что политическим воспрещено теперь иметь собственную одежду, всех облекают в арестантские халаты, всех будут «выгонять» на обязательные работы, вроде клейки коробочек и т. и.
В газетах прочел, что «полицией, наконец, установлено, что Рагозинникова скрывалась в Келломяках и, приехав оттуда, убила Максимовского»[212]. И полиция и газеты плохо осведомлены: она жила у Э. К. Пименовой, у нас, в Кемере.
17 января. Заходил к Богучарским. Э. В. больна, тем не менее вышла. Вспоминали с Василием Яковлевичем о Щеголеве[213], сидящем теперь в Коломенской части за неимением мест ни в Крестах, ни в других тюрьмах. Чтоб добиться помещения в одиночной камере, или даже в общей в Крестах, нужна теперь протекция; так все набито битком. А еще вольтерьянцы говорят, что в России легко в тюрьму попасть!
Щеголев — бывший соредактор «Былого» — настолько толст, что сразу бросается в глаза в какой угодно толпе; его выслали из Питера, а эта туша взяла да и возвратилась, и мало того, — стала показываться везде на улицах; конечно, ее скоро изъяли из обращения. Газеты, описывая этот случай, сообщали, что Щеголева арестовали на улице и два сыщика уселись по сторонам его на извозчика; — что его арестовали — верно, что его увезли — тоже верно, но чтобы с ним мог усесться на извозчике еще кто-нибудь — это уже от лукавого!
В. Я. Богучарский (Яковлев)
Толковали с Василием Яковлевичем о судьбах нового его журнала «Минувшие годы», являющегося замаскированным «Былым». Плохо верит в его долговечность, тем не менее дерзает. Замаскировали они его отлично, только сделали одну ошибку: указали в публикации о нем адрес — Знаменская 19 — старое местожительство «Былого».
На это мне В. Я. возразил, что и другой адрес не помог бы: теперь, куда он ни отправляется, за ним всюду следят два шпика.
Рассказывал мне, между прочим, любопытный факт. Какое-то земство, чуть ли не вятское, точно не помню, подписавшееся у них на «Минувшие годы», вдруг присылает письмо и просит вернуть обратно деньги. — Мотив — губернатор запретил к обращению в библиотеках его губернии журнал… который еще не родился и первый № которого еще должен выйти 20 января!
Петербург весь усеялся разными «иллюзион», «местер» и т. п. театрами живой фотографии; буквально чуть не на каждой сколько-нибудь людной улице устроилось их по нескольку. Все они выросли в течение какого-нибудь года; вечером вывески и входы в них иллюминуются разноцветными электрическими лампочками; выглядит необычно и довольно оригинально.
Идет суд над компанией эс-эров, арестованных в прошлом году на сходке в университете; преобладает зеленая молодежь.
9 января. Заходил Л. И. Пименов, сказал, что предполагавшийся на завтра (воскресенье) вечер в память Некрасова в Нобелевском народном доме[214] на Выборгской стороне отменен. Я был приглашен читать, поэтому он уполномочен был предупредить меня.
Градоначальник предъявил, между прочим, следующие требования: l) представить две рукописных и затем две печатных программы, причем в первых двух точно указать имена и адреса исполнителей; 2) представить в двух экземплярах все вещи, которые предполагаются к исполнению в программе, и те, что будут прочитаны на бис.
Как будто до сих пор Некрасов еще настолько неизвестный поэт, что недостаточно одного наименования его произведений? Все это, конечно, легко можно было бы обойти, купив и послав г. градоначальнику для поучения 2 экземпляра сочинений Некрасова, но дело в том, что из Александро-Невского района комитет, устраивавший такой же вечер, сообщил, что вся процедура была им исполнена, афиши напечатаны, и вдруг в день вечера его запретили. Градоначальник, дозволивший его сперва, сообщил, что по его мнению, по недостаточному развитию рабочих, некрасовские произведения им будут непонятны… а потому вечера он не разрешает.
20 января. Вечер был у В. Л. Рагозина (сына); собрался небольшой кружок, и хозяин прочел нечто вроде доклада о теософии. Весь стол у него завален книгами по этому вопросу.
Вообще усилилась мода на теософию. Появилось несколько журналов, посвященных ей, создался ряд кружков.
Рассказывали, между прочим, вчера о медиумических сеансах, в которых участвовали двое из присутствовавших; обоих нельзя назвать вполне нормальными, тем не менее и на них сеанс произвел впечатление жульничества.
Приезжий медиум, конечно, действовал, как всегда, в темноте, и «действия духов» выражались в легких пощечинах, давлениях ног и т. п. глупостях. Плата за это удовольствие взимается обществом исследования психических явлений — по три рубля.
23 января. Проходил сегодня по Литейному проспекту. В помещении, где находился недавно книжный магазин Карбасникова, устроился «Магазин правой русской печати». Так гласит вывеска над ним. Огромная витрина в окне уставлена изделиями вроде брошюр «Ешь меня, собака»[215].
Внутри магазина за прилавками спят в разных позах приказчики; публики ни души. Эту картину я наблюдаю почти ежедневно, проходя мимо.
Приобрел кое-какие книги у антиквара Соловьева, из библиотеки покойного проф. Помяловского[216]. Дочь последнего продала ему, да еще в кредит, 40 000 томов за 5000 рублей. Вчуже душа болит, когда слышишь о таких делах!
Соловьев в течение двух-трех месяцев выручил за нее 50 000 рублей, причем в виде плюса у него на руках осталась еще целая стена латинских книг из этой библиотеки.
Любопытна судьба рукописей. В них копался Лихачев и отобрал кое-что для Публичной библиотеки; остаток, что-то около тридцати шести пудов, купил Синицын — один из наших «весовых» собирателей книг — за шестьсот рублей. Разбирая рукописи, он нашел между ними продолжение записок Болотова, записки Толя и целый ряд ценных документов, незамеченных Лихачевым. Слышал последнее от антиквара Шилова, которому говорил все это сам Синицын[217].
25 января. Третьяго дня отметил судьбу библиотеки Помяловского; вспоминаю по этому поводу историю, касающуюся библиотеки покойного отца моего, Р. Р. Минцлова[218].
В ней числилось свыше 14 000 томов, главным образом иностранных книг; отделы социальных наук и особенно юридический — были подобраны замечательно; слабо были представлены русская история и русская литература.
Когда, внезапно для нас, отец заболел психическим расстройством, пришлось нанять артель, уложить книги в ящики и сдать их в Кокоревский склад, где они и простояли что-то около двух или более лет. Обстоятельства заставили подумать о продаже их.
Я отправил рукописный каталог к букинистам для оценки, но за эту работу никто из них не взялся даже за плату: им, конечно, не было расчета определять настоящую стоимость библиотеки, готовящейся к продаже.
Не желая дробить собрание — плод заботы всей жизни отца — и желая поместить его в хорошие руки, я пробовал обращаться сперва в разные учреждения, вроде Совета присяжных поверенных и т. д., затем к многочисленным знакомым отца — никто не изъявил желания приобрести библиотеку.
И. И. Янжул, с которым отец разошелся в последние годы жизни, рассказал мне следующее. Он тоже имеет громадную библиотеку и, подумывая о смерти, — решил заблаговременно пристроить ее в надежное место даром.
Первое предложение его было Академии наук, где он состоит членом, академия отказалась; обратился на женские курсы и в другие места — всюду был тот же ответ. Причина — или недостаточность помещения, или недостаточность средств.
Наконец, Московский университет соблаговолил принять подарок, с прибавкою к нему 5000 руб. со стороны Янжула. Одним из условий передачи Янжул ставил, чтобы библиотека его была помещена в отдельных комнатах и называлась его именем. Янжул отправил в Москву большую часть книг, оставив себе в пожизненное пользование только несколько шкафов с ними. Затем, будучи через несколько лет в Москве, заехал в университет взглянуть на свое детище. И что же? Детище это он нашел сваленным на чердаке и покрытым слоем пыли и голубиным пометом.
Старик рассказывал это волнуясь и с нотою оскорбления в голосе.
Грустно стало мне от его рассказа! Зашел от него к антиквару Мелину — этот вампир предложил за всю библиотеку тысячу рублей; В. Клочков[219], к которому я обратился затем, от покупки всей библиотеки отказался, заявив, что купит из нее кое-что, рублей на 500–600.
Продал я ее, в конце концов, Н. А. Рубакину за 5000 рублей.
2 февраля. Познакомился вчера с Германом Александровичем Лопатиным. Бодрый старик с умными, несколько суровыми глазами и широкой бородой с проседью. Полная противоположность со своим сотоварищем по несчастью Н. А. Морозовым[220].
Как-то давно уже завтракаю я у Богучарских (Яковлевых), слышим звонок, и вслед за ним в передней раздается как будто детский чистый и приятный голос.
Н. А. Морозов
Смотрю — входит невысокого роста человечек с сильною проседью в черных волосах. Это и был Морозов. Он только что был выпущен на свободу. С тех пор я довольно часто встречался с ним, и первое хорошее впечатление сохранилось.
Чуть ли не четверть века просидел человек в одиночке и победил ее, вышел из нее не задавленным и разрушенным вконец, а полным кипучей жизни и просветленным.
Тормошили бедного Н. А. безбожно. Кажется, не было вечера, на котором он не выступал бы в качестве участника.
7 февраля. Возобновил опять свои занятия в Публичной библиотеке, конечно, не в читальной зале, а в отделах, что очень удобно тем более, что милый и обязательный хозяин Русского отдела, Вл. П. Ламбин, давно предоставил мне право самому лазить и рыться по всем шкафам и полкам.
Беседовали с ним о конфискованных книгах; оказывается, теперь совсем перестали доставлять таковые в библиотеку, и Ламбин просил меня, как вечно имеющего дела с букинистами и типами, продающими запрещенное, направить и к ним кого-нибудь из последних.
В позапрошлом году, еще до напечатания моей статьи в «Былом» об уничтоженных произведениях печати[221], библиотека просила у меня список их и, получив, затребовала по нем все из Главного управления по делам печати; обращение оказалось, конечно, напрасным, т. к. к конце 1905 г. и в начале 1906 г. никто и ничего в цензуру не представлял.
8 февраля. Стессель приговорен к смертной казни. Вместе с тем, суд обращается с ходатайством на Высочайшее имя о замене казни заключением в крепости на 10 лет и исключением со службы.
По городу уже ходит острота: «Что ж такое, что Стесселя посадят в крепость; он ее опять сдаст!»
Слышал смутные толки о покушении на Николая II; будто бы Царскосельский дворец оказался чуть ли не минированным. В сегодняшних газетах об этом ни слова, зато целые столбцы заняты описанием арестов. Захвачено на улицах несколько лиц с револьверами и бомбами.
9 февраля. Откуда-то прошел слух, будто молодая императрица помешалась; недуг будто бы подготовлялся давно и окончательно разыгрался по получении известия об убийстве португальского короля[222]. Говорят, что она отказывается от еды и питья и ее кормят искусственно.
10 февраля. Виделся вчера в Публичной библиотеке с П. П. Семенютой; старик остроумен и зол на язык по-прежнему, но сильно подался физически — похудел, пожелтел и, кажется, протянет недолго.
Говорил с ним, между прочим, о приятеле его, Н. А. Морозове; Семенюта все воюет с ним по поводу бесконечных новых знакомств, на которые так падок Морозов, и против столь же бесконечных выступлений его на эстрадах, «в качестве прима-балерины», по выражению Семенюты. Морозов с гордостью показывал ему записную книжку со списком знакомых; список этот заканчивается 1100 номером.
Внесением в книжку нового знакомства Н. А. не ограничивается, и целые дни уходят у него на посещения. Он радуется, как ребенок, аплодисментам, которыми разражается публика, слушая чтение стишков его и, кажется, не может понять, что не его чествуют люди, а его 25-летнее сидение в Шлиссельбурге.
Сидя в каземате, он занимался химией и сделал целый ряд открытий… но, увы, все они уже были сделаны свободными людьми! Он осужден был открывать Америку задним числом. Любопытна и многонашумевшая книга его об Апокалипсисе; к сожалению, Морозов не знает греческого языка, плохо изучил историю тех времен, и архимандрит Михаил — ушедший теперь от преследований синода в старообрядчество[223], — разом отнял от его «Откровения в грозе и буре» всякое историческое значение. Но книга все же остроумна и любопытна.
11 февраля. Обедал сегодня у нас мой кузен, А. А. Гоппе. Учительствовал он в Ревеле, доучительствовался до чина статского советника и за время «свобод» попал в «неблагонадежные», за участие в забастовках 1905 года и прикосновенность к делу почтово-телеграфного союза.
Уроки в гимназии он потерял и перекочевал в Питер. Здесь ему сразу повезло: получил штатное место в кадетском корпусе, в реальном училище и т. д. Поселился он с семьей в Царском Селе.
В один прекрасный день призывает его к себе директор корпуса и смущенно предлагает ему оставить службу. Что такое? Почему? Оказывается, из Ревеля пришла бумага от Меллера-Закомельского[224] с требованием уволить Гоппе… Между тем, никаких осязательных доказательств вин его нет совершенно.
На днях с ним же вышел курьез. Поехал он по делам в Ревель, был там на охоте, убил пару зайцев и, уложив их в ящик с другою провизией, послал семье в Царское.
В Царском этот ящик забрали жандармы и вскрыли с большими предосторожностями; провизия была тщательно исследована, из зайцев повытаскали даже елки, которыми они были набиты, и шарили во внутренностях.
Вернувшись, Гоппе поехал на вокзал и стал спрашивать, на каком основании вскрывали его ящик; жандармский унтер галантно пояснил, что основания эти — усиленная охрана; в конце концов, счел нужным показать телеграмму от жандармского полковника из Ревеля, извещавшую об отсылке в Царское подозрительного ящика.
— Вам же лучше, что вскрыли ящик! — закончил жандарм: — теперь ответим, что в нем ничего не оказалось!
Спорить насчет того, что лучше, не приходилось, и Гоппе убрался подобру-поздорову.
Подтвердил и он слухи о болезни молодой государыни; в Царском рассказывают о припадке, случившемся с нею на днях из-за посыпанных красным песком дорожек. — «Кровь, кровь! Опять кровь!» — будто бы кричала она вне себя.
14 февраля. Наша Финляндская жел<езная>. дор.<ога> стала притчей во языцех. Кажется, все внимание синих мундиров направлено на Белоостров; часто езжу по ней и каждый раз приходится быть свидетелем то какого-нибудь ареста, то шествий пассажиров для обыска.
Вокзал в Белоострове. Фотография П. Радецкого (1900-e гг.)
Не могу видеть самодовольной физиономии жандармского офицера с выкаченными черными сливами — вместо глаз. Этот господин меряет ими всех гуляющих по перрону с такой вызывающей наглостью, что невольно сжимаешь кулаки.
Между прочим, столкновению с ним подвергся и один из знакомых моих — М. Г. Деммени[225]. Это уже порядочно пожилой, рассеянный и близорукий человек. На днях он женился и поехал с молодою женою на Иматру.
Возвращаясь оттуда, в Белоострове вышел выпить пива и с удивлением видит, что вокзала нет; — впереди тянутся рельсовые пути: он не знал, что обратный поезд подходит к вокзалу с другой стороны.
Не успел он сделать несколько шагов, — к нему летит жандарм.
— Пожалуйте в управление!
— Зачем?
Надо заметить, что этот Деммени по убеждениям черносотенник и отнюдь, ни каким боком к политике не прикасается. Кроме приличного места в Министерстве финансов, он занимает еще частное, у великого князя, по нумизматической части.
Приходит в сопровождении унтера на перрон. На него налетает вышеописанный жандармский офицер.
— Вы куда это изволили направляться?
— В буфет.
— По ту сторону полотна?
— Я ошибся, сошел не на ту сторону.
— Ах, ошиблись! Вас надо обыскать-с. Что у вас в карманах?
Деммени с раздражением начинает опоражнивать карманы; жандарм следит за ним.
— Теперь что же, раздеваться прикажете? — язвительно спрашивает Деммени.
Жандарм вспыхнул, т. к. дело происходило при публике и нижних чинах.
— Вы что это, издеваться осмеливаетесь? — начал он орать, наступая на Деммени. — Забываетесь? Я вам покажу!., и т. д. Марш, тащите его, раздеть и осмотреть, как следует!
Деммени повели в жандармскую комнату, раздеться он отказался; тогда с него сняли пиджак, брюки, ботинки и все это тщательно обшарили. Кроме коробки финских спичек, ровно ничего подозрительного при нем не оказалось.
Оскорбленный грубым обращением, Деммени потребовал составления протокола, но офицер куда-то исчез, приказав его отпустить. Окружающие — не жандармы, советовали ему не заводить историю, т. к. по общему убеждению их мог пострадать только он, Деммени. Такие примеры были десятками у всех на глазах.
По возвращении в СПб. Деммени через знакомых довел все до сведения шефа жандармов. Чем все окончится — неизвестно.
В каждом вагоне Финляндской жел. дор. сидит теперь по шпику; кондуктора знают их и указывают некоторым пассажирам, которые известны им в лицо.
На этих же днях возвращались с Иматры Е. В. Сивере и А. П. Бодиско: они довольно громко беседовали; кондуктор финн, проходя мимо них, нагнулся как бы за билетами и тихо предупредил, чтобы были осторожнее, т. к у вагонов теперь есть уши.
19 февраля. Завтракал у Пивато с 1 ч. дня до шести вечера.
В этот день именины Л. А. Велихова[226] и он пригласил меня и небольшой кружок его друзей, «прогрессистов», как он выразился в письме мне. Цель завтрака была познакомить и сблизить нас между собой.
Дело в том, что Лев Александрович задумал издавать газету и наметил состав будущей редакции, которую и пригласил на свой именинный завтрак.
Были А. М. Колюбакин, член Государственной Думы, приговоренный к тюрьме по желанию свыше; С. Маковский[227] — молодой лет 33–34 поэт и критик, художник Рерих, молодой Сабуров, братья Красовские и целый ряд, около двадцати, все более или менее интересных лиц.
Говорили речи, не избитые именинные спичи, а политического характера. Я сидел между Колюбакиным и хозяином. Колюбакин недурной оратор с темпераментом и с весьма симпатичной наружностью; он говорил дельно, красиво, и преобладающий мотив его речи — надо сплотиться, чтобы защитить, сберечь те завоевания прошлого, ту культуру, которым угрожает теперь опасность со стороны реакции.
А. М. Колюбакин
Ему аплодировали; в тон ему было несколько речей, все на ту тему, что вот, дескать, как хорошо, что Л. А. собрал нас здесь, мы теперь сплотимся, этот день пропал не даром и т. д.
Я попросил слова и встал. Подробно речи своей не помню, но запишу ее вкратце.
— Господа, начал я: — мой тост, вероятно, останется одиноким. Я сейчас слышал целый ряд прекрасных речей, но это только слова. Среди вас есть много талантливых, сильных, умных людей, но мы — тот русский богатырь Илья, который сидел сиднем тридцать лет и три года; может быть, мы и свершим что-нибудь, когда пройдут эти года, но теперь — «суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». Мы на войне, господа, на войне нужны не слова, а действия; против штыков и пушек словами не отстоять ничего, а потому я пью за тех, кого забыли упомянуть здесь сегодня; за тех настоящих бойцов, которые сидят в Шлиссельбурге, на Каре, в тундрах Сибири. Пью за бомбу, которая даст настоящую свободу России!
Только две руки протянулись ко мне чокнуться; речь моя, как сказал мне потом Велихов, произвела впечатление бомбы.
1 марта. Сейчас вернулся из Кемере. В Белом Острове поезд наш задержали почти на час — происходил усиленный досмотр. Сперва явились для этого обычные таможенные чиновники, и вслед за тем дважды перешарили весь поезд жандармы под начальством какого-то подполковника. Отвинчивали вентиляторы, крышки на умывальниках и т. д. Семь человек из нашего вагона — ехало в нем всего душ двадцать — забрали для личного обыска; в соседнем вагоне подвергли этому удовольствию сплошь всех пассажиров. Что они искали и в чем было дело — не знаю, только ничего не нашли и никого не задержали. До самого Питера в вагонах торчали шпики.
4 марта. Высшие учебные заведения начинают шевелиться; министр Народного Притупления приказал упразднить действовавшие в них институты старост.
5 марта. Беседовал кое с кем из студентов университета. В последнем 11 000 человек; лекции посещает от 2 до 4 тысяч, но бывают дни, когда слушателей является не более полутора тысяч. Любопытны дружные показания студентов об упадке интереса к политике и к ученью массы их.
Закрыта — «Столичная почта» — многострадальный «Товарищ»[228]. Причина — вредное направление и усиленная охрана.
Итого, больших прогрессивных газет у нас в Питере теперь осталось только две: — «Русь», да кадетская «Речь».
19 марта. В городе усиленные обыски; не думаю, чтобы много людей теперь вело записки, как я — того и гляди, влетишь с ними в такую историю, что не обрадуешься. Из осторожности не называю здесь многих имен.
28 марта. Пуришкевич, отколовшийся от Союза русских людей, основывает теперь новый союз, и на поддержку этой новой опоры правительства получил сорокатысячную субсидию от Столыпина.
13 апреля. Кемере. Сегодня зашел к Богучарским, застал у них новую нашу кемерийскую жительницу А. Я. Малкину (Острогорскую). Беседовали о необъятном количестве мазурья, прикрывающегося теперь флагом революции.
Уже с год, как выработался новый тип прохвостов, избравших себе особое хлебное ремесло — шлянье по квартирам прогрессивных литераторов; франты эти объявляют, что они бежавшие с каторги, которым необходимо и не на что исчезнуть за границу, что они вынуждены скрываться и т. д.
Сначала зарабатывали эти гг. крупно; так, перед Рождеством явилась в Питере какая-то госпожа и здорово обработала три редакции: «Былое», «Русское богатство» и «Товарищ», — назвавшись в одной — бежавшей с каторги известной Школьник, в другой — Езерской и т. д.[229]
Обман обнаружился скоро, но, конечно, уже поздно. — Якубович, давший ей лично 25 р., встретился с Богучарским и с довольным видом сообщил ему новость — бежала Школьник.
Богучарский в ответ ему: — бежала Езерская.
М. Школьник, Л. Езерская (сидит) и Р. Фиалка-Рачинская на этапе
Стали описывать друг другу беглянок — вышло что-то уж очень похожее. В тот же день из редакции «Товарища» сообщили, что бежала еще третья политическая. Приметы опять все те же. Послали узнать по оставленному ею адресу (оставила его для доставки ей белья и др. предметов) — и обман выплыл наружу.
Из трех каторжанок не вышло и одной — их именем назвалась какая-то, фамилию ее забыл, особа, никакого отношения к революционным делам не имеющая.
Когда самозванку уличили, она разыграла целую трагедию и уверяла, что она хоть и не та, именем которых она назвалась, но тоже бежавшая, пострадавшая и т. п. и вдобавок ко всему попавшаяся в руки шантажистов, которые ее и посылают на такие дела.
Шайка имеет «конторы» в Москве, Киеве и др. городах; она давала адреса, предлагала отправить ее и их в полицию и т. д. Конечно, плюнули и ушли.
Публика проучена и стала осмотрительнее, отделывается рублями и просит принести удостоверение из партии, или записку от кого-либо из известных лиц, что предъявитель именно тот, за кого себя выдает.
После таких заявлений «пострадавшие» обыкновенно исчезают бесследно.
Знамение времени — стеснили газеты и опять стали возрождаться журналы; дела у всех у них сильно поправились, на книги же спрос по-прежнему только на порнографические.
Между прочим, курьез — запретили и конфисковали роман Арцыбашева «Санин»; книжка эта шла нарасхват, были распроданы уже два издания и вот теперь наложили арест на напечатанные одновременно третье и четвертое издания.
Благовременно, что говорить!
1 мая. С революцией тихо, с обысками шибко.
Был, между прочим, обыск у М. Морозова; особенного ничего не нашли, но тем не менее забрали у него всю библиотеку.
Простота полицейских нравов делается все удивительнее! Сколько раз приходилось мне радоваться тому, что успел заблаговременно укрыть в Кемере свою драгоценную библиотеку и рукописи!
24 мая. Воспользовавшись хорошим деньком, поехал на ст. Преображенскую: давно собирался осмотреть там кладбище и братские могилы жертв 9 января.
Ничего нет унылее этого кладбища! Голая глинистая равнина, бурая вода, выступающая всюду, где лишь на пол-аршина вырыта яма, и бесконечные, бесчисленные бугорки и кресты, кресты без конца. Нет ни камней на могилах, ни памятников — только маленькие, белые, деревянные кресты. Кладбище бедноты.
На военном отделении есть немного деревьев; там на Божьем смотру выстроились шеренги красных солдатских крестов. Я изумился числу их. Тысячи этих Иванов и Сидоров, оторванных от своих деревень, пришли со всех концов русской земли в Петербург и сложили здесь кости.
Обогнув деревянную церковь и домики причта, обнесенные темной деревянной оградой, я увидал у забора небольшую треугольную возвышенную площадку, ограниченную рвами. На ближайшей к военному кладбищу стороне как-то странно в ряд, без насыпей, стояло несколько разноцветных деревянных крестов.
Могилы жертв 9 января 1905 г.
Эта-то площадка и оказалась братской могилой; на ней толпилось человек пятнадцать простонародья. Кресты были исписаны ругательствами по адресу Николая II.
На крестах значилось несколько имен убитых 9-го января; поставить их разрешили с трудом и то только недавно; раньше могила эта представляла собой подзаборный пустырь с бугром.
Поговорил я кое с кем из посетителей; настроение сильно понижено, но не задавлено. Говорят с оглядкой, но то, что говорят, не по вкусу пришлось бы жандармам!
Могила в общем не велика; утверждают, что в ней положено 1500 человек, но верить этому не приходится; глубина ее быть сколько-нибудь значительной не могла, благодаря близости подпочвенной воды, и если положено там 200 человек, то и этого чересчур много.
Вероятно, часть убитых, кроме, конечно, отысканных и увезенных родственниками, похоронили в разных местах.
Осмотр братской могилы убедил меня в неимоверности раздутости цифры январских жертв.
23 июня. Приезжали навестить меня — Вл. Л. Рагозин и В. А. Минин. Первый увидал у меня на сарае голубей и просил прислать ему в Келломяки парочку. По этому поводу вспоминаю «голубиную историю».
Я, как любитель птиц, развел у себя в Кемере, между прочим, и редких пород голубей; денег, в конце концов, на содержание их стало выходить много, и я решил продать часть их в Петербурге, где уже имелись на них желающие.
Оказалось, что из Финляндии в Россию ввозить голубей нельзя. В белоостровской таможне мне заявили, что для ввоза их требуется разрешение министра внутренних дел, в финляндской же сказали, что разрешение требуется от министра земледелия.
Недоумевая, какое отношение могут иметь и тот и другой министры к голубям, решил начать с первого. Приезжаю в министерство, прошу к себе дежурного чиновника и спрашиваю — как поступать и куда обратиться с моим делом; беспокоить такою глупостью самого министра мне казалось более чем неудобным. Чинуш думал, думал, затем побежал куда-то справляться. Возвращается и говорит, что я должен обратиться в ветеринарное управление.
Я изумился. Эпизоотий у меня в имении, слава те Христе, нет, чем может мне помочь это управление?
Чиновник категорически заявляет, что все дела о голубях ведает ветеринария.
Делать нечего, отправляюсь на Театральную улицу. В ветеринарном управлении встречают меня весьма благодушные, круглые старички и говорят, что голуби не по их части.
— Вот если бы, добавляют, свиней вам надо было ввозить — тогда к нам, милости просим! А с голубями вам придется обратиться в Департамент полиции.
— Как в Департамент полиции?
— А так-с, это его дело.
— Вы наверное знаете?
— Ну, конечно; вы ведь не первый обращаетесь с этим. А вот если со свиньями будет надобность — к нам пожалуйте!
Таковой надобности у меня не было; отправился в Департамент полиции, к Цепному мосту.
Законов у нас много, а в общем идет такая ерунда, что упаси Господи! В доисторические времена, при царе Горохе, запретили ввоз голубей — конечно почтовых, потому что «голубиных» писем перлюстровать было нельзя, и запрещение это красуется в законах до сих пор, несмотря на то, что теперь почтовому голубю никакой шут никакой тайны не доверит. Славу Богу, мы еще не в осаде и есть десятки более верных средств переправлять куда угодно и какие угодно письма!
Курьезно и со свиньями. Если я посылаю из Финляндии живую свинью — ее пропускают, если посылаю окорок или тушу — их конфискуют. Больную свинью за полчаса до издыхания я могу внедрить в Петербург, т. к. никаких ветеринарных осмотров в таможнях не производится, а окорок с какими угодно свидетельствами о его благонадежности провезти нельзя.
Приехал я в знаменитый Департамент полиции, вхожу в приемную — вижу, народа в ней гибель.
Чувствую себя весьма неловко. Все эти траурные дамы, озабоченные мужчины и т. п. люди, наполнявшие ее, пришли кто хлопотать о заключенных, кто об осужденных на смерть: говорить о голубях в их присутствии казалось дико.
Отзываю в сторону вихрастого, затормошенного чинуша и по секрету рассказываю ему свое дело. Чинуш смотрит на меня с недоумением; публика пугливо косится и принимает меня за шпика, сообщающего что-либо подсмотренное, или подслушанное.
Наконец, чинуш сует мне бумагу и предлагает написать прошение. Публика всячески сторонится и избегает смотреть на меня. Пишу и отдаю ему. Через две недели обещает дать мне ответ на дом.
В назначенный срок получаю официальное извещение, что прошение мое направлено к министру внутренних дел.
Недели через две еду опять в министерство. Там мне сообщают, что бумага моя отправлена к министру финансов, так как-де требуется и его согласие.
Отправляюсь через некоторое время в финансы. Прошу справку; сообщают, что прошение мое переслано в Департамент таможенных сборов.
Приезжаю в этот департамент. Там, благодаря кое-каким связям, под строжайшим секретом, узнаю «тайну», что бумага моя отправлена в Военное министерство, т. к. без разрешения военного министра сделать что-либо невозможно.
Вся эта волокита сделалась, в конце концов, любопытной. Еду в Военное министерство. Марсы отвечают, что прошение мое передано в Инженерное управление.
Наконец, попадаю в Павловский замок. Писаря водят меня по закоулкам и бесконечным коридорам то снизу наверх, то сверху вниз: никто не знал, в каком отделе могут вершиться дела, подобные моему. Наконец кого-то осеняет мысль, что, вероятно, голуби числятся в воздухоплавательном отделе. Юмористическое соображение оказывается верным.
После получасового ожидания в круглой приемной, в которой толклось разодетое в парадную форму саперное офицерство, ко мне вышел жирный генерал-лейтенант, которому я и изложил свою просьбу. Генерал ответил, что он сделает все, что возможно, но что «окончательное разрешение» зависит от министра, который «очень серьезно» относится в такого рода делам.
Этим аудиенция и закончилась; я уже собрался уходить, как руководивший мною и вдохновленный полтинником писарь шепнул мне, что надо бы мне поговорить со столоначальником: «столоначальник у них все дела вершит». Попал в кузов — называйся груздем!
Подождал еще с полчаса и вершитель судеб — невзрачный и замусленный капитан, наконец, явился и милостиво обещал «помочь».
Через месяц получаю из Таможенного департамента краткое извещение, что прошение мое «оставлено без последствий».
Решаю тогда вести атаку с другого фронта и отправляюсь к министру земледелия, или по-новому — землеустройства — князю Васильчикову[230]. Министр очень любезно принимает меня, выслушивает, пожимая плечами, всю эпопею с голубиным вопросом, удивляется возможности такой нелепицы и обещает «непременно сделать все, что от него зависит, чтоб добиться отмены такой устарелой статьи закона».
Через знакомых чиновников для поручений при министре узнаю, что слова князя не остались словами и что он написал представление по поводу поданного ему мною нового прошения.
Бумаги пошли по мытарствам. В свое время получаю новое, столь же лаконическое извещение: «Прошение ваше оставлено без последствий».
Военный министр, как оказалось, считает невозможным допустить моих голубей в Россию на том основании, что поблизости расположена крепость Выборг.
Можно договариваться до глупостей, но не до столь министерских!
Во-первых, Выборг от меня в двадцати верстах, во-вторых — что нового и кому могут сообщить мои голуби об этой крепости, как на ладони видной с Южного вала в Выборге, на котором не только гулять, но и фотографировать не воспрещено?
Отсутствие пушек и припасов во время войны в Порт-Артуре и Владивостоке, по мнению министра, очевидно, опасности не представляло, а мирные голуби и притом совсем не почтовые, разводимые где-то в «районе» — это опасность.
Бедная Россия, какими врагами переполнена она вся!
Пришлось обратиться к старому способу действий — к протекции и голуби мои оказались неопасными во всех министерствах.
9 июля. Заходил проведать меня Л. Ю. Кайзер; просидел часа четыре и много рассказывал о Туркестане и Ташкенте, где он служил в 90-х годах. Запишу кое-что о проделках малоизвестного, вернее, забытого обществом великого князя Николая Константиновича[231].
Эпоха концессий и т. п. предприятий породила невиданный разгул; деньги сыпались в это время без счета — разумеется, главным образом, по кафе-шантанам и на разных этуалей.
Увлекался последними и Николай Константинович и наконец дошел до того, что тайком снял с драгоценного образа у матери камни и через подставное лицо продал их что-то тысяч за 50.
Отец его, великий князь Константин Николаевич, не любил Трепова, и когда Александр III, которому он рассказал о пропаже во дворце, заявил, что «Трепов отыщет», Константин Николаевич возразил: — «Трепов ничего не сделает!»
Слова эти были переданы Трепову и, конечно, задели его за живое. Вся полиция и сыщики были поставлены на ноги и по горячим следам гончая стая не только отыскала виновного, но и в отместку повела дело так, что замять и скрыть его от государя было нельзя.
Великий князь Николай Константинович с женой в Ташкенте
Попавшегося великого князя сослали в Оренбург, где он женился на дочери местного полицеймейстера, окончательно впал в немилость в был отправлен в Ташкент. Военную форму с него сняли, запретили войскам отдавать ему честь и в виде дядьки приставили к нему генерал-майора Дубровина.
При этом изъяли Николая Константиновича из ведения генерал-губернатора, и тот мог только посылать о великом князе донесения, параллельно с Дубровиным.
Реляции эти скоро превратились в сплошную хронику скандалов и безобразий. Николай Константинович — красивый и представительный мужчина, очень приятный в трезвом виде, опустился до того, что никто из порядочных людей не стал принимать его; компанию он повел с разными отбросами общества, вроде щеголяющего теперь в мундире военного ведомства и чине действительного статского советника известного купца Громова и т. д.
Как-то в добрую минуту великий князь заявил: — «Яшка, дарю тебе мою дачу!»
Громов поблагодарил, но никаких документов Николай Константинович не дал ему: такие мелочи выше его широкой натуры. Прошло недели три и друзья разругались.
— Убирайся к черту с дачи, подавай ее обратно! — заорал великий князь.
— Документов-то не дал, так и назад берешь? — заявил Громов: — свинья ты, а не великий князь!
Николай бац его в ухо, Громов — мужчина здоровенный — сгреб его за волосы и оба пошли кувырком по полу.
За эту историю Громов был выслан из Ташкента, а Николаю приказано сделать выговор через Дубровина. Выговоров этих он получал без числа, и впечатление они производили на него стереотипное: неизменно посылал всех, вместе с выговаривавшим, к столь известной русской «матери».
Этот терн в венце генерал-губернатора получал в год тысяч до ста и, разумеется, разматывал их. Но вместе с тем он много тратил денег и на устройство арыков в степи и старался казаться либеральным фрондером — не выходившим, конечно, из масштабов былых московских сановников не у дел.
Один из арыков своих он назвал — Искандер-арык, в память ли Александра Македонского, или Александра Герцена — это объяснялось им, смотря по минуте и по желанию. Дети его тоже получили фамилию Искандеров.
Однажды, поехав куда-то в степь, он пригласил с собой доктора; тот поехал. По дороге князь напился пьяный и, разругавшись со своим спутником, приказал его закопать по шею в землю. Приказание было исполнено; несчастного оставили одного в голой степи и уехали; через четыре часа князь вернулся откопать его — но было уже поздно: доктор сошел с ума.
Кайзер видал следующие картины: по улице движется выкрашенная в красную краску арба и на ней в красном халате и в красном же тюрбане важно восседает великий князь. Позади верхом едет джигит, везя за спиной оплетенную кожей четвертную бутыль с ромом; по мановению руки князя, джигит вытаскивал складной стакан, наполнял его ромом, передавал Николаю, тот залпом осушал его и затем ехал дальше.
Существует версия, кажется, преимущественно в морских кругах, будто Николай этот пострадал за либерализм и даже был заведомо лживо обвинен в краже для того, чтобы можно было заслать его к Макару и его телятам.
Когда я упомянул о ней, Кайзер засмеялся и сказал: — Слышал и я об ней, но с тех пор, как побывал в Туркестане и пригляделся к этому франту — решительно перестал сколько-нибудь серьезно относиться к ней!
10 июля. Условился с Кайзером, что в сентябрь поедем с ним в Мартышкино, где на финском кладбище имеется склеп времен Петра III; в этом склепе хоронились его голштинцы; отец Кайзера был в нем и рассказывал, что трупы удивительно хорошо сохранились и лежат в открытых гробах, в форме тех времен и с оружием; особенно хорошо сохранился труп красавицы-девушки. В царствование какого-то из Александров, в виду забродивших в народе толков о мощах, склеп приказано было заделать. Заделан он плохо и есть надежда, что при помощи всесильного пропускного билета — российского рубля — удастся пробраться в него и осмотреть все.
12 июля. Побывал у В. Я. Богучарского; пили с ним в лесу чай и беседовали о разных разностях, между прочим говорили и о ловкой краже из царской библиотеки: помощник библиотекаря, некий Леман, в течение нескольких лет воровал из нее разные драгоценные медали и т. п. предметы, а взамен их клал медные, заказывавшиеся им на Монетном Дворе.
Проделка обнаружилась случайно и теперь во дворце идет проверка инвентаря.
Вспоминаю по этому поводу историю, учиненную со мной лет 12–15 назад Императорским Эрмитажем.
Жил я тогда в Бессарабии, в Новоселице, и был, между прочим, в очень хороших отношениях с одним помещиком. Однажды, узнав, что я собираю старинные монеты, он сказал, что года два назад у него в имении отыскали небольшой горшочек с серебряными деньгами; горшочек он «кокнул» об угол дома, а монеты спрятал, но так как они ему была не нужны, то он обещал привезти их мне. Сказано — сделано. Монеты оказались странными: какими-то разных величин кружками, тонкими, как лист почтовой бумаги; с одной стороны на них были выдавлены грубые изображения, другая представляла изнанку чекана со впадинами; на некоторых имелись надписи, но шрифта — не то древнегерманского, не то греческого — разобрать я не мог.
Денег он с меня не взял и, чтобы не остаться в долгу, я подарил ему большую подзорную трубу, за которую заплатил 35 р.
Приблизительно через год пришлось мне приехать в Петербург. Загадочные монеты я захватил с собой. Пошел с ними в нумизматическую торговлю к Белину, тот рассмотрел их и самоуверенно отвечает, — это не монеты, это оттиски!
— Помилуйте, возражаю, — да кто же из чистого серебра оттиски делает? Ведь они чеканенные!
— Не знаю с. По-моему, это не монеты!
Пошел я от него в другие меняльные лавки, там невежество, конечно, еще большее: у нас хорошо, да и то не везде, знают только более редкие типы русских монет.
Вспомнил я тогда про Эрмитаж и решил обратиться туда.
В нумизматическом отделе сидел А. К. Марков, теперешний заведывающий им, а тогда помощник Иверсена[232]. Я познакомился с ним и показал монеты.
— Это брактеаты, заявил Марков, взглянув на них: германские монеты 12 и 13 веков, чеканившиеся в Майнце.
— Сколько же может мне предложить Эрмитаж за них? — спросил я Маркова.
— Рублей 70, не менее, — ответил он. — Впрочем, вы подождите Иверсена, поговорите с ним, я заведываю восточным отделом.
Через некоторое время пришел Иверсен и попросил меня оставить ему монеты для лучшего ознакомления с ними дня на два.
Брактеаты ХП в. из собрания Эрмитажа
В назначенный день и час я пришел и застал Иверсена над моими монетами, разложенными в чрезвычайном порядке в обитом сукном ящичке. Вид у старика был какой-то недовольный.
— Видите ли, начал он с сильным немецким акцентом: — Ваши монеты не интересны, они все есть у нас, наконец, среди них две испорченных…
— Но остальные 115 штук зато превосходно сохранились!
— Да, но повторяю, они у нас есть…
У меня и руки опустились. — Вот тебе, думаю, и 70 рублей!
— Так что же значит, спрашиваю, — вы их не купите у меня?
— Нет, отчего же… купить можно, но мы не можем предложить вам более 25 рублей.
Деньги нужны мне были до зареза и я согласился.
Иверсен сразу расцвел, разговорился со мной и, узнав мою фамилию, воскликнул, — а, так вы сын Р. Минцлова?[233] Это был очень хороший мой знакомый!
Я ответил, что я его внук, а не сын; Иверсен очень стал приглашать меня к себе и я обещал прийти.
Через два-три дня зашел к нему, и старик блеснул передо мною своею действительно великолепною польскою и русскою коллекциями монет. С его разрешения я стал посещать Эрмитаж и целое лето проработал в нем.
Перед отъездом я опять завернул к нему, чтобы проститься. Старик был чрезвычайно в духе и, когда я заговорил с ним о своих брактеатах, он вдруг наклонился ко мне с хитрым видом, потрепал меня по плечу и сказал:
— А знаете что? между вашими монетами были две уники. Ни в один каталог, ни в один мюнц-кабинет их нет! Я посылал их в Мюнхен, в Берлин — и там нет! — И он с торжеством откинулся назад и посмотрел на меня.
Меня точно ошпарило. Я знал, что значит уника в нумизматике: в переводе на деньги это тысяча, или две тысячи рублей.
— И вы, зная это, взяли их у меня за 25 рублей? — спросил я.
— Сердиться не надо! — возразил успокоительно Иверсен: — дело коммерческое, вы могли и не продавать их!
— Я думал, что прихожу не в лавку к татарину, а в Императорский Эрмитаж, в учреждение, где не воспользуются моим незнанием, — сказал я, повернулся и ушел и уже до самой смерти этого господина не заходил больше в нумизматическое отделение Эрмитажа.
31 июля. Разбирал сегодня книги в своей библиотеке и наткнулся на несколько разрозненных №№ покойного «Наблюдателя»[234] за 1899 и 1900 гг. В этих книжках напечатаны мои юношеские стихотворения.
История их напечатания любопытна и потому запишу ее.
Когда я жил в Одессе, у меня был небольшой кружок приятелей, среди которых я читал иногда свои стихотворения. Писал я их мало, а в то время уже и совсем бросил это младенчество. Стишки нравились и сюрпризом мне, большая часть их — что-то семнадцать, кажется, штук, были изданы приятелями[235] и, разумеется, вследствие сюрпризности, с неверностями.
Экземпляров было напечатано очень немного, и книжка вскоре разошлась по рукам; по положению, были отправлены экземпляры для отзывов в редакции журналов и по заслугам были изруганы и разделаны под орех.
«Лавров» было с меня довольно и потому, несмотря на намерение возмущенных приятелей переиздать ее, я решительно воспротивился, книжка сделалась редкостью; года два тому назад, получив каталог букиниста И. Ивавова, я к удивлению увидал в нем свою брошюрку, оцененную… в 10 рублей!
Перебрался я затем в Петербург и забыл, разумеется, о книжке. Прошло некоторое время — приходит ко мне Вл. Л. Рагозин и говорит — «знаете, — Анна Рудольфовна (моя сестра)[236] стихи поместила в «Наблюдателе»!»
— Откуда вы взяли?
— Из объявлений в «Новом времени»!
Спрашиваю сестру — никаких стихов она не помещала и не писала.
Однофамилец у меня есть только один — двоюродный брат Сергей Иванович. Я подумал, что, вероятно, это он наглупил что-нибудь по своей юности и даже не поинтересовался заглянуть в «Наблюдатель».
Не помню через сколько времени, натыкаюсь я сам на газетное объявление о выходе того же журнала; просматриваю и опять вижу свою фамилию, на этот раз уже с совершенно другими инициалами.
Заинтересовало это меня; редакция «Наблюдателя» помещалась поблизости, на Пушкинской ул., и я отправился туда.
— Прихожу и спрашиваю — могу ли видеть г. Пятковского?
Конторщик смотрит на меня, как на сумасшедшего.
— Нет, говорит — нельзя.
После я узнал причину такого таращенья на меня глаз конторщиком: Пятковский был кругом должен, да и по причине разных других «дел» прятался от публики и изловить его можно было разве при помощи гончих.
— Когда же можно застать его?
— Не могу сказать определенно: они редко бывают здесь.
— Да ведь приемные дни же у вас есть?
Конторщик тонко улыбнулся.
— Есть, но только они в них не бывают.
— Удивительная редакция, говорю. Впрочем, вы можете дать справку! — И рассказал ему, в чем дело.
Стали мы пересматривать журнал и нашли книжки с моими стихами, перепечатанными из вышеупомянутого сборника.
— Не можете ли вы мне сказать, — как попали к вам эти стихи?
— Не знаю — это ведь дело лично редактора!
Вижу — толку не добиться никакого; надежды повидать Пятковского и объясниться с ним нет тоже.
— Ну-с позвольте, говорю, попросить вас о выдаче мне гонорара?
Конторщик извлек откуда-то громаднейшую книжищу, покопался в ней и выпрямился.
— Гонорара вам не причитается.
— Это почему?
— Вот изволите видеть? — он указал пальцем на страницу с моею фамилией: — г. Пятковский сам делает пометки.
Я нагнулся и увидел, что в графе, где обозначается гонорар, красуется слово «gratis».
— Чисто, говорю, у вас работают! Попрошу у вас в таком случае хоть книги, где помещены мои стихи!
— Пожалуйста. Три рубля семьдесят пять коп. позвольте получить с вас.
— За что?
— За книги.
— Да позвольте: авторам везде бесплатно выдают их!
— У нас г.г. авторы покупают.
— Так почему ж тогда вы считаете за книгу по рублю с четвертью, когда 12 книг стоят 12 рублей?
— Так установлено для г.г. авторов. Обратитесь к г. Пятковскому — может, он прикажет выдать бесплатно.
— Да ведь его видеть нельзя?..
— Нельзя.
Плюнул я и ушел.
Попыток узреть г. Пятковского более не делал; хотел учинить ему за такое бесцеремонное обращение с чужой собственностью скандал в печати, да рукой махнул.
23 сентября. В Чернигове, осматривая монастыри, услыхал, что в ста двадцати верстах от него находится Рыхловский монастырь, владеющий единственным в России лесом из тысячелетних дубов. Отправился в Рыхлы и прожил в монастыре несколько дней. Это настоящее трудовое братство, существующее исключительно трудами своих многочисленных сочленов. Одни из них пашут, другие возятся с обширным скотным двором, третьи на огородах, в садах, на пасеке и т. д.
Гостиницами заведывал невысокий плотный монах — лет 45, отец Федор. Я пригласил его к себе попить чайку; потом пообедали мы вместе в его келье, и о. Федор разговорился.
Много любопытного услыхал я от него о монастырской жизни; еще более узнал бы поучительного из этих бесед г. премьер — Столыпин, если бы только мог тайком подслушать наши речи. В первый раз в жизни видел я монаха, выросшего в монастыре и мало-помалу, под исключительным влиянием действий полиции и собственного духовного начальства, выработавшего в себе революционные взгляды. Пропаганды никакой он и не слыхивал.
Верстах в двадцати от монастыря ограбили какое-то волостное правление.
— А вы, спрашиваю я о. Федора — не боитесь экспроприаторов?
— Нет, мы люди привышные.
— Т. е. как это так?
— А так. Экспроприятели придут раз, ну два, — это уж Божье попущение, а полиция грабит нас каждую неделю! — И пустился он в рассказы.
— Что хочет, то и делает, — царь меньше его у нас в уезде значит! — говорил о. Федор про местного исправника, некоего Хоменского.
— Ездит всегда с урядниками, лупит кого и где попало. На днях ярмарка у нас была; здесь, на монастырском дворе стражники ни за что, ни про что нагайками мужиков бить стали. А он в номере сидит, чай пьет. Пошел я к нему, прошу унять безобразие, а он мне в ответ: «Мои люди никого никогда не трогают!» Потом встретил женщину из Новгород-Северска: она взятки ему не дала, когда он еще приставом был, вот он и зол был на нее. Увидал ее — паспорт давай, кричит.
Ну, а какой тут паспорт, на богомолье человек в своих же местах пришел?
— Нету паспорта.
— Нету? Тащи ее!
Ухватили бабу стражники, поволокли в номер к нему и уж бил же он ее там.
— Да вы бы, говорю, о. Федор, настоятелю пожаловались?
— Жаловался. Да что он может поделать — архиерею написать? А тот знай одно пишет — уладьте дело миром, не задирайте их. Боится. Все их боятся! Чистые опричники! Приедут в монастырь — сейчас подавай им того, другого, третьего. Раз к вечеру приехал со становым: обед подавай ему, да мясной, вашей-де дряни, пустых щей, не ем. Ну, а где здесь мяса достать? Сами знаете — ближайшее село в восьми верстах от нас.
— Нету, говорю, мяса!
— Чтоб было! — кричит.
— Что тут делать? Взял я и ушел от греха, послушники тоже попрятались. Вот они кричали, кричали, ругались, потом побили стекла в номере, да так и уехали ни с чем. Каждый раз, как придут — овса наберут, сена, яблок. Досада меня взяла! Выждал я случая — велел он наложить себе на подводу овса, я подхожу и спрашиваю у него деньги. А он скрутил дулю да кулак сжал и тычет их мне в лицо.
— Вот тебе плата, кричит: — любую выбирай!
— Что же архимандрит на это все говорит?
— Да что ему говорить? — Пущай, твердит: — Господь с ними, молчать надо… И молчим!..
А лес у них действительно изумительный!
24 октября. Вчера на углу Невского и Надеждинской разыгралась история, заставляющая много говорить о себе: столкнулся автомобиль с извозчиком, и ехавший на последнем корнет Коваленский с братом — камер-пажом, вошел в такой раж, что начал рубить и стрелять направо и налево и ранил тяжело городового, пытавшегося укротить его, студента и еще двух лиц. Братьев арестовали, но папаша этих героев, оказавшийся сенатором[237], поскакал куда следует и г.г. прокуроры, признав, что корнет действовал «в запальчивости и раздражении», освободили его на поруки.
Смертный, не имеющий тятеньки в Сенате и стреляющий хотя бы и мимо городового, подлежит на основании действующего «положения» смертной казни, и примеров пощады за это до сих пор не было.
Г.г. же Коваленские без суда и следствия мгновенно признаются действовавшими в раздражении и выпускаются на свободу.
26 октября. А. Д. Карышев купил у Василевского журнал «Образование». Тотомианц, Носков, Новорусский, Велихов, Монвиж-Монтвид, Поварнин, Е. Игнатьев[238] и я приглашены членами редакции; было несколько собраний, на которых установлено «кредо» журнала: прогрессивность, беспартийность и научно-популярность.
Карышев — круглый, скромный человечек, уже пожилой — страдает манией писательства. Ни одна редакция не брала его вещей.
— Ну что вам стоит взять, ведь вы редактор? — упрашивал бывало он Монтвида, молитвенно сложив ручки.
Но Монтвид — редактировавший «Всходы», был непреклонен. В талантливости своей Карышев настолько уверен, что у него вырывались даже такие фразы: — «Что ж, подождем; Чехова тоже поздно признали!»
Несколько книг напечатаны им на свой счет под псевдонимом «Милин». Сентиментальность его сказалась даже в псевдониме: имя жены его — Эмилия, вот он, так сказать, по принадлежности ей, и назвал себя так.
В общем он благожелательный и добрый человек. В литературных делах и обхождениях ничего не знает и делает ряд промахов: то пускается в откровенности с таким типом, с которым делать этого не следует, то чуть было не напринимал в журнал статей разных литературных хулиганов. Литературный мир, как и всякий в наши дни, кишит проходимцами.
8 ноября. Сегодня хоронят цусимского вел. кн. Алексея Александровича.
Еще шестого, вечером, начали затягивать черными и белыми полотнищами Николаевский вокзал и забор вокруг памятника Александру III. На Невском врыли черные мачты, увитые гирляндами из елок; фонари задернуты флером.
Полиция заботливо осмотрела и заперла на собственные замки все чердаки домов не только Невского, но и ближайших к нему улиц, вроде Гончарной; с владельцев меблированных комнат и гостиниц взята подписка еще за три дня о несдаче никому комнат до окончания похорон; к окнам квартир рекомендовалось не подходить и не очень выглядывать из них во время церемонии: за каждое открытое окно, или форточку, — штраф в 500 рублей.
Утром пошел взглянуть на церемонию, но видел ее лишь издалека. Не только на Невский, но и близко к нему не была допущена ни одна посторонняя душа; весь его заполняли солдаты, дворники и благонадежные «туземцы», изображавшие «народ»; я дошел до начала ограды церкви Знамения и дальше пробраться оказалось невозможным: сплошная линия городовых и пожарных в медных касках преграждала путь.
Картина все же была любопытная; слева над домами сквозь туман багровым пятном светилось солнце; бледно и неясно мерцали сквозь креп фонари. Публики поглазеть собралось очень немного.
Немало стоят обывателям Невского проспекта всякие веселые и печальные торжества в царской семье!
Похороны великого князя Алексея Александровича В Петербурге 8 ноября 1908 г.
9 ноября. Карышев отличается. Хотел ехать с визитом к цензору и насилу мог понять, что это неприлично.
В конце концов, тайно от нас, он все-таки съездил «представиться» градоначальнику и затем… к нашему приставу!!. Заявил последнему, что никаких «беспокойств» ему от журнала не будет, что он человек осторожный и благоразумный.
Пристав выпросил себе бесплатную высылку журнала, на том основании, что жена его любит почитать. Карышев обещал «немедленно по выходе книжек доставлять их со старшим дворником». Дал приставу еще нечто более существенное «на память» и тот, расстрогавшись окончательно, посоветовал ему «на всякий случай» завести подставного редактора. Остается еще крестить у старшего дворника, и дело «Образования» будет окончательно в шляпе!
Нянчиться с этим младенцем пятидесяти лет приходится вовсю: то он пишет длиннейшие, нелепые письма Л. Андрееву и др., которые мы не даем ему отправлять или сокращаем на девять десятых, то пускается в откровенности по поводу дел журнала и т. д.
17 ноября. Наложили арест на нашу первую книжку «Образования».
Что за причина — теряемся в догадках. Тотомианц ручается головой, что не по его вине — он редактировал экономические статьи.
18 ноября. Едва раздобыл № «Образования». Из типографии получили их всего десять, остальные захвачены и опечатаны еще в листах у брошюровщиков. Карышев распорядился сделать предварительное объявление о выходе книги и послал ее в цензуру, т. е. как раз наоборот установившемуся порядку: обыкновенно выпускают книгу, рассылают ее и только денька через два-три пускают ее в цензуру и дают объявления. Полиция является конфисковать и уходит с десятком-другим экземпляров и только.
Думаю, что причина ареста книги — неосторожно пропущенная Карышевым фраза в рассказе Подьячева[239], что-то вроде «царь-батюшка сам теперь водкой торгует. На совесть торгует». Эдакая ерунда и пустяковина, а наделала столько переполоха!
Жена Карышева вне себя и все твердит, что надо поскорей продавать журнал. Карышев с 10 ч. утра ускакал хлопотать. То-то вспомнил, должно быть, совет пристава не подписываться в качестве редактора?
Был во второй раз в редакции, видел Носкова, Тотомианца и дождался, наконец, Карышева. Старается держаться молодцом, хотя видимо расстроен. Дело уже передано Камышанским во 2-е отд. Палаты. В подъячевской фразе Камышанский усмотрел, конечно, 128 статью[240].
25 ноября. Хлопотали все эти дни об арестованной книжке. Обещали выпустить ее, истребив преступные три строчки в рассказе Подъячева. Аллах акбар!
6 декабря. Вчера вынесен военно-окружным судом приговор по возмутительному делу братьев Ковалевских. Старший, — ранивший выстрелами из револьвера четырех человек, в том числе городового — приговорен к трем месяцам гауптвахты, без ограничения каких-либо прав; младший — посвящавший кулаком другого городового в рыцари — оправдан.
8 декабря. С «Образованием» идет ерунда. Не везет вообще образованию у нас в России!
Карышев — это милейший обыватель, но отнюдь не редактор. Вышли уже две книжки, одна даже двойная, а физиономии у журнала все нет.
Ведет длиннейшие разговоры со всеми приходящими, дает обещания печатать статьи, не прочитав их и т. д. В результате неприятности.
29 декабря. Новый год ознаменуется смертью нескольких заслуженных журналов: прекращаются «Минувшие годы», «Юный читатель», умрут вероятно «Всходы», «Родник» и др.
Народились и новые; я, кроме «Образования» работаю теперь еще в «Мире», журнале двух братьев Богушевских[241].
1909 год
3 января. Был вчера в Литературном обществе. К. И. Чуковский — нескладный, длинный, встрепанного вида молодой человек — читал свой несколько устарелый доклад о Нате Пинкертоне и современной литературе[242]. Доклад поверхностный, но с остроумными местами и задираниями. Докладчик, на основании факта существования Пинкертонов и плохих кинематографов, вывел заключение, что интеллигенции уже у нас нет, что она умерла. Попутно зацепил слегка Горнфельда и Пешехонова, не говоря уже о Каменских[243] и Ко.
Ему аплодировали.
Начались возражения; беднягу Чуковского разделали под орех: напомнили ему, что он сам участвовал и участвует в тех органах, которые обругал, сам хулиганствовал, что он не смеет касаться людей, мизинца которых не стоит и т. д., и т. д. в самой резкой форме.
К. И. Чуковский
Особенно отличился Столпнер[244], амплуа которого на всех собраниях заключается иногда в остроумных, но всегда язвительных походах против референтов.
Аплодировали и им.
Словом, вышла почти форменная ругань; председательствовал большой человек, но очень маленького роста, слов которого в общем гаме никто расслышать не мог — скульптор Гинцбург[245].
После доклада Носков, М. Морозов и я остались ужинать; присосеживался к нам и опять убегал к другим столам и К. Чуковский. Я впервые познакомился с ним; очень в нем много еще ребячливого, но парень он наблюдательный, остроумный и несомненно с искрой Божьей.
Между прочим, он бегал между столами и раскладывал на них объявления о… выходе его новой книжки!
4 января. В судейских кругах толкуют о Лемане, знаменитом помощнике библиотекаря Зимнего Дворца, попавшем на скамью подсудимых.
Все распроданные им гравюры и пр. разысканы даже «до последнего корешка», по образному выражению Александрова, следователя по этому делу. Курьезнее всего, что все украденные «сокровища» оказались настолько порнографическими, что вызвали даже конфуз и отрицание от них со стороны дворцовых властей, когда их привезли, наконец, во дворец на трех подводах.
Только указанием на императорские орлы и штемпеля Александрову удалось убедить принять их, что сделано было весьма неохотно.
Такое «бестактное» водворение во дворец целого воза сугубой порнографии, да еще при подробнейшей описи, увековечившей кроме того и содержание рисунков, Александрову даром не прошло: полиция и сыщики получили награды, а он, усиленно проливавший пот на этом деле, — ничего.
Не лишены интереса повествования Лемана о его беседах с императором.
Приходит Николай II в библиотеку и говорит, что ему хочется «что нибудь» почитать; при этом поглаживает и вытягивает вперед рукою бородку.
— Что прикажете, Ваше Величество? Исторического содержания, или что-нибудь из беллетристики?
— Да, да… что-нибудь. Из беллетристики…
— Из новейшей или из старой?
— Из старой… После только, потом… — и уходит, не взяв ничего.
5 января. В петербургском градоначальстве готовятся открытия и скандалы совершенно в духе знаменитых московских. Устранено уже несколько заправил в канцелярии градоначальника; кн. Урусов рассказывал Дм. М. Бодиско, что он требовал от Столыпина предания суду самого Драчевского[246], но что премьер огорошил его просьбой, «как монархиста», не подымать истории и не делать о Драчевском запросов, так как это единственный человек, который может охранить жизнь императора.
6 января. Был сегодня В. М. Вышемирский, исполняющий обязанности следователя 12-го участка. Это молодой, деятельный и симпатичный человек. Рассказывал о следствии, производящемся у них по делу о бомбе, недавно взорвавшейся, если я не спутал, в «Кафе-Централь» на Невском проспекте[247].
Оказывается, что бомбу эту принес и положил некий сын статского советника; по «семейным обстоятельствам» он очень хотел служить в охранном отделении и предложил свои услуги, но там его не приняли, предложив сначала чем-нибудь зарекомендовать себя.
Словом, выясняется, что эта взорвавшаяся рекомендация и другая, невзорвавшаяся и найденная в «Кафе de Paris», были подложены по указанию охранного отделения как бы в противовес запросам о смертной казни, вносившимся в то время в Думу… Разоблаченьице не новое: нас теперь решительно ничем не удивишь!
Прежде, помню, когда должны были казнить убийцу начальника главного тюремного управления, я чувствовал себя неладно и даже плохо спал в ту ночь, все представляя себе рассвет и гнусную процедуру приготовления здорового человека к смерти.
Теперь читаешь и слышишь о ежедневных казнях десятков людей и обращаешь на них столько же внимания, как на брошенный газетный лист.
19 января. Вчера с огромными предосторожностями арестован бывший директор Департамента полиции Лопухин. Одних городовых было прислано до сорока человек, словом, меры были приняты такие, как будто предстояло брать штурмом Алексеевский равелин.
Лопухин, после тщательного обыска квартиры, взят под стражу. Причины пока неизвестны, но ходят слухи, что арест его находится в связи с разоблачениями, сделанными в Париже Бурцевым.
Сведения об этом, помимо писем, проникли к нам через иностранные газеты.
Ввиду «свободы» печати, петербургские газеты с большой осторожностью напечатали выдержки об этой истории из иностранных официозов. Тем не менее, градоначальник оштрафовал все газеты за распространение «ложных сведений». Через два дня, к большому конфузу скоропалительного генерала, штраф пришлось сложить…
20 января. Лопухин арестован за то, что способствовал выяснению революционерами провокационной деятельности Азефа.
Газеты сегодня полны статьями об этой истории. Интереснее всего, что Азеф, выдав по тому или другому случаю своих сотрудников, устраивал партийные суды, на которых выносились смертные приговоры, как предателям, тем из партийных деятелей, которых он хотел устранить.
Есть версия, что Лопухин замешан и в темную историю, о которой в свое время глухо поговаривали в городе. Говорят, будто готовился дворцовый переворот в пользу Михаила и что Лопухин участвовал в заговоре и был сторонником последнего. Ерунда не из последних. Рассказов теперь не обобраться.
2 февраля. Носков ушел из редакционного комитета «Образования». Накануне ухода и я с Тумимом[248].
5 февраля. Предстоит выступить на суде чести между Карышевым и Носковым в качестве свидетеля. Всех дел первого перечислять не стану, отмечу только некоторые, особенно возмутившие нас.
Такса за лист научных статей в «Образовании» установлена в 80 руб. В наследство от Василевского к Карышеву перешли две рукописи профессора Локтя[249], бывшего члена 1-ой Госуд. Думы; человек этот в настоящее время бедствует, так как лишен места и живет в Москве.
Тотомианц посоветовал Карышеву рассчитать Локтя по 40 р. за лист, утверждая, что он будет доволен и этим.
Карышев, разумеется, с радостью ухватился за такую «экономическую» идею и послал Локтю гонорар по сорокарублевой расценке.
Возмутились мы страшно.
С «Образованием» носится до противного: хвастается буквально каждому, впервые пришедшему, человеку выпущенными №№ и уверяет, что никогда и нигде еще не выходило таких замечательных, так великолепно составленных книг.
— Особенно хороша беллетристика; она в твердых, надежных руках! — добавляет он всегда, многозначительно подмигивая, и особенно напирая на последнюю половину фразы.
Беллетристикой заведует он сам. Надо отдать справедливость, и беллетристика в журнале из рук вон плоха, да и все остальное под пару, т. к., несмотря на «конституцию», он вмешивается во все отделы и уродует их по своему усмотрению. Работать при таких условиях, разумеется, нельзя.
Но какое количество подлецов на свете! Целые толпы их являются по приемным дням в редакцию и курят фимиам Карышеву за его «дивные книжки», уверяют в любви (?!), просят руководства и т. д.
14 февраля. Получил очень меня удивившее письмо от Д. Карышева с просьбой пожаловать на общее собрание сотрудников в понедельник, 16 февраля.
15 февраля. Видел Н. Д. Носкова и Е. И. Игнатьева.
Последний в большом фаворе у Карышева, часто заходит к нему и рассказал великую новость: Тотомианц ушел из «Образования»[250].
Чудо настолько большое, что решил побывать у Карышева.
Встретил он меня чуть не с объятиями, — знак плохой. Оказалось, что за время моего непосещения редакции накопилось множество событий и все до некоторой степени были предсказаны ему мною и Носковым.
Еще на самом первом редакционном собрании я поднял вопрос — на каком основании, без ведома всех членов редакции, в список сотрудников попало несколько новых лиц. Пригласил их, как выяснилось, Тотомианц; Карышев извинился и сказал, что спешный выпуск первой книжки не позволил им посоветоваться с нами и что впредь этого не будет.
По выходе второй книжки, список сотрудников опять увеличился; на ее обложке очутились уже совсем нежелательные имена. Опять это оказалось делом рук Тотомианца и попустительством Карышева. Общих собраний у нас более не было, одиночные мои протесты ни к чему не вели, а Тотомианц все нагонял и нагонял в журнал своих людей.
— Смотрите! — предупреждал я Карышева, — вас заполонят эсдеки и скоро вы очутитесь в плену у них. Тотомианц их застрельщик и ведет свою линию неуклонно!
Одновременно с этим Тотомианц начал поход и против всех нас, не принадлежавших к его партии, членов редакции.
Носков не выдержал этой марки и ушел, я тоже совершенно отстранился от журнала. Тотомианц мог бы торжествовать.
И вдруг к Карышеву является литературный «некто в сером» — Бонч-Бруевич и заявляет ему, что он не может работать в «Образовании», т. к. в списке сотрудников его значится Изгоев[251].
Затем приходят Финн-Енотаевский, тот же Бонч, Клейнборт[252] и еще кто-то из столь же знаменитых особ и заявляют, что они явились с «требованием в качестве уполномоченных от партии эс-деков об удалении из состава редакции… — Тотомианца, как изменника партии, и всех остальных не эс-деков».
Карышев обещал им устроить собрание шестнадцатого и вот на это-то собрание я и получил приглашение. В «изменники» Тотомианц попал потому, что должен был сделать «Образование» чисто эс-декским журналом, но до сих пор не выполнил этого.
Не лишена интереса и отдельная сценка с Финном. Е. Тотомианц, познакомив с сим мужем Карышева, выпросил тут же аванс для него в 50 р. Финн принес ему потом какую-то статью.
Когда явившаяся депутация в ответ на свое требование услыхала отказ, то заявила, что в таком случае все эс-деки уйдут из журнала и что этот уход будет крахом для него, т. к. их огромное число. Финн потребовал обратно свою рукопись.
— Деньги на стол! — ответил ему Карышев. — Верните аванс — получите рукопись.
Финн настаивал на немедленном получении ее; Карышев твердил свое. Тогда Финн замолчал и через несколько минут сказал: «да, вы правы, конечно. Но, надеюсь, вы мне не откажете дать рукопись на несколько минут для исправления конца?»
— На несколько минут?
— Да.
— Пожалуйста!
Карышев вынул рукопись и подал ее Финну. Тот согнул ее пополам и прехладнокровно засунул в боковой карман.
— Больше вы ее от меня не получите! — сказал он — она будет у вас только тогда, когда уйдут все нежелательные для нас лица!
В результате Карышев пришел к следующему решению. 16-го он «примет» эс-деков и будет говорить с ними единолично, пообещает им исполнить постепенно их требование, чтобы избегнуть скандала, вредного для журнала, и затем… «выпрет» их самих.
— Зачем же нам приходить — спрашиваю: — если собрания не будет? В качестве чего же мы будем сидеть тогда у вас за ширмой?
— В качестве моих гостей. После подобного объяснения мне необходимо побывать среди таких людей, как вы… Понимаете меня?
В конце концов я согласился придти к нему в качестве гостя и вот теперь сижу дома, пишу эти строки и недоволен собою: не нужно было давать этого глупого обещания. В качестве чего мы будем сидеть у него в столовой? В качестве засады дворников для выручки «хозяина», если его бить начнут?
17 февраля. Эс-деки провалились с треском.
Пошел вчера без четверти семь часов вечера в «Образование» и почти у подъезда встретился с шедшим туда же Кирьяковым[253].
В редакции был уже Тумим и еще кое-кто. Тумим не был в редакции с неделю и не знал совершенно ничего; я посвятил его во все тайны.
— Знаете что? — ответил он, глядя на меня круглыми глазами: — у меня совершенно не укладывается в мозгу то, что вы рассказали!
Я засмеялся. Народа все прибывало. Наконец, между черными пиджаками в сюртуками замелькало розовое лицо Ниночки, дочки хозяина, приглашавшей нас в столовую. Я отправился туда с Тумимом. Там уже сидели Н. Русанов (Кудрин)[254], старик Вух, Е. Игнатьев и Кирьяков.
Принялись за чаепитие и конфекты.
Звонки между тем раздавались за звонками; взрывы нашего смеха, несомненно, доносились в редакционную залу, где уже начались речи г.г. экспроприаторов. Голоса там все повышались.
Вдруг вбегает Ниночка и взволнованно заявляет, что «там на папу кричат!». Эмилия Константиновна побледнела. Я поднялся с места и, сделав вид, что поплевал в кулаки, произнес: — «Ну, ребята, вали; хозяина бьют!» Мне ответили дружным смехом.
Через некоторое время к нам явился В. Поссе[255].
— Черт знает что! Я никогда не слыхал и не видал ничего подобного — была его первая фраза при входе. — Это же хулиганы какие-то!
Поссе — не член редакции и приехал исключительно затем, чтобы быть свидетелем того, что произойдет.
Оказалось, что их требование «собрания» было в несколько иной форме, чем мне передал Карышев. Они заявили, что, если К. не желает устроить собрание, то они вломятся силой и оно все-таки будет. Они распределили уже между собой даже отделы и роли в журнале.
Поссе заявил, что Карышев ведет себя не так, как надо, идет на уступки и сказал, что он согласен «выкинуть» несколько неугодных им фамилий из списка, но не все…
— Если будет вычеркнута хоть одна фамилия — мы должны уйти решительно все. Это пощечина для всех нас, — заявил я. — Здесь не гимназисты и «исключать» кого-либо не имеют права. Прежде всего, у нас конституция и Дм. Ал. ничего не может решать самолично: он должен выслушать эту братию и сказать, что «хорошо-с, я передам все это комитету и там увидим, что решит он».
Все, особенно Тумим и Русанов, встали за меня. Вызвали Карышева и когда он прибежал, сказали ему, как он должен держаться с господами, забравшимися к нему в дом.
В 11 часов эс-деки разом бросились в переднюю и стали одеваться. Вошел, улыбаясь, Карышев и, потирая пухлые руки, произнес: ушли!
— То есть?
— Совсем ушли. Из состава сотрудников!
Мы принялись аплодировать.
У Русанова как раз оказалась в кармане статья о Жоресе. Он ее передал Карышеву и, таким образом, убыль иностранного обозревателя — Берлина — разом пополнилась. И это мы встретили аплодисментами.
— А не повредит их уход журналу? — их ведь человек сорок было? справился потрухивавший в душе Карышев. — Они собираются написать письмо в редакции газет!
Мы его успокоили. Пусть попробуют написать: в дураках останутся только они одни.
Поздравил я Карышева с очищением атмосферы в редакции и отправился домой. Невероятно, но факт!
На другой день после знаменитого эс-дековского ультиматума зашел я к Карышеву; не успел пропеть петух после их отречения, а уж… утром Берлин запросился обратно… Забегал в редакцию и Тотомианц.
Эс-деки являлись в «Речь» с письмом в редакцию о своем уходе, но получили отказ в напечатании его.
12 марта. По Петербургу ходят слухи о близкой гибели города а la Мессина[256]. Как это ни странно — к ним прислушивается не только простонародье, но и многие из интеллигенции.
Толкуют о пророчествах какой-то женщины, предсказавшей, якобы, гибель Мессины и еще что-то, наивная вера в глупую басню так велика, что некоторые собираются уехать на Пасху из города. Событие должно произойти на Пасхе.
От землетрясения осядет полоса земли между морем и Ладожским озером и волны последнего смоют столицу с лица земли. Отмеченное сейсмографом, неизвестно где происшедшее землетрясение служит как бы первым предостережением. Вот вам и XX век!
10 мая. Два месяца не брался за перо, хотя много было, что следовало бы занести в эту книгу. Отмечу кое-что вкратце.
В апреле конфисковали очередную книжку (№ 4) «Образования». Конфисковали за мой рассказ «Тайна»; кроме того, за рецензию о книге Фирсова — «Пугачевщина»[257] градоначальник оштрафовал Карышева на 500 руб.
В редакции «Образования» после истории с эс-деками я больше не был — опротивел мне Карышев с его вечным враньем и никчемными разговорами; написал из приличия сочувствующее письмо ему из Кемере и ограничился этим.
Больше в «Образование» не пойду, пока, разумеется, там Карышев. А сидеть ему там и изображать из себя литературную персону и судью долго не придется; по слухам, он крепко струхнул, приуныл и уже продает журнал.
Привлекают его по 73-ей статье[258]. Что ж, потешился, повеличался, пора и честь знать. Он уже купил себе имение где-то близ Петербурга и это самое лучшее, что мог придумать.
«Образование» гибнет; Карышев сделал все, что мог, чтобы погубить его, подписка очень невелика и вряд ли найдутся чудаки, желающие ложиться костьми для поддержания его.
У подъезда моего на Суворовском просп. был арестован Минин; он эс-дек и по разным эс-дековским делам и за издание сборника «Веяния времени»[259] должен был превратиться в нелегального человека и жить по чужому виду под фамилией Шейнина.
Минин[260] и раньше говорил мне, что за ним опять начали следить шпики и даже однажды удрал от них через мою квартиру, имевшую выход и на 8-ю улицу.
Прекратилось продолжение «Товарища», «Нашей газеты»; вообще всюду дела идут плохо. Публике, видимо, наскучили все «товарищи» и двуногие и неодушевленные.
Лопухин приговорен к пяти годам каторги… Процесс был любопытный. Власти так устроили, что главнейшие свидетели, вроде Рачковского[261], отсутствовали — были «неразысканы».
18 мая. Похоронили О. Пергамента. Покойный был видный член Государственной Думы. Умер от разрыва сердца, но черносотенные газеты с «Новым временем» во главе заявляют, что он отравился.
Дело в том, что в наш век «привлечений» к суду собирались привлечь и его с несколькими другими лицами в качестве обвиняемого в пособничестве в бегстве за границу и укрывательстве известной мазурницы Ольги Штейн[262].
Трое друзей Пергамента, тоже члены Гос. Думы, отправились в Александро-Невскую лавру заказывать ему могилу. В конторе им сообщили, что могилы отвести не могут: митрополит Антоний чинит препятствие.
Слушание дела О. Г. фон Штейн в Петербургском окружном суде. На скамье подсудимых первая слева О. фон Штейн. На скамье защиты первый слева О. Я. Пергамент. Цифрой 4 означен прокурор Громов (рисунок из газеты «Петербургский листок», 1907)
Пошли они к Антонию. Митрополит заявил им, что хоронить Пергамента в черте города и по христианскому обряду, хотя он и православный, нельзя: он самоубийца.
Тогда приехавшие достали из кармана удостоверение прокурора и полиции, что препятствий с их стороны к погребению тела не имеется и что произведенное следствие установило факт естественной смерти Пергамента.
Митрополит ответил, что это, конечно, меняет дело, но что он должен переговорить с обер-прокурором, т. к. накануне по поводу предстоящего погребения Пергамента было заседание из пятнадцати владык и один из них, владыка Херсонский и Николаевский, сказал, что если бы даже Пергамент умер своей смертью, то его не следует хоронить в Лавре, т. к. неизвестно, был ли он у исповеди и причастия в текущем году.
Депутация горячо принялась возражать против дикого мнения, но Антоний сказал, что споры напрасны.
Возмущенные депутаты отправились к председателю Госуд. Думы, Хомякову[263]. Было девять часов вечера. Хомяков по телефону позвонил к Столыпину и весьма резко пересказал ему содержание переговоров с Антонием, добавив, что он не сомневается, что вся Гос. Дума сочтет историю с телом выдающегося сочлена ее за личное оскорбление и что, кроме того, все общество Петербурга сумеет достойно реагировать на нее.
В 11 час. вечера Столыпин позвонил Хомякову и сообщил, что все препятствия устранены, но только похороны должны произойти на Смоленском кладбище.
Похороны вышли весьма внушительные; весь Невский был залит народом; часть публики была обманута публикациями, гласившими, что погребение состоится в Лавре и долго напрасно ожидала у ворот ее приближения процессии.
19 мая. Карышев бросил журнал и уехал в свое имение, под Бологое.
По городу ходит масса разноречивых толков про смерть Пергамента.
Беседовал сегодня по поводу похорон его с нашим дьяконом. Дьякон дал несколько иное освещение происшедшему. Оказывается, похороны Пергамента совпали с Духовым днем — престольным праздником в Лавре, по престольным же праздникам церкви похорон не производят.
14 июля. Много воды утекло и дел совершилось за то время, что я опять не прикасался к этой книге. Причина последнего не лень, а то, что книгу эту приходится хранить в безопасном месте, не у себя на квартире.
От «Образования» и Карышева простыл и след: подписчики остались с носом, а Карышев, по слухам, уже за границей.
Кроме «Образования», естественной смертью опочило «Слово» — довольно-таки бездарная и пустопорожняя газета; «Новая Русь» дышет на ладан и, таким образом, к услугам петербуржцев остается только одна «Речь».
Был, между прочим, сегодня в редакции журнала «Мир».
В ночь на десятое к ним нагрянули гости — жандармы и полиция. Дело в том, что «Мир» первый поместил статейку о провокаторе Гартинге-Ландейзене[264] и теперь, когда дело загремело по всему свету, на нее обратили внимание. Автор статейки — Семенов, настоящее имя которого Соломон Коган[265], был арестован, но так как он французский подданный, то его через сутки выпустили. Дома у него все перевернули вверх дном.
В половине второго ночи компания нагрянула к Богушевским; был «сам» начальник сыскного отделения с помощником и, кроме того, 14 офицеров полиции и жандармерии с приличным количеством нижних чинов.
Перерыли контору, редакцию и помещение самих Богушевских, забрали портфель с бумагами Семенова, кое-какие рукописи, письма и по пяти экземпляров всех изданий «Мира».
Ничего опасного не нашли, да и глупо было и искать что-либо у таких добродушных младенцев, как Богушевские. Единственное же, к чему могли придраться — письмо Хрусталева-Носаря[266] — лежало в папке с другими письмами, но замечено ни одним из 14 офицеров не было.
4 декабря. На днях был в редакции «Мира» и толстяк, старший Богушевский встречает меня и, по обычаю своему, кричит во все горло: — Черт знает что! Неприятности у нас, безобразие!
— Что такое?
— Да с Тенеромо!
Оказывается, этот толстовец и вегетарианец[267] устроил такую штуку: уговорил Богушевского дать на будущий год в приложении к журналу свою «необычайно интересную книгу» — «Живые речи Толстого».
Получил с него 500 р. в виде аванса (продал за 1000 р.); «Васенька» на сумасшедшую сумму накатал объявлений, каталогов и анонсов и вдруг получил письмо из склада «Посев», гласящее, что книга Тенеромо уже издана им, совершенно не идет и почти целиком лежит в кладовой, а потому журнал «Мир» права издавать эту книгу не имеет (издана была в 1908 г.).
Между тем, Тенеромо уверил Богушевского, что издание давно «расхватано» и крайне важно для журнала… Васенька разволновался и, когда явился Тенеромо, — а явился он за получением остальной суммы, — стал объясняться с ним.
Не вкушающий мяса вегетарианец признал происшедшее «недоразумением» и предложил весьма простую комбинацию для насыщения овец и волков: переменить заглавия рассказов, вошедших в книги, или хотя бы несколько изменить их.
«Васенька» рассказывал это при Н. О. Пружанском[268].
Обложка книги И. Тенеромо «Жизнь и речи Л. Н. Толстого в Ясной Поляне» (изд. «Посев», 1908)
— Разумеется, я отказался, — восклицал Васенька, оттопыривая нижнюю губу и махая руками: — благодарю покорно, я в таких проделках не участвую!
— О-о! — протянул Пружанский. — Я хорошо его знаю. Он давно живет на счет Толстого и надувает публику: это не речи Толстого, а переложение Талмуда; он Талмуд обкрадывает!
Богушевские — весьма порядочные люди. Васенька — издатель, кроме того, чрезвычайно остроумный и добродушный по природе человек, но совершенно еще в сыром виде. Он, например, серьезно спрашивал меня, когда Иван Щеглов[269] принес ему весьма глупый рассказ (помещенный потом в «Мире») — кто выше и лучше — Щеглов или Чехов? Подобных вопросов он задавал десятки.
6 декабря. Авансов набрала у Васеньки литературная братия без конца; вообще, эта злополучная редакция является местом, куда слетается коршунье, только затем, чтобы урвать кусочек.
Тенеромо, вместо того, чтобы обходить за две версты редакцию «Мира», ходит в нее каждый день и все уговаривает Богушевских «не обращать внимания на претензию «Посева»».
— А я не сдаюсь! — восклицал, передавая мне это, Васенька. Настоящий он Живокин[270], только не сознающий своего комизма! — чем драматичнее положение, в какое попадает он, тем больший смех вызывают его рассказы.
Удержаться от искушения говорить Васенька решительно не может и выбалтывает все, что только ни сообщают ему. И такому-то человеку литературная братия поверяет «по секрету» один про другого, что он бездарен, глуп и т. п. Васенька помирает со смеху, передавая все эти гнусности, основанные только на желании выпихнуть того или другого из редакции, чтобы занять больше места под свои статьи.
20 декабря. Для полной обрисовки Богушевских расскажу, как ведут дела эти люди.
Левушка — горный инженер по профессии — очень мало сведущий в литературе человек; вдобавок, он глух и упрям, как целая хохлацкая губерния. Задумали эти благодушные обыватели издавать журнал и первым делом устроили контору.
Пригласили за 150 р. бухгалтера, затем заведывающего конторой и конторщика. В заведывающие складом добыли откуда-то некоего Гинлейна — лысого немца; секретарем поступил к ним Ф. Ф. Потехин[271].
Последний «поступил» просто: явился в один прекрасный день без всякого зова и стал «помогать» в конторе, явился и на другой день, и на третий… Богушевские радовались. Когда стали выдавать конторе жалованье — пришел получать и Федор Федорович.
— Но ведь вы не служите?… — осмелился сконфуженно возразить Васенька.
— Нет, служу. Я же работал? Без меня вы не обойдетесь! — твердо возразил Потехин. Деньги ему были выданы и, таким образом, он водворился у них явочным порядком.
Подписка шла плохо; работы в конторе не было в сущности и для одного человека. Васенька и Левушка ворчали и жаловались на расходы, но когда им советовали прежде всего сократить контору — они оглядывались на закрытые двери, понижали голос и переводили разговор на другие темы.
«Контора» делала, что хотела; книгопродавцы открыто говорили, что Гинлейн продает книги, и наконец из области толков дело перешло на факты: в кладовой Богушевских обнаружилась пропажа на 3000 р. книг. Ключ от склада находился всегда у Гинлейна.
Тем не менее, и после этого случая у Васеньки не хватило духа расстаться с ним. Чрезвычайно милая и симпатичная старушка — мать Богушевских — Прасковья Александровна, выходила из себя, но решительно ничего не могла поделать со своими обожаемыми телятами.
Наконец, контора дошла до того, что стала не только даром получать деньги, но еще и грубить за это. В один прекрасный день Васенька вышел из себя и закончил почти, как Агафья Тихоновна в «Женитьбе» — вон убирайтесь все! Чтоб духу вашего здесь не было!
Я пришел в «Мир» как раз после этой истории и Васенька, разгуливая по кабинету в виде индейского петуха, сообщил мне с торжеством, что «слава Богу, выгнал, наконец, всех к черту».
Я порадовался за него. Прихожу на другой день, — гляжу — контора вся в сборе по-прежнему; тишина, все сидят нагнувшись над столами и усиленно что-то пишут. Прохожу к Васеньке в кабинет и спрашиваю, что все это значит?
Васенька сконфуженно разводит руками.
— Пришли, — говорит. — Опять работают!
— Да что же вы их не вытурите?
— Пришли! — опять повторяет Васенька. — Что ж поделать? Я им говорю, что они не нужны, а они сидят!
Я чуть не умер от смеха.
И такая история повторялась по сие время уже трижды: раз выгонял их Васенька, во второй раз, во время отъезда его — мать его и в третий раз — Левушка, «а они все сидят»!
1910 год
4 января. Был сегодня у Н. П. Карбасникова; беседовали с ним о всякой всячине. Пирожков[272], оказывается, подвел его с «затылками» векселей не на 100, а ровно на 180 тысяч рублей.
— Да, говорил Николай Павлович, — не думал я, что придется на старости лет попасть в такую кашу! — Ему, бедняге, пришлось для спасения дела преобразоваться в «товарищество».
Рассказал мне следующее.
Был он в суде. К председателю подходит какая-то старуха, кланяется и просит у него билет на каторгу. Тот в недоумении, и отвечает ей, что никаких билетов суд не выдает. Та стоит на своем и, в конце концов, старуху уводят.
— Екнуло у меня сердце! — говорил Н. П. — Сам только что пережил тяжелую историю с сыном, жалко мне ее стало. Поманил ее к себе пальцем и велел придти сюда, в магазин. Явилась она. Расскажи, говорю, что у тебя за дело? Так и так, говорит: сын на каторгу сослан, остались мы вдвоем со стариком; его, как забрали сына, паралич разбил; живем в подвале, а теперь для дров он понадобился, так выселяют нас. А пенсии получаем всего пять рублей в месяц. Мы и решили к сынку ехать; помирать ведь все равно где!
— А за что он на каторгу попал?
— Сын то? А за леворверты: леворверты у него нашли!
— Вот что, — говорю, — старуха. — Иди-ка ты опять сейчас в суд, принеси мне копию с обвинительного акта: посмотрим — может быть, как-нибудь помочь твоему сыну можно будет?
Принесла ему старуха копию. Дело оказалось такого рода: сын ее служил при меблированных комнатах где-то на Фонтанке. В один прекрасный день часто бывавший субъект — фамилию его забыл и помню только, что она грузинская — обращается к нему и просит его припрятать на несколько дней два револьвера.
Дуралей взял их и даже гордился такого рода доверенностью к своей особе и не только не скрывал этой «тайны», но даже хвастался на кухне этим событием в своей жизни.
Нашлась баба, которая сказала ему «дурака», напугала и убедила вернуть револьверы их хозяину. Умная голова решила исполнить это на другой день, а ночью пришли с обыском и парня забрали с поличным. В соседнем доме тоже был обыск: там найдены были бомбы.
«Дело» этого хранителя пристегнули к делу боевой организации, и дурак, вместо штрафа за хранение оружия без дозволения, попал на каторгу.
Карбасников принял самое горячее участие в старухе; хлопоты его увенчались успехом, и вот на днях получена телеграмма, что сына ее возвращают с каторги.
29 января. Видел Н. Н. Шаврова[273], только что приехавшего из Туркестана, где он заведывает переселением. Много рассказывал о безобразиях, творящихся в Туркестане; Кривошеин[274], министр, встретил его теперь по приезде весьма нелюбезно и резко заявил, что его послали в Туркестан «заниматься делом, а не политикой».
Шавров возразил, что он и не думал заниматься ничем подобным. Тогда Кривошеин, глядя на него в упор, сказал: «Неужели вы так наивны, что думаете, что ваших писем не распечатывают и не читают?».
В Ташкенте вышла с перлюстрацией история такого рода. Ревизовал этот край граф Пален и ревизовал, судя по отзывам Шаврова, очевидца ревизии, весьма плохо. Чиновники его шатались по «заведениям», опрашивали лакеев, выгнанных чиновников, и вообще старались выуживать всякие сведения у самых подонков.
Одному из чиновников Палена потребовалось какое-то дело из канцелярии генерал-губернатора. Дело выдали и — о конфуз! в нем оказались подшитыми письма самого Палена, адресовавшиеся им лично к Столыпину.
Их перехватывали, «приобщали» к делу и до такой степени просто смотрели на такого рода «службу», что даже забыли о них и выдали вместе с делом паленскому же чиновнику.
Скандал вышел грандиозный.
31 января. Заглянул Г. В. Бартенев. Хочет ликвидировать свое участие в книгоиздательстве «Посев».
Был у Н. С. Алексеева — приятеля ныне покойного уже и мало кому известного поэта — сатирика Щиглева[275].
Бартенев прочел мне на память пару стихотворений последнего и они так мне понравились, что я задумал написать статью о нем. Бартенев потащил меня к Алексееву за материалами, но их у него оказалось мало и 10 числа мы учиним нашествие на семью Щиглева.
Кому известно теперь это имя? А вместе с тем Владимир Романович был весьма одаренный человек; складка ума у него была резко сатирическая и по этой причине огромному большинству его стихов увидеть света в печати не удалось; теперь много их затеряно и утрачено, а, повторяю, жаль.
Видел у Николая Семеновича несколько картин работы того же Щиглева — копию с репинского портрета Толстого и стену с распахнутой железной дверью. По объяснению Н. С. — это вход в покинутую политическую тюрьму; и вход, и дверь — все заросло красными цветами… тюрьма пуста…
Розовое «праздное мечтание» сие и портрет Толстого исполнены очень недурно. Кроме них, Алексеев показал несколько картонок, — крышек от коробок с гильзами; на одной из них мастерски написан генерал Дитятин в его классической позе.
Человек Щиглев был нервный, подвижной, кипучий, не терпевший никаких противоречий. Умер он мгновенно, ночью, шестидесяти лет от роду. И что осталось от всей этой кипучей жизни? Несколько стихов, напечатанных в давно исчезнувших и забытых газетах, да водевиль «Помолвка в Галерной гавани». И только небольшой кружок старичков-знакомых оживляется теперь, услыхав имя Щиглева, и начинает вспоминать его меткие словечки и хлесткие стихи.
После Щиглева осталась незаконченная картина — русские писатели в раю.
Ближе к Саваофу, в облаках, сидит Екатерина II, Державин и др. Все они расположены по рангам от земли до неба; за столиком, на земле, обжирается дедушка Крылов.
10 февраля. Сейчас вернулся с Большой Болотной ул. от Щиглевых. Очень милая, тихая семья старого склада; состоит она из двух старушек — жены Щиглева и ее сестры и из дочери первой.
Снабдили меня двумя объемистыми пачками рукописей Владимира Романовича; писал он в переплетенных тетрадках; к сожалению, многое из этих тетрадок вырвано и уничтожено — он одно время жил в меблированных комнатах и, боясь обыска, поуничтожил особенно резкие вещи.
Беседовали, конечно, больше о нем; предложение мое написать статью о покойном было принято с благодарностью, обещали собрать побольше материалов. На стенах у них висит несколько картин работы его; очень недурна, между прочим, картина, изображающая Николая I, стоящего во весь рост в халате и ночном колпаке Петра I. Халат длинен и лежит частью на земле, туфли велики тоже, но вид у Николая прегордый.
— Это он ездил ума набираться! — говаривал Щиглев. Дело в том, что Николай I в последний год своего царствования действительно ездил в Петергоф и там ночевал в комнатке Петра I. Сторож будто бы подглядел в щелку и видел Николая, надевшего вещи Петра. Рассказ его и вдохновил Щиглева.
Добавлю, что Щиглев был замечательный музыкант и композитор-импровизатор.
К. Н. Веселовский Жизнь и труды С. Р. Минцлова
Выдающийся библиофил и библиограф, занимательный рассказчик и одаренный прозаик, журналист и путешественник, археолог и коллекционер — все эти определения равно применимы к Сергею Рудольфовичу Минцлову и каждое из них отражает лишь часть его многогранной, деятельной натуры.
С. Р. Минцлов родился в Рязани в 1870 году. Писатель утверждал, что начала его родословного древа «уходят в древнюю Литву» и возводил свой род к предкам «литовского происхождения, из племени пруссов», павшим в «великой Грюнвальдейской битве». В жизненном пути Минцлова сплелись как военные, так и глубоко укоренившиеся культурные традиции семьи, наследственная любовь к литературе и книге, пристрастие к библиографической работе и страсть к книжному собирательству.
Дед писателя Рудольф Иванович Минцлов (Карл Рудольф, 1811–1883), уроженец Кенигсберга, доктор философии, женатый на французской поэтессе и переводчице Эрнестине Гоппе (де Галле), был известным библиографом, преподавал в Александровском лицее, обучал немецкому языку будущего императора Александра III и великих князей. В числе его литературных трудов — переводы на немецкий произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и других русских классиков, оперные либретто, «История литературы древних народов» (1873), очерки в петербургской газете на немецком языке «St.-Petersburgische Zeitung» (из напечатанных им в этой газете в 1848–1851 гг. еженедельных статей о жизни столицы была составлена книжка «Санкт-Петербургская хроника», изданная крошечным тиражом в 2009 г.).
«Кабинет Фауста»
С 1847 г. и до конца жизни Р. И. Минцлов прослужил в Императорской публичной библиотеке, в качестве старшего библиотекаря и хранителя отделений философии, инкунабулов, альдов и эльзевиров составил описание эльзевиров ИПБ, публиковал и другие библиографические работы. По его инициативе в библиотеке в 1857 г. был создан так называемый «Кабинет Фауста» — сохранившийся до наших дней готический зал (архитекторы И. И. Горностаев и В. И. Собольщиков) для хранения инкунабулов.
«Пестро расписанные крестообразные своды плафона опираются на массивный серединный столп, составленный из четырех соединенных в одно колонн. Две стрельчатые оконницы с своими розетками и трилистниками из цветного стекла; громадные шкафы, которых далеко выдающиеся карнизы поддерживаются витыми колонками, возвышаются до самого свода; тяжелый стол и кресла, пюпитр для письма, какой можно видеть еще на старинных ксилографах, на нем часы с кукушкою для боя и арабский зеленый глобус с астролябиею, а сверху на невидимой нити спокойно парящий вампир, скамья для чтения книг, обложенных цепями: все, до неуклюжих растопыренных петель и запоров на боковых дверцах и до чернильницы, напоминает монастырскую библиотеку пятнадцатого «типографского» столетия» — так описывал Р. И. Минцлов «Кабинет Фауста» в своей брошюре «Прогулка по Санкт-Петербургской Императорской публичной библиотеке» (1872). В 1872 г. Р. И. Минцлов выступил также автором книги «Петр Великий в иностранной литературе» — каталога иностранных сочинений о России в коллекции Императорской публичной библиотеки.
Титульный лист книги P. И. Минцлова «Петр Великий в иностранной литературе» (1872)
Отец писателя, Рудольф Рудольфович Минцлов (1845–1904), женатый на Анне Яковлевне Бодиско, был видным юристом, общественным деятелем и публицистом, служил на судебных должностях в Рязани, затем переехал в Москву, с 1893 г. жил в Петербурге (в частности, занимал должность секретаря Юридической комиссии Союза русских писателей). В 1890-х гг. он держал салон, где собирались либеральные представители наук, искусств и литературы. Под конец жизни Р. Р. Минцлов утратил рассудок, три года провел в лечебницах для душевнобольных. Собранную отцом огромную библиотеку (свыше 14,000 томов) С. Р. Минцлов после его смерти вынужден был продать за бесценок книговеду и библиографу Н. А. Рубакину.
Еще в детстве С. Р. Минцлов начал сочинять и лет в 8–9 осчастливил мир «описанием битвы команчей». В юности же он мыслил себя военным: закончив реальное училище в Москве, Минцлов в 1880-х гг. поступил в нижегородский Аракчеевский кадетский корпус, затем в Александровское военное училище в Москве и в 1890 г. был произведен в офицеры. После выпуска Минцлов определился в 106 пехотный Уфимский полк, расквартированный в Литве. Будущего писателя неодолимо влекли странствия и новые впечатления: в период военной службы в Вильно он, по свидетельству мемуаристов, «со своим денщиком <…> пешком обходит пол-Литвы». Жизнь полкового офицера быстро наскучила Минцлову: в 1892 г. он вышел в отставку, женился на своей дальней родственнице Марии Алексеевне Пеньковой (1871–1911) и поступил на службу в таможенное управление — благо служба в таможне Кретингена (Кретинги) оставляла достаточно времени для пеших скитаний по Литве, раскопок курганов и собирания предметов старины. Вскоре Минцлов перебрался на Кавказ и, как писал позднее, «начал вести кочевую жизнь сперва по Кавказу, а затем вдоль всей западной границы от Балтийского до Черного моря». Успел Минцлов и поступить в Нижегородский археологический институт, который закончил в 1895 г.
Первые стихотворения Минцлова появились в печати в 1888 г. Во второй половине 1890-х гг., живя в Одессе, Минцлов уже видит себя литератором: печатает рассказы, сотрудничает в газете «Новороссийский телеграф», прощается со стихотворством откровенно слабым и подражательным сборником «Стихотворения. 1888–1897», в 1898–1902 гг. публикует несколько комедий и драм.
С 1900 г. Минцлов живет в Петербурге. Вместе с женой — педагогом, детской писательницей, редактором-издателем сборников детского и юношеского творчества «Юная мысль» (1908–1909) и сотрудницей Лаборатории экспериментальной педагогической психологии — он основывает в 1901 г. приготовительное училище. Благодаря передовым педагогическим методам, включая совместное обучение мальчиков и девочек, учебное заведение Минцловых получило широкую известность и через несколько лет было преобразовано в семиклассное Рождественское мужское и женское коммерческое училище.
Одновременно росла известность Минцлова-романиста, прежде всего романиста исторического. В 1901–1906 гг. он публикует целый ряд исторических романов: «На заре века» (эпоха Смутного времени), «В грозу» (времена Петра I), «В лесах Литвы» и «На крестах» (эти книги о средневековой Прибалтике выходили затем под общим заглавием «Литва»). Пишет он и детские рассказы, и историко-этнографические «Очерки Приуралья», и фантастический роман «Царь царей». В предреволюционные годы Минцлов также печатался в газетах и журналах «Всходы», «Образование», «Мир», «Живописное обозрение», «Юный читатель», «Русь», «Былое», «Голос минувшего», «Молва», «Речь» и др., участвовал в работе Русского библиографического общества, Общества ревнителей истории, Русского археологического общества и других ученых обществ, с 1895 года исколесил самые глухие уголки России в поисках пополнений для своей все разраставшейся библиотеки.
«Я всю жизнь собирал монеты и книги, но отнюдь не ради их материальной ценности. Я собирал их из-за радости, которую ощущал, держа их в руках. Соприкосновение с ними связывает людей с далекими эпохами, с давно ушедшими из мира тенями, выявляет образы и картины прошлого» — писал Минцлов в эмиграции. К тому времени он уже с болью расстался со своими коллекциями…
Об уникальном книжном собрании Минцлова надобно сказать особо. Ядро его составляли дневники, воспоминания, летописи и записки, относящиеся к истории России, описания путешествий, археологические и этнографические сочинения, книги по расколу и ересям, русской нумизматике и палеографии, причем богатейший раздел «россики» включал многие издания, не поступавшие в свое время в продажу. Далее следовали первоиздания беллетристики (в том числе редкие провинциальные издания начала XIX в.). Значительное место в собрании Минцлова занимали нелегальные издания, произведения вольной печати и чудом уцелевшие экземпляры книг, конфискованных или уничтоженных цензурой, среди которых было немало первоклассных редкостей. Собрал Минцлов и большую коллекцию сатирических журналов и газет эпохи первой русской революции 1905–1907 гг.
С. Р. Минцлов
«Среди книжных собраний, библиотека Минцлова была совершенно исключительным явлением неопределимой цены, как сам он был и считался одним из самых авторитетных знатоков книги» — писал высоко ценивший Минцлова журналист и литературный критик П. М. Пильский. «В нужных случаях именно к нему обращались с запросами по библиографии и отдельные любители, и антиквары, и серьезные библиотеки, и даже такое учреждение, как Императорская публичная библиотека. Разумеется, этот авторитет был заслужен не одним только коллекционированием. Громадное, даже исключительное книгохранилище не давало еще права на общее признание, на авторитет и репутацию знатока. Но Минцлов-библиофил был еще и большим эрудитом в области библиографии. И сюда он вложил много труда, кропотливого исследовательства, большое специальное знание. На собрание книжной старины Минцловым были потрачены десятилетия, и он имел право сказать о себе: «Если высчитать время, проведенное мною за рытьем в книгах по лавкам букинистов и антикваров разных городов — выйдут целые годы!»».
Действительно, у Минцлова, как и у многих библиофилов подобного масштаба, вскоре пробудился потомственный интерес к кропотливой библиографической работе. В 1904 г. Минцлов выпустил в Петербурге указатель «Редчайшие книги, изданные в России на русском языке». История этого издания, в свою очередь ставшего библиографической редкостью, весьма любопытна; приведем ее в изложении П. М Пильского.
Обложка указателя С. Р. Минцлова «Редчайшие книги, напечатанные в России на русском языке» (1904)
«Минцлов задумал издать список книг, уничтоженных цензурою и с большим трудом собрал материалы по этому вопросу. Таких списков в то время еще не существовало и даже цензурное управление их не имело. Он обратился в Цензурный комитет с просьбою разрешить ему издание такой книги, но там заявили, что дозволить такую вещь совершенно невозможно. Тогда он добавил к своему «страшному» списку много не редких и не подвергавшихся изъятию книг, и сдал в таком виде рукопись в цензуру. Как обыкновенный каталог — книгу дозволили почти немедленно. Минцлов получил свой экземпляр с разрешительными печатями и спросил цензора — нельзя ли будет кое-что добавить к каталогу.
— Сохрани Господи! — был ответ.
— А вычеркнуть можно?
— Это сколько угодно!
Тогда он вычеркнул все добавления и отправил рукопись в типографию.
Книга вышла в свет в количестве ста экземпляров и в два дня была вся раскуплена букинистами и любителями».
За этой книгой последовала изданная в 1905 г. «Опись книгохранилища С. Р. Минцлова». В 1907 г. Минцлов напечатал в журнале «Былое» работу «Четырнадцать месяцев «свободы печати». 17 октября 1905 — январь 1907. Заметки библиографа», посвященную конфискованным изданиям периода первой русской революции. В 1911–1912 гг. в Нижнем Новгороде вышел в свет наиболее значительный библиографический труд С. Р. Минцлова, фундаментальный пятитомный «Обзор записок, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке». Позднее Минцлов выпустил дополненное описание своего собрания под названием «Книгохранилище С. Р. Минцлова» (1913).
В 1910–1913 гг., после смерти Марии Алексеевны, мы видим Минцлова на гражданской службе (земский начальник в Уфимской губернии, чиновник по особым поручениям при новгородском губернаторе, губернский чиновник в Полтаве); как и раньше, прямые обязанности не мешают ему заниматься археологическими и краеведческими исследованиями.
Женившись на своей троюродной сестре Ксении Дмитриевне Бодиско (1880–1950), С. Р. Минцлов весной 1914 г. по заданию Главного управления землеустройства и земледелия отправился в поездку по только что принятому под протекторат России Урянхайскому краю (Туве). В путешествии его сопровождала жена, выполнявшая обязанности секретаря и фотографа экспедиции. Итогом поездки стала книга «Секретное поручение. Путешествие в Урянхай» (1928), опубликованная Минцловым в эмиграции и рассказывавшая о быте, нравах, религиозных верованиях и природе края, и исследование «Памятники древности в Урянхайском крае», напечатанное в т. XXIII «Записок Восточного отделения Императорского русского археологического общества» (1916). Ксения Дмитриевна и сама написала книгу об этом путешествии, озаглавленную «Далекий край. Путешествие по Урянхайской земле» — она вышла в 1915 г. с предисловием Минцлова.
В том же 1915 г. Минцлов оказался в ополчении в тыловой Киевской дружине; его просьбы о переводе увенчались назначением в Кавказскую армию. В 1916 г. Минцлов организовал в Трапезонде (Трапезунде) русскую типографию и начал редактировать и издавать газету «Трапезондский военный листок». Здесь же он переиздал и опубликовал некоторые книги, включая «В таможенном мире» (1917). Революционная буря заставила Минцлова в августе 1917 г. вернуться в Петроград.
«Под Питером у меня моя библиотека, рукописи, коллекции, все, что с таким трудом и заботой я собирал в течение всей жизни. Нельзя дать им разделить участь сокровищ, собиравшихся целыми поколениями дворян-помещиков и пылающих теперь по всем уездам: моя библиотека неповторяема!» — такие размышления записывал Минцлов в дневнике. И далее: «Крах государства близок…»
Минцлов был твердо настроен «покончить все счеты» с Петроградом. В конце сентября он, по собственному выражению, «засел» с семьей на своей даче в Кемере (Финляндия), где предусмотрительно зарыл в землю деньги и ценности. Здесь Минцловы пережили события финляндской революции и гражданской войны 1918 г. и стали хлопотать об отъезде в Европу — эти бесконечные хлопоты, визиты в различные консульства с просьбами о транзитных визах, продажу дачи и части коллекций, получение долгожданных разрешений на проезд через Швецию и Норвегию в Лондон Минцлов описал в книге «Трапезондская эпопея. Дневник. Киев. Трапезонд. Финляндия» (1925).
С. Р. Минцлов в эмиграции
По рассказу прибалтийского литератора В. Ф. Бутлера, писателю довелось побывать в Швеции, Норвегии, Англии, Португалии, Испании, Марокко и Франции; несколько лет Минцлов заведовал русскими гимназиями в Югославии (Земун, Нови-Сад), а в середине 1920-х гг. переехал с женой в Ригу.
С первых лет эмиграции и до самой смерти Минцлов, несмотря на все бытовые тяготы, продолжал упорно трудиться: печатался в Париже, Берлине и Риге, переиздавал старые произведения, опубликовал множество романов: «Под шум дубов» (1919), «Царь Берендей» (1923), «Сны земли» (1924), «Приключения студентов» (1928), «Гусарский монастырь» (1920-е, 2-е изд. 1930) и др. Название последнего романа было обыграно в уважительной эпиграмме, напечатанной в 1927 г. в рижском журнале «Панорама»:
Почтенен и мастит. Известен черепами. Он в дали прошлого искусный поводырь, — Как старины знаток, подняв культуры знамя, Восстановил гусарский монастырь.В Прибалтике Минцлов становится регулярным автором газеты «Сегодня», публикуется в журнале «Перезвоны» и других периодических изданиях, основывает издательство «Восток», выступает в печати с романами и сборниками рассказов. Чрезвычайный интерес представляют изданные в эмиграции мемуарные книги Минцлова, многие из которых основаны на дневниках автора — упоминавшаяся выше «Трапезондская эпопея», «Дебри жизни. Дневник 1910–1915 гг. Урал, Новгород, Малороссия» (192?), «Далекие дни. Воспоминания 1870–1890» (1925), «У камелька. Моя молодость» (1930) и «Петербург в 1903–1910 годах» (1931).
Титульный лист книги С. Р. Минцлова «Орлиный взлет»
Пластичный и непринужденный стиль Минцлова, увлекательность его исторических романов, опиравшихся на солидные знания археолога и историка, ценные в историческом и краеведческом отношении мемуары и дневники, с неизменным юмором рисовавшие широкую панораму столичной и провинциальной России, быта и нравов литераторов, губернских и таможенных чиновников, военных и рабочих, поместных дворян и крестьян, живописные путевые очерки — все это не могло не привлечь читателя. И читатель отвечал Минцлову взаимностью: в свое время он считался одним из самых популярных авторов эмиграции, а книги его пользовались неизменным спросом в книжных магазинах и библиотеках. Дарование Минцлова ценили и литовские читатели: любопытно отметить, что его исторический роман «Орлиный взлет», написанный для конкурса в честь юбилея Витаустаса (Витовта) Великого, был первоначально издан в переводе на литовский язык (1931) на средства юбилейного комитета.
«Минцлов был писателем большинства» — замечал в 1933 г. М. А. Осоргин. «Но Минцлов писал не для толпы; злейший враг не обвинит его в служении улице и дурным вкусам; его литература чиста и вне упрека».
Титульный лист романа С. Р. Минцлова «Закат» с дарственной надписью автора
Менее известны фантастические и оккультные стороны творчества Минцлова: к ним относится впервые опубликованный еще в 1905 г. и неоднократно переиздававшийся роман «Огненный путь», ученые герои которого заняты поисками мистического древнего царства, сборник рассказов «Неведомое» (1917) и целая серия «мистических» и «таинственных» рассказов, вошедших в сборники «Святые озера. Недавнее» (1927), «Чернокнижник. Таинственное» (1928) и «Мистические вечера. Записки общества любителей осенней непогоды» (1930) — частью они представляют собой литературные обработки поверий и легенд о колдовстве, нечистой силе, оборотнях и т. п.
Напомним также, что в 1914 г. Минцлов выпустил книжку «Странное… О влиянии имени на судьбу человека», где заявлял: «Что такое влияние существует — сомневаться не приходиться <…> Я собираюсь лишь указать на ряд фактов, не могущих быть объясненными излюбленным у нас словечком «случайность» и которые подтверждают, что каждое имя как бы пробуждает в человеке наиболее свойственные этому имени черты». За нею в 1915 г. последовала новая брошюра «Власть имен (Странное…). О влиянии имени на судьбу человека». В 1927 г. Минцлов вернулся к данной теме и напечатал в газете «Сегодня» очерки «Мистика имен» и «Тайна черепов» (чем и объясняются «черепа» цитировавшейся выше эпиграммы).
Не исключено, что в этих эзотерических изысканиях Минцлова сказалось влияние его старшей сестры, известной деятельницы теософского и антропософского движений Анны Рудольфовны Минцловой (1866–1910?), сыгравшей ключевую роль в становлении оккультных воззрений многих литераторов русского Серебряного века. «Все время надо помнить о двойственности литературного и психологического лика Минцлова» — утверждал близко знавший писателя П. М. Пильский. «Быть может, отсюда растут и его страстные увлечения археологией — курганами, орудиями схороненных эпох, их молчаливым наследием, хранящимся в могилах дальних предков. Загадочная старина для него драгоценна и притягательна, как ключ, открывающий входы в молчаливый мир живых и владычествующих тайн. Минцлов — археолог — только следствие и вывод. За ним стоит мистик». Впрочем, от глубокой мистической устремленности сестры Минцлов, судя по всему, был все же достаточно далек, в некоторых рассказах высмеивал распространенное увлечение страшными и оккультными сюжетами и в своих «оккультных» сочинениях, видимо, в большей мере следовал веяниям моды.
Не забывал и не мог забыть Минцлов и о библиофильских увлечениях. Среди лучших его произведений — автобиографическая повесть «За мертвыми душами», которая рассказывает о путешествиях по провинциальной России в поисках редких книг и исторических материалов. «Тень великого Гоголя и его бессмертной поэмы витала, конечно, над Минцловым, когда он писал свою книгу» — замечает А. В. Блюм. «В ней можно заметить отдельные гоголевские реминисценции, узнать давно знакомых Плюшкина и Коробочку, Ноздрева и Собакевича <…> Но своеобразие романа Минцлова в том, что пошлость и бездуховность его персонажей проявляется в особом историко-культурном и нравственном контексте — через отношение их к ценностям культуры, книгам прежде всего <…> Для владельцев обветшавших имений, некогда помнивших лучшие времена, остатки фамильных библиотек — лишь обуза, с которой они с легкостью и без тени сожаления расстаются. С полнейшим равнодушием взирают они на старинные фолианты, простодушно удивляясь, что они могут еще кого-то интересовать. Обреченные на тусклое, полурастительное существование, владельцы «мертвых душ» и не догадываются, что когда-то эти «души» были «живыми», будили мысль и чувство, вызывали слезы восторга…» Повесть Минцлова, опубликованная главами в журнале «Современные записки» и полностью отдельным изданием в Берлине в 1921 г., фактически заложила основы популярного впоследствии жанра «библиофильских приключений».
Минцлов состоял членом Общества друзей русской книги в Париже и в 1925 г. напечатал в первом выпуске «Временника» этого общества «Синодик» погибших в годы гражданской смуты помещичьих собраний и библиотек (позднее труд Минцлова был издан в Берлине тиражом в 100 экз. под названием «Синодик библиотек, архивов и коллекций, погибших во время великой войны и революции»).
«Синодик библиотек, архивов и коллекций, погибших во время Великой войны и революции»
«Теперь, когда по всей Руси еще пахнет дымом костров — хочется сказать несколько слов о том, что уничтожили эти костры» — с горечью писал Минцлов. «В многочисленных помещичьих усадьбах, зачастую в глуши и полной безвестности, хранились замечательные сокровища <…> Собиралось все это настоящими знатоками и любителями. Разорение этих гнезд во время гражданской войны — потеря невознаградимая».
Скорбный перечень утрат пополнило книжное собрание самого С. Р. Минцлова. В том же выпуске «Временника» П. М. Пильский сообщал, что в январе 1925 г. библиотека Минцлова, с таким трудом спасенная из революционного Петрограда, вместе с составленным владельцем в 1918 г. полным ее описанием была продана лейпцигской антикварной фирме (по некоторым сведениям, часть книг была затем приобретена Прусской государственной библиотекой в Берлине). Распродана была и коллекция старинного оружия… Видимо, уже в Латвии страстный библиофил вновь начал собирать книги — в Риге долгое время ходили легенды о «второй» минцловской библиотеке, таинственно исчезнувшей в годы Второй мировой войны. Минцлов до войны не дожил: он умер 18 декабря 1933 года и был похоронен на Покровском кладбище в Риге.
* * *
Возвращение С. Р. Минцлова к читателю растянулось на десятилетия. В конце шестидесятых-середине семидесятых годов, когда о переиздании книг большинства писателей-эмигрантов помышлять было невозможно, память о нем возрождали и хранили библиографы и библиофилы — М. В. Машкова, А. В. Блюм, И. Ф. Мартынов, С. Рубинчик (его повесть «Рукопись, найденная в саквояже», изданная в Риге в 1978 г., рассказывает о поисках пропавшей библиотеки Минцлова).
Обложка книги С. Р. Минцлова «За мертвыми душами» (1991)
В 1991 г. издательство «Книга» осуществило переиздание повести С. Р. Минцлова «За мертвыми душами» с послесловием А. В. Блюма. За нею последовали фрагменты дневника Минцлова, относящиеся к Башкирии — они вошли в книгу «Уфа. Дебри жизни. Дневник 1900–1915 гг.», изданную в Уфе в 1992 г. с предисловием М. Г. Рахимкулова.
В 1999 г. некоторые очерки Минцлова были включены в составленный Ю. И. Абызовым двухтомник «От Лифляндии — к Латвии. Прибалтика русскими глазами». В 2003–2005 гг. в журнале «Кентавр. Исторический бестселлер» были переизданы романы Минцлова «Гусарский монастырь», «Огненный путь» и «Приключения студентов». В настоящее время на сайте «Балтийский архив» представлена подборка очерков Минцлова, отрывки из романа «Орлиный взлет» и статьи о писателе.
«О Минцлове не будут спорить поколения, его не будут изучать, но читать его будут очень долго, дольше, чем многих, более прославленных» — предсказывал некогда М. А. Осоргин. Писатель не ошибся: сегодня, 80 лет спустя, «Петербург в 1903–1910 годах» приходит к новому поколению читателей.
Избранная библиография
Абызов Ю. И. Минцлов С. Р. Библиография // Рижский библиофил: Альманах. Рига, 2003.
Блюм А. В. Мертвые души и живые книги. // Минцлов С. Р. За мертвыми душами. М., 1991.
Блюм А. В. Минцлов Сергей Рудольфович. //Литературная энциклопедия русского Зарубежья 1918–1940: Писатели русского Зарубежья. М., 1997.
Блюм А. В., Мартынов И. Ф. С. Р. Минцлов и его библиофильская повесть. // Альманах библиофила. М., 1973. Вып. второй.
Богомолов Н. A. Anna-Rudolph. // Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999.
Бутлер В. Ф. С. Р. Минцлов в Литве // Литовский курьер. 1932. № 73, 21 июня.
Глушаков П. С. Историческая романистика Сергея Минцлова: поэтика беллетристического жанра. Style. 2006. № 5.
Глушаков П. С. Жанр историко-авантюрного романа: вариант С. Р. Минцлова // Филология и человек. 2008. № 4.
Лавринец П. Литва и литовцы в романе С. Р. Минцлова «Орлиный взлет». // Literatura. 2011. № 53 (2).
Ласунский О. Г. Библиофил на все времена (С. Р. Минцлов в моем собрании) // Книга: Исследования и материалы. М., 1996. Сб. 73.
Машкова М. В. История русской библиографии XX века. М., 1969.
Петровский Ю. А., Минцлова Е. А., Воронцова Г. Н., Новиков Л. А. Минцлов Сергей Рудольфович // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1999. Т. 4: М.-П.
П-й (Пильский П. М.). Памяти одного книгохранилища // Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1925. Вып. I.
Пильский П.М. С. Р. Минцлов. Жизнь, личность, труды: Критико-биографический очерк // Минцлов С. Р. Мистические вечера: Записки Общества любителей осенней непогоды. Рига, 1930.
Ракитянский А. Вспоминая С. Р. Минцлова // Рижский библиофил: Альманах. Рига, 2003
Тамарович Н. С. Минцлов и Балтия: заметки к теме // Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст. СПб., 2005.
Тамарович Н. Усадебный колорит в «мистических» рассказах С. Р. Минцлова (На материале цикла «Мистические вечера») // Studia Slavica: Сборник научных трудов молодых филологов. Таллинн, 2006. Вып. VI.
Примечания
Книга С. Р. Минцлова «Петербург в 1903–1910 годах» публикуется по изданию: Рига, «Книга для всех», 1931 по новой орфографии, с исправлением опечаток и пунктуации. Унифицировано написание имен, титулов, названий учреждений. Персоналии, географические и исторические реалии, названия и т. п., к которым даны примечания, означены в тексте книги знаком (*). Подстрочные примечания в тексте принадлежат автору. Рисунок на обложке книги и фотография автора на фронтисписе заимствованы из издания 1931 г. На с. 245 виньетка работы А. Бенуа.
Примечания
1
На следующий день газетные телеграммы сообщали, что «4-го мая в Петербурге впервые были допущены на империал конок женщины. Особенный наплыв пассажирок на империал замечался на линиях заречных частей города».
(обратно)2
Уфимский губернатор Я. М. Богданович (1856–1903), приговоренный революционерами к смерти за расстрел рабочей демонстрации в Златоусте в марте 1903 г., повлекший за собой десятки жертв, был застрелен во время прогулки в парке боевиком-эсером Е. О. Дулебовым (1883 или 1884–1908).
(обратно)3
Министр народного просвещения Я. Я. Боголепов (1846–1901), рьяно подавлявший студенческие волнения, был смертельно ранен революционером П. В. Карповичем (1874–1917) в министерской приемной в феврале 1901 г. Министр внутренних дел Д. С. Сипягин (1853–1902), активно боровшийся против революционеров, был застрелен членом боевой организации эсеров С. В. Балмашевым (1881–1902) в помещении Государственного совета в апреле 1902 г.
(обратно)4
П. И. Лелянов (1850–1932), выходец из купеческой семьи, купец I гильдии, крупнейший в СПб. торговец пушным товаром. Состоял городским головой с марта 1898 г., вторично назначен в 1904 г., уволен от должности в мае 1905 г. в связи с революционными событиями; в третий раз занимал пост городского головы в 1916–17 гг. Умер в эмиграции во Франции.
(обратно)5
Плеве — В. К. фон Плеве (1846–1904) — государственный деятель, с 1879 г. прокурор, в 1881–1884 директор Департамента государственной полиции, с апреля 1902 г. министр внутренних дел, шеф корпуса жандармов, прославившийся жестким подавлением оппозиции; был убит боевиками-эсерами в июле 1904 г.
(обратно)6
Я. Я. Шенк (1870–1915) — композитор, дирижер, музыкальный критик, автор опер «Актея», «Последнее свидание», «Чудо роз» и др.
(обратно)7
Д. В. Григорович (1822–1898) — писатель, сотрудник «Современника», автор ряда повестей из деревенской и столичной жизни; наиболее известны его повести «Деревня», «Антон Горемыка» и «Гуттаперчевый мальчик».
(обратно)8
М. Г. Савина (1854–1915) — выдающаяся актриса, прима Александрийского театра, организатор Убежища для престарелых артистов, в 1883–84 гг. председатель Русского театрального общества.
(обратно)9
А. С. Суворин (1834–1912) — издатель, журналист, драматург, критик и фельетонист, сын выслужившегося в офицеры крестьянина. Публиковался в «Современнике», «Отечественных записках», «Русском инвалиде», в 1860-х гг. завоевал широкую известность в качестве фельетониста «Санкт-Петербургских ведомостей», с 1876 г. издатель ведущей консервативной газеты «Новое время» (просуществовала до 1917 г.), основатель одной из крупнейших в России книгоиздательских фирм. Оставил интереснейшие дневники.
(обратно)10
Эта история рассказана П. Гнедичем в январской книжке (1911 г.) «Исторического вестника», но в несколько другой редакции. Думаю, что рассказ Шенка вернее: слишком уж он точный и положительный человек (Здесь и далее прим, в тексте авт.).
(обратно)11
Р. С. фон Раабен (1843-после 1917) — кадровый военный, генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны, в 1889–1903 гг. бессарабский губернатор; печально прославился долгим бездействием в дни кишиневского погрома 6–7 апреля 1903 г. Погром, во время которого было убито 49 и ранено 586 человек и разгромлено более 1,500 еврейских домов и лавок, вызвал волну возмущения в России и мире.
(обратно)12
Н. В. Клейгельс (1850–1916) — военный и государственный деятель, градоначальник СПб. в 1895–1903 гг., в. 1904–1905 гг. киевский, подольский и волынский генерал-губернатор.
(обратно)13
Ввиду тяжкого времени, когда никто не гарантирован от обысков и арестов, никаких фамилий называть не буду.
(обратно)14
Г. Г. Блок (Блокк, 1861–1906) — банкир-авантюрист, разбогател на продаже билетов внутренних выигрышных займов под проценты с рассрочкой платежа, был известен навязчивой рекламой, отмеченной многими современниками. В 1899 г. приобрел дом № 65 по Невскому пр. и в 1903 завершил на его месте строительство 6-этажного здания в стиле модерн со скульптурами на крыше, где расположилась и его банкирская контора. Разорился и повесился в марте 1906 г.
(обратно)15
Троицкий мост через Неву, соединяющий Суворовскую и Троицкую площади, был заложен летом 1897 г. и строился, соответственно, более пяти лет.
(обратно)16
А. Н. Куропаткин (1848–1925) — военачальник, генерал от инфантерии, воевал в Туркестане с М. Скобелевым, в 1890–1898 гг. начальник Закаспийской области, в 1898–1904 гг. военный министр. Во время русско-японской войны командовал манчжурской армией, затем всеми сухопутными и морскими силами, задействованными в войне (октябрь 1904-март 1905), снят с должности после поражения при Мукдене. В 1916–17 гг. туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа, после революции заведовал волостной библиотекой и преподавал в основанной им сельской школе. Граф С. Ю. Витте (1849–1915) — крупнейший государственный деятель, министр финансов (1892–1903), председатель Совета министров (1905–1906), автор денежных и налоговых реформ 1897–98 гг., многих политических и крестьянских реформ, двигатель российской индустриализации, инициатор царского манифеста о гражданских свободах от 17 окт. 1905 г. Был отправлен в отставку в апреле 1906 г. и до самой смерти пребывал в опале.
(обратно)17
Деяние о канонизации преподобного Серафима Саровского было подписано Святейшим Синодом 29 янв. 1903 г. по инициативе царской семьи и вызвало немало толков в народе и критики со стороны либералов и старообрядцев в связи с вопросом о «тленности» мощей Серафима; были и колебания в рядах церковных властей. В июне митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский, 1846–1912) опубликовал в «Церковных ведомостях» акт освидетельствования мощей и свое «разъяснение», о котором говорится далее в тексте.
(обратно)18
Е. Н. Чаплин (1857–1905) — действительный статский советник, управляющий Санкт-Петербургской сухопутной таможней, позднее петербургский почт-директор, отец одного из руководителей белого движения на севере России Г. Е. Чаплина (1886–1950), подполковника британской армии и героя Второй мировой войны.
(обратно)19
Т. е. показной, выгодной для показа.
(обратно)20
Таможенный досмотр проводился совместно пакгаузным надзирателем и членом таможни.
(обратно)21
Вчужине — так в тексте. Видимо, должно быть «вчуже», здесь в значении «глядя со стороны».
(обратно)22
Великий князь Александр Михайлович (1866–1933) — сын великого князя Михаила Николаевича и Ольги Федоровны, внук Николая I, военный моряк, с 1903 г. контр-адмирал, с 1909 г. вице-адмирал, шеф императорской авиации, участник Первой мировой войны, с 1918 г. в эмиграции во Франции.
(обратно)23
Э. Д. Плеске (1852–1904) — тайный советник, управляющий Государственным банком (1894–1903), министр финансов в 1903–1904. гг.; на последнем посту пробыл менее 6 месяцев, вскоре подал в отставку по болезни.
(обратно)24
Е. А. Головин, тайный советник, лейб-медик (1843–1909).
(обратно)25
Великая княгиня Мария Павловна (1854–1920), герцогиня Мекленбург-Шверинская, с 1874 г. жена третьего сына Александра II, великого князя Владимира Александровича (1847–1909). Речь идет о событиях 1889 г.: по слухам, великий князь застиг жену в ресторане с французским актером Гитри и обменялся с соперником пощечинами. Более щадящую версию заносит в дневник 17 февраля 1889 г. будущий министр иностранных дел В. Н. Ламздорф: «Ходит слух о каком-то ужине в ресторане Кюба, в котором принимали участие великий князь Владимир, Мария Павловна, Алексей, графиня Богарне и герцог Евгений Лихтенбергский с несколькими близко к ним стоящими лицами, в том числе актером Гитри, красивым малым, который пользуется успехом. Было выпито много вина, после чего дошло якобы до того, что Гитри поцеловал великую княгиню Марию Павловну; великий князь Владимир дал ему пощечину, а актер ответил Его Высочеству тем же. Градоначальник был вынужден донести об этом государю, и Его Величество, говорят, запретил великим князьям посещать рестораны. Все это очень смахивает на вымысел, но грустна возможность появления подобных вымыслов и то, что многим они отнюдь не кажутся невероятными. Престиж все более и более падает». В мемуарной «Книге жизни» П. П. Гнедич (см. прим, к с. 27), в свою очередь, сообщает: «В 1891 году был прощальный бенефис Гитри, актера французской труппы. Говорили про какой-то скандал на почве ревности, драму, — благодаря которой Гитри навсегда должен был покинуть императорскую сцену. Ушел он с честью: ему дали в бенефис «Гамлета» и заказали всю декорационную обстановку Лютке-Мейеру в Германии». Широкую известность получило впервые опубликованное в 1905 г. сатирическое стихотворение О. Н. Чюминой «Средневековая баллада», посвященное скандалам, связывавшимся с именем Марии Павловны:
Я не дама демимонда,
Я принцесса Требизонда,
По-венгерски: Поль-Мари
В ресторанах с итальянцем
И с лихим преторианцем
Распивала я Помри.
«Чистотой» мы не блистаем,
И, подбито горностаем,
Мне манто не по плечу.
Средь измен перед страною,
Что должна мне быть родною, —
Я в грязи его влачу.
(обратно)26
Великая княжна Елена Владимировна (1882–1957), жена греческого королевича Николая. У Марии Павловны было четверо сыновей: Александр (умер во младенчестве), Кирилл (1876–1938, в эмиграции в 1924 г. провозгласил себя императором Кириллом I), Борис (1877–1943) и Андрей (1879–1956, в 1921 г. в эмиграции женился на балерине М. Кшесинской).
(обратно)27
Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» (возглавлялось предпринимателем Г. Г. Елисеевым, 1864–1942?) на углу Невского проспекта и Малой Садовой. Здание, построенное в 1902–1903 гг. по проекту Г. В. Барановского, поражало многих современников роскошным «купеческим» модерном.
(обратно)28
«Юный читатель» — петербургский иллюстрированный и научно-популярный журнал для семьи и школы (1899–1906), редактировался врачом А. Я. Острогорской-Малкиной.
(обратно)29
Гутуевский остров находится в юго-западной части дельты Невы. Описываемое строительство было связано с тем, что после постройки Морского канала (1878–1885) на Гутуевский и соседние острова был перенесен из Кронштадта торговый порт.
(обратно)30
В комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» купцы рассказывают о взяточнике-городничем: «Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ничем не нуждается. Нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь».
(обратно)31
П. А. Зеленой (Зеленый, 1833–1909), военный моряк, генерал по Адмиралтейству, участник русско-турецкой войны, в 1850-х гг. совершил два кругосветных плавания на фрегатах «Паллада» и «Диана», в 1860-х гг. командовал фрегатом «Светлана», градоначальник Одессы в 1885–87 гг., с 1898 г. почетный опекун Опекунского совета учреждений императрицы Марии.
(обратно)32
«Старый» Троицкий мост, открытый в 1827 г., находился выше по течению и являлся плашкоутным мостом, т. е. опирался на плоскодонные суда.
(обратно)33
Летом 1903 г. был принят закон о конфискации земель, недвижимого имущества и капитала армянской церкви и духовных учреждений, вызвавший демонстрации протеста в Армении и вооруженные столкновения армянского населения с полицией в Тифлисе, Баку и др. городах.
(обратно)34
П. П. Гнедич (1855–1925), писатель, драматург, театральный деятель, в 1900–1908 гг. управляющий труппой Александрийского театра.
(обратно)35
Н. Л. Персиянинова (Рябова) — писательница, драматург, автор ряда комедий, в которых играла М. Г. Савина. «Петербургская газета» (1867–1917) — политическое и литературное издание, с 1884 г. ежедневная газета с бульварным уклоном.
(обратно)36
В. А. Теляковский (1860–1924) — театральный деятель, в 1901–1917 гг. глава Дирекции императорских театров, оставил интересную книгу воспоминаний.
(обратно)37
Князь С. М. Волконский (1860–1937), литератор, критик, режиссер, в качестве директора императорских театров в 1899–1901 гг. способствовал реформе русской театральной сцены. А. М. Федоров (1868–1949) — литератор, драматург. «Ледяной дом» — опера А. Н. Корещенко (1900). Д. В. Философов (1872–1940), критик, публицист и религиозный деятель, в описываемый период редактировал в журнале «Мир искусства» литературный отдел, позднее отдел критики. Выдающийся антрепренер С. П. Дягилев (1872–1929), редактор «Мира искусства» в 1898–1904 гг., редактировал при Волконском «Ежегодник Императорских театров».
(обратно)38
Любовница цесаревича Николая (будущего Николая II), а также великих князей Сергея Михайловича и Андрея Владимировича балерина М. Кшесинская (1872–1971) отказалась надеть фижмы, полагавшиеся к костюму для танца «Русская» в балете М. Петипа «Камарго». «Я отлично сознавала, что с моим маленьким ростом в этом костюме с фижмами я буду не только выглядеть уродливо, но мне будет совершенно невозможно передать русский танец, как следует и как мне того хотелось» — утверждала она в мемуарах. С. Волконский наложил на Кшесинскую штраф, который вынужден был отменить под давлением ее высочайших покровителей, после чего подал в отставку со своего директорского поста.
(обратно)39
Протодиакон В. Н. Малинин, обладатель невероятного баса, служил в Исаакиевском соборе до 1905 г.
(обратно)40
Н. Н. Фигнер (1857–1918), Л. В. Собинов (1872–1934) — прославленные оперные певцы; прозвище Собинова «душка» иронически намекало на его восторженных поклонниц.
(обратно)41
Великий князь Владимир Александрович (1847–1909) — третий сын императора Александра II, генерал от инфантерии, сенатор, в 1884–1905 гг. главнокомандующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа.
(обратно)42
В. В. фон Валь (1840–1915) — генерал от кавалерии, в 1892–1895 гг. градоначальник Санкт-Петербурга. В 1902–1904 гг. командир отдельного корпуса жандармов. П. А. Крушеван (1860–1909) — журналист, публицист, писатель, основатель газет «Бессарабец» и «Знамя», ярый антисемит и черносотенец, чьи обвинения евреев в ритуальном убийстве во многом спровоцировали кишиневский погром 1903 г.
(обратно)43
Табло — от франц. tableau (картина, немая сцена).
(обратно)44
«Петербургский листок» — общественная и литературная газета (1864–1917), с 1882 г. ежедневное издание, с 1914 г. выходила под названием «Петроградский листок».
(обратно)45
Василий Босой, или Босоногий (1856 – после 1918 или 1933) — известный в начале XX в. странник, обошедший многие города и православные святыни России, а также побывавший на Новом Афоне и в Иерусалиме. Был в царской процессии во время канонизации Серафима Саровского в 1903 г. в Сарове, пожертвовал для раки серебряную лампаду, изготовленную на собранные им средства.
(обратно)46
Речь идет об австрийском эмбриологе Л.-С. Шенке (1840–1902), выдвинувшем теорию, согласно которой пол зародыша у млекопитающих и человека предопределяется в зависимости от той или иной диеты родителей.
(обратно)47
Великий князь Константин Константинович (1858–1915) — внук Николая I, генерал от инфантерии, с 1889 г. президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, президент Русского археологического общества, Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Палестинского общества и т. д., широко известный как «августейший поэт» и драматург К.Р.
(обратно)48
К. К. Случевский (1837–1904) — поэт, прозаик, драматург, в 1891–1902 гг. редактор «Правительственного вестника», официальной ежедневной газеты правительства, учрежденной в 1869 г. После Февральской революции 1917 г. газета возрождалась под иными названиями в качестве официального органа временного, а затем большевистского правительства.
(обратно)49
В действительности покушение на кн. Г. Г. Голицына (1838–1907), главноначальствующего Кавказской администрации в 1896–1904 гг., было осуществлено членами армянской социал-демократической партии Гнчак (Голицын был одним из инициаторов закона о конфискации имущества армянской церкви). В последовавшей перестрелке один из нападавших был убит, двое получили смертельные ранения.
(обратно)50
Н. А. Рубакин (1862–1946) — писатель, просветитель, выдающийся книговед и библиограф.
(обратно)51
«Освобождение» (1902–1905) — влиятельный нелегальный журнал, издававшийся в Штутгарте (позднее в Париже) общественным и политическим деятелем П. Б. Струве (1870–1944); от умеренно-оппозиционных журнал постепенно перешел к революционным позициям, выражал мировоззрение будущей Конституционно-демократической (кадетской) партии.
(обратно)52
Елизавета, восьмилетняя дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Эрнста Людвига, брата императрицы Александры Федоровны; умерла от тифа в ноябре 1903 г., гостя у российских родственников в императорском охотничьем имении близ г. Скерневице в Польше.
(обратно)53
Несмотря на недовольство Николая II, Кирилл в 1905 г. женился на своей избраннице — и двоюродной сестре — Виктории Мелите, бывшей супруге Эрнста Людвига, что вызвало конфликт в императорской фамилии, продолжавшийся несколько лет.
(обратно)54
«Гимназия и реальное училище Гуревича», известное учебное заведение в Петербурге, основанное педагогом и историком Я. Г. Гуревичем (1843–1906).
(обратно)55
Имеется в виду писатель, инженер, путешественник Н. Г. Гарин-Михайловский (1852–1906).
(обратно)56
Т. е. в ресторане «Контан», открывшемся в 1885 г. в здании гостиницы «Россия» на набережной Мойки.
(обратно)57
Н. К. Михайловский (1842–1904) — виднейший публицист, литературный критик, социолог, народник; в 1870–80-х гг. один из редакторов «Отечественных записок», позднее соредактор (совместно с В. Короленко) и активный участник журнала «Русское богатство», полемизировавший с марксистами, в начале XX в. объект культового почитания в демократической среде.
(обратно)58
П. И. Вейнберг (1831–1905) — почетный академик, поэт, переводчик, в 1897–1901 гг. председатель Союза взаимопомощи русских писателей.
(обратно)59
Е. Г. Аничков (1866–1937), видный фольклорист, историк литературы; в 1887 г. был исключен из университета за участие в студенческих беспорядках, после ареста в 1903 г. провел 13 месяцев в заключении; умер в эмиграции в Белграде.
(обратно)60
А. В. Тыркова-Вильямс (1869–1962, в первом браке Борман), писательница, общественно-политический деятель. После ареста в 1903 г. и суда бежала через Финляндию в Штутгарт, вернулась в Россию по амнистии 1905 г. Организатор и член ЦК партии кадетов, депутат I Государственной Думы., с 1918 г. в эмиграции.
(обратно)61
И. И. Янжул (1846–1914) — академик, экономист, многолетний профессор Московского университета.
(обратно)62
Кн. В. П. Мещерский (1839–1914) — крайне консервативный писатель, публицист, редактор журнала (позднее газеты) «Гражданин», близкий к Александру III; скандально прославился своими гомосексуальными связями.
(обратно)63
Ю. М. Антоновский (1857–1915) — писатель, юрист, в 1880-е гг. народоволец, позднее кадет, переводчик Ф. Шиллера, Л. Фейербаха, Ф. Ницше и др.
(обратно)64
В. Л. Величко (1860–1903) — поэт, публицист черносотенно-расистского толка, в 1897–99 гг — редактор поддерживавшейся правительством тифлисской газеты «Кавказ» (1846–1918).
(обратно)65
А. К. Шеллер (псевдоним Михайлов, 1838–1900) — писатель, журнальный редактор, популярный в свое время романист.
(обратно)66
Г. Пронин — уроженец Орла, богатый кишиневский подрядчик, активный антисемит и соратник П. А. Крушевана, один из вдохновителей кишиневского погрома 1903 г.
(обратно)67
П. Н. Переверзев (1871–1944), известный революционно настроенный адвокат, выступал защитником на многих политических процессах, в 1917 г. министр юстиции Временного правительства, с 1920 г. в эмиграции.
(обратно)68
Г. Э. Зенгер (1853–1919) — член-корреспондент Академии наук, филолог-классик, в 1897–99 гг. ректор Варшавского университета, в 1902–1904 гг. министр просвещения.
(обратно)69
Л. Ф. Рагозин (Рогозин, 1846–1908) — тайный советник, врач-пси-хиатр, доктор медицины, в 1888–1908 гг. директор медицинского департамента Министерства внутренних дел, в 1902–1908 гг. глава Медицинского совета при министерстве.
(обратно)70
Е. И. Алексеев (1843–1917), в 1890-х гг. начальник Главного морского штаба, с 1899 г. командующий войсками Квантунской области и морскими силами Тихого океана, с лета 1903 г. императорский наместник на Дальнем Востоке и с начала русско-японской войны в 1904 — главнокомандующий сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке. Отозван с должности в октябре 1904 г. в связи с поражениями русских войск, с 1905 г. член Государственного совета.
(обратно)71
Н. И. Скрыдлов (1844–1918) — вице-адмирал, командующий Черноморским флотом и портами Черного моря в 1903–1904 и 1906–1907 гг., командующий флотом в Тихом океане в мае-декабре 1904 г., казнен большевиками в 1918 г.
(обратно)72
«Вейками» в дореволюционном Петербурге называли извозчиков-финнов и эстонцев, приезжавших на разукрашенных лентами и бубенцами запряжках и работавших только на масленицу.
(обратно)73
Калхас — персонаж древнегреческой мифологии, прорицатель и жрец; в частности, пророчествовал о ходе и длительности Троянской войны.
(обратно)74
Этот броненосец был спущен на воду в 1867 г., затонул в 1893 г. во время шторма у берегов Финляндии.
(обратно)75
Эскадренный броненосец «Гангут» затонул в июне 1897 г., получив пробоину в Выборгском заливе. «Адмиралы» — серия броненосцев береговой обороны по классификации 1892 г. (изначально башенные фрегаты типа «Адмирал Лазарев» и пр.); «Не тронь меня» — броненосец береговой обороны (изначально плавбатарея). Все это корабли постройки 1860-х гг.
(обратно)76
Великий князь Алексей Александрович (1850–1908) — сын императора Александра II, адмирал, с 1881 главный начальник флота и морского ведомства, председатель Адмиралтействсовета. Подал в отставку в 1905 г. после цусимского разгрома; считался одним из основных виновников поражения России в войне.
(обратно)77
И. А. Фуллон (1844–1920) — генерал от инфантерии, в 1900–1904 гг. помощник варшавского генерал-губернатора, с февраля 1904 по январь 1905 г. градоначальник Санкт-Петербурга (уволен после событий «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 г.).
(обратно)78
П. А. Ванновский (1822–1904) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны, военный министр в 1881–1898 и министр народного просвещения в 1901–1902 гг.
(обратно)79
При журнале «Освобождение» в 1904–1905 гг. издавались также «Листки» со срочными фактическими материалами и актуальными статьями; всего вышло 26 выпусков «Листков».
(обратно)80
А. А. Коринфский (1868–1937) — поэт, писатель, собиратель фольклора, в 1895–1904 гг. помощник редактора «Правительственного вестника».
(обратно)81
Собственно, недолго просуществовавший еженедельный юмористический листок «Словцо».
(обратно)82
С. Д. Бодиско (1882–1904) — Родственник автора, младший штурманский офицер на эскадренном броненосце «Петропавловск», погиб при взрыве броненосца 31 марта 1904 г.
(обратно)83
Ротмистр Н. И. Ивков, штаб-офицер по особым поручениям при Главном интенданте, был арестован в конце февраля 1904 г., признался в передаче секретных сведений японским и германским военным представителям, покончил с собой, находясь в заключении.
(обратно)84
«Знамя» — газета П. А. Крушевана.
(обратно)85
Г. А. Гершуни (Цукович, 1870–1908) — видный революционер, террорист, один из основателей Боевой организации партии эсеров, организатор ряда нашумевших покушений и убийств. Смертный приговор, вынесенный Гершуни в 1904 г. военно-окружным судом в Петербурге, действительно был заменен пожизненным заключением; в 1906 г. Гершуни бежал из тюрьмы, добрался через Японию в США, умер в Швейцарии.
(обратно)86
Поручик артиллерии Е. Григорьев (1879-?), примкнувший вместе со своей возлюбленной к боевикам-эсерам; весной 1902 г. они отказались от плана убийства обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева (1827–1907) и отошли от террористической деятельности.
(обратно)87
Эскадренный броненосец «Петропавловск» подорвался на мине 31 марта 1904 г. на рейде Порт-Артура; среди более 600 погибших были вице-адмирал С. О. Макаров и знаменитый художник В. В. Верещагин. Капитан корабля Н. М. Яковлев (1856–1919) был в числе 80 спасенных.
(обратно)88
В действительности при взрыве в «Северной гостинице» погиб А. Д. Покотилов (1879–1904), один из членов «Боевой организации» эсеров, готовивших покушение на министра внутренних дел В. К. фон Плеве.
(обратно)89
А. А. Лопухин (1864–1928) — юрист, директор Департамента полиции в 1902–1905 гг.; после недолгого пребывания на посту губернатора Эстляндии выступил в 1906 г. с разоблачениями деятельности Департамента полиции и его причастности к еврейским погромам. Сыграл важную роль в разоблачении Е. Ф. Азефа, был приговорен в 1909 г. к пяти годам каторги (заменена ссылкой); в 1912 г. получил разрешение вернуться в Москву, в 1920 г. эмигрировал.
(обратно)90
Н. Ф. Анненский (1843–1912) — журналист, публицист, статистик, народник, брат поэта И. Анненского. Анненский пробыл в Ревеле до осени 1904 г.
(обратно)91
В. Ф. Руднев и Г. П. Беляев — капитаны, соответственно, «Варяга» и «Корейца».
(обратно)92
М. И. Засулич (1843–1910) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны, в русско-японской войне командующий Восточным отрядом Манчжурской армии.
(обратно)93
М. И. Драгомиров (1830–1905) — генерал от инфантерии, в 1897–1903 гг. киевский, волынский и подольский генерал-губернатор.
(обратно)94
Т. е. владельцы дорогих петербургских ресторанов «Кюба» и «Донон» и создатель «Сада Буфф» (с театром оперетты и рестораном) предприниматель П. Тумпаков.
(обратно)95
Известная революционерка-народница В. И. Засулич (1849–1919) в 1878 г. совершила покушение на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова; вопреки утверждению автора, Засулич не промахнулась и Трепов был ранен, хотя и остался жив.
(обратно)96
Ежедневная либеральная газета «Русь», основанная А. А. Сувориным (сыном знаменитого издателя), выходила в Петербурге с конца 1903 по 1905 гг., затем с перерывом в 1906–1908 гг., после закрытия в 1908 г. под названием «Новая Русь». В данном случае гнев властей вызвала напечатанная в газете 27 апреля 1904 г. статья ведущего фельетониста эпохи, плодовитого писателя и критика А. А. Амфитеатрова (1862–1938) в защиту студентов Горного института, обвиненных в прояпонских настроениях. Амфитеатров был выслан в Вологду и через некоторое время получил разрешение на выезд за границу.
(обратно)97
Д. П. Коновалов (1856–1929) — видный химик, в 1903–1905 гг. директор Горного института, в 1908–1915 г.г. товарищ министра торговли и промышленности, с 1923 г. член Академии наук СССР, в 1923–28 гг. президент Русского химического общества.
(обратно)98
Князь П. П. Ухтомский (1848–1910) — вице-адмирал, младший флагман Тихоокеанской эскадры, в 1904 г. временно командовал эскадрой, был уволен по болезни в 1906 г.
(обратно)99
П. Н. Дурново (1845–1915) — государственный деятель, статс-секретарь, в 1884–1893 гг. директор Департамента полиции, в 1900–1905 гг. товарищ министра и в 1905–1906 гг. министр внутренних дел; способствовал падению кабинета Витте, в дальнейшем лидер правых в Государственном совете.
(обратно)100
Мемуаристы по-разному излагают подробности этой истории. В своих дневниках советник П. А. Столыпина, экс-революционер Л. А. Тихомиров пишет: «Я видел Дурново в 1893 г., в момент его «падения», то есть назначения в Сенат, из-за истории бразильского посланника. История, как мне тогда рассказывали, была такова. У Дурново была любовница, Евреинова или какая другая балерина, или жена Трепова, не знаю в точности. Она завела шуры-муры с бразильским посланником. Дурново, желая их выследить, пустил в ход своих шпионов, выследил, накрыл бразильца у этой дамы и исколотил его… Бразилец пожаловался государю Александру III, уж, вероятно, не за то, что его Дурново исколотил, и не за соперничество у общей любовницы, а, вероятно, за слежение. Было ли нарушение тайны дипломатической переписки или нет — все равно было легко на это сослаться, хотя, конечно, интересовали не тайны бразильской дипломатии, а тайны ее любовных похождений. Однако мне передавали, что государь император узнал всю историю именно такой, какова она была. А он этих безобразий не любил и моментально сместил Дурново — отправил его в «склад» в Сенат». В то же время, В. И. Гурко, товарищ Дурново на посту министра внутренних дел, в мемуарной книге «Черты и силуэты прошлого» указывает, что Дурново, «желая убедиться в неверности состоявшей с ним в близких отношениях некой г-жи Доливо-Добровольской, относительно которой у него были подозрения, что она одновременно была в столь же близких отношениях с бразильским поверенным в делах, <…> пристроил к последнему в качестве прислуги одного из агентов тайной полиции. По указаниям Дурново агент этот взломал письменный стол дипломата и доставил ему содержимое. Бразилец по поводу произведенной у него странной кражи-выемки обратился к общей столичной полиции, а последняя, бывшая к тому же всегда в неладах с чинами департамента полиции, не замедлила выяснить обстоятельства этого дела. На всеподданнейшем докладе обо всем этом инциденте петербургского градоначальника Александр III наложил общеизвестную резкую резолюцию, в результате которой Дурново был уволен от должности директора департамента полиции с назначением к присутствованию в Правительствующем сенате, что, между прочим, вызвало в то время большое негодование в сенатских кругах». Еще одна версия гласит, что после «выемки» Дурново избил любовницу, которая и пожаловалась своему бразильскому аманту.
(обратно)101
Граф В. И. Ламздорф (также Ламсдорф, 1844–1907) — карьерный дипломат, министр иностранных дел в 1900–1906 гг., позднее член Государственного совета.
(обратно)102
Речь идет о кн. А. С. Долгоруком (1842–1912), обер-церемониймейстере и члене Государственного совета. Ср. в письме П. А. Столыпина жене от 28 мая 1904 г.: «Завтра обедает у меня Павлов. Он рассказывал, что Ламздорфа на улице палкою побил Алексей Долгорукий и что последнего посадили в сумасшедший дом. Он заявил, что бил его за то, что он бугр и плохой министр» («бугр» — от англ, bugger, педераст: намек на сексуальную ориентацию Ламздорфа).
(обратно)103
Видимо, А. Л. Дуров (1864–1916) из знаменитой династии цирковых артистов, брат дрессировщика и основателя «Уголка Дурова» В. Л. Дурова (1863–1934).
(обратно)104
Н. И. Бобриков (1839–1904), генерал-губернатор Финляндии в 1898–1904 гг., проводил русификаторскую политику. Нападение на него осуществил финский националист Э. Шауман (1875–1904), который застрелился после покушения.
(обратно)105
«Биржевые ведомости», в просторечии «Биржевка» — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1861–1879 и 1880–1917 гг.
(обратно)106
Покушение осуществили боевики-эсеры; далее рассказ автора не совсем точен, т. к. из всей группы при взрыве был ранен только Е. Сазонов (Созонов, 1879–1910), непосредственно метавший бомбу в карету Плеве. Приведем отрывок из «Воспоминаний терорриста» Б. В. Савинкова: «Прошло несколько секунд. Сазонов исчез в толпе, но я знал, что он идет теперь по Измайловскому проспекту параллельно Варшавской гостинице. Эти несколько секунд оказались мне бесконечно долгими. Вдруг в однообразный шум улицы ворвался тяжелый и грузный, странный звук. Будто кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. В ту же секунду задребезжали жалобно разбитые в окнах стекла. Я увидел, как от земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, почти черного по краям дыма. Столб этот, все расширяясь, затопил на высоте пятого этажа всю улицу. Он рассеялся так же быстро, как и поднялся. Мне показалось, что я видел в дыму какие-то черные обломки.
В первую секунду у меня захватило дыхание. Но я ждал взрыва и, поэтому, скорей других пришел в себя. Я побежал наискось через улицу к Варшавской гостинице. Уже на бегу я слышал чей-то испуганный голос:
— «Не бегите: будет взрыв еще…»
Когда я подбежал к месту взрыва, дым уже рассеялся. Пахло гарью. Прямо передо мной, шагах в четырех от тротуара, на запыленной мостовой я увидел Сазонова. Он полулежал на земле, опираясь левой рукой о камни и склонив голову на правый бок. Фуражка слетела у него с головы, и его темно-каштановые кудри упали на лоб. Лицо было бледно, кое-где по лбу и щекам текли струйки крови. Глаза были мутны и полузакрыты.
Ниже у живота начиналось темное кровавое пятно, которое, расползаясь, образовало большую багряную лужу у его ног».
(обратно)107
Н. П. Поляков (1843–1905) — издатель-демократ, библиофил, с 1865 г. выпускал книги по социально-экономическим вопросам, опубликовал первый русский перевод 1-го тома «Капитала» К. Маркса (1872). В связи с цензурными запретами и судебными преследованиями в 1873 г. ликвидировал свое издательство.
(обратно)108
И. А. Вышнеградский (1831–1895) — математик, инженер-механик, в 1875–80 гг. директор Петербургского технологического института, в 1887–1892 гг. министр финансов.
(обратно)109
Великий князь Михаил Николаевич (1832–1909) — сын Николая I, генерал-фельдмаршал, в 1881–1905 гг. председатель Государственного совета.
(обратно)110
О. Б. Рихтер (1830–1908) — генерал от инфантерии, участник кавказских походов и Крымской войны, в 1880–1890-х гг. управляющий делами Императорской главной квартиры, Министерства двора, канцелярии по принятию прошений и т. д., член Государственного совета.
(обратно)111
«Русские ведомости» — либерально-оппозиционная общественно-политическая газета, выходившая в Москве в 1863–1918 гг., с 1868 г. ежедневное издание.
(обратно)112
Этим «субъектом» был один из участников покушения на Плеве Л. В. Сикорский (1884–1927). Ср. в «Воспоминаниях террориста» Б. Савинкова: «Сикорский, как мы и могли ожидать, не справился со своей задачей. Вместо того, чтобы пойти в Петровский парк и там, взяв лодку без лодочника, выехать на взморье, он взял у Горного института ялик для переправы через Неву и, на глазах яличника, недалеко от строившегося броненосца «Слава», бросил свою бомбу в воду. Яличник, заметив это, спросил, что он бросает. Сикорский, не отвечая, предложил ему 10 рублей. Тогда яличник отвел его в полицию».
(обратно)113
Кн. П. Д. Святополк-Мирский (1857–1914) — генерал-адъютант, в 1900–1902 гг. товарищ министра внутренних дел и командир отдельного корпуса жандармов, с 1902 г. — виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор, с августа 1904 по январь 1905 г. министр внутренних дел.
(обратно)114
Р. Р. Виренн (Вирен, 1856–1917) — адмирал, с августа 1904 г. командовал отдельным отрядом судов в Порт-Артуре, после сдачи Порт-Артура попал в плен к японцам, в 1907–1908 г.г. главный командир Черноморского флота и портов Черного моря. Убит революционными матросами в марте 1917 г. в Кронштадте.
(обратно)115
Барон А. М. Стесселъ (1848–1915) — генерал-лейтенант, комендант Порт-Артура; в 1908 г. за сдачу крепости приговорен военным трибуналом к расстрелу (замененному ю-летним заключением), освобожден в 1909 г. по решению Николая II. П. И. Мищенко (1853–1918) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны и туркестанских походов, во время русско-японской войны командовал Забайкальской казачья бригадой, в 1908–1909 гг. генерал-губернатор Туркестана. А. В. Фок (1843–1926) — генерал, участник русско-турецкой войны, с декабря 1904 г. начальник сухопутной обороны Порт-Артура; был оправдан по суду и в 1908 г. уволен со службы. Н. А. Орлов (1855–1917?) — генерал от инфантерии, участник русско-японской и Первой мировой войн, военный теоретик, пионер воздухоплавания.
(обратно)116
«Гейша, история одного чайного дома» — оперетта С. Джонса, впервые поставленная в Лондоне в 1896 г.
(обратно)117
«Право» — либеральный журнал, основанный группой молодых юристов в 1898 г.
(обратно)118
Б. В. Штюрмер (1848–1917) — действительный статский советник, обер-камергер, в 1916 г. председатель Совета министров, министр внутренних и иностранных дел.
(обратно)119
Шестиэтажное здание в стиле модерн, построенное в 1902–1904 гг. по проекту архитектора П. Сюзора для акционерной компании «Зингер» (с конца 1930-х гг. — «Дом книги»).
(обратно)120
По поводу этого приговора Б. Савинков в «Воспоминаниях террориста» замечал: «Судили Сазонова и Сикорского 30 ноября 1904 г. в петербургской судебной палате с сословными представителями. Защищал Сазонова присяжный поверенный Карабчевский, а Сикорского — присяжный поверенный Казаринов. По приговору палаты оба подсудимые были лишены всех прав состояния, причем Сазонов был сослан в каторжные работы без срока, а Сикорский — на 20 лет. Такой сравнительно мягкий приговор (все, в том числе и сам Сазонов, ожидали предания военно-окружному суду и повешения) объясняется тем, что правительство, назначая министром внутренних дел кн. Святополк-Мирского, решило несколько изменить политику и не волновать общество смертными казнями». Срок каторжных работ осужденных был сокращен по амнистии 1905 г.; Сазонов покончил с собой в конце 1910 г. в Зерентуйской каторжной тюрьме, протестуя против решения начальника тюрьмы выпороть политических заключенных.
(обратно)121
«Сын отечества» — ежедневная либеральная газета, издавалась в Петербурге в 1856–1900 гг. и с ноября 1904 по декабрь 1905 гг. (в качестве органа партии эсеров).
(обратно)122
А. Е. Ермолов (1846–1917) — государственный деятель, с 1893 г. управляющий Министерством государственных имуществ, в 1886–1888 гг. вице-президент Императорского Вольного экономического общества, в 1894–1905 гг. министр земледелия и государственных имуществ.
(обратно)123
Манифест, объявленный 14 декабря 1904 г., содержал неопределенные обещания по изменению законодательства, касающегося крестьянской жизни, и расширения прав органов земского и городского самоуправления.
(обратно)124
Р. И. Контратенко (1857–1904) — генерал-майор, военный инженер, лично возглавлял оборону Порт-Артура, командовал солдатами и занимался ремонтом укреплений, отбил ряд японских атак. Погиб вместе с группой офицеров 2 декабря 1904 г. при попадании снаряда в каземат форта № 2.
(обратно)125
«Новости дня» — деловая ежедневная политическая, общественная и литературная газета, издававшаяся в Москве в 1883–1906 гг., в 1905–06 гг. поддерживала кадетов.
(обратно)126
Великий Князь Михаил Александрович (1878–1918) — младший брат Николая II, генерал-адъютант, в 1901–1917 гг. член Государственного совета. Отказался восприять власть после отречения Николая II в 1917 г. Расстрелян большевиками.
(обратно)127
«Наши дни» — ежедневная газета либерального толка, издававшаяся в Петербурге с 18 декабря 1904 по 5 февраля 1905 гг. (также 2 номера в декабре 1905).
(обратно)128
«Наша жизнь» — ежедневная петербургская газета либерального направления, выходила с перерывами с ноября 1904 по июль 1906 гг.; «Русская правда» — ежедневная общественно-политическая и литературная газета, издававшаяся в Москве с апреля 1904 по январь 1905 гг.
(обратно)129
Речь идет о Г. А. Гапоне (1870–1906).
(обратно)130
«Жорж Борман» — крупнейшая кондитерская компания, основанная Г. Н. Борманом в Петербурге в 1862 г.
(обратно)131
Позднее официальные данные были уточнены, в различных источниках сообщалось о 128–130 убитых и 299–360 раненых; в 1920-е гг. советские историки писали о 150–200 убитых и 450–800 раненых.
(обратно)132
К. А. Варламов (1848–1915) — знаменитый актер Александрийского театра, любимец публики, наряду с классическими пьесами игравший в водевилях, опереттах, фарсах и т. д.
(обратно)133
Санкт-Петербургское Телеграфное агентство, начавшее работу 1 сентября 1904 г., первое в России официальное информационное агентство, созданное по инициативе министерств внутренних дел, финансов и иностранных дел для распространения в стране и за границей политических, финансовых, экономических, торговых и других новостей.
(обратно)134
Д. Ф. Трепов (1855–1906) — генерал-майор, в 1896–1905 гг. обер-полицмейстер Москвы, с п января 1905 г. генерал-губернатор Санкт-Петербурга, с мая 1905 года также товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией и командующий отдельным корпусом жандармов. Проводил политику репрессий в отношении революционного движения. 2 января 1905 г. на Трепова совершил неудачное покушение студент А. Полторацкий.
(обратно)135
«Слово» — Видимо, либеральное московское «Русское слово» (1897–1917), наиболее популярная газета в стране; редактировалась 1902 по 1917 гг. виднейшим фельетонистом В. Дорошевичем (1865–1922).
(обратно)136
Л. В. Ходский (1854–1919) — публицист, экономист, статистик, основатель газет «Наша жизнь», «Товарищ», «Столичная почта».
(обратно)137
А. И. Череп-Спиридович (1868–1926), подполковник в отставке по Адмиралтейству (в отставке пожалован званиями полковника, затем генерал-майора), панславист, конспиролог и юдофоб, умер в эмиграции в США.
(обратно)138
В. Я. Богучарский (Яковлев, 1860–1915) — видный историк, археограф, писатель, публицист, народник; в 1885–1890 гг. в сибирской ссылке; к концу 1890-х гг. перешел на позиции легального марксизма, участвовал в журнале «Освобождение», в 1906–1908 гг. редактор журналов «Былое» и «Минувшие годы», автор ряда ценных работ по истории революционного движения в России. Э. К. Пименова (Петриченко, 1855–1935) — журналистка, писательница, многолетняя сотрудница журнала «Мир Божий», автор биографий, популярных книг по истории путешествий, работ по истории рабочего движения и т. д. Н. И. Кареев (1850–1931) — историк, философ, член-корреспондент Академии наук, депутат Первой Государственной думы от кадетской партии, после «Кровавого воскресенья» провел п дней в Петропавловской крепости. В. А. Мякотин (1867–1937) — писатель, историк, политический деятель; неоднократно арестовывался и ссылался; после 1917 г. один из руководителей «Союза возрождения России», был выслан из России в 1922 г. Некоторые из перечисленных литераторов (М. Горький, Кареев, Мякотин) входили в депутацию, которая 8 января 1905 г. безуспешно пыталась убедить П. Д. Святополка-Мирского и С. Ю. Витте отменить ряд военных мер и обратиться к Николаю II с просьбой принять петицию рабочих.
(обратно)139
«Русский инвалид», петербургская военная газета (1813–1917), с 1816 г. ежедневное издание, с 1962 г. официальный орган Военного министерства.
(обратно)140
По сообщениям газет, в воде в результате обрушения моста оказались два взвода лейб-гвардии конного-гренадерского полка, а также несколько извозчиков и пешеходов, однако дело обошлось без человеческих жертв.
(обратно)141
Б. М. Колюбакин (1853–1924) — генерал-лейтенант, военный историк, с 1897 г. профессор Академии Генерального штаба по кафедре военного искусства.
(обратно)142
К. Н. Смирнов (1854–1930) — генерал-лейтенант, комендант крепости Порт-Артур с марта 1904 г. Представил нелестный для других генералов доклад о сдаче Порт-Артура, оправдан по суду в 1908 г. В марте 1908 г. был ранен на дуэли с Фоком (см. прим, к с. 81), который счел себя оскорбленным показаниями Смирнова.
(обратно)143
Формы — так в тексте; возможно, должно было стоять «форты».
(обратно)144
В. В. Сахаров (1848–1905) — генерал-адъютант, с 1898 г. начальник главного штаба, с 1904 г. военный министр. Был уволен в июне 1905 г. и осенью того же года застрелен эсеркой А. А. Биценко (1875–1938).
(обратно)145
Н. Н. Тевяшев (1842–1905) — генерал от кавалерии, до 1903 г. начальник Главного интендантского управления, с июня 1904 по конец ноября 1905 гг. туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа.
(обратно)146
А. Г. Булыгин (1851–1919) — статс-секретарь, в конце 1880-начале 1890-х гг. губернатор Калуги и Москвы, с 1902 г. помощник московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, с января по октябрь 1905 г. министр внутренних дел. Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) — сын Александра II, с 1891 г. московский военный генерал-губернатор, с 1896 г. также командующий войсками Московского военного округа, противник конституционных преобразований. Считался одним из главных виновников Ходынской катастрофы 1896 г. и ответственным за применение военной силы 9 января 1905 г. 4 февраля 1905 г. погиб в Кремле от бомбы боевика-эсера И. П. Каляева (1877–1905, казнен).
(обратно)147
Я. В. Муравьев (1850–1908) — юрист, прокурор, с января 1894 по 1905 г.г. министр юстиции и генерал-прокурор; на должности посла в Риме оставался до самой смерти в 1908 г.
(обратно)148
Е. И. Куза (1856–1910) — оперная певица-сопрано, выступала в Мариинском театре.
(обратно)149
О. Ф. К. Гриппенберг (1838–1915) — генерал от инфантерии, ветеран Крымской и русско-турецкой войн, участник туркестанских походов, с 1904 по март 1905 г. командующий 2-й Манчжурской армией, с лета 1905 по март 1906 гг. генерал-инспектор пехоты. Телеграмма его Николаю II гласила: «Истинная причина, кроме болезни, заставившая меня просить об отчислении меня от командования 2-й Манчжурской армией, заключается в полном лишении меня предоставленной мне законом самостоятельности и инициативы и в тяжелом состоянии невозможности принести пользу делу, которое находится в безотрадном положении. Благоволите, Государь, разрешить мне приехать в СПб для полного и откровенного доклада о положении дела».
(обратно)150
Непосредственным поводом для январской забастовки на заводе послужил отказ его директора С. И. Смирнова восстановить в должности рабочих, которые, по мнению их товарищей, были несправедливо уволены мастером.
(обратно)151
А. Я. Острогорский (1868–1908) — виднейший петербургский педагог, с 1896 г. редактор-издатель журнала «Образование», с 1898 г. директор Тенишевского училища (числящего среди своих учеников О. Мандельштама и В. Набокова), составитель известной хрестоматии «Живое слово».
(обратно)152
Великий князь Павел Александрович (1860–1919) — сын Александра II, генерал от кавалерии, в 1890-х гг. вступил в скандальную связь с женой гвардейского офицера О. В. фон Пистолькорс (1865–1929), от которой в 1896 родился сын, будущий поэт В. Палей (1896–1918). В 1902 г. женился за границей на своей к тому времени уже разведенной любовнице. Прощенный в конце концов Николаем II, вернулся в Россию, где его супруга и дети в 1915 г. получили княжеский титул под фамилией Палей. Расстрелян чекистами.
(обратно)153
Авель (В. Васильев, 1757–1841) — монах-предсказатель, пророчествовавший о будущем монархии в России; с 1900-х гг. и далее от его имени распространялось немало сфальсифицированных «пророчеств».
(обратно)154
Гимназия Стоюниной… — петербургская либеральная частная женская гимназия М. Н. Стоюниной, основанная в 1881 г., славилась передовыми педагогическими методами.
(обратно)155
При взрыве погиб член «Боевой организации» эсеров М. И. Швейцер (1881–1905), заряжавший бомбы для покушения на великого князя Владимира Александровича.
(обратно)156
Н. П. Линевич (1838–1908) — генерал-адъютант, участник русско-турецкой войны, в октябре-марте 1905 г. командующий 1-й Манчжурской армией, с начала марта 1905 г. главнокомандующий вооруженными силами Дальнего Востока, уволен весной 1906 г.
(обратно)157
Как указывает Б. Савинков, «16 и 17 марта в Петербурге и в Москве были арестованы извозчики — Агапов (Дулебов) и Борис Подвицкий и посыльный Трофимов, далее: Василий Шиллеров, Прасковья Волошенко-Ивановская, Борис Моисеенко, Сергей Барыков, Яков Загородний, Анна Надеждина, Татьяна Леонтьева, Надежда Барыкова, Моисей Шнееров, Моисей Новомейский, Михаил Шергов, Сура Эфрусси и Фейга Кац. Кроме того, на станции Малкин С.-Петербургско-Варшавской железной дороги был задержан Боришанский, под фамилией Подновского. У Боришанского и у Леонтьевой был найден динамит. Трофимов же при аресте оказал вооруженное сопротивление. <…> Арестом 16 и 17 марта начинается новый период в истории боевой организации. <…> Причины ее постепенного упадка были многочисленны, и одной из важнейших, тогда нам неизвестной, было появление в центральном комитете провокатора».
(обратно)158
Князь С. Н. Трубецкой (1862–1905) — религиозный философ, в 1900–1905 гг. редактор журнала «Вопросы философии и психологии», первый выборный ректор Московского университета (сентябрь 1905). На этом посту пробыл менее месяца — треволнения, связанные со студенческими протестами, видимо, ускорили кончину Трубецкого.
(обратно)159
Знаменитая фраза из разъяснения Д. Ф. Трепова, обращенного к населению Петербурга: «при оказании же к тому сподавлению беспорядков> со стороны толпы сопротивления — холостых залпов не давать и патронов не жалеть».
(обратно)160
«Всходы» — иллюстрированный журнал для школьников с литературными приложениями (1896–1917), выходил дважды в месяц (редактор-издатель Э. С. Монвиж-Монтвид). Э. Э. Ухтомский (1861–1921) — ориенталист, поэт, коллекционер, дипломат; ратовал за сближение России с Востоком; в 1890–91 гг. сопровождал цесаревича Николая в путешествии на Восток и составил известное трехтомное описание этого путешествия; в 1896–1917 издатель «Санкт-Петербургских ведомостей», занимал либерально-монархические позиции. «Санкт-Петербургские ведомости» (1703–1917) — старейшая российская газета, в описываемое время ежедневное литературно-политическое издание.
(обратно)161
«Союз союзов» — объединение профессиональных и политических союзов либерального толка; первый съезд прошел в Москве в начале мая 1905 г.
(обратно)162
А. А. Бирилев (1844–1915) — адмирал, член Государственного совета, в 1904–1905 гг. военный губернатор Кронштадта и командующий Балтийским флотом, с июня 1905 по январь 1907 гг. морской министр.
(обратно)163
И. П. Шипов (1865–1919?) — финансист, государственный деятель, позднее министр финансов (1905–1906), в 1908–1909 гг. министр торговли и промышленности, в 1914–1917 гг. управляющий Государственным банком.
(обратно)164
М. М. Федоров (1859–1949) — финансист, издатель и редактор ряда финансово-экономических изданий, в 1903–1905 гг. управляющий отделом торговли и промышленности Министерства финансов, в 1906 г. управляющий Министерством торговли и промышленности.
(обратно)165
Форт Шаброль — ироническое название дома в Париже, где в августе 1899 г. забаррикадировался со своими вооруженными последователями глава Антисемитской лиги Ж. Герен, подозреваемый в государственной измене.
(обратно)166
У Технологического института 18 октября 1905 г. был ранен в голову известный историк и будущий советский академик Е. В. Тарле (1874–1955), в то время приват-доцент Петербургского университета.
(обратно)167
С. Р. Минцлов находился в родстве с семейством Бодиско по линии матери, урожденной А. Я. Бодиско; Д. М. Бодиско, сын декабриста М. А. Бодиско, приходился ему двоюродным дядей.
(обратно)168
«Известия Совета рабочих депутатов» — газета «Общегородского совета рабочих депутатов гор. Петербурга», политической организации, образованной 13 октября 1905 из выборных делегатов профсоюзов, предприятий и мастерских и находившейся под значительным влиянием социал-демократов.
(обратно)169
Э. Ф. Направник (1839–1916) — дирижер, композитор, с 1869 г. бессменный первый дирижер Мариинского театра.
(обратно)170
Князь А. Д. Оболенский (1855–1933) — тайный советник, шталмейстер, в 1897–1901 гг. товарищ министра внутренних дел, в 1902–1905 гг. товарищ министра финансов, с октября 1905 по апрель 1906 гг. обер-прокурор Святейшего Синода.
(обратно)171
Д. М. Бодиско (1851–1920) — действительный статский советник, агроном, публицист, чиновник по особым поручениям Главного управления землеустройства и земледелия Министерства государственных имуществ. Выступал в защиту поземельного дворянства как «опоры власти» в деревне. Во втором браке С. Р. Минцлов был женат на его дочери К. Д. Бодиско (1880–1950).
(обратно)172
Ларинская гимназия — одна из первых гимназий в Петербурге, была открыта в 1836 г. на средства, оставшиеся от купца-мецената П. Д. Ларина (1735–1778).
(обратно)173
Рождественское коммерческое училище — Семиклассное «Рождественское мужское и женское коммерческое училище» (Суворовский проспект, 23), первоначально приготовительное училище, основанное автором совместно с его женой М. А. Минцловой (Пеньковой, 1871–1911), детской писательницей, в 1908–1909 гг. редактором-издателем сборников детского и юношеского творчества «Юная мысль» (была также сотрудницей Лаборатории экспериментальной педагогической психологии). Училище, как гласили рекламные объявления, «ставит себе целью правильную постановку воспитания и подготовку учащихся к практической деятельности. Преподаются: рисование, лепка, рукоделие, ручной труд, фребелевские работы, пение и танцы». Годовая плата составляла 100 руб. (40–80 руб. в приготовительных классах). Об этом учебном заведении и его основательнице нелестно отзывался А. М. Ремизов, чья жена С. П. Ремизова-Довгелло преподавала у Минцловой в 1900-х гг. В повести «Крестовые сестры» писатель вывел Минцлову в образе начальницы «образцовой» гимназии Ледневой, в позднейшей мемуарной прозе «Кукха. Розановы письма» заявлял: ««Образцовая» гимназия, где учила С. П., оказалась просто мошеннической. Путаная история, в которой принимал участие и В. B. <Розанов> кончилась, и как всегда в таких случаях: тебя же обманут и тебя же обвинят» (как утверждают публикаторы переписки Ремизова с К. И Чуковским И. Ф. Данилова и Е. В. Иванова, Минцлова «имела обыкновение «экономить» на учителях, не доплачивая им жалование под предлогом «замечаний»»). В мемуарах «Петербургский буерак» Ремизов писал: «Серафима Павловна через В. В. Розанова устроилась в гимназию Минцлова: начальница — жена Сергея Рудольфовича. С. П. было не очень легко, я заметил, не преподавание, а эта Минцлиха баба — все как следует, а мерка на людей самая пошлая (при Тредиаковском это слово переводилось как «средняя», «ограниченная»), стало быть, жди «замечаний» и, конечно, все по программе и учебнику».
(обратно)174
Я. Г. Мор ((1840–1914) — действительный статский советник, педагог, филолог-эллинист, автор учебников греческого языка, участник комиссий по преобразованию средней школы, с 1896 до 1906 г. директор 6-й петербургской гимназии, в начале 1906 г. сменил поэта И. Ф. Анненского на посту директора царскосельской Николаевской мужской гимназии, славился своей строгостью.
(обратно)175
Е. В. Богданович (1829–1914) — генерал от инфантерии, тайный советник, чиновник Министерства внутренних дел, правый издатель и публицист; К. Полторацкий — москвич, по другим источникам мещанин или коллежский регистратор, создатель «добровольной народной охраны» и один из основателей черносотенного «Союза русского народа».
(обратно)176
А. И. Гучков (1862–1936) — лидер либерально-консервативной партии «Союз 17 октября», в 1907–1912 гг. депутат Государственной Думы, в 1910–1911 гг. председатель III Государственной думы, в 1917 г. принял отречение Николая И, был военным и морским министром Временного правительства, с 1919 г. в эмиграции. В 1905 г. Гучков отказался от поста министра торговли и промышленности, предложенного ему С. Ю. Витте.
(обратно)177
Одесский погром 18–22 октября 1905 г. был наиболее кровавым из сотен погромов в России, последовавших за манифестом 17 октября. Погибло более 500 человек, из них более 400 евреев, сотни были ранены, во многих местах города шли уличные бои между погромщиками и отрядами еврейской самообороны. Погромщики разграбили свыше полутора тысяч еврейских домов, квартир и магазинов; комитет помощи оценивал количество пострадавших от погрома семей в 9,254 (42,973 человек).
(обратно)178
Великий князь Николай Николаевич (1856–1929) — внук Николая I, генерал от кавалерии, в 1905–1908 гг. — главнокомандующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, в Первую мировую войну верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами (1914–1915), в в 1915–1917 гг. наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказским фронтом, с 1919 г. в эмиграции.
(обратно)179
Граф Н. П. Игнатьев (1832–1908) — генерал-адъютант, член Государственного совета, видный дипломат и панславист, в 1881–1882 гг. министр государственных имугцеств, затем министр внутренних дел. А. С. Стишинский (1852–1922) — правый политик, член Государственного совета, в 1899–1904 гг. товарищ министра внутренних дел, в 1906 г. главноуправляющий землеустройством и земледелием, в 1908–1917 гг. председатель Русского окраинного общества, ратовавшего за целостность империи и подавление национально-освободительных движений.
(обратно)180
Партия правового порядка — конституционно-монархическая партия, чье программное воззвание было опубликовано 20 октября 1905 г. Выступала за сильную государственную власть, единство и неделимость России, смыкалась с «Союзом 17 октября».
(обратно)181
А. А. Каспари (1836–1913), крупный книготорговец и издатель, с 1880-х гг. издавал популярный еженедельный иллюстрированный журнал «Родина» с ежемесячными приложениями, основанный в Петербурге в 1879 г. «Нива» (1869–1918) — наиболее тиражный журнал в России, обильно иллюстрированный еженедельник с бесплатными приложениями в виде собраний сочинений русских и иностранных классиков, выкройками, календарями и т. д.; основан и издавался известным издателем А. Ф. Марксом (1838–1904).
(обратно)182
Книгоиздательское товарищество марксистского толка «Знание» (1898–1913) было основано по инициативе К. П. Пятницкого, Горький же присоединился в 1900 г. В описываемый период углубились его разногласия с Пятницким по поводу редакционно-издательской политики «Знания».
(обратно)183
Н. Г. Шебуев (1874–1937) — беллетрист, юморист, публицист, журналист, сотрудник газеты «Русь», редактор-издатель «Газеты Шебуева» и журнала «Пулемет» (1905). На упомянутый номер «Пулемета» был наложен арест, Шебуев был приговорен к годичному заключению в крепость, выдержал 28 судебных разбирательств и нередко редактировал журнал в тюрьме.
(обратно)184
Д. Б. Нейгардт (1861–1942) — тайный советник, гофмейстер, член Государственного совета, в 1903–1905 гг. градоначальник Одессы.
(обратно)185
К. В. Церпицкий (1849–1905) — генерал-лейтенант, участник туркестанских кампаний, китайской кампании 1900–1901 гг. и русско-японской войны, отличился при подавлении Боксерского восстания и в феврале 1905 г. в сражении под Мукденом, где он контратаковал японские части и на время остановил продвижение противника.
(обратно)186
С. П. Хитрово (Бахметева, 1848–1910) — приемная дочь А. К. Толстого; ее мужем был гофмейстер, дипломат и поэт М. А. Хитрово (1837–1896).
(обратно)187
Здесь и далее в рассказах С. П. Хитрово отразились всевозможные слухи и сплетни о Г. А. Гапоне: в 1902 г. при уходе из приюта Синего Креста за ним действительно последовала окончившая курс воспитанница А. Уздалева, которая, однако, стала гражданской женой Гапона и родила от него сына; Гапон участвовал в демонстрациях 9 января 1905 г.; снисходительность Антония, очевидно, была вызвана контактами Гапона с охранкой и т. д.
(обратно)188
С. В. Зубатов (1864–1917) — надворный советник, полицейский администратор, один из создателей дореволюционной системы политического сыска; в 1896–1902 гг. начальник Московского охранного отделения, в 1902–1903 гг. глава Особого отдела Департамента полиции. Для борьбы с революционными симпатиями рабочих разработал и создал сеть легальных рабочих организаций (так называемая «зубатовщина»). В связи с разгогласиями с Плеве был уволен последним летом 1903 г. Застрелился в 1917 г. после отречения Николая II.
(обратно)189
«Мир Божий» — популярный петербургский ежемесячный литературный и научно-популярный журнал (1892–1918); после закрытия осенью 1906 г. возобновился под названием «Современный мир».
(обратно)190
Ф. В. Дубасов (1845–1912) — адмирал, в 1897–1898 гг. командующий Тихоокеанской эскадрой, в 1905 г. подавлял крестьянские волнения в губерниях, в ноябре был назначен московским генерал-губернатором, вскоре объявил в городе чрезвычайно положение и жесткими методами покончил с восстанием; в апреле и декабре 1906 г. был дважды ранен во время двух покушений, осуществленных боевиками-эсерами.
(обратно)191
Кадеты (176 депутатов) составили крупнейшую фракцию в I Государственной Думе; ее председателем стал кадет С. А. Муромцев (1850–1910), товарищи председателя и секретарь также были из числа кадетов.
(обратно)192
«Казарма» — нелегальная газета, орган различных военных комитетов РСДРП, быстро перешла под контроль большевиков; всего в Петербурге, Москве и Финляндии было выпущено 13 номеров с февраля 1906 по март 1907 гг.
(обратно)193
Ф. И. Родичев (1893 или 1896–1932) — депутат Государственной Думы I–IV созывов, юрист, присяжный поверенный, один из основателей кадетской партии. В 1870-Х-1890-Х гг. деятель либерального Тверского земства. После Февральской революции 1917 г. комиссар временного правительства по делам Финляндии, член Учредительного собрания, с 1919 г. в эмиграции.
(обратно)194
Это заявление, опубликованное 19 апреля 1906 г. газете «Новое время», гласило, что Г. А. Гапон был казнен по приговору «суда рабочих». В действительности Гапон был повешен 28 марта 1906 г. группой рабочих-эсеров под руководством видного эсера, инженера П. М. Рутенберга (1878–1942); инициатива убийства исходила от Е. Ф. Азефа.
(обратно)195
II Государственная Дума была распущена (с одновременным изменением избирательного законодательства) Николаем II з июня 1907 г. после того, как премьер-министр П. А. Столыпин (1862–1911) 1 июня 1907 г. обвинил группу социал-демократических депутатов в заговоре против государственного строя.
(обратно)196
В. Л. Бурцев (1862–1942) — публицист, издатель, историк революционного движения; дважды арестовывался в 1880-х гг., бежал из сибирской ссылки в Швейцарию. В 1905 г. нелегально вернулся в Россию (попал под амнистию), в 1907 г. вновь эмигрировал, в 1911–1914 гг. издавал в Париже газету «Будущее». В 1915 г. арестован по возвращении в Россию, сослан и вскоре амнистирован; в 1917 г. выступал против большевиков, был арестован, в 1918 г. освобожден, эмигрировал во Францию, где в 1918–1933 с перерывами издавал газету «Общее дело». Прославился как основатель журнала и сборников «Былое», посвященных истории русского освободительного движения, разоблачитель полицейских агентов в революционной среде (в частности Е. Ф. Азефа) и подложного характера «Протоколов сионских мудрецов».
(обратно)197
М. Н. Маргулиес (1868–1939) — доктор медицины, присяжный поверенный, видный масон, организатор бесплатных юридических консультаций для бедных, защитник на многих политических процессах, основатель Радикальной партии политических реформ. До 1917 г. состоял директором правления ряда заводов и компаний; во время Первой мировой войны в качестве председателя санитарного отдела петербургского комитета Союза городов организовал более 100 лазаретов, был также председателем Центрального Военно-промышленного комитета. Умер в эмиграции во Франции.
(обратно)198
Купил несколько конфискованных книг для своей библиотеки — В книжном собрании С. Р. Минцлова значительное место занимали нелегальные издания, произведения вольной печати и чудом уцелевшие экземпляры книг, конфискованных или уничтоженных цензурой; многие из них перечислены в его указателе «Редчайшие книги, напечатанные в России на русском языке» (1904).
(обратно)199
Автор учитывает конкурсы на лучший проект храма Воскресения Христова («Спаса-на-крови») в 1881–1882 г.; храм был заложен в 1883 г.
(обратно)200
Речь идет о казни боевика-эсера, отставного флотского офицера Б. Н. Никитенко и его сподвижников В. А. Наумова и Б. С. Синявского по делу о «заговоре против императора»; ЦК партии эсеров официально отрицал, что им было санкционировано цареубийство.
(обратно)201
Н. П. Карбасников (1852–1921) — владелец частного издательства, основанного в Петербурге в 1871 г., сети книжных магазинов в Петербурге, Москве, Варшаве и Вильно; в 1908 г. основал с сыновьями «Товарищество Н. П. Карбасников», которое в 1918 г. было национализировано.
(обратно)202
Т. е. рядом с книжным магазином наследников крупного издателя и книгопродавца М. О. Вольфа (1825–1883).
(обратно)203
М. О. Меньшиков (1859–1918) — публицист-охранитель, националист, сотрудник «Нового времени», идеолог Всероссийского национального союза (1908–1917) — православно-монархического объединения правых партий, организаций и думских фракций. Расстрелян чекистами в 1918 г.
(обратно)204
А. М. Колюбакин (1868–1915) — отставной военный, один из основателей и член ЦК кадетской партии, в 1908 г. был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за резкое выступление на митинге в Саратове (1906), позднее признан выбывшим из состава III Государственной Думы. Погиб в 1915 г., вызвавшись добровольцем на фронт Первой мировой войны.
(обратно)205
В августе 1907 г. яхта «Штандарт» с императорской семьей на борту получила пробоину в узком проливе у берегов Финляндии; от полного потопления ее пасли герметичные переборки. Позднее утверждалось, что подводная скала, но которую налетел «Штандарт», не была обозначена на картах.
(обратно)206
Барон В. Б. Фредерикс (1838–1927) — генерал-адъютант, член Государственного Совета, в 1897–1917 гг. министр императорского двора, в 1913 пожалован графским титулом; с 1924 г. в эмиграции.
(обратно)207
Д. А. Философов (1861–1907) — шталмейстер, член Государственного совета, в 1905–1906 гг. государственный контролер, с июля 1906 г. по 6 декабря 1907 г. министр торговли и промышленности
(обратно)208
«Выборгское воззвание» — обращение «Народу от народных представителей», составленное в Выборге и подписанное 180 депутатами I Государственной Думы после ее роспуска Николаем II; депутаты призывали к кампании гражданского неповиновения властям.
(обратно)209
Имеются в виду максималисты (Редакция).
(обратно)210
С. А. Скирмунт (1863–1935) — издатель, книготорговец; в 1900 г. выступил одним из организаторов издательства «Труд», был связан с социал-демократами. Магазины «Труд» в Москве и Петербурге, как отмечает ниже и автор, служили центрами распространения нелегальной литературы. В годы первой русской революции Скирмунт выпускал марксистские брошюры и большевистскую газету «Борьба». В 1907 г. был приговорен к 3 годам крепости, сумел выехать за границу, окончательно вернулся в Россию в 1926 г.
(обратно)211
О. Н. Попова (1848–1907) — издательница, писательница; владела книжным магазином и крупной библиотекой-читальней в Петербурге.
(обратно)212
Эсерка Е. Д. Рагозинникова (Рогозиникова, 1886–1907) в 1907 г. бежала из-под стражи, симулировав сумасшествие, скрывалась с мужем на даче Пименовой, 15 октября 1907 г. застрелила начальника Главного тюремного управления А. М. Максимовского и вскоре была казнена по приговору военно-окружного суда.
(обратно)213
П. Е. Щеголев (1877–1931) — известный пушкинист, историк литературы и общественных движений, в 1899 был исключен из университета за революционную деятельность, в 1899–1903 гг. в ссылке в Вологодской губернии, в 1906–1907 гг. соредактор журнала «Былое», после Февральской революции 1917 г. председатель особой комиссии по расследованию деятельности департамента полиции.
(обратно)214
Нобелевский народный дом — был открыт в 1901 г. на Выборгской стороне по инициативе нефтепромышленника Э. Л. Нобеля (1859–1932), племянника изобретателя динамита А. Нобеля, на средства которого была учреждена Нобелевская премия.
(обратно)215
«Ешь меня, собака (Наша главная болезнь)» — изданный в 1907 г. памфлет юриста и правого публициста, тайного советника Н. С. Сергеевского (Сергиевского, 1849–1908), первого председателя Русского окраинного общества.
(обратно)216
Н. В. Соловьев (1877–1915) — антиквар, букинист, библиофил, издатель журнала «Антиквар» (1902–1903), редактор-издатель журнала «Русский библиофил» (1911–1916). И. В. Помяловский (1845–1906) — член-корреспондент Академии наук, историк, филолог, с 1897 г. декан историко-филологического факультета Петербургского университета.
(обратно)217
Н. П. Лихачев (1862–1936) — действительный статский советник, историк, в 1902–1914 гг. помощник директора Публичной библиотеки. М. Е. Синицын (также М. Я. Синицин, 1864–1934) _ известный библиофил, собиратель русского искусства, старообрядец. Ф. Г. Шилов (1879–1962) — видный букинист, антиквар, библиофил, коллекционер, автор мемуаров «Записки старого книжника» (1959).
(обратно)218
Р. Р. Мицлов (1845–1904) — юрист, общественный деятель, публицист.
(обратно)219
Л. Ф. Мелин (18? — после 1918) — петербургский букинист, антиквар. В. И. Клочков (1861–1915) — крупнейший букинист, антиквар, библиофил, один из учредителей «Кружка любителей русских изящных изданий».
(обратно)220
Г. А. Лопатин (1845–1918) — прославленный революционер, член Генерального совета I Интернационала, первый переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык; в 1860–1870-х гг. неоднократно арестовывался и ссылался, совершил ряд побегов за границу. В 1884 г. был арестован по делу «Народной воли», в 1887 г. приговорен к смертной казни, после замены наказания на пожизненную каторгу содержался в Шлисельбургской крепости, вышел на свободу по амнистии 1905 г. Н. А. Морозов (1854–1946) — революционер, писатель, ученый, член исполкома «Народной воли», в 1881 г. арестован, в 1882 г. осужден на пожизненное заключение, с 1884 г. и до амнистии 1905 г. содержался в Шлиссельбургской крепости. В заключении написал множество научных трудов по физике, химии, математике, астрономии, истории и т. д.; писал также стихи, научно-фантастические рассказы, написал монументальный и не выдерживающий критики семитомный труд по истории религии «Христос» (1924–1932). С 1918 г. и до конца жизни директор Естественнонаучного института им. П. Ф. Лесгафта.
(обратно)221
Статья С. Р. Минцлова «14 месяцев «свободы печати». 17 октября 1905–1 января 1907 г. Заметки библиографа» была напечатана в мартовском номере журнала «Былое» за 1907 г.
(обратно)222
Король Португалии Карлуш I (Карлос Мученик, р. 1863) и его старший сын Луиш Фелипе были застрелены террористами-республиканцами в Лиссабоне 1 февраля 1908 г.
(обратно)223
Архимандрит Михаил (П. В. Семенов, 1873–1916), популярный среди петербургской интеллигенции священник, религиозный писатель, с 1905 г. — экстраординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре церковного права; в 1906 г. объявил себя христианским социалистом, был осужден Синодом и выслан в Валаамский монастырь; в 1907 г. примкнул к старообрядчеству, был произведен в епископа Канадского. В 1916 г. был избит в Москве и через девять дней скончался.
(обратно)224
Барон А. Н. Меллер-Закомельский (1844–1928) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны. В 1905 г. подавлял восстания в Севастополе и Сибири, в 1906–1909 гг. временный генерал-губернатор Прибалтийского края, с 1918 г. в эмиграции.
(обратно)225
М. Г. Деммени (1869 или 1870–1920) — статский советник, археограф, секретарь нумизматического отделения Русского археологического общества, автор работ по истории монетного дела.
(обратно)226
Л. А. Велихов (1875–после 1940) — юрист, депутат IV Государственной Думы от партии кадетов, редактор-издатель журнала «Городское дело», участник Первой мировой войны. После гражданской войны преподаватель, в 1938 г. арестован, в 1940 г. осужден на 8 лет лагерей.
(обратно)227
С. К. Маковский (1877–1962) — поэт, художественный критик, редактор журнала «Аполлон» (1909–1917). С. 1920 г. в эмиграции.
(обратно)228
«Товарищ» — ежедневная петербургская газета (март 1906–декабрь 1907 гг.); «Столичная почта» — ежедневная газета, выходившая в Петербурге с октября 1906 по февраль 1908 гг
(обратно)229
М. М. Школьник (1882–1955) — террористка-эсерка, приговорена к пожизненной каторге за участие в неудачном покушении на черниговского губернатора А. А. Хвостова (1906), в 1911 бежала, осела в Америке, вернулась в Россию после революции 1917 г. Л. П. Езерская (1866–1915) — дворянка, зубной врач, эсерка, в октябре 1905 г. ранила Могилевского губернатора Н. М. Клингенберга, осуждена на 13 лет каторги, умерла от чахотки на поселении.
(обратно)230
Князь Б. А. Васильчиков (1860–1931) — шталмейстер, предприниматель, участник русско-японской войны в качестве уполномоченного Красного Креста, в 1906–1908 гг. главноуправляющий землеустройством и земледелием, умер в эмиграции во Франции.
(обратно)231
Великий князь Николай Константинович (1850–1918) — внук Николая I, кавалерийский офицер, участник Хивинского похода; в 1874 г. был обвинен в краже, лишен наследства и званий и удален из Петербурга; в 1881 по императорскому предписанию обосновался в Ташкенте, занимался предпринимательством, ирригационными работами, умер от воспаления легких в 1918 г.
(обратно)232
А. К. Марков (1858–1920) — коллежский советник, действительный член Русского Археологического общества, член-корреспондент Императорской археологической комиссии, в 1900–1920 гг. старший хранитель Отделения монет и медалей Эрмитажа. Ю. Г. Иверсен (1823–1900) — кандидат философии, преподаватель древних языков, исследователь русских медалей, с 1879 г. до смерти в 1900 г. старший хранитель минц-кабинета Эрмитажа.
(обратно)233
Р. Минцлова — в исходном тексте «К. Минцлова» (очевидная опечатка). Имеется в виду дед автора Р. И. Минцлов (1811–1893), библиограф, переводчик, многолетний хранитель Публичной библиотеки.
(обратно)234
«Наблюдатель» — петербургский литературный, политический и научный журнал (1882–1904), занимал патриотические, православно-монархические и откровенно юдофобские позиции. Редактором-издателем журнала был юрист, публицист, издатель А. П. Пятковский (1840–1904), издававший также газету «Гласность» и журнал «Народная школа» (1872–1882).
(обратно)235
Книга С. Р. Минцлова «Стихотворения. 1888–1897» вышла в свет в Одессе в 1897 г.
(обратно)236
А. Р. Минцлова (1866–1910?) — оккультистка, деятельница теософского движения (позднее последовательница Р. Штейнера, антропософка), сыграла существенную закулисную роль в жизни многих литераторов Серебряного века от М. Волошина и Вяч. Иванова до В. Брюсова и А. Белого; исчезла при невыясненных обстоятельствах осенью 1910 г.
(обратно)237
С. Г. Коваленский (1862–1908 или 1909?) — тайный советник, сенатор, начал карьеру как судебный чиновник, с 1896 г. помощник начальника Главного тюремного управления, с марта по конец июня 1905 г. директор Департамента полиции, после чего был отстранен от должности и назначен членом Сената.
(обратно)238
А. Д. Карышев — так в тексте. Речь идет о беллетристе, публицисте Д. А. Карышеве, сотрудничавшем в журналах «Исторический вестник» и «Наблюдатель». И. М. Василевский (1882–1938) — журналист, беллетрист, фельетонист (псевдоним «He-Буква»), редактировал газету «Свободные мысли» (под различными названиями в 1907–1911 гг.), «Журнал журналов» (1915–1917) и другие издания, в 1920–1923 гг. в эмиграции, в 1929–1935 гг. заведующий редакцией журнала «Изобретатель». Репрессирован, расстрелян в 1938 г. «Образование» — либеральный ежемесячный педагогический, литературный, научно-популярный и общественно-политический журнал, издававшийся в Петербурге с 1892 по 1909 гг. (ранее — «Женское образование»), неоднократно менял редакторов-издателей. В. Ф. Тотомианц (1875–1964) — экономист, социолог, публицист, легальный марксист, в «Образовании» при Карышеве вел экономический отдел, с 1919 г. в эмиграции. Н. Д. Носков (1870-?) — литератор, критик, автор критико-биографических статей и критических этюдов, составитель «Словаря литературных типов». М. В. Новорусский (1861–1925) — народоволец, сподвижник А. И. Ульянова, с 1887 по 1905 гг. в заключении в Шлиссельбургской крепости, позднее мемуарист, автор книг для детского чтения и научно-популярных очерков, в 1917–1921 г. директор Сельскохозяйственного музея. Велихов, Монвиж-Монтвид — см. прим, к с. 130, 196. Поварнин — возможно, философ-логик С. И Поварнин (1870–1952). Игнатьев — предположительно, Е. И. Игнатьев (1869–1923), математик, автор ряда изданных в 1900-х гг. познавательных книжек для детей.
(обратно)239
С. П. Подъячев (1866–1934) — крестьянский писатель, которому в 1900-х гг. покровительствовал В. Г. Короленко, после революции активист в родном селе Никольское-Обольяново под Москвой.
(обратно)240
И. К. Камышанский (1862–1918) — действительный статский советник, камергер, с декабря 1905 по апрель 1907 гг. прокурор прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты, в 1909–1910 гг. вятский губернатор. 128-я статья Уголовного уложения 1903 года предусматривала наказание в виде ссылки на поселение за «оказание дерзостного неуважения Верховной Власти».
(обратно)241
Владелец издательства «Мир» В. Л. Богушевский (более известный выпуском журнала «Теософическое обозрение» в 1907–1908 гг., а также сопутствующей литературы) и его брат Л. Л. Богушевский, горный инженер.
(обратно)242
См. статью К. И. Чуковского «Нат Пинкертон и современная литература» (1908).
(обратно)243
А. Г. Горнфельд (1867–1941) — известный и плодовитый критик, литературовед, переводчик и публицист. А. В. Пешехонов (1867–1933) — журналист, публицист, политик, сотрудник «Русского богатства», с 1905 г. редактор эсеровской газеты «Сын отечества», в 1917 г. министр продовольствия Временного правительства, в 1922 г. выслан за границу. А. П. Каменский (1876–1941) — беллетрист, прозаик, киносценарист, в 1900-х гг. разрабатывал эротическое направление в русской прозе и считался «порнографом», после революции эмигрировал, окончательно вернулся в Россию в 1935 г., в 1937 г. был репрессирован, умер в лагере.
(обратно)244
Б. Г. Столпнер (1871–1950) — философ, переводчик Гегеля, социал-демократ, участник Религиозно-философского общества.
(обратно)245
И. Я. Гинцбург (Э. Гинзбург, 1859–1939) — скульптор, ученик М. М. Антокольского, в 1921–1923 гг. декан скульптурного факультета Высших художественно-технических мастерских.
(обратно)246
Д. В. Драчевский (1858–1918?) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны, в 1903–1905 гг. директор управления Финляндских железных дорог, в 1905–1907 гг. градоначальник Ростова-на-Дону, с января 1907 г. петербургский градоначальник, в 1914 г. отставлен от должности и позднее обвинен в растрате.
(обратно)247
При взрыве, происшедшем в кафе «Централь» вечером 20 декабря 1909 г., погиб официант, взявший в руки сверток с бомбой; виновником газеты называли неизвестного с внешностью «студента».
(обратно)248
Г. Г. Тумим (1870-?) — педагог, публицист, общественный деятель.
(обратно)249
Т. В. Локоть (1869–1942) — ученый-агроном, в I Государственной Думе депутат-трудовик, приговорен к тюремному заключению за подписание «Выборгского воззвания», позднее монархист и националист, умер в эмиграции в Югославии.
(обратно)250
Дальнейшие события в редакции «Образования», которые излагает автор, связаны с тем, что в 1903–1907 гг. в журнале доминировали социал-демократы (печатались В. И. Ленин, А. В. Луначарский, В. Д. Бонч-Бруевич и др.), которые не желали мириться со сменой направления журнала, появления в нем «реакционных» публицистов кадетского толка и т. д. Дрязги в редакции и неумелое руководство Д. А. Карышева привели к закрытию журнала после № 5 за 1909 г.
(обратно)251
А. Н. Изгоев (Ланде, 1872–1935) — юрист, общественный деятель, влиятельный публицист, отошедший от марксизма, участник знаменитого сборника «Вехи» (1909), в 1906–1918 гг. член ЦК партии кадетов; после нескольких арестов в 1918–1921 гг. был в 1922 г. выслан за границу, умер в Эстонии.
(обратно)252
А. Ю. Финн-Енотаевский (1872-ок. 1937) — социал-демократ, общественный деятель, публицист; в 1936 г. репрессирован, умер в лагере. Л. Н. Клейнборт (1875–1950) — журналист, публицист, литературный критик, социал-демократ (меньшевик), в 1899–1910 гг. четырежды арестовывался.
(обратно)253
В. В. Кирьяков (псевдоним Вельский, 1868–1923) — эсер, публицист, общественный деятель, педагог.
(обратно)254
Н. С. Русанов (псевдоним Кудрин, 1859–1939), революционер, публицист, журналист, народоволец, многолетний сотрудник журнала «Русское богатство», с 1881 г. жил за границей, после амнистии 1905 г. вернулся в Россию, в 1905–1906 гг. член редакции ряда эсеровских газет, после 1917 г. эмигрировал.
(обратно)255
В. А. Поссе (1864–1940) — журналист, издатель, революционер, общественный деятель, в 1898–1901 в Петербурге и в 1901–1902 гг. за границей редактировал журнал «Жизнь», в 1908–1918 гг. издавал в Петербурге «Журнал для всех».
(обратно)256
Землетрясение 28 декабря 1908 г. в итальянском городе Мессина (Сицилия) разрушило города Мессина и Реджо-Калабрия и унесло жизни, по различным оценкам, от 70,000 до 200,000 человек.
(обратно)257
Речь идет о книге историка Н. Н. Фирсова (1864–1934) «Пугачевщина. Опыт социолого-психологической характеристики» (1909).
(обратно)258
73-я статья Уголовного уложения 1903 г. предусматривала наказание в виде ссылки на поселение за оскорбление в печати православной церкви и ее святынь, христианской веры, богохульство и т. п.
(обратно)259
«О веяниях времени» (апрель 1908). Этот марксистский сборник, направленный против идейного и литературного «распада», включал статьи В. И Ленина «Нейтральность профессиональных союзов» и П. Орловского (В. В. Воровского) «В ночь после битвы» и вскоре после выхода в свет был конфискован.
(обратно)260
Настоящая фамилия его — Свердлов.
(обратно)261
П. И. Рачковский (1861–1910) — действительный статский советник, с 1885 по 1902 г. заведующий заграничной агентурой Департамента полиции, уволен В. К. фон Плеве по обвинению в должностных злоупотреблениях, в 1905–1906 гг. вице-директор Департамента полиции.
(обратно)262
О. Я. Пергамент (1868–1909) — юрист, уголовный защитник, общественный деятель, публицист, депутат II и III Государственной Думы от кадетов, вел ряд больших политических процессов 1905–1908 гг. О. Г. фон Штейн (О. 3. Сегалович, 1869-?) — знаменитая авантюристка 1900-Х-1920-Х гг., с именем которой связано множество легенд. Арестована в 1906 г. после аферы с выманиванием залоговых сумм у лиц, нанятых ею управлять несуществующими золотыми приисками в Сибири, в 1907 г. была выпущена под залог и, видимо, при посредстве своего защитника О. Я. Пергамента бежала за границу. В 1908 г. была депортирована из США по запросу российских властей, приговорена к 16 месяцам тюрьмы, а против Пергамента было возбуждено расследование.
(обратно)263
Н. А. Хомяков (1850–1925) — сын поэта А. С. Хомякова, действительный статский советник, лидер октябристов, депутат I, II и III Государственной Думы, в 1907–1910 гг. председатель III Государственной Думы.
(обратно)264
А. М. Гартинг-Ландейзен (Геккельман, 1861-?) — тайный агент Петербургского охранного отделения; в 1890 г. организовал в Париже мастерскую по изготовлению бомб для покушения на Александра III, сдал заговорщиков полиции. В В 1905–1909 гг. руководил всей заграничной агентурой в Париже. В 1909 г. был разоблачен В. Л. Бурцевым, покинул Францию, так как в качестве «Ландейзена» за дело 1890 г. был приговорен к тюремному заключению.
(обратно)265
С. М. Коган (псевдоним Е. Семенов, 1861–1941) — журналист, политический деятель, народоволец, активист пацифистских движений, с 1880-х гг. в эмиграции.
(обратно)266
Г. С. Носарь (псевдоним П. А. Хрусталев, 1877–1918 или 1919) — юрист, революционер, в октябре 1905 г. избран председателем петербургского Совета рабочих депутатов, вскоре арестован и в 1906 г. сослан в Сибирь, откуда в 1907 г. бежал за границу. Вернулся в Россию в 1914 г. В 1917–1918 гг. пытался организовать в родном Переяславле на Украине «республику», боролся с большевиками, был расстрелян чекистами.
(обратно)267
И. Б. Фейнерман (псевдоним Тенеромо, 1863–1925), публицист, писатель, киносценарист, корреспондент Л. Н. Толстого. С 1885 г. учительствовал, затем крестьянстовал в Ясной Поляне, позднее пропагандировал учение Толстого в Кременчуге, Полтаве и Елисаветграде; после переезда в Петербург в 1900-х гг. написал множество статей и ряд книг о Л. Толстом, организовал съемки похорон Толстого, писал киносценарии для фильмов по произведениям Толстого, фильмов на еврейские темы.
(обратно)268
Н. О. Пружанский (Линовский, 1844-?) — писатель, публицист, общественный деятель, отец поэта А. Н. Поморского. Первые произведения опубликовал на древнееврейском языке в начале 1860-х гг. На русском начал публиковаться в конце 1860-х; автор многочисленных повестей, рассказов, публицистических статей.
(обратно)269
И. Л. Щеглов (Леонтьев, 1856–1911) — прозаик, драматург, артиллерийский офицер, участник русско-турецкой войны. С 1878 г. служил в Главном артиллерийском управлении, в 1883 вышел в отставку и целиком посвятил себя литературе. Автор ряда романов, рассказов, более 30 пьес, пособий для самодеятельных кружков «народного театра».
(обратно)270
Живокин — имеется в виду В. И. Живокини (1805 или 1807–1874), знаменитый комик, актер московского Малого театра, родоначальник актерской династии Живокини.
(обратно)271
Ф. Ф. Потехин (1869-после 1915) — литератор, автор рассказов, ряда статей и брошюрок около-оккультного содержания, публиковался в журнале «Вестник теософии».
(обратно)272
Возможно, М. В. Пирожков (1867–1927), педагог и издатель, разорившийся к 1909 г.
(обратно)273
Н. Н. Шавров (1858–1915) — общественный деятель, публицист, националист, организатор Тифлисского патриотического общества, многолетний заведующий Кавказской шелководческой станцией в Тифлисе, выступал за освоение населением внутренних губерний России земель в Туркестане.
(обратно)274
А. В. Кривошеин (1867–1921) — действительный тайный советник, гофмейстер, в 1908–1915 гг. главноуправляющий землеустройством и земледелием, в 1920 г. председатель правительства Юга России, умер в эмиграции.
(обратно)275
В. Р. Щиглев (псевдонимы Щигров, Романыч, 1840–1903) — поэт-юморист, сатирик, драматург, карикатурист с либерально-народническими симпатиями, печатался во многих периодических изданиях второй половины XIX века.
(обратно)




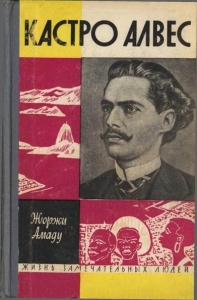
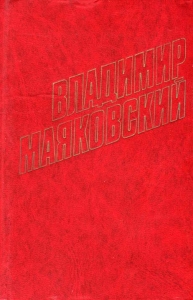

Комментарии к книге «Петербург в 1903-1910 годах», Сергей Рудольфович Минцлов
Всего 0 комментариев