Александр Григорьевич Звягинцев Жизнь и деяния видных российских юристов. Взлеты и падения
Есть два вида государственного устройства: один – где над всеми стоят правители, другой – где и правителям предписаны законы.
ПлатонПавел Иванович Ягужинский (1683–1736)
Государево око
Павел с молодости отличался веселым и живым нравом, слыл сообразительным и остроумным юношей. Эти качества, а также обаятельная внешность привлекли к нему внимание фельдмаршала графа Федора Головина, который и взял его к себе на службу пажом.
Начало XVIII века ознаменовалось в России важными событиями. Молодой царь Петр I энергично принялся за обширные преобразования, модернизацию и всемерное укрепление Русского государства. Задачи были поставлены грандиозные. Для их выполнения он мог опираться только на молодых, талантливых и энергичных людей, пусть даже не принадлежащих к знатным фамилиям.
Павел Ягужинский попал в пажи при высочайшем дворе. Здесь в 1701 году он впервые встретился с Петром I. Царь, завороженный умом, образной красивой речью, выдающимися способностями и умением быстро и толково составить любую бумагу, зачислил юношу в Преображенский полк, а когда он стал офицером – «пожаловал» в денщики. Ему предстояло дежурить при царе и фактически исполнять обязанности личного адъютанта. С этого времени начинается стремительная и блестящая карьера Ягужинского, ставшего одним из любимцев русского царя.
В двадцать семь лет он уже камер-юнкер и капитан Преображенского полка, затем генерал-адъютант, генерал-майор и, наконец, генерал-лейтенант. Прекрасно владевший несколькими иностранными языками, умный и ловкий, он неоднократно выполнял важные дипломатические миссии: вел переговоры с королями Дании и Пруссии, участвовал в работе ряда международных конгрессов, часто сопровождал царя в заграничных поездках. Петр I доверял ему и другие важные поручения, требующие смекалки и честности.
12 января[1] 1722 года оказалось знаменательной датой в истории Российского государства. В этот день Петр I подписал указ, направленный на улучшение деятельности всех органов государственной власти. В нем определялись обязанности сенаторов, предписывалось присутствовать в Сенате президентам коллегий, устанавливалась Ревизион-коллегия и учреждались при Сенате должности генерал-прокурора, рекетмейстера, экзекутора и герольдмейстера.
В отношении прокуратуры в указе отмечалось: «Быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны рапортовать генерал-прокурору».
Спустя несколько дней были установлены и должности прокуроров при надворных судах.
В этом же указе Петр I писал: «Ныне ни в чем так надлежит трудиться, чтобы выбрать и мне представить кандидатов на выше писанные чины, а буде за краткостью времени всех нельзя, то чтоб в президенты коллегий и генерал– и обер-прокуроры выбрать; что необходимая есть нужда до наступающего карнавала учинить, дабы потом исправиться в делах было можно; в сии чины дается воля выбрать изо всяких чинов, а особливо в прокуроры, понеже дело нужное есть».
Однако и того срока, который был установлен, Петр I дожидаться не стал – слишком большие надежды он возлагал на должность генерал-прокурора. 18 января 1722 года первым генерал-прокурором Сената государь назначил Павла Ивановича Ягужинского. Представляя его сенаторам, Петр I сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть». Эта же мысль нашла отражение и в указе от 27 апреля 1722 года «О должносги генерал-прокурора»: «Понеже сей чин – яко око наше и стряпчий о делах государственных».
По отзывам современников, Ягужинский был видный мужчина, с лицом неправильным, но выразительным и живым, со свободным обхождением, капризный и самолюбивый, но очень умный и деятельный. За один день Ягужинский делал столько, сколько другой не успевал за неделю. Мысли свои выражал без лести перед самыми высокими сановниками и вельможами, порицал их смело и свободно. Талантливый и ловкий, он не робел ни перед кем. Не случайно светлейший князь Меншиков «от души ненавидел его».
Ближайшим помощником Ягужинского, обер-прокурором Сената, стал Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, выдвинувшийся из среды гвардейских офицеров.
Генерал-прокурору были подчинены все прокуроры в коллегиях и надворных судах. В соответствии с «Должностью», он обязан был «смотреть над всеми прокурорами, дабы в своем звании истинно и ревностно поступали». Все прокурорские донесения, касающиеся важных дел, он «предлагал» Сенату и требовал по ним исполнения.
П. И. Ягужинский довольно быстро занял ключевые позиции в государственных делах – по существу, он играл роль второго лица в империи после Петра I. Императора вполне устраивала активная деятельность Ягужинского, и он во всем поддерживал его. Петр I не раз говорил своим приближенным: «Что осмотрит Павел, так верно, как будто я сам видел».
Положение первого генерал-прокурора Сената было довольно сложным. Император, человек исключительно деятельный и энергичный, нередко сам выполнял прокурорские обязанности: он постоянно ездил в Сенат и строго следил за тем, как принимаются решения.
Первое время Ягужинский тратил немало сил, чтобы навести в Сенате хоть элементарный порядок. Основное внимание он сосредоточил на контроле за повседневной работой, за правильностью и законностью разрешения дел, их своевременным прохождением, порядком заседаний и прочими дисциплинарными моментами. Стремясь к возвышению над Сенатом, он все свои предложения к сенаторам обычно прикрывал авторитетом Петра, с которым оставался очень близок. Коллегиальные решения еще были чужды сознанию самолюбивых сановников, сенаторы не привыкли считаться с чужим мнением и уважать его, поэтому в заседаниях зачастую возникали споры, крики и брань, а иногда даже потасовки. В связи с этим 16 октября 1722 года Ягужинский даже написал особое «предложение» Сенату, в котором просил сенаторов воздерживаться от ссор и споров, «ибо прежде всего это неприлично для такого учреждения».
Постепенно генерал-прокурор занимает ключевое положение в государственном управлении. Русский историк В. О. Ключевский писал по этому поводу: «Генерал-прокурор, а не Сенат, становился маховым колесом всего управления; не входя в его состав, не имея сенаторского голоса, был, однако, настоящим его президентом, смотрел за порядком его заседаний, возбуждал в нем законодательные вопросы, судил, когда Сенат поступает право или неправо, посредством своих песочных часов руководил его рассуждениями и превращал его в политическое сооружение на песке».
В. О. Ключевский не случайно упомянул о песочных часах. Дело в том, что в то время в Сенате существовал такой распорядок – сенаторы, выслушав доклад по какому-либо вопросу, имели право переговорить меж собой о том или ином деле, и для этого им давался срок от получаса до трех часов. Для определения точного времени генерал-прокурор имел под рукой песочные часы. Как только доклад заканчивался, он тотчас ставил часы на стол. Когда весь песок высыпался, сенаторы обязаны были немедленно садиться на свои места и «подавать голоса», начиная с младших.
Император Петр I, всегда строго преследовавший сановников за взяточничество и воровство, часто поручал генерал-прокурору Ягужинскому ведение «розыска», хотя расследование преступлений и не входило тогда в прямую обязанность генерал-прокурора. В 1722 году Петр I получил прошение посадского человека Сутягина, в котором тот доносил о злоупотреблениях ярославского провинциал-фискала Попцова. В доносе сообщалось, что Попцов содержит беглых крестьян, за взятки освобождает людей от рекрутского набора и разворовывает казенные деньги. Такую же жалобу Сутягин подавал еще несколько лет назад, но она затерялась где-то в чиновничьих канцеляриях. На этот раз она все же дошла до императора, и Петр I приказал своему кабинет-министру Макарову отослать полученную челобитную Ягужинскому для расследования. Генерал-прокурор быстро выяснил суть дела. Попцов признал свою вину и, более того, стал изобличать во взяточничестве также и своего начальника, обер-фискала Нестерова. Ягужинский донес о результатах следствия императору, который находился тогда в Астрахани. 15 октября 1722 года Петр I писал генерал-прокурору: «Г. Ягужинский, письмо твое октября 5-го числа до нас дошло, в котором пишешь, что фискал Попцов с розыску показал во взятках и в других преступлениях на обер-фискала Нестерова и в своих показаниях винился, и оное дело велите, по отлучении своем, следовать и разыскивать прокурору Егору Пашкову и для того придайте ему в помощь из прокуроров, кого он будет требовать, и ежели обер-фискал дойдет до розысков, также и другие, то велите разыскивать».
Вскоре после этого обер-фискал Нестеров был изобличен во взяточничестве и казнен.
Когда дело касалось интересов закона, Ягужинский не боялся противостоять даже членам царской фамилии. Об этом свидетельствует такой случай. Подьячий Василий Деревнин, служивший у царицы Прасковьи Федоровны, вдовы царя Ивана Алексеевича, брата Петра I, нашел оброненное фаворитом царицы и ее главноуправляющим Юшковым письмо. Разобрать в нем он ничего не мог, так как оно было писано специальным цифровым шифром. Но то, что писала его царица, – знал доподлинно. Будучи человеком нечистым на руку, он решил выторговать себе из этого случая максимум выгоды (ведь можно написать донос государю!), поэтому письмо припрятал. Пропажа письма весьма обеспокоила царицу, и Юшков получил от нее хороший нагоняй, врученный разносом фаворит в исчезновении письма заподозрил Деревнина, за которым и раньше замечал воровство. Он схватил его и посадил в свою домашнюю тюрьму, но когда подьячего хватились – выпустил, так и не дознавшись о письме. Чтобы не искушать судьбу, Деревнин решил скрыться, но его быстро отыскали и отправили в Тайную канцелярию. Там ему учинили допрос с пристрастием, но безрезультатно, подьячий оказался крепким орешком. Тогда царица Прасковья Федоровна решила самолично допросить арестанта. Поздно вечером, под видом раздачи милостыни колодникам, она вместе со своими слугами прибыла в московскую контору Тайной канцелярии в конце Мясницкой улицы. Зловещие, пугающие жителей Москвы железные ворота Тайной выходили прямо на Лубянскую площадь.
По требованию царицы немедленно доставили Деревнина. Он по-прежнему юлил и выкручивался. Прасковья Федоровна стала нещадно лупить подьячего тяжелой тростью. Затем ее слуги, числом около дюжины, схватили Деревнина и принялись жечь свечами ему нос, уши, глаза, бороду. После этого, связав и положив на козлы, всего исполосовали. Деревнин хоть и орал, но ничего не говорил. Тогда по приказу царицы слуги облили ему голову «крепкой водкой» и подожгли. Подьячий завопил благим матом, караульщики едва сумели сбить с него пламя, однако царица на этом не успокоилась.
Дежуривший в Тайной канцелярии каптенармус Бобровский, видя, что дело приобретает плохой оборот, и понимая, что ответственность за содеянное царицей ляжет на него, срочно направил своего человека с письмом к генерал-прокурору Ягужинскому. Тот немедленно прибыл, отобрал у царицы едва живого колодника и под караулом отправил в свой дом. И когда Пр асковья Федоровна потребовала от Ягужинского, чтобы он отдал ей провинившегося подьячего, генерал-прокурор как можно спокойнее произнес: «Что хорошего, государыня, что изволишь ездить ночью по приказам. Без именного указа отдать невозможно». Царица, бросая гневные взгляды на Ягужинского, вынуждена была покинуть Тайную канцелярию. На следующий день Ягужинский вернул изувеченного подьячего в Тайную канцелярию, ведь дело его не было закончено. О происшествии было доложено императору. Слуги царицы, которые по ее указанию истязали Деревнина, были отданы под суд и биты батогами. Главноуправляющего Юшкова сослали на жительство в Новгород.
Генерал-прокурор Ягужинский всегда жил на широкую ногу и тратил огромные суммы на обстановку, слуг, экипажи. У него были лучшие в столице кареты – даже Петр I частенько одалживал их для своих выездов. Государь любил бывать в доме Ягужинского – там было всегда весело. Возможно, именно поэтому царь, прививая российским дворянам европейский «политес», возложил на Ягужинского еще одну обязанность – надзор за проведением так называемых ассамблей.
После смерти императора прокуратура как государственный орган утратила свои позиции. Тем не менее генерал-прокурор, во многом благодаря своему уму и ловкости, сумел сохранить благосклонность Екатерины I. Он одним из первых сановников представил ей записку «О состоянии России», в которой проявил себя истинно государственным человеком – в частности, предлагал ряд мер для «внутренней и внешней целостности государства». Однако прокуратура императрицу волновала мало, Сенат также оказался в тени. На первое место в государстве выдвинулся так называемый Верховный тайный совет, образованный 8 февраля 1726 года, – он-то и управлял всеми делами.
В августе 1726 года Ягужинский назначается полномочным министром при польском сейме в Гродно. Обязанности генерал-прокурора стал выполнять обер-прокурор Бибиков, а затем его сменил Воейков.
При вступлении на престол в 1730 году Анны Иоанновны Ягужинский пережил несколько неприятных моментов. Дело в том, что ряд сановников («верховники») вздумали ограничить власть императрицы. Вначале Ягужинский примкнул к ним и также высказывался за ограничение самодержавной власти монарха. Но затем политическое чутье подсказало ему иной путь, и он решил предупредить Анну Иоанновну о заговоре «верховников». В Митаву, где находилась императрица, было послано доверенное лицо – камер-юнкер Сумароков с письмом и устными наставлениями. Ягужинский писал, что идею ограничения власти монарха предлагает лишь небольшая кучка людей, и давал совет Анне Иоанновне, как ей надобно поступить, когда к ней прибудут посланники от Верховного тайного совета. Однако на обратном пути Сумароков был арестован.
2 февраля 1730 года на совместном заседании Верховного тайного совета, Синода и Генералитета Ягужинский был обвинен в измене, арестован и посажен в Кремлевский каземат. У него отобрали шпагу, ордена, а все бумаги опечатали. Генерал-прокурора подвергли интенсивным допросам. Арест ближайшего сподвижника Петра I наделал много шума в Москве. Жителям столицы с барабанным боем было объявлено, что Ягужинский арестован за письмо к императрице, содержание которого «противно благу отечества и Ее величества». Со дня на день ожидали, что Ягужинский будет казнен. Однако заговор «верховников» провалился, последовали казни и ссылки, а Ягужинский вновь возвысился.
Именным указом от 2 октября 1730 года Анна Иоанновна восстановила органы прокуратуры в полной силе. «Ныне небезызвестно нам есть, – говорилось в указе, – что в коллегиях и канцеляриях в государственных делах слабое чинится управление и челобитчики по делам своим справедливого и скорого решения получить не могут, и бедные от сильных утесняемы, обиды и притеснения претерпевают». При Петре I же, отмечалось далее, «для отвращения всего этого был учрежден чин генерал-прокурора и ему помощника обер-прокурора при Сенате, а в коллегиях – прокуроров». В указе определялось: «Быть при Сенате генерал– и обер-прокурорам, а при коллегиях и других судебных местах – прокурорам и действовать по данной им Должности».
Не забыла императрица и Ягужинского. В указе отмечалось: «И для того ныне в Сенат, покамест особливый от нас генерал-прокурор определен будет, иметь в должности его надзирание из членов сенатских генералу Ягужинскому, а в его дирекции в должность обер-прокурора быть статскому советнику Маслову, а прокуроры и в коллегии и канцелярии, в которые надлежит, определяются немедленно».
Ягужинский был «пожалован» императрицей сенаторским званием. Несмотря на то что положение его в Сенате стало двойственным, так как раньше, осуществляя надзор, он сам не был сенатором, генерал-прокурор сумел поддержать свой авторитет. Он был, по существу, самым квалифицированным юристом империи. Но это была уже лебединая песня Ягужинского. Вокруг императрицы стали возвышаться другие люди, набирал силу ее любимец Бирон. После нескольких ожесточенных схваток с ним, менее чем через год после своего вторичного назначения на должность генерал-прокурора, Ягужинский «с радостью воспринял весть о назначении его послом в Берлин вместо ссылки в Сибирь».
В Пруссии Павел Иванович находился до 1735 года, после чего возвратился в Россию. Он стал графом и кабинет-министром императрицы, а также продолжал носить звание генерал-прокурора, хотя от прокурорских дел фактически отошел.
Павел Иванович Ягужинский имел чин действительного тайного советника, был награжден орденами Святого Андрея Первозванного, Святого Александра Невского и другими.
Личная жизнь Ягужинекого вначале сложилась неудачно. В 1710 году состоялась его женитьба на Анне Федоровне Хитрово. Хотя он получил за женой огромное состояние, сразу сделавшее его одним из богатейших людей России, брак этот не был счастливым. Его жена оказалась женщиной неуравновешенной, склонной к распутству и бездумным оргиям. От этого брака у него был сын, умерший в 1734 году, и три дочери. Ягужинский все-таки добился через Святейший синод развода, после этого Анна Федоровна была сослана в Переславль-Залесский монастырь, где и умерла в 1733 году.
Вторично Ягужинский женился на Анне Гавриловне Головкиной, дочери канцлера. От брака имел сына, который дослужился до генерал-поручика и умер в 1806 году, и трех дочерей. Вторая жена Павла Ивановича, как писали современники, была «высока ростом, имела прекрасный стан и отличалась приятностью в обхождении». Судьба ее оказалась трагической. После смерти Ягужинского она вышла замуж за обер-гофмаршала графа М. П. Бестужева-Рюмина, но в 1743 году была обвинена в участии в заговоре против императрицы Елизаветы Петровны, судима, наказана кнутом и «по урезании языка» сослана в Сибирь, где и скончалась в 1749 году.
Граф П. И. Ягужинский умер 6 апреля 1736 года, погребен в Александро-Невском монастыре.
Яков Петрович Шаховской (1705–1777)
«Справедливость и добро всему предпочитал
Князь Яков Петрович Шаховской родился 8 октября 1705 года. Наставником мальчика стал дядя – гвардейский офицер Алексей Иванович Шаховской, человек беспокойный, инициативный и честный. Он дал племяннику не просто блестящее домашнее образование, но воспитал в нем чувство справедливости. «Главнейшие и частые мне были от сего второго отца поучения, чтобы всякое дурное делать стыдиться, а справедливость и добродетель во всяких случаях всему предпочитать», – так впоследствии с благодарностью напишет Яков Петрович в своих «Записках».
Алексей Иванович не хотел видеть племянника изнеженным барчуком и лучшим средством от этого считал армейскую службу, да не офицерство, а солдатскую лямку. Так в лейб-гвардии Семеновском полку появился четырнадцатилетний солдат. В 1723 году поручик Яков Шаховской переходит в Конную гвардию, а в середине 1730-х годов служит под началом своего дяди, управлявшего тогда Малороссией и лично державшего в курсе тамошних дел Анну Иоанновну и Бирона.
В 1738–1739 годах Якову Петровичу пришлось отправиться на Русско-турецкую войну, где молодой офицер лейб-гвардии Конного полка не только участвовал во многих сражениях, но и мужество проявлял незаурядное.
В начале 1740 года его было не узнать – закаленный, возмужавший. Он возвращается в Петербург и получает неожиданное для себя назначение – советником в Главную полицию. Скоро он становится генерал-полицмейстером и получает чин действительного статского советника. Но служба оказалась беспокойной и трудной, «редкий день без атак и штурмов приходился».
Правление Анны Леопольдовны было недолгим, но принесло Шаховскому должность сенатора, а вот следующий дворцовый переворот, воцарение Елизаветы Петровны, лишил его этого звания. Однако вскоре последовало новое назначение – теперь он обер-прокурор Святейшего синода.
«Записки» многое объясняют в его карьере. «Я еще с начала вступления в свет поставил в сердце моем предметом, чтобы во всех случаях, делах и поведении моих чистосердечно поступать, злоковарных же лестей и обманов употреблять гнушаться, а справедливость всему предпочитать». Именно этим стремлением к справедливости он и наживает себе множество врагов среди членов Синода. Некоторые из них, по его словам, чуть ли не на коленях упрашивали Елизавету Петровну удалить слишком требовательного прокурора. Однако ему удалось прослужить в этой должности более одиннадцати лет, дослужиться до чина тайного советника, получить ордена Святого Александра Невского, Святой Анны и другие. 29 мая 1753 года Шаховской был назначен генерал – кригскомиссаром, то есть главным начальником по снабжению армии и флота. На этом поприще он весьма строго следил за соблюдением государственных интересов и, по собственному выражению, ему приходилось «многие патриотические дела производить». Нередко в неимоверно тяжелых условиях, по бездорожью и в распутицу он доставлял припасы в армию «без повреждения» и в «целосохранносги».
Особую заботу генерал проявлял о солдатах. В одну из суровых зим в Москву прибывали многочисленные команды новобранцев, среди рекрутов было много заболевших. Как-то раз Шаховской выехал в московский госпиталь, желая лично ознакомиться с условиями содержания солдат. Навстречу ему попались несколько дровней с лежащими в них людьми. На вопрос, куда их везут, сопровождающий унтер-офицер ответил: «Из гошпиталя, ваше сиятельство, в команду. Хворые они все тяжкими недугами». Шаховской недоумевал: «Так не из госпиталя надо везти, а в госпиталь». – «Не принимают их за теснотою в оном». Шаховской приказал развернуть дровни и ехать обратно. В госпитале оказались переполненными все покои – люди все прибывали, а размещать их было негде. Яков Петрович принял решение отселить из госпиталя проживавших там больничных служащих, а больных разместить в освободившихся помещениях. Часть медицинского персонала поселили в здании расположенной поблизости дворцовой пивоварни. Недоброжелатели тут же донесли об этом императрице Елизавете Петровне – якобы в ее величества пивоварне лежат больные «с прилипчивыми болезнями», а прачки стирают грязные бинты. Та разгневалась и поручила разобраться в этом деле начальнику своей Тайной канцелярии графу Шувалову. Шувалов послал в Москву для расследования поручика Безобразова: «Если ты по освидетельствовании обнаружишь в пивоварне больных и прачек, то всех их немедленно пересели для жительства в дом князя Шаховского». Московские враги Шаховского подкупили комиссара госпиталя, и он накануне приезда столичного курьера действительно перевез в пивоварню три десятка больных и прачек. Безобразов во исполнение приказа усадил их на подводы и привез в дом Якова Петровича, предъявив письмо начальника Тайной канцелярии. Шаховскому ничего не оставалось, как распахнуть свои покои, а самому перебраться в маленькую каморку. Будучи человеком негневливым, он все обратил в шутку, а через некоторое время ему удалось оправдаться перед императрицей. Комиссар же, мучимый угрызениями совести, вскоре наложил на себя руки.
15 августа 1760 года Яков Петрович становится генерал-прокурором и одновременно конференц-министром. Узнав о назначении на новую должность, он воскликнул: «В оном чину наиглавнейших злодеев иметь буду». И он не ошибся. Менее полутора лет служил на этом посту честный, бескорыстный и неподкупный прокурор, пользовавшийся репутацией «строгого законника» и пристально следивший за тем, чтобы в государственных учреждениях все «чинилось порядочно и по указам», имел немало острых стычек с приближенными к императрице сановниками. Он сразу же потребовал от обер-секретаря отчета о рапортах, присылаемых из присутственных мест, о производящихся там делах и расходовании денежных средств. Канцеляристы оказались в растерянности, поскольку донесения с мест, несмотря на «понуждения», поступали нерегулярно, а некоторые их вообще не направляли.
Чаще других игнорировала эти указания экспедиция по переделке медных денег, которой руководил граф Шувалов. Получив запрос, граф приехал в Сенат и в раздражении спросил, кто посмел прислать ему «понуждение», а потом обвинил генерал-прокурора в том, что тот причиняет ему неприятности. Шаховской же ответил, что пытается пресекать только «противозаконные поступки» Шувалова, основанные на личных выгодах и корысти. Разгневанный Шувалов расстался с ним еще большим врагом, чем был прежде.
Программой действий для генерал-прокурора стал указ Елизаветы Петровны от 16 августа 1760 года, в котором она поручала Сенату содействовать ей в восстановлении в государстве «надлежащего порядка, правосудия, благосостояния и обильного добра». Более близкое знакомство Я. П. Шаховского с судебными местами убедило его в том, что они погрязли в злоупотреблениях. Он писал: «Несытая алчба корысти дошла до того, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем лихоимства, пристрастие – предводительством судей, а потворство и упущение – ободрением беззакония».
Шаховской всегда стремился отстаивать законность и справедливость, хотя и давалось ему это с большим трудом. Он признавался, что чувствовал себя путешественником, который с «надлежащей большой дороги загнан в болото, наполненное тиною и трясиною, из коего не дорогами, но наудачу, то по колено, то глубже увязая, потеряв силы и отчаясь на твердый берег выйти, близко погибель свою ощущает».
Несмотря на невероятные козни, чинимые приближенными к императрице вельможами, вопреки их злобным наскокам и наветам, он во всех делах оставался честным и неподкупным. Именно по этой причине императрица Елизавета Петровна ценила его, была милостиво расположена к своему генерал-прокурору, лично принимала доклады и часто вставала на его сторону.
25 декабря 1761 года новый император Петр III отправил Шаховского в отставку, и некоторое время тот «оставался не у дел». Короткое царствование Петра III закончилось дворцовым переворотом, и на российском престоле оказалась Екатерина II. Она вновь призвала Шаховского на службу, назначив сенатором. В день своей коронации императрица пожаловала ему орден Святого Андрея Первозванного.
Яков Петрович часто сопровождал молодую императрицу в поездках по России, причем нередко сидя с ней в одном экипаже. В пути он много говорил о деяниях Петра Великого и затеянных им преобразованиях. В одной из таких поездок он как-то вспомнил, что по замыслу Петра I один из сенаторов должен каждый год объезжать губернии и ревизовать тамошние дела, вскрывать злоупотребления и лихоимство. Эта идея понравилась Екатерине II. Тогда Шаховской тут же вызвался лично произвести такую проверку в городах, которые они проезжали, и осуществил свое намерение в Ярославле, Ростове и Переславле-Залесском, чем привел в трепет местные власти.
1 апреля 1766 года действительный тайный советник и сенатор Я. П. Шаховской по состоянию здоровья вышел в отставку. Он поселился в Москве, а летнее время проводил в своей подмосковной деревне. Вставал по обыкновению в шесть часов утра и выходил в сад, за которым сам ухаживал. Изредка встречался со своими друзьями. Привыкший к напряженной работе, Яков Петрович и на отдыхе не мог сидеть без дела. Вскоре он принялся за написание воспоминаний о своей бурной, насыщенной яркими событиями жизни, которые озаглавил так: «Записки князя Я. П. Шаховского, полицмейстера при Бироне, обер-прокурора Св. синода, генерал-прокурора и конференц-министра в царствование Елизаветы и сенатора при Екатерине II». Они впервые были опубликованы в Москве в 1810 году.
Яков Петрович был женат дважды. Первой его женой была княжна Александра Алексеевна Путятина, второй – Евдокия Егоровна Лопухина (урожденная Фаминцына). От этих браков он имел четверых детей.
Князь Я. П. Шаховской умер 23 июля 1777 года и погребен в малой соборной церкви Донского монастыря.
Александр Иванович Глебов (1722–1790)
«…Лишил себя доверенности…»
Александр Иванович Глебов родился в 1722 году. Уже в пятнадцать лет он был определен сержантом в Бутырский пехотный полк, позже в составе этого полка участвовал в Русско-турецкой войне и штурме крепости Очаков.
17 вгуста 1739 года в сражении под Славучанами в чине поручика он командовал небольшим от рядом и сумел проявить незаурядную храбрость и смекалку. В этом бою он был тяжело ранен.
Военная служба Глебова продолжалась вплоть до 1749 года, когда он сменил ее на статскую, перейдя туда в чине коллежского асессора. Скоро он сумел завоевать расположение важного елизаветинского сановника, небезызвестного П. И. Шувалова, и тот взял его под свое покровительство. Сам Глебов так вспоминал об этом периоде своей жизни: «Десять лет назад по желанию графа Петра Ивановича Шувалова был определен в Сенат обер-секретарем. Он поручал мне делать по своим мыслям разные сочинения и определил меня в места разные сверх должности моей, яко то: членом в главную межевую канцелярию и в комиссию уложенную; потом, увидев мою к себе совершенную преданность и повиновение, с благодарностью делал мне многие поверенносги».
Приблизив к себе молодого сметливого чиновника, хитрый Шувалов хотел использовать не только его способности, но и привлекательную внешность и обаяние. Случилось так, что императрица Елизавета Петровна заметно охладела к своему бывшему любимцу графу, и теперь он ломал голову, как лучше поправить свои дела при высочайшем дворе. Шувалов решил действовать через графиню Марию Симоновну, урожденную Гендрикову, вдову обер-гофмейстера Н. Н. Чоглокова, приходившуюся императрице двоюродной сестрой. Уж она-то могла бы помочь ему «сведать все намерения и действия двора». С этой целью Шувалов и предложил своему протеже обратить внимание на «изрядную вдовушку». Глебов к тому времени был уже вдовцом. Первая жена, Екатерина Алексеевна, урожденная Зыбина, старше его на двенадцать лет, умерла вскоре после свадьбы. Детей у них не было. Обаятельный Глебов быстро сумел добиться любви Марии Симоновны, оттеснив более именитых соискателей ее руки, и вскоре состоялась помолвка. Узнав об этом, Елизавета Петровна с изумлением воскликнула: «Сестра моя сошла с ума, влюбилась в Глебова, как отдать ее за подьячего?» Но этот конфуз был легко исправим – жениха оставалось только срочно повысить по службе.
Незадолго до свадьбы, 10 декабря 1755 года, Глебову был пожалован чин обер-прокурора Правительствующего сената. Пышное венчание состоялось в январе 1756 года в Зимнем дворце, в присутствии императрицы. Однако брак этот оказался кратковременным, Мария Симоновна была уже «на последнем градусе чахотки» и скончалась через полтора месяца после свадьбы. Мужу она оставила семерых малолетних детей от первого брака и более 50 тысяч рублей долга. Пришлось ему отчаянно искать способы разбогатеть – жалованья не хватало. И он с головой окунулся в коммерцию, что при его должности было весьма рискованным – легко было перепутать свой карман с государственным. Он занялся устройством свинцовых заводов в Финляндии, взял на откуп конские сборы в Архангельске, а затем и винный откуп в Иркутской провинции.
Если графу Шувалову так и не удалось использовать это супружество в личных целях, то Глебову женитьба на Чоглоковой помогла приблизиться к высочайшему двору. Его карьера начала развиваться стремительно – в ноябре 1758 года он был удостоен ордена Святой Анны, а 16 августа 1760 года назначен генерал-кригскомиссаром и получил чин генерал-майора. В отличие от князя Шаховского А. И. Глебов исполнял свои обязанности не столь рачительно, что особенно сказалось на снабжении армии во время войны с Пруссией.
Гораздо больше его волновали собственные финансовые дела. Александр Иванович заключил с Сибирским приказом контракт на поставку вина в кабаки Иркутской провинции, однако местные купцы начали чинить ему всевозможные препятствия. Тогда Глебов нанес ответный удар – обвинил Иркутский магистрат в тайном винокурении и незаконной продаже вина. Будучи обер-прокурором, он сумел убедить в этом Сенат, который под его давлением решил провести следствие через «верную и надежную персону». Выбор пал на коллежского асессора Крылова, ставленника Глебова. Прибыв с особыми полномочиями в Иркутск, Крылов занялся «выбиванием» денег у местных купцов, для этого он вытребовал себе военную команду из двадцати пяти человек во главе с унтер-офицером и приступил к «следствию». Применяя пытки, он заставлял людей сознаваться в «своих винах», приказал заковать в цепи председателя и членов магистрата, опечатал их дома и все имущество, арестовал губернатора Вульфа и сам вступил в управление провинцией.
Тем временем Глебов не терял времени даром – он тут же переуступил свои права иркутским купцам, отхватив при этом солидный куш. «Следствие» стало бесполезным, и он быстро провел через Сенат решение о его отмене. Однако возникло непредвиденное затруднение – губернатор Вульф сбежал из-под ареста и добрался до Тобольска, где доложил о беззакониях сибирскому губернатору, и тот приказал арестовать Крылова. Вульф с солдатами взял под стражу своего мучителя и под усиленным конвоем отправил в Петербург.
Императрица Елизавета Петровна, узнав о скандале, сильно разгневалась и велела учредить специальную комиссию для расследования злоупотреблений Крылова. Однако ловкий Глебов сумел взять «производство действий» в свои руки. Ему везло – вскоре императрица скончалась, а взошедший в 1761 году на престол Петр III назначил Глебова генерал-прокурором. Следственная комиссия тут же прекратила свою работу.
Будучи очень дружен с императором, Глебов довольно быстро занял прочное место среди приближенных к монарху вельмож. За два года, проведенные в прокурорском кресле, он помимо трудов на собственный карман все же сделал кое-что и для государства. Ему была поручена подготовка целого ряда важных узаконений. В частности, Александр Иванович являлся одним из авторов известных манифестов: от 18 февраля 1762 года «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» и от 21 февраля 1762 года «Об уничтожении Тайной канцелярии». Он был соавтором указов об отобрании крестьян от духовенства, о прекращении гонений на раскольников, о введении в России бумажных денег.
В феврале 1762 года Глебова наградили орденом Святого Александра Невского – он стал первым александровским кавалером в царствование Петра III.
Генерал-прокурор работал много и неустанно. Каждый день к 8 часам утра он являлся во дворец с докладом к императору. Фактически Александр Иванович стал посредником между государем и Сенатом, почти все поручения Сенату были написаны рукой Глебова и только подписаны Петром III.
Однако время пребывания Глебова в должности генерал-прокурора оказалось весьма недолгим и довольно бесцветным. Оно характеризуется почти полным отсутствием «доношений» от представителей местной прокуратуры. А те немногие, которые к нему поступали, он обычно направлял в Сенат, не делая никаких предложений. Видимо, больше его занимали другие проблемы.
О корыстолюбии Глебова и даже императора рассказывала, в частности, княгиня Дашкова. Однажды Глебов, а также сенаторы Мельгунов и Нарышкин получили от некоего Хорвата по две тысячи дукатов каждый за то, что обещали поспособствовать решению его вопроса в Сенате. Когда они сообщили об этом Петру III, он не только не возмутился лихоимством своих вельмож, но даже похвалил их за то, что не скрыли от него подарков, и потребовал себе половину. После этого Петр III самолично отправился в Сенат и решил дело в пользу Хорвата.
Будучи опытным царедворцем, хитрым и изворотливым (современники называли его «человеком с головой»), А. И. Глебов очень тонко оценил обстановку во время дворцового переворота 1762 года и, несмотря на привязанность к Петру III, сразу же поддержал Екатерину II. Поскольку он обладал не только исключительными способностями, но и трудолюбием, императрица, знавшая о его дурных наклонностях и корыстолюбии, продолжала держать Глебова на высшем прокурорском посту. Более того, она поручила ему вместе с графом Н. И. Паниным руководство только что созданной Тайной экспедицией, расследовавшей все политические дела.
Почти не занимаясь организацией работы подчиненных ему прокуроров, Глебов сосредоточил все внимание на деятельности Сената, хозяйственных и финансовых вопросах, подготовке различных узаконений. Именно в этом состояли многочисленные поручения императрицы, которые он исполнял очень оперативно, в считаные дни. Например, по предложению Екатерины II он подготовил специальное узаконение, направленное на борьбу с лихоимством судей и чиновников.
Но вскоре его положение при высочайшем дворе пошатнулось, чему в немалой степени способствовала всплывшая вдруг история с винным откупом в Иркутске. Императрица, услышав о скандальном деле, своим указом приказала «окончить следствие» и взяла его под личный контроль. Глебов, хотя и оставался генерал-прокурором, помешать этому уже не мог. В результате по приговору Сената бывший следователь Крылов был наказан кнутом в Иркутске, а затем отправлен на вечную каторгу. Имение его пошло с молотка, а вырученные деньги раздали «обиженным» им людям. Императрица нашла, что Глебов в этом деле оказался «подозрительным и тем самым уже лишил себя доверенности, соединенной с его должностью». 3 февраля 1764 года он был смещен с поста генерал-прокурора и «переименован» в генерал-поручика с предписанием императрицы «впредь ни на какие должности его не определять».
Тем не менее Екатерина II не склонна была отказываться от толкового, хотя и корыстолюбивого сотрудника. Поэтому
Глебов сохранил за собой должность генерал-кригскомиссара, а в 1773 году даже пожалован в генерал-аншефы. В 1775 году его назначают смоленским и белгородским генерал-губернатором. Но тайное опять становится явным – уже в следующем году ревизия вскрыла серьезные злоупотребления и хищения в Артиллерийской конторе и Главном кригскомиссариате, учиненные во время его руководства, обнаружила недостачу огромных сумм денег, значительного количества сукна и других материалов – всего на полмиллиона рублей (сумма по тем временам фантастическая!). По поручению императрицы была создана специальная следственная комиссия, а в июне 1776 года Глебов был вызван из наместничества в столицу, и тогда же его отстранили от всех должностей «донеже по делам, до него касающихся, решение последует». Александр Иванович оказался под судом и подвергся допросам. Окончательный приговор по делу был утвержден Екатериной II лишь 19 сентября 1784 года. Глебов был признан виновным «в небрежении должности» и исключен из службы. На его многочисленные имения был наложен секвестр. валенный от всех дел, Александр Иванович проживал либо в своем доме в Москве на Ходынке, либо в подмосковном имении Виноградове. Незадолго до отставки он женился в третий раз – на экономке Дарье Николаевне Франц, бывшей в услужении еще у покойной жены Марии Симоновны. Узнав о женитьбе Глебова на простой женщине, Екатерина II разгневалась: «Поди, совсем свихнулся Александр Иванович, взял в жены кухарку! Отныне чтоб и ноги его при дворе моем не было!»
Умер Глебов в возрасте шестидесяти восьми лет и погребен в своем имении Виноградове. Могилу его украшает такая эпитафия: «В память великому мужу… благоразумием, мудростью, знаниями и бессмертной славой отличавшемуся, преждевременной смертью у отечества похищенному…»
Гаврила Романович Державин (1743–1816)
«…НЕ МОГ СНОСИТЬ РАВНОДУШНО НЕПРАВДЫ…»
Начало каждого нового столетия обычно связано в России с ожиданием реформ, и XIX век здесь не был исключением. Молодой император Александр I отличался честолюбием, в этом ему не уступали деятельные молодые соратники. Их государственное рвение вселяло надежду на дальнейшее укрепление могущества обширной империи, где должны были расцвести науки, культура и искусство. Изменений требовали и судебные структуры – одним из важнейших преобразований стало учреждение в России министерств. Управление судебной частью и обязанности генерал-прокурора передавались в ведение министра юстиции – первым таким министром и стал выдающийся русский поэт Гаврила Романович Державин.
Родился он 3 июля 1743 года в Казани, в мелкопоместной дворянской семье, небогатой, но принадлежащей к старинному роду, основателем которого был служилый человек князя Василия Темного – мурза Багрим, что впоследствии весьма льстило воображению поэта и доставляло ему «любимую поэтическую прикрасу». Один из потомков Багрима, служивший в Казани, получил прозвище Держава, отсюда и пошла фамилия последующих поколений этого рода.
Отец Державина, секунд-майор Роман Николаевич, сначала служил в казанском гарнизоне, потом в Ставрополе и Оренбурге. В январе 1754 года он вышел по болезни в отставку в чине подполковника с обещанием представить его к награждению «полковничьим рангом», но умер в ноябре того же года, когда его старшему сыну Гавриле исполнилось всего одиннадцать лет. Мать Державина, Фекла Андреевна (урожденная Козлова), осталась с двумя сыновьями и дочерью практически без всяких средств к существованию. Державин часто вспоминал о многочисленных хождениях матери с малолетними детьми по судебным учреждениям, о поисках правды и справедливости и отметил потом в своих «Записках»: «Таковое страдание матери от неправосудия вечно оставалось запечатленным на его сердце, и он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот».
Первое время Гаврила Державин учился дома, потом в частной школе, позже – в Казанской гимназии. Однако бедственное положение семьи не способствовало учебе – в 1762 году пришлось начать службу рядовым лейб-гвардии Преображенского полка. Приписанные к полку дворяне обычно жили на квартирах, но у Державина не оказалось средств, чтобы снять даже самую жалкую комнату, – так и пришлось довольствоваться казармой. Началась тяжелая муштра: фрунтовая служба, смотры, караулы, но и это не все – в промежутках между строевыми учениями приходилось убирать снег на улицах, доставлять провиант, чистить каналы, выполнять различные поручения офицеров.
И все-таки он был поэтом. Первые свои стихи начал сочинять еще в Казани, теперь же все выпадающее свободное время целиком посвящал поэзии. Умение писать не только письма за своих товарищей, но и стихи по всяким поводам сделало его вскоре любимцем всей роты. И это увлечение казалось куда более важным, нежели живая история, – в 1762 году ему, девятнадцатилетнему, вместе со своим полком выпала судьба участвовать в дворцовом перевороте, возведшем на престол жену императора Петра III – Екатерину II.
Но продвижение по службе шло медленно – только спустя десять лет Державин был произведен в прапорщики и еще через год – в подпоручики. Тогда же состоялся его дебют как поэта – в печати появился сначала перевод с немецкого, а потом стихотворение «На всерадостное бракосочетание императорских величеств великого князя Павла Петровича с великой княгиней Натальей Алексеевной». Однако теперь уже не только поэзия увлекала молодого Державина, но и настойчивое желание служить отечеству, в котором вдруг стало неспокойно. В декабре того же года упрямый молодой офицер добился, чтобы его прикомандировали к генерал-аншефу А. И. Бибикову – главнокомандующему войсками, направленными против отрядов Емельяна Пугачева. Державин был послан в Симбирск, там участвовал в боевых действиях, допрашивал плененных повстанцев, даже сам разработал план поимки Пугачева и пытался его осуществить – к сожалению, безуспешно. Лишь в конце 1774 года он вернулся в полк.
Поэтическая судьба его была благополучной. В 1774 году Державин написал несколько великолепных стихотворений – среди них «На великость», «На знатность», «На смерть генерал-аншефа Бибикова». В феврале 1776 года вышла из печати его первая поэтическая книга – «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае. 1774 г.».
Получив чин капитана-поручика, Гаврила Романович перешел на статскую службу и в августе 1777 года занял должность экзекутора в первом департаменте Правительствующего сената. Честно проводя расследование беспорядков и нарушений чиновников, добросовестно наблюдая за строительством здания Сената, Державин сумел завоевать доверие своего непосредственного начальника, генерал-прокурора князя А. А. Вяземского. По обычаю своего времени тот устраивал дома что-то вроде литературного салона, и здесь молодой поэт пришелся как нельзя кстати.
Гаврила Романович близко сошелся с сенатским обер-секретарем Александром Васильевичем Храповицким, будущим статс-секретарем императрицы, а еще с экзекутором второго департамента Осипом Петровичем Козодавлевым, будущим министром внутренних дел. Именно у него в доме Державин страстно влюбился в семнадцатилетнюю смуглую красавицу – Екатерину Яковлевну Басгидон, дочь кормилицы великого князя Павла Павловича. 18 апреля 1778 года состоялась свадьба. В поэзию Державина любимая жена вошла под именем Плениры.
В декабре 1780 года Державин стал советником в Экспедиции о государственных доходах, которая находилась в ведении генерал-прокурора. В июне 1782 года его повышают до статского советника, но подлинную славу принесло ему вовсе не это, а появление в мае следующего года знаменитой «Фелицы». Ода, посвященная Екатерине II, так понравилась ей, что, расчувствовавшись, императрица даже прислала поэту золотую табакерку и 500 червонцев. Но карьера не заладилась – отношения Державина с генерал-прокурором Вяземским к тому времени настолько испортились, что пришлось выйти в отставку в чине действительного статского советника. К этому времени имя поэта Державина уже гремело по всей России. Некоторое время после отставки Державин отдыхал в Нарве, писал стихи, переводил, здесь же завершил свою знаменитую оду «Бог», которая позже была напечатана в «Собеседнике».
По возвращении в столицу он узнает неожиданную новость – императрица делает его олонецким губернатором, указ о назначении вышел 23 мая 1784 года. Державин пробыл в Олонецкой губернии менее года, но и за это время успел немало – открыть больницу, установить таможню на границе со шведской Лапландией, пресечь крестьянские беспорядки, издать распоряжение против самосожжения раскольников и затеять много других полезных начинаний. Однако у медали была и другая сторона. У Державина непросто складываются отношения с генерал-губернатором Тутолминым. Открытый, правдолюбивый поэт пришелся явно не по душе заносчивому и честолюбивому вельможе, не терпевшему возражений и пререканий. Тутолмин начал жаловаться.
Императрица вызвала Державина к себе и, пожурив для порядка, предложила новую должность. 15 декабря 1785 года он был поставлен тамбовским губернатором и прослужил в Тамбове почти три года. Здесь он тоже энергично принялся за преобразования: открыл народное училище, театр, учредил губернскую газету, навел порядок в присутственных местах, добился исправности в сборе податей и недоимок, отремонтировал старые и возвел немало новых зданий. Еще он добился значительного улучшения состояния местной тюрьмы – там были устроены кухня и лазарет, некоторых колодников отпустил «по распискам и поручительствам», рассадил всех заключенных «по особым номерам, по мере их вин и преступлений». В расследование преступлений Державин всегда вникал лично, особенно пресекал злоупотребления полиции. В 1786 году за свою службу он даже получил орден Святого Владимира III степени, однако административная деятельность всегда приносила поэту больше огорчений, чем радости. Так случилось и на этот раз. Вскоре у Державина возникла серьезная стычка с генерал-губернатором Гудовичем по делу тамбовского купца Бородина, который обкрадывал казну да вздумал еще учинить мошенничество, ложно объявив о банкротстве. Державин мириться с этим не мог и своей властью наложил арест на имущество купца. Генерал-губернатор встал на защиту Бородина и направил в Сенат рапорт о самоуправстве Державина, прося «удалить» его из губернии. Дело закончилось тем, что Державин был отозван из губернии и отдан под суд Правительствующего сената. В конце концов, благодаря заступничеству князя Г. А. Потемкина, которому он посвятил оду «Победитель», Державин был оправдан, но все же в августе 1789 года уволен в отставку.
В декабре 1791 года Гаврила Романович наконец-то получил место кабинет-секретаря ее императорского величества Екатерины II. Он готовил для нее еженедельные доклады по сенатским приговорам. Дела всегда изучал серьезно и скрупулезно, так что никакого отступления от законов не допускал. Его замечания нередко шли вразрез с мнением генерал-прокурора, не всегда они нравились и самой императрице, которой правдивость поэта довольно быстро наскучила, и она предложила обращаться с замечаниями не к ней, а к обер-прокурорам Сената.
В сентябре 1793 года Гаврила Романович был награжден орденом Святого Владимира II степени, чином тайного советника и назначен сенатором по межевому департаменту. С 1 января 1794 года Державин одновременно становится президентом Коммерц-коллегии.
15 июля 1794 года его постигло тяжелое горе – умерла жена Екатерина Яковлевна. Поэт горько оплакивал свою незабвенную Плениру. Он долго был «погружен в совершенную горесть и отчаяние». Державин писал тогда И. И. Дмитриеву: «…теперь для меня сей свет совершенная пустыня».
В 1795 году Гаврила Романович вступил в новый брак – с девицей Дарьей Алексеевной, дочерью обер-прокурора Дьякова, «Миленой», как он любил называть ее в стихах. С ней он прожил до конца своих дней.
При Павле I Державин оставался сенатором и был назначен правителем канцелярии Совета при его императорском величестве. Однако не прошло и месяца, как последовал указ: «Тайный советник Таврило Державин, определенный правителем канцелярии нашего Совета, за непристойный ответ, им пред нами учиненный, отсылается к прежнему месту». «Непристойный ответ» заключался в том, что Державин посмел спросить императора, кем он должен быть в Совете – присутствующим или только начальником канцелярии.
До 1800 года он оставался сенатором, выполняя различные поручения, в числе которых была поездка в Могилевскую губернию, где он разбирался с жалобой некоего Зорича. Затем был уполномоченным в Белоруссии по борьбе с голодом и получил после возвращения чин действительного тайного советника и почетный командорский крест Мальтийского ордена. Вновь возглавлял Коммерц-коллегию, был государственным казначеем и членом Императорского совета. В 1801 году ему был вручен орден Святого Александра Невского. В 1801–1802 годах командирован в Калугу для производства следствия о злоупотреблениях губернатора Лопухина.
8 сентября 1802 года император Александр I подписал Манифест, в котором сообщалось: «Мы заблагорассудили разделить государственные дела на разные части, сообразно естественной связи между собою, и для благоуспешнейшего течения поручить оные ведению избранным министрам…» В тот же день последовал высочайший указ Правительствующему сенату: «Министром Юстиции или Генерал-Прокурором повелеваем быть Действительному Тайному Советнику Державину, предоставляя впредь назначить ему Товарища». Спустя несколько дней Державин был приведен к присяге. В конце сентября он одновременно стал членом Непременного совета, а в ноябре того же года еще и членом Еврейского комитета.
В должности министра юстиции беспокойный Гаврила Романович прослужил один год и, как сам писал, всегда шел «по стезе правды и законов, несмотря ни на какие сильные лица и противные против него партии», «держась сильно справедливости, не отступал от нее ни на черту, даже в угодность самого императора». Он действительно не стеснялся открыто выражать свое несогласие со многими его преобразованиями, резко и открыто порицал молодых советников императора.
Трудился он много и неустанно. Ежедневно, с утра до вечера, посвящал все свое время исполнению разнообразных служебных обязанностей: поездкам во дворец с всеподданнейшими докладами, участию в заседаниях Сената и Комитета министров, «объяснениям» с обер-прокурорами, приему посетителей. Ездил в Сенат даже в воскресенье и праздничные дни – посмотреть целые кипы бумаг и написать заключения. Как генерал-прокурор он пытался противостоять приему в высшие государственные органы лиц по «проискам, взяткам и рекомендациям», с этой целью добился принятия указа о том, чтобы на высокие должности отбирались лучшие чиновники из губерний. Долго и упорно разрабатывал проект закона о третейском совестном суде, который отослал «на отзыв» и «для примечания» известным юристам, получив благожелательные отклики. Александру I проект закона также понравился, но так и не был принят.
Занимая должность министра юстиции и одновременно генерал-прокурора, Державин, как обычно, старался не допускать «утеснения сильной стороне людей бессильных». Он умело подбирал себе толковых, талантливых сотрудников. Например, обер-прокурором третьего департамента Сената назначил тридцатилетнего Дмитрия Осиповича Баранова, окончившего Московский благородный пансион. Он совершил несколько успешных инспекционных поездок, активно занимался и литературной деятельностью, общался с А. С. Пушкиным. Его репутация была безукоризненной.
Обер-прокурор Сената князь А. Н. Голицын так писал о нем: «В минуту желчи гений блестел в его глазах; тогда с необыкновенной проницательностью он охватывал предмет; ум его был вообще положителен, но тяжел; память и изучение законов редкая; но он облекал их в формальности до педантизма, которым он всем надоедал. Олицетворенную честность и правдивость его мало оценивали, потому что о житейском такте он и не догадывался, хотя всю службу почти был близок ко Двору».
Добиваясь справедливости, Державин резко выступал против многих министров и сенаторов, чем нажил себе немало врагов. Вскоре по этой причине положение Державина стало неустойчивым. Александр I также быстро охладел к поэту. Отставка не заставила себя ждать. На прямой вопрос генерал-прокурора, за что его увольняют, император ответил: «Ты очень ревностно служишь». – «А как так, государь, – не согласился Державин, – то я иначе служить не могу. Простите». 8 октября 1803 года император подписал указ – Державин был уволен со службы с пожалованием ему 10 тысяч рублей ежегодного пенсиона. Сорокалетняя служба Гаврилы Романовича на военном и государственном поприще завершилась.
Недруги ликовали. Появились пасквили и эпиграммы вроде следующей: «Ну-ка, брат, певец Фелицы, на свободе от трудов и в отставке от юстицы наполняй бюро стихов. Для поэзьи ты способен, мастер в ней играть умом, но за то стал неугоден ты министерским пером…»
Вряд ли отставка сильно огорчила поэта – теперь он всецело посвятил себя литературному труду. Зимнее время проводил в Петербурге, а на лето отправлялся в Званку – свое имение на берегу Волхова, верстах в пятидесяти пяти от Новгорода. В знаменитом стихотворении «Евгению. Жизнь Званская» он красочно изобразил, насколько сельская жизнь ему милее дворцовых интриг. Писал он и лирические стихотворения, и драматические произведения («Добрыня», «Пожарский, или Освобождение Москвы»); трагедии («Ирод и Мариамна», «Евпраксия», «Темный»), комические оперы («Дурочка умнее умных», «Рудокопы»). Работал над сборником афоризмов «Мысли мои», над философско-политическими статьями, занимался переводами. В 1804 году Державин писал Капнисту: «Скажу вам о себе: я очень доволен, что сложил с себя иго должности, которое меня так угнетало, что я был три раза очень болен».
Казалось бы, что государственные дела, которыми он с такой горячностью занимался долгое время, его уже не интересуют. Но это было не совсем так. Гаврила Романович называл себя «отставным служивым» и считал обязанным изредка напоминать о себе. В 1807 году он написал Александру I две записки, в которых прозорливо усмотрел опасность для России со стороны Наполеона и предлагал меры по «укрощению наглости французов» и как «оборонить Россию от нападения
Бонапарта». Об этом же он говорил с императором и при личной встрече. И снова император выслушал его благосклонно, но в очередной раз быстро охладел к его идеям.
Знавший Державина в первые годы после отставки литератор С. Жихарев (впоследствии московский губернский прокурор) вспоминал: «С именем Державина соединено было в моем понятии все, что составляет достоинство человека: вера в Бога, честь, правда, любовь к ближнему, преданность государю и Отечеству, высокий талант и труд бескорыстный…», «Это не человек, а воплощенная доброта, но чуть только коснется до его слуха какая несправедливость и оказанное кому притеснение или, напротив, какой-нибудь подвиг человеколюбия и доброе дело – тотчас оживится, глаза засверкают и поэт превращается в оратора, поборника правды…»
Считая себя обязанным заступаться за невинно осужденных, обиженных и угнетенных, Державин щедро одаривал нищих и дворовых деньгами, покупал для неимущих крестьян коров и лошадей, давал им хлеб, строил новые избы. У себя в Званке он построил больницу для крестьян и даже выслушивал отчеты врача, являвшегося к нему ежедневно.
В 1808 году вышли первые четыре тома сочинений Державина. В 1809–1810 годах он диктовал свои «Объяснения на сочинения Державина», ставшие, по существу, его автобиографией. В 1812–1813 годах, в разгар Отечественной войны, работал над «Записками», в которых подробно рассказал о своей служебной деятельности.
Скончался Державин 8 июля 1816 года в любимой Званке и был погребен в приделе Архангела Гавриила в Преображенском соборе Хутынского монастыря Новгородской губернии. После Великой Отечественной войны прах его и жены перенесли в Новгород и вновь предали земле – в кремле, у Софийского собора.
Александр Николаевич Радищев (1749–1802)
«…Душа моя страданиями человечества уязвленна стала…»
В мае 1790 года на Суконной линии Гостиного Двора столицы, в лавке купца Зотова, появилась книга небольшого формата в мягком переплете. Называлась она скромно и непритязательно – «Путешествие из Петербурга в Москву». В лавке было не более пятидесяти экземпляров, продавалась книга всего две не дели, но этого оказалось достаточным, чтобы о ней заговорил весь Петербург. Один экземпляр купил камер-паж Екатерины II Балашов – так «Путешествие» попало к императрице. Уже первая страница сочинения неприятно поразила ее. Автор писал: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы…»
Чем дальше вчитывалась в книгу государыня, тем все больше раздражалась. Автор смело и жестко обличал российские порядки, писал о тяжелом положении крепостных крестьян, злоупотреблениях помещиков, разврате и роскоши, в которых погрязли вельможи, о корыстолюбии и взяточничестве судей, произволе чиновников и других язвах общества. Более того – он недвусмысленно намекал на вторую пугачевщину, если крепостное право не будет отменено, и даже сам предлагал проект освобождения крестьян, причем обязательно с землей. Хлесткие, обличительные страницы книги напугали императрицу, которая заявила, что автор «наполнен и заражен французским заблуждением, ищет всячески и выискивает все возможное к умалению почтения к власти, к приведению народа в негодование против начальства». «Сочинитель книги – бунтовщик, хуже Пугачева!» – воскликнула она и тут же распорядилась отыскать автора, чтобы провести расследование. Так начался один из самых трагичных политических процессов в России конца XVIII столетия.
Автор дерзкой книги Александр Николаевич Радищев происходил из дворянского рода, имеющего, по преданию, татарские корни. Известно, что дед писателя, Афанасий Прокофьевич, служил в «потешных войсках» молодого Петра I, а затем стал денщиком императора. Своему сыну Николаю Афанасьевичу он дал прекрасное воспитание и образование. Николай знал несколько иностранных языков, прекрасно разбирался в богословии, истории, серьезно изучал сельское хозяйство. Отличался добротой и мягкостью в обращении со своими крепостными крестьянами (а их было у него две тысячи человек), за это они и укрыли барина от проходивших через село войск Емельяна Пугачева. Николай Афанасьевич был женат на Фекле Аргамаковой, от брака имел семерых сыновей и трех дочерей.
Один из его сыновей, Александр Николаевич Радищев, родился 20 августа 1749 года в Москве. Детские годы его прошли в подмосковном имении отца, селе Немцове, а затем в саратовской вотчине родителей, селе Верхнем Аблязове. Здесь же он узнал и первые азы грамоты. В 1756 году его привезли в Москву, к родному дяде по материнской линии – Михаилу Федоровичу Аргамакову, человеку достаточно просвещенному. Его родной брат был куратором Московского университета, поэтому интересные люди часто бывали в их доме. Они-то и давали уроки жизни юному Александру. В семье Аргамаковых любили острые беседы и споры по вопросам политики, литературы, науки. Радищев с жадностью ко всему прислушивался.
В Москве Радищев прожил до 1762 года, а после коронации Екатерины II был зачислен в Петербургский пажеский корпус и отправлен в Северную столицу. Пажеский корпус, организованный по французскому образцу еще в царствование Елизаветы Петровны, считался тогда лучшим российским учебным заведением. С 1765 года преподаванием и воспитанием юношей занимался известный историк и археограф академик Г. Ф. Миллер, который главным в обучении считал прежде всего выработку нравственных принципов. В числе учебных дисциплин были такие, как «право естественное и всенародное», «церемониалы». Пажам приходилось постоянно бывать при высочайшем дворе, где они прислуживали за столом. В корпусе Радищев пробыл четыре года.
В 1766 году двенадцать отличившихся в учебе молодых дворян были посланы в Лейпцигский университет для изучения различных наук, главным образом юридических. Среди них оказался и Радищев. В качестве инспектора к студентам был приставлен некий майор Бокум, человек мелочный, жестокий, придирчивый, да еще и нечистый на руку. Несмотря на то что из казны отпускалось до одной тысячи рублей в год на каждого студента, юноши жили впроголодь, в сырых квартирах, даже учебные пособия вынуждены были покупать на деньги, присланные родителями. С обязанностями воспитателя Бокум тоже не справлялся, и молодые люди вели довольно разгульный образ жизни. Радищев заметно выделялся среди товарищей своими способностями и прилежанием. Он серьезно изучил юриспруденцию, получил основательные знания по химии и медицине, великолепно знал французский, немецкий и латинский языки. Хотя свободного времени оставалось мало, прочел множество книг, особенно его увлекли произведения французских философов и просветителей К. Гельвеция, Г. Мабли, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбаха.
В ноябре 1771 года Александр Радищев вернулся в Петербург. Первая его чиновничья должность – протоколист первого департамента Правительствующего сената, а чин – титулярный советник. Этот департамент, которым руководил непосредственно генерал-прокурор князь А. А. Вяземский, ведал вопросами административного управления, руководил торговыми и таможенными конторами, заслушивал отчеты Иностранной коллегии. На него был возложен также контроль за исполнением законов местными властями. Чиновники департамента занимались самыми разнообразными вопросами: правовыми, экономическими, торговыми, таможенными, рассматривали челобитные, поступающие от частных лиц. Этому департаменту была подчинена и Тайная экспедиция, в застенки которой впоследствии попадет и сам Радищев. В обязанности Радищева входила подготовка материалов к заседаниям Сената и составление так называемых экстрактов по делам, то есть краткого изложения существа дела.
Служба в Сенате оказалась непродолжительной. В 1773 году Радищев становится обер-аудитором (дивизионным прокурором) штаба Финляндской дивизии, командовал которой граф Я. А. Брюс. Главная обязанность обер-аудитора заключалась в наблюдении за грамотным отправлением правосудия кригерехтами, то есть полковыми судьями, среди которых знающих юристов практически не было. Известно, что Радищев очень внимательно относился к приговорам полковых судов, а когда надо было – даже поправлял их. Например, он добился смягчения смертного приговора трем солдатам, вынесенного за убийство, совершенное в пьяной драке.
Военная служба дала ему возможность познакомиться со многими неприглядными сторонами действительности: с делами о беглых рекрутах и злоупотреблениях помещиков, с приказами Военной коллегии, с некоторыми материалами о Пугачевском восстании, которое было в самом разгаре. Тем не менее военная служба не пришлась по душе Радищеву, и в марте 1775 года он пишет рапорт об отставке.
В том же году Александр Николаевич женился на дочери члена придворной конторы Анне Васильевне Рубановской. Средств на содержание семьи не хватало, и в 1776 году Радищев вынужден был снова поступить на службу, на этот раз в Коммерц-коллегию. Президентом ее был граф А. Р. Воронцов, который искренне полюбил умного, дисциплинированного чиновника и с тех пор навсегда остался его надежным другом и покровителем. На новом месте Радищеву пришлось не только в полной мере использовать свои юридические познания, но и глубже изучить торговое законодательство. По словам сына писателя, Николая Александровича, Радищев «показывал непреклонную твердость характера в защите правовых дел».
В 1780 году Радищев становится помощником управляющего Петербургской таможней, которым был тогда Даль. Постоянные деловые отношения с иностранцами, прежде всего с англичанами, заставили Александра Николаевича основательно изучить теперь еще и английский язык. Добросовестный Радищев, по существу, тянул все дела, так как управляющий оставил за собой лишь ежемесячные доклады императрице. Радищев был одним из самых честных и неподкупных сотрудников таможни – решительно избавлялся от нечистых на руку казнокрадов и взяточников, активно боролся с контрабандой. За грамотную разработку таможенного тарифа удостоился награды – бриллиантового перстня.
В 1783 году умерла жена Радищева, Анна Васильевна, оставив неутешному супругу троих сыновей и дочь. Воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства пришлось заняться ее сестре, Елизавете Васильевне Рубановской. На службе все складывалось удачно – в сентябре 1785 года Александр Николаевич получает орден Святого Владимира IV степени и чин надворного советника, в 1790 году его производят в коллежские советники и назначают управляющим Петербургской таможней.
Но было у него и любимое занятие – все свободное время Александр Николаевич посвящал литературному труду. Первым напечатанным его сочинением был перевод книги французского коммуниста-утописта Г. Мабли «Размышления о греческой истории», вышедшей в 1773 году, которую Радищев снабдил собственными весьма интересными примечаниями. Писал он много и упорно, но не торопился издавать свои произведения, тем более что некоторые из них явно не прошли бы цензуру. Им был написан «Дневник одной недели», выдержанный в традициях сентиментализма и опубликованный в 1811 году, уже после смерти писателя. В 1783 году была создана знаменитая ода «Вольность», позже частично напечатанная в книге «Путешествие из Петербурга в Москву», а до этого ходившая в рукописи. В 1789 году вышла из печати книга о безвременно умершем в Лейпциге талантливом друге «Житие Федора Васильевича Ушакова». В ней автор описывает жизнь русских студентов за границей, рассказывает об их тесном кружке, размышляет о дуэлях, которые по-человечески осуждает, посвящает читателя и в некоторые других предметы дружеских споров. В 1790 году вышла еще одна книга: «Письмо другу, жительствующему в Тобольске», написанная по поводу открытия памятника Петру Великому в Петербурге и наполненная раздумьями о деятельности императора.
Радищев работал в то время и над произведениями на юридические темы. По свидетельству его сыновей, Александром Николаевичем была написана история российского Сената, впоследствии им самим же уничтоженная. Его перу принадлежит также трактат «О законодавстве».
В 1784 году Радищев вступил в «Общество друзей словесных наук», куда входили бывшие воспитанники университета, люди передовых убеждений. Общество издавало журнал «Беседующий гражданин», в нем обсуждались вопросы политической деятельности граждан, их права и обязанности по отношению к государству. Здесь в 1789 году Радищев опубликовал статью «Беседа о том, что есть сын Отечества». После ареста Радищева деятельность общества была запрещена полицией, а многие его участники подверглись различным репрессиям: лишились своих должностей или были высланы из столицы.
С середины 1780-х годов Радищев усиленно работает над своим основным трудом – книгой «Путешествие из Петербурга в Москву». В собственноручных объяснениях, данных впоследствии в Тайной экспедиции, Радищев подробно рассказал, как у него возникла мысль написать такую смелую книгу. Работая в таможне, он часто покупал различные «коммерческие книги». Однажды ему попалась в руки «Философская и политическая история учреждений и торговли в обеих Индиях» французского историка и социолога Г. Рейналя. В ней автор остро критиковал феодально-абсолютистские порядки. Слог книги, высокопарный стиль, дерзновенные выражения – все понравилось Радищеву. Вот и ему захотелось создать нечто подобное, но на российском материале. Сначала он задумал написать повесть о крестьянах, проданных с торгов. Затем, прочитав книгу немецкого писателя и философа И. Гердера, набросал несколько страниц о тисках русской цензуры. Но все это осталось незаконченным, ему никак не удавалось найти яркую форму подачи накопленного материала. Лишь после того, как Радищев прочитал книгу Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», у него окончательно созрела идея «Путешествия из Петербурга в Москву». В конце 1788 года книга была закончена и представлена в Управу благочиния на цензуру. Поразительно, но дозволение печатать было получено.
В январе 1790 года Александр Николаевич оборудовал собственную типографию и отпечатал тираж – 650 экземпляров, из которых разошлось около ста, часть из которых он просто роздал своим знакомым. Имя на обложке указано не было, поэтому полиция не сразу вычислила автора. Розыском занимался петербургский обер-полицмейстер Н. И. Рылеев, виновный в том, что неосторожно и необдуманно написал резолюцию: «Печатать дозволено». В поле зрения полицейских сразу же попал купец Зотов, а через него вышли на И. К. Шнора, который продал Радищеву печатный станок. 23 июня 1790 года Шнор дает Рылееву краткие показания и указывает на Радищева как автора книги.
30 июня 1790 года в дом Радищева явился дежурный полицейский офицер Горемыкин. Он арестовал Александра Николаевича и доставил его к санкт-петербургскому главнокомандующему графу Брюсу, у которого Радищев некогда служил. Вскоре здесь же появился человек, посланный начальником Тайной экспедиции С. И. Шешковским. О деятельности тайной полиции Радищев был хорошо наслышан и сразу понял, с кем ему придется иметь дело. От графа Брюса Радищев был препровожден в Петропавловскую крепость. В ордере на имя коменданта крепости генерал-майора Чернышева предписывалось содержать писателя в «обыкновенном месте», никого к нему не допуская. Предлагалось также строго выполнять все наставления «господина действительного статского советника и кавалера Шешковского».
Свои первые показания Александр Николаевич Радищев дал Шешковскому 1 июля 1790 года. Вначале вопросы были самые безобидные: где жил, кто у него духовный отец, когда был на исповеди и у Святого причастия.
Мог ли предполагать Радищев, что попадет в руки беспощадного царского «кнутобойца» Шешковского? Ведь «Путешествие из Петербурга в Москву» беспрепятственно прошла цензуру. Конечно, Рылеев сам книгу не читал, но его подчиненные наверняка знали ее содержание. Возможно, Радищев полагал, что книга может попасть в разряд запрещенных, что ее могут даже изъять из продажи – но то, что произошло с ним, он вряд ли мог предвидеть. Разразившаяся над ним гроза была столь яростной, что он предпринял отчаянный шаг – накануне ареста сжег все оставшиеся у него экземпляры книги. Сжег собственными руками выстраданную и только что отпечатанную книгу!
Материалы судебного дела писателя, опубликованные Д. С. Бабкиным в книге «Процесс А. Н. Радищева», подтверждают, что Александр Николаевич держался во время следствия и суда исключительно мужественно. Он оказался лицом к лицу с одним из самых верных царских сыщиков – Шешковским, человеком хитрым и коварным, когда нужно – льстивым и покладистым, наделенным огромной властью, в том числе правом применения пыток, через руки которого прошли сотни важных «государственных преступников». И поэтому вынужден был выработать свою тактику поведения на следствии – отсюда все те подобострастные выражения в адрес императрицы, названной «мудрой» и «добродетельной». Можно ли считать это слабостью, если после смерти жены на нем лежала ответственность за четверых малолетних детей, старшему из которых было всего двенадцать лет? Сын Радищева, Павел Александрович, вспоминал, что, когда дело о книге приняло дурной оборот, писатель имел возможность избежать ареста, скрывшись за границу, но отказался, боясь подвергнуть свое семейство полицейскому произволу, и «лучше решился пожертвовать собою для их безопасности».
С 1 по 7 июля 1790 года Шешковский три раза допрашивал Радищева. Писатель признал свою вину и все же, называя свою книгу «пагубной», а выражения в ней «дерзновенными» и «неприличной смелости», тем не менее не отказался ни от одной своей строчки. На допросах он твердо повторял, что все написанное – истинная правда.
Императрица Екатерина II, напуганная вольнодумством, пошла на беспрецедентный шаг – лично написала замечания на книгу Радищева, превратив их в своеобразный обвинительный акт. Шешковскому пришлось немало потрудиться и составить из ее замечаний 29 вопросов, которые можно разделить на три группы. Пять первых касаются написания, печатания и продажи книги. Во вторую группу, самую обширную, вошли 18 вопросов по содержанию книги. И наконец, третья группа – вопросы относительно личности самого автора.
По поводу пронзительной главы «Зайцово» Шешковский задал Радищеву пять вопросов. Эти потрясающие страницы «Путешествия», обнажившие самые дикие издевательства помещиков над своими крепостными, Екатерина II в своих замечаниях назвала всего лишь «выдуманной сказкой». Она писала: «Ежели кто учинит зло, дает ли то право другому творить наивящее зло?» Поэтому Шешковский спрашивает Радищева: «Начиная со стр. 131 ПО 139-ю какая нужда была вводить вам происшествие в рассуждение учиненного господскими детьми над их девкою насилия, зная, что один пример на всех относиться не может?» Радищев ответил: «Описывая сей дурной поступок, думал я, что он может воздержать иногда такого человека, который бы захотел поступать так дурно; однако ж кто б это делал, того он доказать не может, а писал сие по сродной человеку слабости, чая от таких дурных поступков воздержать».
Особенно возмутила императрицу ода «Вольность», вошедшая в главу «Тверь». Она интересуется: «Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские, о сей оды спросить сочинителя, в каком смысле и кем сложена». Шешковский именно так и поступил, Радищев же на это ответил: «Ода сия почерпнута из разных книг, и изъявленные в ней картины взяты с худых царей, каковых история описует… Признаюсь, однако ж, от искреннейшего сердца и в душевном сокрушении, что ода сия наидерзновеннейшая… Намерения при составлении оды не имел иного, как прослыть смелым сочинителем; теперь вижу ясно, сколь много в ней безумного, пагубного и гнусного и, словом, такого, чего бы мне никогда писать не надлежало».
Сильнее всего волновал императрицу вопрос о сообщниках. В своих замечаниях она опасается, что Радищев «себя определил быть начальником, книгою ли или инако исторгнуть скиптра из рук царей, но как сие исполнить един не мог, показываются уже следы, что несколько сообщников имел; то
надлежит его допросить, как о сем, так и о подлинном намерении, и сказать ему, чтоб он написал сам, как он говорит, что правду любит, как дело было; ежели же не напишет правду, тогда принудит меня сыскать доказательство и дело его сделается дурнее прежнего». Шешковский, конечно, не преминул спросить Радищева и об этом, но тот решительно отверг все подозрения.
После того как Радищев ответил на «вопросные пункты», его еще несколько раз допрашивали в Тайной экспедиции. Там ему пришлось более подробно рассказать о своей жизни, семье, родственниках, имущественном положении. Екатерина II внимательно следила за ходом следствия и не намерена была его затягивать. 13 июля 1790 года она направила указ графу Брюсу о передаче дела Радищева Палате уголовного суда в Петербурге. Одновременно распорядилась, чтобы книга Радищева «нигде в продаже и напечатании здесь не была», грозя в противном случае наказанием.
По поручению императрицы статс-секретарь Безбородко дополнительно сообщил Брюсу, в каком порядке дело должно слушаться в Палате уголовного суда. Палате предлагалось выяснить у Радищева лишь четыре вопроса: 1) он ли сочинитель книги; 2) в каком намерении сочинил ее; 3) кто его сообщники; 4) чувствует ли важность своего преступления. Делу опасались дать широкую огласку, поэтому подробности, относящиеся к содержанию книги, Палате уголовного суда обсуждать не полагалось, а материалы следствия, произведенного в Тайной экспедиции, в суд не направлялись. Вместе с указом в палату был передан только один экземпляр книги. От себя Брюс добавил, чтобы при чтении указа в суде даже не присутствовали канцелярские служащие.
Для вынесения Радищеву смертного приговора Палате уголовного суда хватило десяти дней – это произошло 24 июня 1790 года. Приговор составлен пространно, но даже для того времени довольно примитивно. Вначале в нем дословно воспроизводится указ императрицы, определение о порядке ведения суда, вопросные пункты и ответы на них писателя, показания некоторых свидетелей, сведения о службе Радищева, ссылки на статьи законов и тому подобное. Приговор заканчивался так: «За сие его преступление Палата мнением и полагает, лишив чинов и дворянства, отобрав у него знак ордена Святого Владимира IV степени… казнить смертию, а показанные сочинения его книги, сколько оных отобрано будет, истребить».
Пока шло следствие в Тайной экспедиции, пока дело рассматривалось в Палате уголовного суда, нервы Радищева были напряжены до предела – он совершенно не мог спать. Противоборство с Шешковским отнимало у него последние силы. В одном из писем Александр Николаевич заметил, что разум его был «в не действие почти приведенный». Тем не менее дух его не был сломлен.
Шешковский, как и многие судейские того времени, был бессовестным мздоимцем. Свояченица Радищева Елизавета Васильевна Рубановская, распродав кое-что из имущества, почти каждый день передавала Шешковскому подарки и справлялась о здоровье Александра Николаевича. Изредка удавалось передать ему и записочку. Камердинер Козлов привозил обычно от Шешковского лаконичный ответ: «Степан Иванович приказал кланяться; все, слава богу, благополучно, не извольте беспокоиться». Однажды для Радищева в его мрачном заточении блеснул луч света. Подкупленный подарками, Шешковский разрешил ему увидеться с Елизаветой Васильевной и одним из сыновей. Семья Радищева жила в то время на даче, на Петровском острове. Рубановская, наняв лодку, взяла с собой его старшего сына и отправилась в крепость на свидание с Александром Николаевичем.
Приговор был объявлен Радищеву сразу же после его вынесения. В завещании детям, написанном 25 июля, и дополнении к нему от 27 июля видно, в каком тяжелом состоянии ожидал писатель решения своей участи. Нависшая угроза была столь реальной, что нельзя было не понять, какие суровые испытания могут выпасть на его долю. И когда смертный приговор был объявлен, у него, как выдох, вырвалось одно потрясающее слово, которым он начал свое завещание: «Свершилось!» Нельзя без волнения читать эти наполненные душевной болью страницы: «Ах, можете ли простить несчастному вашему отцу и другу горесть, скорбь и нищету, которую он на вас навлекает? Душа страждет при сей мысли необычайно и ежечасно умирает. О, если б я мог вас видеть хотя на одно мгновение, если бы мог слышать только радостные для меня глаголы уст ваших, о, если б я слышать мог из уст ваших, что вы мне отпускаете мою вину… О, мечта!» В своем завещании Радищев наставляет детей, дает распоряжение об имуществе, проявляет заботу о дворовых, отпуская их на свободу.
В заточении, борясь с отчаянием и безысходностью, Радищев все-таки находит в себе силы заниматься литературным трудом. В крепости он пишет повесть «Филарет Милостивый». Пишет долгими бессонными ночами, в перерывах между допросами. Свою рукопись он передает Шешковскому с просьбой переслать ее детям.
После скорого суда началось рассмотрение дела в Правительствующем сенате. Оно слушалось там 31 июля, 1 и 7 августа 1790 года. Сенат не мог сказать по делу ничего нового – в вынесенном определении пришлось почти дословно повторить приговор Палаты уголовного суда, переставив лишь некоторые фразы. Сенат подтвердил приговор суда о лишении Радищева чинов, дворянства, ордена и о назначении ему наказания в виде смертной казни. Определение Сената было направлено на Высочайшую конфирмацию, то есть на утверждение императрицы. 11 августа ей доложили о деле Радищева. По свидетельству ее секретаря Храповицкого, она приказала рассмотреть это дело еще и в Императорском совете. 19 августа Совет вынес краткое решение, опять-таки ничего не изменив ни в приговоре суда, ни в определении Сената.
Так в деле Радищева была поставлена последняя официальная точка. Решение Совета поступило к Екатерине II, и 4 сентября она подписала указ Сенату об окончательном решении по делу. В нем указывалось: «…последуя правилам Нашим, чтоб соединять правосудие с милосердием для всеобщей радости, которую верные подданные Наши разделяют с Нами в настоящее время, когда Всевышний увенчал Наши неусыпные труды во благо империи, от Него нам вверенной вожделенным миром с Швецией, освобождаем его от лишения живота и повелеваем вместо того, отобрав у него чины, знаки ордена Святого Владимира и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание. Имение же его, буде у него есть, оставить в пользу детей его, которых отдать на попечение деда их».
Родственникам Радищева о решении императрицы стало известно из уст подполковника Горемыкина – того самого, который арестовал писателя. Елизавета Васильевна, столь много сделавшая для него и его детей, узнав о приговоре, разрыдалась. Спустя некоторое время эта мужественная женщина последует за Радищевым в Сибирь вместе с его детьми, Катей и Павлом. Там она станет его женой, разделит с ним все тяготы изгнания и умрет в дороге, при возвращении Радищева из ссылки.
8 сентября 1790 года Радищева доставили в губернское правление и официально объявили о ссылке в Илимский острог, находившийся недалеко от Иркутска. Писателя заковали в цепи и под «крепчайшей стражею» отправили в Сибирь. Александру Николаевичу не дали даже проститься с родными. Друг и благодетель граф А. Р. Воронцов, желая хоть как-то облегчить участь Радищева, выделил триста рублей для покупки ему всего необходимого, но даже он не знал точной даты отправления. Когда ему стало известно, что писателя, закованного в ручные и ножные кандалы, отправили в Сибирь без теплой одежды, лишь накинув на него «гнусную нагольную шубу», взятую у какого-то солдата, возмущению его не было предела. Благодаря активному вмешательству Воронцова вдогонку арестанту был отправлен курьер с повелением императрицы снять у Радищева оковы с ног. Поскольку путь арестанта лежал через Тверь, Воронцов написал письмо губернатору Осипову, прося его оказать писателю всяческую помощь, и выслал деньги на покупку теплых вещей. Осипов выполнил просьбу Воронцова, но 2 октября 1790 года сообщил графу, что, по имеющимся у него сведениям, Радищев довезен до Москвы в «весьма слабом здоровье».
По дороге в Илимский острог и обратно Радищев вел дневник, записывая путевые впечатления и размышления. Им написано проникновенное стихотворение: «Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? – /Я тот же, что и был и буду весь мой век: /Не скот, не дерево, не раб, но человек! /Дорогу проложить, где не бывало следу, /Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах, /Чувствительным сердцам и истине я в страх /В острог Илимский еду».
Александр Николаевич Радищев пробыл в Илимском остроге шесть лет, но и там не оставлял своих литературных занятий. Он написал несколько стихотворений, статей, трактатов – в частности, «О человеке, о его смертности и бессмертии» (издан в 1809 году), «Письмо о китайском торге», «Повествование о приобретении Сибири», начата историческая повесть «Ермак».
После смерти Екатерины II вступивший на российский престол Павел I разрешил Радищеву вернуться из ссылки. Писатель поселился в имении своего отца, селе Немцове под Москвой. Въезд в столицы ему был запрещен, и он находился под бдительным полицейским надзором, разве что ему разрешили навестить родителей в Саратовской губернии.
Только император Александр I разрешил Радищеву вернуться в Петербург. Ему были возвращены чины, дворянские права, орден Святого Владимира. Казалось, жизнь налаживается. 6 августа 1801 года Александр Николаевич, благодаря протекции графа А. Р. Воронцова, поступает на службу в Комиссию составления законов, где ему положили оклад 1500 рублей в год. Как всегда, он очень ответственно отнесся к порученному делу: тщательно изучал многочисленную юридическую литературу, труды по истории и теории законотворчества, тексты различных законодательных актов.
Его работа в комиссии оказалась очень продуктивной – Радищев подготовил проект гражданского переустройства, основанный на началах гражданской свободы личности, равенства всех перед законом и независимости суда, проект гражданского уложения, записку «О законоположении». В ней Радищев высказал оригинальные мысли о статистическом изучении уголовно-правовых явлений. В связи с этим советский ученый профессор С. С. Остроумов отметил, что Радищева по праву можно считать основоположником судебной статистики. Еще Александр Николаевич написал интересную записку «О ценах за людей убиенных», в которой он доказывал, что жизнь человека не может быть оценена никакими деньгами.
Однако руководивший работой комиссии граф П. В. Завадовский негативно относился к проектам Радищева. По свидетельству А. С. Пушкина, как-то раз даже сказал ему с упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! Или мало тебе было Сибири?»
11 сентября 1802 года Александр Николаевич Радищев выпил из стоявшего на подоконнике стакана жидкость, в которой оказалась азотная кислота, использующаяся обычно для чистки эполет, и скончался в страшных мучениях. Было это самоубийством или трагической случайностью, доподлинно не известно, но можно представить себе отчаяние человека, если его надежда искренне и благородно служить России в очередной раз терпит крах.
«Собрание сочинений, оставшееся после покойного А. Н. Радищева», книгу в шести частях, напечатали только в 1806–1811 годах. Сюда, конечно, не вошли запрещенные произведения, в том числе и «Путешествие из Петербурга в Москву», – запрет на эту «крамолу» был полностью снят только после революции 1905 года.
Образ замечательного писателя и юриста мы находим в записках его сына, Николая Александровича Радищева. Вот как он вспоминает об отце: «Александр Николаевич был нрава прямого и пылкого, все горести сносил с стоическою твердостью, никогда не изгибался и был враг лести и подобострастия. В дружбе был непоколебим, а оскорбления забывал скоро, честность и бескорыстие были отличительными его чертами. Обхождение его было просто и приятно, разговор занимателен, лицо красиво и выразительно…»
Петр Хрисанфович Обольянинов (1752–1841)
«Уподобился великому визирю…»
Петр Хрисанфович Обольянинов родился в 1752 году в семье обедневших дворян. До шестнадцатилетнего возраста недоросль проживал с родителями, так и не получив приличного образования, лишь выучившись более или менее сносно читать и писать, а в 1768 году был записан кадетом в армию и начал военную службу. Не обладая прочными знаниями, Обольянинов тем не менее резко выделялся среди сослуживцев «усердным исполнением своих обязанностей и беспрекословным и пунктуальным следованием приказаний высшего начальства». Дослужившись до премьер-майора, что равнялось воинскому чину 8-го класса, Петр Хрисанфович в 1780 году вышел в отставку. Некоторое время он нигде не служил, несколько лет жил в деревне. Только в 1783 году он получил должность губернского стряпчего в Псковском наместничестве, а спустя несколько лет стал советником в Палате гражданского суда. В 1792 году его перевели в Казенную палату с чином надворного советника.
Гражданская служба не вполне соответствовала честолюбивым планам П. X. Обольянинова, и он усиленно хлопотал о переводе обратно в армию. В 1793 году удача сопутствовала ему – Обольянинов получил чин подполковника и попал в гатчинские войска великого князя Павла Петровича. Дисциплинированный и энергичный офицер приглянулся наследнику престола и уже через три года заслужил чин генерал-майора.
В 1796 году Обольянинову была пожалована должность генерал-провиантмейстера. Хотя своих сотрудников он держал в постоянном страхе – вечно бранился и устраивал разносы – дела в экспедиции были «недвижимы», «журналы решений не подписывались по нескольку месяцев», секретари ругались между собой и ничего не делали. Отрицательное отношение к Обольянинову так укоренилось в среде чиновников, что многие считали его неспособным к принятию правильных решений. Однако он всеми силами стремился предупредить любое желание Павла I. Его усердие не осталось незамеченным – он получает один за другим ордена Святой Анны и Святого Александра Невского. В следующем году император награждает его богатым поместьем в Саратовской губернии с двумя тысячами душ, в 1798 году присваивает ему воинский чин генерал-лейтенанта, а в 1799 году – возводит в сенаторское звание.
2 февраля 1800 года П. X. Обольянинов был назначен генерал-прокурором, сохранив при этом и должность генерал-провиантмейстера. На высшем прокурорском посту он оставался чуть более года. За это время успел получить в награду большой крест ордена Святого Иоанна Иерусалимского, орден Святого Андрея Первозванного, большой дом в Петербурге, табакерку с бриллиантами и на 120 тысяч рублей различных фарфоровых и серебряных сервизов. Ему был присвоен воинский чин генерала от инфантерии.
По мнению современников, генерал-прокурорская должность была явно не по Обольянинову. При недостатке ума и ничтожном образовании он, возможно, и мог быть «хорошим батальонным или полковым комиссаром», но с приходом его в прокуратуру «дела пошли хуже прежнего; произвол водворился окончательно и над людьми, и в деловых решениях. Генерал-прокурор слепо исполнял все полученные повеления и никогда не возражал». Отсутствие у Петра Хрисанфовича образования сказывалось во всем: бумаги были написаны с такими грубыми ошибками, что их, по свидетельству современников, «неприлично было хранить в архиве». Он коверкал многие слова и названия, с сослуживцами был груб и часто ругал их, не стесняясь в выражениях. С первых же дней генерал-прокурор своим «бешеным нравом» привел в трепет всю подчиненную ему сенатскую канцелярию. О «площадных» ругательствах Обольянинова в столице только и говорили.
Несмотря на свой вспыльчивый и невоздержанный нрав, Обольянинов отлично разбирался в людях, ценил и всячески выделял талантливых сотрудников и покровительствовал им, даже идя против воли императора. Когда по указанию Павла I все чиновники Сенатской канцелярии, служившие при Екатерине II, подлежали увольнению, он сумел отстоять М. М. Сперанского, который благодаря своему уму, энциклопедическим знаниям и изысканным манерам сразу же пришелся по душе грозному Обольянинову. Однажды, когда Обольянинов по делам приехал в Гатчину вместе со Сперанским, император, увидев их, рассвирепел: «Это что у тебя школьник Сперанский – куракинский, беклешовский? Вон его сейчас!» Но Петр Хрисанфович сумел добиться от государя, чтобы Сперанского не увольняли со службы. Под давлением генерал-прокурора Павел I даже наградил Сперанского одним из высших российских орденов.
П. X. Обольянинов пользовался полным доверием Павла I. Своей близостью к монарху он вызывал трепет у самых высоких сановников. К его дому непрерывно подъезжали экипажи: сенаторы приезжали с докладами, от него ждали милостей. В его дом наведывались даже великие князья Александр и Константин. По словам одного из современников, Д. Б. Мертваго, «с каждым днем становясь сильнее, Обольянинов вскоре уподобился великому визирю. Все лично имевшие доклад у государя получили приказания присылать свои представления через генерал-прокурора и были принуждены объясняться по всем делам с Обольяниновым, соображаться с его мнением или, лучше сказать, с его приказанием, которое казалось всем волею царя».
Обольянинов был на редкость непримирим к подношениям. Когда некая Угриновичева вместе с прошением по делу прислала генерал-губернатору карманную книжку, расшитую шелком, он направил ее прошение и подарок генерал-губернатору Эртелю и попросил возвратить их заявительнице, предупредив, чтобы она впредь воздержалась «от неприличной переписки и дерзкой посылки подарка».
Время царствования Павла I было очень тяжелым. В обществе усилилась подозрительность, репрессии приняли еще более зловещий характер. По поручению императора генерал-прокурор Обольянинов, в руках которого находилась ненавистная всем Тайная экспедиция, организовывал слежки даже за самыми высшими сановниками, заподозренными в чем-нибудь предосудительном. «Время было самое ужасное, – писал современник, – государь был на многих в подозрении. Знатных сановников почти ежедневно отставляли от службы и ссылали на житье в деревни». В частности, Павел I санкционировал «наблюдение за поведением» сына знаменитого фельдмаршала – Николаем Румянцевым, за бывшими своими фаворитами – князьями Алексеем и Александром Куракиными, графами Кириллом и Андреем Разумовскими, князем Голицыным и другими лицами.
Много шума вызвало дело лифляндского пастора Ф. Зейдера, в библиотеке которого оказалась запрещенная книга Лафонтена «Вестник любви». По доносу библиотеку опечатали, а пастора отправили в Петербург и после допроса заключили в Петропавловскую крепость. Вскоре был вынесен приговор – «наказав телесно, сослать в Нерчинск на работу». Обольянинова в связи с делом Зейдера возненавидели еще больше.
Строгий и требовательный, Петр Хрисанфович все же не страдал излишней подозрительностью. Именно этим и воспользовались участники заговора против Павла I, избрав дом генерал-прокурора местом своего сбора. Однако за два дня до убийства Обольянинов предупредил императора о готовящемся заговоре.
11 марта 1801 года, в ночь убийства Павла I, Обольянинов был арестован в своем доме. Зная переменчивый нрав государя, он решил, что все происходит по его повелению. Когда его привели в ордонанс-гауз, он лег и уснул… На рассвете ему объявили о кончине государя и отпустили домой. А еще через пять дней указом Александра I отправили в отставку «за болезнью».
Следующие семнадцать лет он жил в своем доме в Москве, не занимаясь ни государственной, ни общественной деятельностью. Затем московские дворяне избрали его своим предводителем. Впоследствии он еще дважды удостаивался этой чести, но в 1828 году, когда его хотели избрать на четвертый срок, категорически отказался. После 14 декабря 1825 года Обольянинов проявил известное мужество, на которое тогда осмеливались немногие: он смело ходатайствовал о смягчении участи декабриста князя Е. П. Оболенского, приговоренного к смертной казни, – и казнь заменили каторжными работами.
П. X. Обольянинов был женат на Анне Александровне, урожденной Ермолаевой.
Последние годы своей жизни Петр Хрисанфович провел в селе Толожня Новоторжокского уезда Тверской губернии, где и скончался 22 сентября 1841 года на девяностом году от рождения. Погребли его при местной приходской церкви.
Иван Логгинович Горемыкин (1839–1917)
«Ничем не возмутимое спокойствие…»
Иван Логгинович, отпрыск дворянского рода Горемыкиных, уходящего своими корнями в XVII век, родился 27 октября 1839 года в Новгородской губернии. Сначала родители дали ему хорошее домашнее образование, а затем устроили в Императорское училище правоведения, из которого он был выпущен в 1860 году и определен на службу в канцелярию первого департамента Правительствующего сената с чином титулярного советника. Карьера молодого чиновника начинается удачно – спустя несколько месяцев его назначают младшим, а в июле 1861 года – старшим помощником секретаря. В июне 1862 года Горемыкин был причислен к Министерству юстиции, а в ноябре следующего года командирован в канцелярию новгородского губернского прокурора. Однако надолго задержаться в Новгороде ему не пришлось – в марте 1864 года его переводят на службу в Царство Польское, где вначале назначают членом калишской комиссии по крестьянским делам, затем исполняющим должность комиссара и, наконец, 20 ноября 1864 года – комиссаром этой же комиссии. С февраля 1865 года Горемыкин – товарищ председателя седлецкой комиссии по крестьянским делам, а со следующего года уже исполняет должность полоцкого вице-губернатора. Не заставила себя ждать и первая награда – в августе 1865 года Иван Аоггинович получает орден Святой Анны II степени.
Будучи трудолюбивым и исполнительным чиновником, хорошо разбираясь в законах, Горемыкин быстро проходит одну ступень служебной лестницы за другой. В январе 1867 года его утверждают в должности полоцкого вице-губернатора, но в декабре того же года он уже уволен «по прошению» и причислен к канцелярии наместника Царства Польского. Через полгода оставляет и эту должность и переходит в Министерство внутренних дел, где назначается келецким вице-губернатором.
Близко соприкасаясь с крестьянским вопросом, к тому же обладая хорошими аналитическими способностями, Горемыкин собрал и систематизировал обширный материал, на основе которого написал книгу «Очерки истории крестьян в Польше» (1869 год). Печать сразу же отреагировала благожелательными отзывами – в «Библиографе», «Вестнике Европы», «Санкт-Петербургских ведомостях». Возможно, общественный интерес к этой проблеме сыграл не последнюю роль в награждении его серебряной медалью за деятельность по «устройству крестьян в Царстве Польском», которую он получил в июле 1866 года. Но его деятельность имела и обратную сторону – чуть раньше он удостоился и другой «почетной» медали – за «усмирение польского мятежа 1863–1864 гг». Карьера Горемыкина складывается весьма успешно, и в ноябре 1869 года он становится коллежским советником.
В 1869–1893 годах наряду со своими служебными обязанностями Горемыкин выполняет функции почетного мирового судьи по Боровичскому уезду – избирался он шесть раз, каждый раз на трехлетний срок.
В июне 1873 года Горемыкин становится членом, а с 1880 года – председателем временной комиссии при МВД по крестьянским делам губерний Царства Польского. Когда в октябре 1880 года император Александр II решает провести глубокую и всестороннюю ревизию Саратовской и Самарской губерний, ответственность за которую возлагает на сенатора И. И. Шамшина, Горемыкина прикомандировывают к комиссии в качестве старшего чиновника. Он непосредственно занимается исследованием экономики, быта и юридического положения крестьян, результатом чего стала обширная и толковая записка по этому вопросу.
В первой половине 1882 года Горемыкин состоял в комиссии по выработке правил о выкупе наделов в помещичьих имениях великороссийских и малороссийских губерний, решал и другие вопросы по так называемому крестьянскому делу. Здесь очень пригодился ему опыт, накопленный им в бытность его в Царстве Польском.
С 18 июня 1882 года в чине тайного советника Иван Логгинович был назначен членом консультации, учрежденной при Министерстве юстиции. Одновременно на него были возложены обязанности товарища обер-прокурора первого департамента Правительствующего сената, входящего в отделение по крестьянским делам. Благодаря энергии и трудолюбию он успевал многое – неоднократно исполнял обязанности обер-прокурора, участвовал в различных комиссиях и комитетах, в частности в работе Особого совещания для рассмотрения дел об административной высылке.
В феврале 1884 года Горемыкин занял место обер-прокурора второго департамента Правительствующего сената. Грамотного юриста и добросовестного чиновника нещадно эксплуатировали, привлекая одновременно ко множеству дел. Он одновременно исполнял обязанности обер-прокурора первого департамента и председателя хозяйственного комитета при нем, заведовал обер-прокурорскими делами первого общего собрания Сената, входил от Министерства юстиции в Особую комиссию при Государственном совете, созданную для «всестороннего обсуждения способов кодификации Особого приложения к законам о состояниях», а также в другую особую комиссию, но образованную уже при Министерстве внутренних дел, – эта занималась разработкой вопросов «о мерах к прекращению наплыва иностранцев в западные окраины», но и это еще не все. Горемыкин как опытный специалист подготовил и издал Сборник решений Правительствующего сената по крестьянским делам (1889 год). Следующим был солидный Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского населения и учреждений по крестьянским делам, к нему прилагались разъяснения, содержащиеся в решениях Правительствующего сената и в постановлениях и распоряжениях высших правительственных учреждений в двух томах (1891 год). Этот Свод представлял большую ценность для практических судебных и прокурорских работников и выдержал за несколько лет пять изданий, каждый раз пополняясь новыми материалами. Свод узаконений хорошо раскупался и принес его составителю немало денежных дивидендов.
27 ноября 1891 года Горемыкин становится товарищем министра юстиции (министром тогда был Н. А. Манасеин), с 1894 года – сенатором и управляющим межевой частью на правах товарища министра. В апреле 1895 года он покидает Министерство юстиции и переходит в Министерство внутренних дел на должность товарища министра, оставаясь при этом сенатором. Этим назначением он был обязан обер-прокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву, который рекомендовал его императору, хотя сам министр И. Н. Дурново предпочел бы видеть на этом месте других кандидатов. Карьера продолжает складываться блестяще – спустя полгода Горемыкин становится управляющим Министерством внутренних дел, а 6 декабря 1895 года, опять же с помощью Победоносцева, его утверждают в должности министра внутренних дел.
Как происходило это назначение, рассказал в своих воспоминаниях С. Ю. Витте, в то время министр финансов, а впоследствии – председатель Совета министров: «– А что вы думаете по поводу назначения Горемыкина? – спросил меня государь. Я ответил, что Горемыкина я сравнительно очень мало знаю, ничего о нем определенного сказать не могу, но что вообще Горемыкин производит на меня впечатление человека порядочного, причем добавил, что, по всей вероятности, Константин Петрович (Победоносцев. – Авт.), между прочим, рекомендует Горемыкина потому, что Горемыкин правовед и Константин Петрович тоже правовед, а известно, что правоведы, так же как и лицеисты, держатся друг за друга, все равно как евреи в своем кагале. И если, – сказал я, – у вашего величества никого больше не имеется в виду, то, может быть, вы решитесь назначить Горемыкина? Государь ответил: – Да, я назначу Горемыкина».
Русское общество, которое, как известно, большей частью негативно относилось ко всем царским министрам, сразу же откликнулось на это назначение несколькими сатирическими стихами, ходившими по рукам. В одном из них, названном «Антон Горемыка», все предыдущие министры внутренних дел выводились как «горемычные души». Заключительная строфа содержала едкий каламбур: «Да, обманчивой надежде, / Говорю тебе, не верь, /Горе мыкали мы прежде, /Горемыкин и теперь». По иронии судьбы Горемыкин в числе официальных лиц года присутствовал на торжествах по случаю коронования императора Николая II в мае 1896 года, закончившихся, как известно, Ходынской катастрофой.
На посту министра внутренних дел Иван Аоггинович оставался в течение пяти лет, но эти пять лет изменили его до неузнаваемости. По словам С. Ю. Витте, Горемыкин до назначения министром был человеком «довольно либерального направления», но, вступив в должность, «под влиянием свыше, боясь себя скомпрометировать, начал вести довольно реакционную политику».
О взглядах Горемыкина писали и другие мемуаристы. Вот мнение В. И. Гурко, служившего в то время в Государственной канцелярии: «Прослужив в течение долгих лет в Сенате, правда не по судебному, а по второму, так называемому крестьянскому, департаменту, Горемыкин невольно впитал в себя приверженность к законности и отрицательное отношение к административному произволу. По природе, несомненно, умный, тонкий и вдумчивый, с заметной склонностью к философскому умозрению, он считался не только либералом, так как по личным связям принадлежал к либеральному сенаторскому кружку, но даже сторонником, конечно, платоническим, толстовского учения. Выдающейся чертой характера Горемыкина и его умственного настроения, чертой, с годами все больше в нем развивавшейся, было ничем невозмутимое спокойствие, очень близко граничившее с равнодушием». Годы, когда Горемыкин был министром внутренних дел, были для Российской империи нелегкими. Министерству пришлось бороться с так называемыми неурожайными бедствиями и в связи с этим значительной миграцией крестьян. В 1896 году Горемыкин был вынужден даже создать особое Переселенческое управление в системе Министерства внутренних дел. Были учреждены установления по крестьянским делам Акмолинской области и временные положения о крестьянских начальниках Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерний. При нем были несколько ужесточены законы об ответственности губернаторов за совершенные преступления по должности, утверждены нормативные уставы сельских пожарных дружин и потребительских обществ. Во все эти вопросы Иван Логгинович вникал досконально. При Горемыкине министру юстиции Н. В. Муравьеву удалось «урвать» (выражение С. Ю. Витте) у Министерства внутренних дел Главное тюремное управление. Причем сделано это было в обход Государственного совета.
В 1896 году Министерство внутренних дел непосредственно отвечало за проведение первой переписи населения Российской империи. По результатам переписи население России составило 129 млн жителей, из них только 13 % приходилось на городское население, а общий годовой прирост тогда составлял Г млн 600 тыс. человек.
Будучи министром, Горемыкин продолжал участвовать в комиссии по пересмотру судебных уставов, в которую он был включен еще в свою бытность в Министерстве юстиции. Что же касается политических вопросов, здесь он фактически продолжал политику своего предшественника И. Н. Дурново, отличавшуюся особой жесткостью. От былого либерализма не осталось и следа. Особое внимание уделялось пресечению студенческих беспорядков и борьбе с «вольнодумством» прессы. При Горемыкине либеральные издания подвергались гонениям и притеснениям – многие газеты и журналы были на подозрении. Сначала их предостерегали, потом запрещали и безжалостно закрывали.
До этих пор карьера Горемыкина складывалась удачно. Однако 20 октября 1899 года, находясь в заграничной поездке по Англии и Франции, он неожиданно для себя и без всяких объяснений был уволен с должности министра внутренних дел. Император назначил Ивана Аоггиновича всего лишь членом Государственного совета с оставлением в должности сенатора. Ему было уже почти шестьдесят семь лет, и казалось, что карьера стареющего юриста клонится к закату.
Но судьбе было угодно распорядиться по-другому. Вследствие различных придворных интриг и борьбы противоположных групп, окружавших императора Николая II, Горемыкин все же сумел «взлететь» на чиновничий Олимп. Он стал премьер-министром и возглавил правительство Российской империи. До него юристы редко когда поднимались так высоко. По мнению современников, назначению Горемыкина способствовала рекомендация Д. Ф. Трепова, бывшего столичного генерал-губернатора, а затем дворцового коменданта, «полу-диктатора», как отзывались о нем некоторые приближенные к императору вельможи. Как писал С. Ю. Витте, Трепов рассчитывал, что Горемыкин на посту председателя Совета министров будет во всем слушаться его советов, и даже подготовил для него инструкцию, как вести себя в Государственной думе. Но его надежды не оправдались. 22 апреля 1906 года, перед самым открытием первой Государственной думы, кабинет премьер-министра С. Ю. Витте пал, и на место председателя Совета министров был поставлен Горемыкин, который одновременно оставался членом Государственного совета и сенатором. В правительстве произошли основательные перестановки, были заменены все министры (за исключением трех: военного, морского и торговли).
27 апреля 1906 года в Георгиевском тронном зале Зимнего дворца состоялось торжественное открытие Государственной думы и преобразованного Государственного совета. После торжественного молебна император произнес «тронную речь». Из Зимнего дворца депутаты направились в Таврический, где в четыре часа был отслужен еще один молебен, а в пять часов все заняли свои места в зале заседаний. Весь кабинет министров во главе с Горемыкиным поместился в ложе министров, а члены Государственного совета – в своей ложе. По поручению императора открыл Государственную думу статс-секретарь 3. В. Фриш. Председателем Думы избран был С. А. Муромцев.
Государственная дума сразу же заявила свои права «на верховную власть». После горячих прений она выработала так называемый адрес, в котором было указано, что спокойная и правильная работа Думы может происходить только при условии ответственности всех министров перед народными представителями и что необходимо «освободить Россию от действия чрезвычайных законов». Дума предлагала выработать законы о полном уравнении всех граждан независимо от национальности и пола, о равноправии крестьян и охране наемного труда, о всеобщем бесплатном обучении, справедливом распределении налогов, преобразовании местного управления и самоуправления на началах всеобщего избирательного права. Она высказалась за аграрную реформу и наделение крестьян землей за счет принудительного отчуждения земель частнособственнических, казенных и удельных, за отмену смертной казни и исключительных законов, за проведение полной политической амнистии.
Ответить на все эти запросы предстояло председателю Совета министров Горемыкину. 13 мая 1906 года ему пришлось выступить в первой Государственной думе со своей программой. Он заявил, что Совет министров, полагая в основании своей деятельности соблюдение строгой законности, готов оказать полное содействие разработке всех вопросов, поднятых Государственной думой. Тем не менее Горемыкин особо подчеркнул, что изменение избирательного закона находит сейчас преждевременным, а к удовлетворению насущных нужд сельского хозяйства, к вопросам о равноправии крестьян, начальном образовании, налоговой системе и преобразовании местного самоуправления «правительство отнесется с особым вниманием». Земельный вопрос на основаниях, предложенных Думой, правительство считает недопустимым. Что касается исключительных законов, то правительство считает себя обязанным ограждать спокойствие людей всеми способами. Относительно политической амнистии его кабинет находит, что «настоящее смутное время» не отвечает «благу помилования преступников, участвовавших в убийствах, грабежах и насилии».
В. И. Гурко, слушавший речь Горемыкина, писал: «Голос Горемыкина был слабый, и, хотя в зале господствовала полная тишина, его расслышать было трудно, а потому принятая предосторожность об одновременной раздаче членам Государственной думы печатных экземпляров речи Горемыкина оказалась весьма кстати. На одном лишь месте своей речи Горемыкин усилил свой голос, подняв даже при этом в виде угрозы указательный палец, а именно где говорилось о недопустимости принудительного отчуждения частновладельческих земель в целях дополнительного наделения крестьян землей».
Первая Государственная дума, выслушав подобную «декларацию» председателя Совета министров, выразила его кабинету недоверие. Противостояние закончилось роспуском Думы. Произошло это, как отмечали современники, по инициативе самого Горемыкина, который доложил императору, что с этой Думой правительство ничего сделать не в состоянии и что Дума будет «революционизировать страну». Очень скоро, 7 июля 1906 года, Николай II подписал указ о роспуске Государственной думы. Вслед за ее роспуском 8 июля последовала и отставка самого Горемыкина – его место занял уверенно набиравший силы министр внутренних дел П. А. Столыпин.
Однако Горемыкин все еще оставался важной политической фигурой. В 1905 году вышла в свет его новая книга «О торговле в кредит», а в 1907 году – «Аграрный вопрос». Иван Логгинович все еще был членом Государственного совета и сенатором, а в мае 1910 года даже пожалован в статс-секретари императора.
30 января 1914 года Горемыкин вторично призывается на высший государственный пост – председателя Совета министров, сменив В. Н. Коковцова. На этот раз в кресле председателя он продержался два года, хотя непримиримая конфронтация с Думой продолжалась. Его первое же выступление в Государственной думе ознаменовалось огромным скандалом. В Думу съехались все министры, чтобы послушать своего председателя. Но как только он появился на трибуне, со стороны левых поднялся такой невообразимый шум, что ничего не было слышно. В зале раздавались крики «долой!» и «вон!». Правые хотели заглушить протесты аплодисментами, но это им не удалось. Тогда председатель Государственной думы М. В. Родзянко вынужден был предложить Горемыкину покинуть трибуну «до водворения порядка». Поскольку депутаты и не думали униматься, Родзянко предложил лишить наиболее «крикливых» из них права участвовать в пятнадцати заседаниях. Кончилось тем, что самых несговорчивых вывели из зала при помощи приставов. Только после этого Горемыкин произнес свою речь.
В эту пору Горемыкин не мог найти общего языка даже со многими своими министрами. Особенно остро это проявилось во время Первой мировой войны на закрытом заседании Совета министров, где обсуждался вопрос о принятии императором функций Верховного главнокомандующего русской армии.
В январе 1916 года Горемыкина все-таки отправили в отставку. При увольнении он получил чин действительного тайного советника первого класса, что по Табели о рангах равнялось генерал-фельдмаршалу. За свою долгую службу И. А. Горемыкин был удостоен всех высших орденов Российского государства, включая ордена Святого Александра Невского и Святого Апостола Андрея Первозванного.
После Февральской революции 1917 года Горемыкин, как и многие царские сановники, был арестован Временным правительством и заключен в Петропавловскую крепость, но в мае 1917 года освобожден. Ему было разрешено выехать на Кавказ, и он поселился на даче близ Сочи.
Иван Аоггинович трагически погиб 11 декабря 1917 года – был убит при бандитском налете на дачу. Вместе с ним погибли его жена Александра Ивановна, урожденная Капгер, дочь Александра Ивановна и зять, дипломат Иван Александрович Овчинников. Другие дети Горемыкина, дочь Татьяна Ивановна и сын Михаил Иванович, эмигрировали.
Николай Платонович Карабчевский (1851–1925)
«Несравненный темперамен
Николай Платонович Карабчевский родился 29 ноября 1851 года в военном поселении под городом Николаевом Херсонской губернии. Отец его, Платон Михайлович, в это время командовал уланским его высочества герцога Нассауского полком. По отцовской линии род Карабчевского турецкого происхождения. Еще во времена Екатерины II, при взятии Очакова, был пленен мальчик-турчонок,
родители которого погибли. Какой-то генерал царской армии отвез мальчика в Петербург и определил в военный корпус. Фамилию ему дали произвольно, от слова «кара», что значит «черный». С тех пор все предки Карабчевского, как правило, служили в армии, чаще всего в кавалерии.
Образованием Николая Карабчевского занимались сначала дома. К детям были приглашены лучшие учителя, а для Николая даже выписали из Марселя француженку, поэтому французским языком он владел великолепно. Несколько хуже знал английский. В двенадцатилетнем возрасте мальчик поступил в только что открытую в Николаеве гимназию особого типа: она была реальная, но с латинским языком. Окончил ее Николай Платонович с серебряной медалью. В 1869 году он поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского университета. Учеба увлекала одаренного юношу, но естественные науки несколько ограничивали его пылкую натуру, и тогда он заинтересовался юриспруденцией, стал посещать лекции известных профессоров – Н. С. Таганцева, П. Г. Редкина и других. Не чуждался и общественной жизни, активно участвовал в «студенческих беспорядках», за что университетским судом был даже приговорен к трехнедельному аресту.
В 1870 году Карабчевский окончательно расстался с естественным факультетом университета и перевелся на юридический, который блестяще окончил спустя четыре года. В эти годы у Николая Платоновича была заветная мечта – стать писателем, точнее, драматургом, очень уж неудержимо его влекло к театру. С юных лет он выступал на любительской сцене, где ему приходилось играть даже главные роли. Он сыграл Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума», Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Его перу принадлежит драма «Жертва брака», но она вышла довольно слабой, и попытка напечатать ее на страницах «Отечественных записок» потерпела неудачу.
Молодой человек оказался на распутье. Перед ним остро встал вопрос – чем заниматься дальше. Сам Карабчевский так пишет об этом: «Для меня было ясно, что на государственную службу я не поступлю. А на адвокатуру во время своего студенчества я глядел свысока. Она мне представлялась всегда не чуждой некоторого суетливого сутяжничества, и я считал ее мало подходящей для моей натуры, более склонной, как мне казалось тогда, к мечтательному созерцанию окружающей жизни, нежели к энергичной, практической деятельности». Но после долгих размышлений Карабчевский все же решил записаться в присяжные поверенные, хотя облик российского «ходатая» и «стряпчего» его, по собственному признанию, не пленял. В декабре 1874 года он предложил свои услуги адвокату А. Ольхину, с которым был знаком в студенческие годы. Тот сразу же согласился взять Николая Платоновича помощником и помог ему написать прошение в совет присяжных поверенных.
Вскоре Карабчевский выступил в суде по первому своему делу – он защищал крестьянского парня из Тверской губернии Семена Гаврилова, обвинявшегося в краже со взломом. Это небольшое дело с самой незатейливой фабулой запомнилось ему на всю жизнь. Семнадцатилетний Семен Гаврилов, приехав в Петербург, за три рубля снял угол у квартирной хозяйки. Занимался он сапожным ремеслом, выручал в месяц до двенадцати рублей, жил скромно и тихо. Однако вдруг повадился в публичный дом, стал пьянствовать, задолжал за квартиру и, вконец промотавшись, совершил кражу, похитив из сундука другого постояльца носильные вещи и рублей пять денег, а после этого пропал. Потерпевший сам отыскал его и привел к хозяйке, но Семен стал от всего отказываться, хотя на нем узнали краденую рубашку. Вызвали полицию, но и перед следователем Гаврилов в краже не повинился.
Когда Карабчевский взялся за защиту Гаврилова, первым делом он отправился в Литовский замок, где содержался арестованный, и с большим трудом убедил его во всем повиниться, рассчитывая, что присяжные заседатели проявят к нему снисхождение. После этого начал готовиться к процессу. «До слушания дела оставалось еще пять дней, – рассказывал впоследствии Карабчевский, – мне же казалось, что это ужасно мало. Сколько хотелось сообразить, перечесть, передумать! Я зачастил в публичную библиотеку, перелистал всю юридическую литературу о малолетних преступниках, прочитал по тому же предмету кое-что из области медицинской… Дня через два-три речь, помимо моей воли, была готова в моей голове. Кульминационным в ней моментом, помимо молодости и увлечения первой непреоборимой страстью тревожного периода юности, явилось именно указание на вполне свободное и невынужденное сознание подсудимого. Раньше он всюду запирался». До процесса оставалось два дня, и тут произошло событие, буквально выбившее у Карабчевского почву из-под ног. Дело в том, что рядом с ним проживал некий дворянин, окончивший Александровский лицей, не состоявший на службе, а живший на небольшой доход со своего имения, при этом склонный к философствованию. По словам Карабчевского, именно с этим дворянином и произошла история, ставшая внешней фабулой знаменитого романа А. Н. Толстого «Воскресение». Карабчевский поведал ему, что должен выступать в суде и что очень рассчитывает на оправдание своего подзащитного, для чего и уговорил его во всем чистосердечно признаться.
Дворянин выдал Карабчевскому гневную тираду. Суть ее заключалась в том, что адвокат сам приближает своего клиента к тюрьме, облегчив присяжным заседателям возможность обвинить его, что у большинства присяжных «рабья подоплека» и они никогда не оправдают сознавшегося, а вот когда преступник запирается, то они, боясь взять грех на душу, отпускают его. Встревоженный этим разговором, Карабчевский наутро помчался в Литовский замок, встретился с Гавриловым и, смущаясь, дал донять, что даже признание своей вины не является гарантией в том, что присяжные оправдают подсудимого. Выслушав защитника, Гаврилов спокойно ответил: «Что врать-то? Мы в сознании…» Настал день суда. «Я был жалок, когда направлялся на свою первую защиту с портфелем, для чего-то нагруженным и объемистым уложением, и уставом уголовного судопроизводства, но с совершенно пустой головой», – вспоминал Карабчевский.
Дело шло первым. Доставили подсудимого. Когда Гаврилова ввели в зал, то он вдруг сказал Карабчевскому: «Ваше благородие, мы не в сознании!» «Я начал ощущать, как медленно раздвигается подо мною пол, как я проваливаюсь в преисподнюю вместе с моей речью», – говорил впоследствии Карабчевский. После формальностей с присяжными заседателями и свидетелями зачитали обвинительный акт. Карабчевский понимал, что приближается его «погибель». Он был настолько взволнован, что с трудом воспринимал происходящее. Наконец до его слуха донеслись слова председателя, обращенные к подсудимому: «Ну что же, вы признаете себя виновным?» Только теперь Карабчевский сообразил, что председатель задает этот вопрос его подзащитному в третий раз. И здесь, в напряженной тишине, Гаврилов выдавил из себя: «Мой грех!» – и разрыдался, как ребенок. Когда он немного успокоился, то во всем повинился. После этого суд и присяжные отказались даже от допроса свидетелей. Карабчевский писал: «На всех произвели сильное впечатление искренность и неожиданность сознания подсудимого». Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт. Более того, когда все разошлись, старшина присяжных положил в руку Карабчевскому несколько смятых кредитных бумажек, сказав, что это присяжные собрали для подсудимого на первое время.
Довольно быстро Карабчевский стал приобретать популярность. Лишь только был оглашен оправдательный приговор Гаврилову, тут же к адвокату обратился один из участвовавших в этом деле присяжных заседателей с просьбой принять на себя защиту интересов его матери, которую пристав грозился «потащить» к мировому судье – она якобы нарушила строительный устав, соорудив при ремонте дома деревянную лестницу вместо каменной.
Карабчевский выступал в процессах как по уголовным, так и по политическим делам. В конце 1877 – начале 1878 года Николай Платонович принимал участие в знаменитом процессе «ста девяноста трех». Здесь он оказался в окружении целого созвездия блестящих присяжных поверенных. Среди защитников были П. А. Александров, Г. В. Бардовский, А. А. Боровиковский, В. Н. Герард, М. Ф. Громницкий, А. Я. Пассовер, П. А. Потехин, В. Д. Спасович, Д. В. Стасов, доктор права Н. С. Таганцев и другие. И только трое помощников присяжных поверенных удостоились чести быть в этом списке: Н. П. Карабчевский, В. М. Бобрищев-Пушкин и Грацианский.
Николай Платонович защищал одну из главных обвиняемых, Е. К. Брешко-Брешковскую, которую впоследствии стали называть «бабушкой русской революции» (она умерла в Праге, на девяносто первом году жизни), а также А. В. Андрееву и В. П. Рогачеву. Хотя первая из них все же была приговорена к пяти годам каторги, речь Карабчевского произвела сильное впечатление. Двое других его подзащитных были оправданы. Спустя сорок лет он вспоминал: «Мы сидели на процессе в течение многих месяцев, побросав другие дела, – и какая проявилась высота понимания своих задач. Это был «политический» процесс. Но не подумайте, что все ограничивалось либеральными выступлениями и партийной лирикой – нет, проявлено было изумительное, почти пророческое понимание общественного, бытового и исторического значения процесса, в речах чуялось бесстрашное углубление в самую толщу почвы, на которой процесс развился. Были чудные речи… Я помню наши овации по адресу речей Александрова, Герарда, Бардовского и многих других, речи которых были для нас целым откровением, этими воспоминаниями я хочу сказать, что на протяжении менее десятка лет был уже подготовлен целый кадр защитников для самых сложных, самых ответственных и боевых в то время процессов».
Находясь после Октябрьской революции в эмиграции, Карабчевский выпустил два тома воспоминаний «Что глаза мои видели». В них, описывая процесс «ста девяноста трех», он отмечает, что среди подсудимых было несколько выдающихся личностей во главе с И. Н. Мышкиным. «Своими речами на суде он «зажигал сердца» молодежи, выступая убежденным до фанатизма революционером-пропагандистом, – писал Карабчевский. – Я сам ночи не спал после его страстных выступлений. Порою слова его казались мне непреложным откровением. Ярко помню кульминационный момент процесса, когда Мышкин исчерпывающе высказал свое знаменитое «кредо»: «Всеобщее народное восстание». Оно потрясло и захватило всю аудиторию».
На процессе «ста девяноста трех» произошел такой эпизод. Когда во время речи Мышкина жандармы бросились зажимать ему рот, адвокаты Бардовский, Стасов, Утин и некоторые другие обступили его, требуя записать в протокол, что жандармы позволяют себе бить подсудимых. Карабчевский же, по собственному признанию, «потеряв голову, угрожающе бросился на жандармского офицера с графином в руках».
В ходе процесса и после его окончания Карабчевский много раз встречался со своей подзащитной Брешко-Брешковской, которая прониклась искренней симпатией и доверием к молодому адвокату и даже склонна была вовлечь его в революционную борьбу. На это Николай Платонович сказал: «Не кровью и насилием возрождается мир… Для меня «террорист» и «палач» одинаково отвратительны». Тогда революционерка, крепко пожав Карабчевскому руку, сказала на прощание: «Бог с вами, оставайтесь праведником… предоставьте грешникам спасать мир. Я иду в каторгу… а вы на волю, к радостям жизни. Спасибо вам за все!»
Впоследствии Карабчевский выступал на политическом процессе «семнадцати» и некоторых других подобных процессах. Оценивая их с точки зрения общественного к ним отношения, уже после революции он писал, что в те годы «интеллигенция благоразумно-выжидательно «тайно аплодировала», а обыватели и народ пока только ротозейно недоумевали».
В 1879 году Карабчевский стал полноправным адвокатом, вступив в сословие присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты. Он часто выступал по самым громким процессам того времени. Слава его как блестящего защитника возрастала изо дня в день, началась же она после блестящей речи по так называемому интендантскому делу, которое слушалось в Особом присутствии Петербургского военно-окружного суда с 18 февраля по 17 апреля 1882 года. В этом «процессе-монстре», как называл его Карабчевский, защита была представлена такими известными адвокатами, как В. И. Жуковский, А. И. Урусов, С. П. Марголин, и некоторыми другими. Суду были преданы шестнадцать интендантов и подрядчиков во главе с действительным статским советником В. П. Макшеевым, бывшим окружным интендантом Рущукского отряда действующей армии в турецкой кампании 1877 года. Все они обвинялись в злоупотреблениях при поставках продовольствия в армию. Поскольку в числе подсудимых было лицо в генеральском чине (чин действительного статского советника приравнивался к генеральскому), то и Особое присутствие состояло исключительно из генералов. Председательствовал член Главного военного суда В. К. Слуцкий, обвинение поддерживал военный прокурор барон Остен-Сакен и его помощники Рыльский и Иллюстров.
Еще задолго до процесса общественное мнение было настроено против главного обвиняемого Макшеева. В печати на него появились резкие нападки, обсуждалась не только его прошлая деятельность, но и особенности личности. Все считали, что едва ли найдется адвокат, согласный защищать человека, вина которого «столь вопиюща». Чтобы противостоять одностороннему освещению в печати обстоятельств дела, Макшеев стал издавать свою газету «Эхо». Но это, по выражению Карабчевского, «подлило только масла в огонь». «Можно смело утверждать, – пишет он, – что защита Макшеева прошла под дружный аккомпанемент неодобрительного шипения и свиста всей нашей ежедневной печати». Интригу процессу придавало еще и то, что Рущукским отрядом командовал наследник цесаревич, в 1881 году вступивший на российский трон под именем Александр III, а начальником штаба у него был генерал-майор И. С. Ванновский, ставший к началу рассмотрения дела военным министром.
Свою защитительную речь Карабчевский произносил шесть часов с двумя небольшими перерывами. Досконально изучив многотомное дело (достаточно сказать, что один обвинительный акт составлял четыреста страниц), Николай Платонович шаг за шагом разрушал обвинение, воздвигнутое против его подзащитного. Конечно, добиться полного оправдания по такому делу было невозможно. По приговору суда Макшеева сослали на жительство в Томск, а через несколько лет помиловали.
В ноябре – декабре 1884 года в Санкт-Петербургском окружном суде Карабчевский совместно с адвокатом В. Ф. Леонтьевым защищал подсудимого И. И. Мироновича, обвинявшегося в убийстве еврейской девочки Сары Беккер. Обвинял подсудимого товарищ прокурора окружного суда И. Ф. Дыновский. Это дело наделало в свое время много шума в столице, поэтому Карабчевский начал свою речь так: «Господа присяжные заседатели! Страшная и многоголовая гидра – предубеждение, и с нею-то прежде всего приходится столкнуться в этом злополучном деле. Злополучном с первого судебного шага, злополучном на всем дальнейшем протяжении процесса. Преступление зверское, кровавое, совершенное почти над ребенком, в центре столицы на фешенебельном Невском, всех, разумеется, потрясло, всех взволновало. Этого было уже достаточно, чтобы заставить немного потерять голову, даже тех, кому в подобных случаях именно следовало бы призвать все свое хладнокровие».
Далее, постепенно разбивая все доводы обвинения, он подводил к мысли о невиновности Мироновича. А свою речь закончил так: «Нам всем бы хотелось, чтобы ларчик похитрее открывался. А он открывается просто: Миронович невиновен. Начните с этого и кончите этим: оправдайте его! Вы не удалитесь от истины». Однако убедить присяжных заседателей Николай Платонович не смог. Они вынесли вердикт: «Виновен», на основании которого суд приговорил Мироновича к каторжным работам на четыре года. На этот приговор Карабчевский принес кассационную жалобу, рассмотренную Правительствующим сенатом в феврале 1885 года. В отношении Мироновича приговор был отменен, и дело направлено на вторичное разбирательство.
2 октября 1885 года Санкт-Петербургский окружной суд с новым составом присяжных заседателей вторично приступил к рассмотрению этого дела. Процесс длился девять дней. Обвинение поддерживал товарищ прокурора окружного суда
B. М. Бобрищев-Пушкин. На этот раз Карабчевский противостоял ему в паре с другим замечательным адвокатом – C. А. Андреевским. Николай Платонович сразу же сказал, что он, будучи глубоко убежден в невиновности Мироновича, не покидал обвиняемого с самого возбуждения дела и считает своей обязанностью защищать правое, честное дело до конца, хотя теперь его помощь почти уже не нужна. Причину предания Мироновича суду и первого осуждения, сказал он, надо видеть в неудовлетворительности предварительного и судебного следствия, в допущенных ошибках, пристрастности и односторонности со стороны лиц, производивших дело. «Было бы странно, если бы веденное ложным путем следствие вывело на настоящую дорогу, – все толкало судей сбиться с пути, запутаться в лабиринте, созданном искусной рукой». А заключил свою речь словами: «Для меня, господа присяжные заседатели, Миронович давно уже перестал быть сыщиком, ростовщиком, взяточником; для меня остается только больной несчастный старик, поруганный, загнанный, застигнутый неслыханным горем; это заживо погребенный, – от вас зависит дать ему вздохнуть». Затем выступил присяжный поверенный С. А. Андреевский, который произнес в защиту Мироновича одну из лучших своих речей. На этот раз И. И. Миронович был оправдан. Правительствующий сенат оставил без последствий кассационный протест прокурора.
Незадолго до вторичного рассмотрения дела Мироновича Карабчевский защищал в Петербургском военно-окружном суде поручика артиллерии В. М. Имшенецкого, обвинявшегося в тяжком преступлении – преднамеренном утоплении своей жены, находившейся на четвертом месяце беременности. Это было не менее громкое и сенсационное дело. 31 мая 1885 года в одиннадцатом часу вечера на реке Малой Невке, между Петровским мостом и садом «Бавария», с лодки, в которой находились Имшенецкий и его жена Мария Ивановна, урожденная Серебрякова, послышался мужской голос, призывавший на помощь. Перевозчик-яличник Ф. Иванов тотчас поспешил туда и увидел Имшенецкого, плавающего рядом с пустой лодкой, а в саженях двух далее – дамскую шляпку. Иванов принял офицера в свой ялик и высадил на берег, где тот и рассказал, что жена упала в воду, переходя с руля на весла. Предпринятые энергичные поиски жены не увенчались успехом. Лишь через десять дней тело всплыло. Никаких признаков внешнего насилия на теле погибшей не нашли. Всех занимал вопрос, что это было: несчастный случай или убийство?
Следствие обвинило поручика Имшенецкого в том, что он, женившись в феврале 1884 года на дочери купца Серебрякова, Марии Ивановне, вскоре после брака склонил жену сначала на выдачу ему полной доверенности на управление ее домом, а спустя месяц после свадьбы и на составление духовного завещания с отказом в его пользу принадлежащего ей дома и всего движимого имущества, а затем во время прогулки по реке «действиями своими вызвал падение ее в воду, вследствие чего она утонула». Было установлено, что Имшенецкий незадолго до злополучной лодочной прогулки заставлял жену принять меры «к изгнанию плода». На суде обвинение поддерживал помощник военного прокурора Болдырев. В качестве поверенного гражданского истца, отца погибшей, выступал адвокат В. М. Бобрищев-Пушкин.
Карабчевский в своей речи со страстью доказывал, что подсудимый – не тиран-преступник, «перешагнувший спокойно через труп», а всего лишь «жалкая, беспомощная игрушка печального сцепления грустных обстоятельств» и к этой последней роли как нельзя более подходит его «безвольная и дряблая натура». И далее: «Итак, господа судьи, на основании тщательного, кропотливого исследования самого факта падения в воду покойной я вправе утверждать, что убийство не доказано, не доказан и злой умысел со стороны Имшенецкого на основании исследования его личности и тех внутренних условий его семейной жизни, которые ставились ему в улику». А вот концовка этой речи: «Я не позволю себе навязывать вам своего внутреннего убеждения: пусть оно остается там, где ему быть надлежит, – не на языке только, а в глубине моего сердца, в глубине моей совести. Одну лишь уверенность после восьми дней, проведенных перед лицом вашим, господа судьи, позволю я себе громко высказать: я убежден, что приговор ваш будет и глубоко продуман, и глубоко справедлив».
После шестичасового совещания суд вынес приговор. Имшенецкий был признан невиновным в предумышленном убийстве своей жены, но признан виновным в неосторожности, последствием которой была смерть Марии Ивановны. Суд приговорил его к аресту на гауптвахте на три недели и церковному покаянию по усмотрению его духовного начальства.
В сентябре – ноябре 1894 года Карабчевский защищал в Одесском окружном суде капитана парохода «Владимир» капитана 2-го ранга К. К. Криуна. Его вместе с капитаном итальянского судна «Колумбия» Пеше и некоторыми другими должностными лицами обвинили в том, что из-за нарушения законов безопасности мореплавания произошло столкновение судов, обернувшееся гибелью семидесяти шести человек. Карабчевский сумел доказать, что капитан Криун является «более несчастным, нежели виновным человеком». Хотя суд признал его вину, но осудил всего на четыре месяца тюрьмы и церковное покаяние. Однако менее чем через месяц определением суда на основании всемилостивейшего Манифеста Криун был от наказания освобожден.
В феврале 1895 года в Санкт-Петербургском окружном суде Карабчевский защищал Ольгу Палем, обвинявшуюся в убийстве
студента Данилова. После его трехчасовой речи присяжные заседатели оправдали подсудимую. Однако через несколько дней по указанию министра юстиции Н. В. Муравьева прокуратура опротестовала этот приговор. Правительствующий сенат оперативно рассмотрел протест. В Сенате у Карабчевского были достойные противники – дело докладывал сенатор Н. С. Таганцев, а заключение давал обер-прокурор А. Ф. Кони. После довольно продолжительного совещания приговор суда был отменен. В тот же день О. Палем снова была взята под стражу, а 18 августа 1896 года признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к десятимесячному тюремному заключению.
В последующие годы в активе Карабчевского были не менее сенсационные процессы. Популярность его была так велика, что одно только участие в процессе делало сам процесс громким. «Ни один русский адвокат не завоевал такой славы, – отмечал С. В. Карачевцев, – не превратил так своего имени в нарицательное, не поднял на такую высоту блеска и славы звания защитника».
Карабчевский защищал братьев Скитских, обвинявшихся в убийстве, – после нескольких процессов они были оправданы, и мултанских вотяков – этих крестьян из села Старый Мултан дважды приговаривали к каторге по обвинению в ритуальном убийстве, но после вступления в дело Карабчевского оправдали. В известном процессе Бейлиса, прогремевшем на всю Россию, Карабчевский тоже во многом способствовал оправданию обвиняемого. Участвовал он в делах революционеров-террористов Г. А. Гершуни и Е. С. Сазонова, а также многих других.
Хорошо знавший Карабчевского С. В. Карачевцев писал: «Природа даровала Николаю Платоновичу особую способность строить речь красиво и сильно, всей душой отдаваться интересам своего подзащитного, а глубокая эрудиция обогатила эту речь образами поэзии и искрами философской мысли».
Успех в самых трудных процессах сопутствовал Карабчевскому еще и потому, что он блестяще вел судебное следствие. Здесь он был и юристом, и психологом, и художником, и аналитиком. Помогал ему и «несравненный темперамент». Карабчевский беспощадно бился за своего клиента, защищал его «до последней капли крови» и пускал в ход все средства, которые не были запрещены законом. Свидетелей допрашивал напористо и азартно. Лгущих свидетелей обвинения своими хлесткими вопросами он припирал к стене и буквально вырывал у них правду. Современники отмечали, что его реплики и замечания во время следствия – «настоящий ураганный огонь, перед которым не мог устоять ни свидетель, ни прокурор, ни даже председатель». «Карабчевский брал не красотой, а страшной неслыханной силой, – заметил как-то С. В. Карачевцев. – Он загорался от прикосновения к делу, как к живому существу».
В 1895 году Карабчевского избрали в состав Совета присяжных поверенных Санкт-Петербургской судебной палаты. В 1913 году он стал его председателем и оставался на этом посту до Октябрьской революции. «Трезвый проницательный ум, беспощадная логика мысли, громадная эрудиция и блестящее красноречие – вот что отличало Карабчевского всю жизнь и выдвинуло его в ряды наших лучших общественных деятелей, которыми вправе гордиться Россия. Его громадное общественное влияние сказалось и на всем сословии адвокатуры, в долголетнюю бытность его председателем Совета петербургских присяжных поверенных», – писал С. В. Карачевцев.
Николай Платонович не оставлял и увлечения своей юности – литературного творчества. Сотрудничал в газете «Неделя» и других, писал публицистические и юридические заметки. С середины 1880-х годов публиковал юридические статьи и очерки в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство» и прочих. В 1901 году Карабчевский выпустил сборник своих речей. В предисловии он писал: «Вся деятельность судебного оратора – деятельность боевая. Это – вечный турнир перед возвышенной и недосягаемой «дамой с повязкой на глазах». Она слышит и считает удары, которые наносят друг другу противники, угадывает и каким орудием они наносятся… Разве не естественно желать сохранить хоть «на память» случайно уцелевшие образцы того оружия, которым приходилось сражаться всю жизнь».
В 1902 году вышла книга Карабчевского «Около правосудия», переизданная в 1908 году. Он редактировал также журнал «Юрист», посвященный суду и адвокатам. Написал ряд прозаических и поэтических произведений: роман «Господин Арсков», «Стихотворения в прозе», рассказы, очерки, эссе, а также мемуары, вышедшие в 1921 году.
В творчестве Николая Платоновича С. В. Карачевцев подметил интересную особенность. Многие известные адвокаты занимались литературным трудом (С. А. Андреевский, К. К. Арсеньев, В. Д. Спасович и др.), но в своем творчестве они как бы переставали быть адвокатами, а становились критиками, публицистами, поэтами. Карабчевский же и здесь оставался только адвокатом. В романе «Господин Арсков» он вывел двух присяжных поверенных – себя и Андреевского. Даже в Благородном собрании, в любительском спектакле, он играл роль человека, невинно осужденного на каторгу.
После Февральской революции, которую Карабчевский встретил настороженно, А. Ф. Керенский, получивший должность министра юстиции и генерал-прокурора, предложил Николаю Платоновичу должность сенатора уголовного кассационного департамента Правительствующего сената, но тот отказался от такой «чести».
Вот как передает этот диалог С.В. Карачевцев:
«– Николай Платонович, – сказал порывисто Керенский, – хотите быть сенатором уголовного кассационного департамента? Я имею в виду назначить несколько сенаторов из числа присяжных поверенных…
– Нет, Александр Федорович, разрешите мне остаться тем, что я есть, – адвокатом, – поспешил ответить Николай Платонович. – Я еще пригожусь в качестве защитника…
– Кому? – с улыбкой спросил Керенский. – Николаю Романову?
– о, его я охотно буду защищать, если вы затеете его судить!
Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх, и все поняли, что это намек на повешение.
– Только не это, – дотронулся до его плеча Николай Платонович, – этого мы вам не простим!
Так и не соблазнил Керенский Карабчевского. Только впоследствии Николай Платонович согласился на место председателя в комиссии по расследованию немецких зверств, но ведь это было всего лишь составление обвинительных актов».
Советскую власть Карабчевский не признал и эмигрировал.
Николай Платонович был женат на Ольге Андреевне, родной сестре народовольца С. А. Никонова.
Умер он 6 декабря 1925 года и похоронен в Риме.
Николай Александрович Добровольский (1854–1918)
«…Неслись к неминуемом катастрофе
Николай Александрович Добровольски] родился 10 марта 1854 года в семье потомственного дворянина Новгородской губернии Мальчик рано остался без отца, и воспитывал его отчим, который был преподавателем – обучал будущего императора Александра III и великих князей Алексея, Сергея и Павла. У него сложились настолько близкие отношения с членами императорской фамилии, что даже императрица Мария Федоровна называла его ласково – Рудинька. Последний император Николай II тоже относился к отчиму Добровольского вполне благожелательно. Свое отношение к «Рудиньке» царские родственники невольно переносили и на пасынков. Николай Александрович с юношеских лет был связан «особенно теплыми, близкими отношениями» с великим князем Михаилом Александровичем. Хотя, по признанию самого Н. А. Добровольского, ни он, ни оба его брата никогда не прибегали к протекции великого князя для продвижения по службе, все же близость к высочайшему двору почти автоматически давала ему некоторые преимущества.
Двадцати двух лет Николай Добровольский окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата прав, но, как ни странно, решил поступить на военную службу. Приказом по 1-й гвардейской кавалерийской дивизии от 29 октября 1876 года он был зачислен в Кавалергардский полк рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда.
Впрочем, армейская лямка не пришлась ему по душе, и, хотя в марте следующего года его произвели в унтер-офицеры, продолжать военную карьеру он не собирался и уже в апреле выхлопотал себе годичный отпуск по болезни.
Юриспруденция, видимо, привлекала его гораздо больше. Не увольняясь из армии, Николай Александрович подал прошение о зачислении его кандидатом на судебные должности при прокуроре Петербургского окружного суда. Назначение состоялось 20 мая 1877 года. Но через год медицинская комиссия, учрежденная при Санкт-Петербургском губернском присутствии по воинской повинности, освидетельствовала Добровольского и признала годным для продолжения службы. Чуть было не пришлось ему отправиться снова в свой Кавалергардский полк, но судьба все-таки распорядилась по-иному. Служить в армии ему больше не довелось, поскольку он успел получить командировку в помощь судебному следователю 7-го участка Петербурга с правом самостоятельного производства следственных действий.
Окончательного увольнения в запас Николай Александрович добился 27 июня 1878 года. Теперь можно было спокойно заниматься юриспруденцией. Вскоре он получил чин коллежского секретаря. До апреля 1879 года расследовал преступления в Петербурге, а потом был отправлен на выучку в провинцию и назначен товарищем Волынского губернского прокурора. В то время широко практиковалась «обкатка» молодых, неопытных «юридических птенцов» в старых судебных установлениях. Видимо, Добровольский сразу сумел хорошо зарекомендовать себя, и на следующий год он получает новое назначение – товарищем прокурора Житомирского окружного суда. Здесь он задержался на два года, иногда исполняя обязанности прокурора, здесь же выслужил свою первую награду – орден Святого Станислава III степени и очередной чин титулярного советника.
Дальнейший послужной список Добровольского не содержит ничего необычного – меняется география его назначений, один чин сменяется другим – служба идет ровно и без неожиданностей. С мая 1882 года он товарищ прокурора Киевского окружного суда, там служит больше четырех лет, потом в чине коллежского асессора переводится на ту же должность в Петербург. В Петербурге становится надворным советником и в 1891 году получает орден Святой Анны III степени. В сентябре того же года он уже в Прибалтике – в должности прокурора Митавского, а позже – Рижского окружного суда.
Н. А. Добровольский служит там почти шесть лет, прибавляет к своим наградам орден Святой Анны II степени и серебряную медаль в память царствования императора Александра III, а также получает чин статского советника. После этого он круто меняет направленность своей деятельности – неожиданно оставляет Министерство юстиции и переходит в систему Министерства внутренних дел. Высочайшим приказом от 8 февраля 1897 года его назначают гродненским вице-губернатором. Три года он занимает эту должность, часто замещает отсутствующего губернатора, а в последний год вообще полностью принимает на себя управление губернией. В апреле 1899 года без освобождения от основных обязанностей он назначается на три года почетным мировым судьей Гродненского округа и впоследствии занимает это престижное место еще дважды.
В феврале 1900 года пришло высочайшее повеление – Добровольский становился гродненским губернатором. На этом посту он дослужился до действительного статского советника, получил почетный чин камергера двора его величества и удостоился двух экзотических иностранных орденов – Персидского льва и Солнца I степени и черногорского князя Даниила Первого I степени. Через восемь месяцев он уволился и тут же был утвержден обер-прокурором первого департамента Правительствующего сената.
В системе Министерства внутренних дел Добровольский так и оставался до Февральской революции. С октября 1906 года он уже сенатор, в декабре получает придворный чин егермейстера. Современники уважительно называют его «знатоком административного права». Он чуть было не становится министром внутренних дел, но не только обширные профессиональные знания стали причиной его выдвижения на этот пост – дело имело еще один нюанс. Добровольский всегда был близок к высочайшему двору, но теперь он особенно тесно общался с кругом лиц, сплотившихся вокруг теневого лидера – Григория Распутина. Но министром Добровольский все же не стал – императора его кандидатура почему-то не вполне устраивала.
Впрочем, это не значит, что он был обделен высочайшим вниманием – 1 января 1914 года ему вручают еще один орден, на этот раз Белого Орла. В сентябре 1916 года он оставляет пост обер-прокурора и сосредотачивается на своих сенаторских делах. Ко всему прочему его избирают заместителем председателя Георгиевского комитета.
Но к концу 1916 года Г. Распутин опять пытается вмешаться в государственные дела – ему не нравится, что неуступчивый министр юстиции А. А. Макаров никак не желает прекращать дела бывшего военного министра Сухомлинова и известного мошенника Манасевича-Мануйлова. Тогда Распутин затевает свою интригу – начинает особенно настойчиво добиваться назначения Добровольского на пост генерал-прокурора. По свидетельству С. П. Белецкого, видевшего Распутина за два дня до его гибели, у него было «жизнерадостное настроение и полное удовлетворение по случаю полученного им обещания о назначении на пост министра юстиции Н. А. Добровольского, при посредстве которого он рассчитывал добиться окончательного погашения дела Сухомлинова».
Высочайший указ появился 20 декабря 1916 года: «Сенатору, двора Нашего егермейстеру, тайному советнику Добровольскому Всемилостивейше повелеваем быть управляющим Министерством юстиции, с оставлением сенатором и егермейстером».
Однако руководил он Министерством юстиции немногим более двух месяцев, так и не успев получить звание министра.
Когда Добровольский вступил в управление Министерством юстиции, главный инициатор его назначения, Г. Распутин, был уже убит, и надежды распутинского окружения на прекращение дел Сухомлинова и Манасевича-Мануйлова не оправдались. Добровольский убедил императора в нецелесообразности освобождения их от судебной ответственности. Но если первое дело попросту «зависло» без всякого движения, то второе до суда все-таки дошло.
Интересно, что литературным редактором стенографического отчета Чрезвычайной следственной комиссии довелось быть поэту Александру Блоку. Через его руки проходило множество уникальных документов – это навело его на мысль написать книгу «Последние дни императорской власти». На его взгляд, обстановка в стране накануне Февральской революции была удручающей: «На исходе 1916 года все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченной обыкновенными средствами, но требовала сложной и опасной операции. Так понимали в то время положение все люди, обладавшие государственным смыслом; ни у кого не могло быть сомнения в необходимости операции; спорили только о том, какую степень потрясения, по необходимости сопряженного с нею, может вынести расслабленное тело».
Комментарии Блока в адрес Николая II точны и выразительны: «…упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, задерганный и осторожный на словах, был уже «сам себе не хозяин». Он перестал понимать положение и не делал отчетливо ни одного шага, совершенно отдавшись в руки тех, кого сам поставил у власти».
Императрица Александра Федоровна, окружив себя «мистическим кругом», через посредство распутинского «фонографа слов и внушений», фрейлину Вырубову, продолжала активно влиять на большую политику. В кругу «придворной рвани» вовсю кипела «борьба мелких самолюбий и интриг».
В конце декабря 1916 года председатель Совета министров А. Ф. Трепов уступил свое место последнему премьеру царского правительства Н. Д. Голицыну, брезгливо называвшему народ «чернью», но такая перестановка уже ничего не меняла. А. Блок писал, что «среди членов правительства было немного лиц, о которых можно говорить подробно, так как их личная деятельность мало чем отмечена; все они неслись в неудержимом водовороте к неминуемой катастрофе». По его выражению, «эти люди ничего не могли сделать для того, чтобы предотвратить катастрофу».
Н. А. Добровольский наблюдал за происходящим довольно пассивно, хотя в его руках находился мощный репрессивный аппарат. Однако ни он, ни многие гораздо более сильные личности из окружения императора ничего не делали для обуздания революционной стихии. Растерянность, паралич воли, надежда на чудо – кто знает, что ими владело в то предгрозовое время.
Когда Февральская революция началась, Добровольский укрылся в итальянском посольстве, но через два часа все же позвонил в Государственную думу и попросил прислать автомобиль – решил поехать в Таврический дворец и сдаться добровольно. Думал ли он, что из дворца его сразу отправят в Петропавловскую крепость?
Допрашивали его в Чрезвычайной следственной комиссии, подготовкой допросов занимался сенатор Б. Н. Смиттен. Выясняли разное – и нюансы назначения на министерскую должность, и взаимоотношения с царской семьей, и знакомство с Распутиным, и основания к прекращению целого ряда дел, и личные денежные обстоятельства. Расследование поручили судебному следователю К. И. Бувайлову, настаивая на завершении дела в кратчайшие сроки, и он с этим успешно справился. Б. Н. Смиттен наблюдал за следствием. Официально Добровольскому были вменены в вину три должностные преступления.
Во – первых, он обвинялся в том, что, будучи обер-прокурором, получил из кассы бывшего Министерства императорского двора двадцать тысяч рублей, пожалованных государем на пособия особо нуждающимся чиновникам канцелярии Сената, но деньги по назначению не передал, а «самовольно обратил на свои надобности», вложив в процентные бумаги, которые внес на свой текущий счет. Исходную сумму он все же возвратил, но лишь через несколько лет. Добровольский, впрочем, виновным себя не признал – оправдывался тем, что из-за проволочек с организацией ссудно-сберегательной кассы ему ничего не оставалось, как положить деньги, выданные «в его распоряжение», на собственный текущий счет. По поводу этого существовала устная договоренность с Министерством императорского двора, и когда касса открылась, он вернул не только двадцать тысяч, но и проценты. Он признался только в том, что какое-то время пользовался кредитом, но никакого ущерба кассе не причинил.
В двух следующих «преступлениях» он тоже не признал себя виновным – речь шла о необоснованном прекращении дела некоей Феодосии Шмулевич и получении взятки от грозненского купца Я. Б. Нахимова за содействие его помилованию.
К. И. Бувайлов представил все материалы на заключение Чрезвычайной следственной комиссии к концу июля 1917 года. В ожидании решения Николаю Александровичу удалось ненадолго вырваться из Петропавловской крепости. Его здоровье к тому времени оставляло желать лучшего, и его жена
Ольга Дмитриевна усиленно хлопотала перед министром юстиции Временного правительства об освобождении мужа, ссылаясь на мнение доктора Манухина, предписавшего «больничное, а еще лучше домашнее лечение». Однако на все эти просьбы она неизменно получала отказы.
31 июля было вынесено постановление, оказавшееся на редкость гуманным. В нем отмечалось, что доказательства виновности Добровольского «существенно поколеблены ко времени окончания предварительного следствия». Принято было во внимание болезненное состояние бывшего министра юстиции, возраст и семейное положение – у него было пятеро детей. Меру пресечения ему изменили на подписку «о неотлучке» из Петрограда, и уже 4 августа Добровольский был выпущен на свободу. Казалось бы, самое страшное позади.
Однако пошатнувшееся здоровье требовало основательного лечения. Уже на следующий день он обращается в комиссию с просьбой дать ему выехать на Кавказ. Но железнодорожные билеты на 8 августа, добытые с большим трудом, так и не пригодились – разрешение на поездку не выдано. 20 августа он пишет очередное прошение: «Дайте же мне возможность сохранить себя хоть на несколько лет для многочисленной семьи моей, не обрекайте меня на дальнейшую медленную казнь и дайте мне возможность не подвергать голодовке нашу семью, в которой три младших не старше 22 лет и не могут существовать без молока, мяса, масла, яиц и т. п. продовольствия первой необходимости для питания». До чего наивными выглядят сейчас эти строки!
Тем не менее 22 августа Чрезвычайная следственная комиссия под председательством Н. К. Муравьева рассмотрела прошение Н. А. Добровольского и большинством в пять голосов против двух разрешила ему выезд на Кавказ. Через день он получил официальное удостоверение об этом.
Так Добровольский выезжает на Северный Кавказ, не подозревая, что это решение станет трагическим. Еще через год, в сентябре – октябре 1918 года, по стране прокатилась волна «красного террора», спровоцированного покушением на Ленина и убийством Урицкого. Докатилась она и до Кавказа. «Во исполнение приказа Народного Комиссара внутренних дел тов. Петровского» в концентрационный лагерь в Пятигорске в качестве заложников были брошены сто шестьдесят человек, в их числе несколько генералов и сенаторов. Среди них оказался и Добровольский.
«Медленной казни» он не хотел, но роковым образом поспешил навстречу быстрой. 21 октября 1918 года в числе других пятидесяти девяти заложников его расстреляли.
Александр Александрович Макаров (1857–1919)
«Так было, и так будет впредь»
Александр Александрович Макаров родился 7 июля 1857 года в купеческой семье после окончания гимназии поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Завершив обучение, в ноябре 1878 года он начал службу в качестве кандидата на должности по судебному ведомству при председателе Санкт-Петербургского окружного суда А. А. Кузьминском. Первое время подвизался в канцелярии 2-го уголовного отделения, затем был переведен в 3-е отделение «для защиты подсудимых». Через год Макаров уже помогал судебному следователю 2-го участка Царскосельского уезда, тогда же получил свой первый гражданский чин коллежского секретаря.
В январе 1880 года молодому юристу доверили самостоятельно производить следственные действия, чем он и стал заниматься в 7-м следственном участке Санкт-Петербурга, где, впрочем, задержался ненадолго. В течение следующих четырех лет Александр Макаров выполнял обязанности секретаря в канцелярии председателя окружного суда и в 1-м уголовном отделении. В конце октября 1882 года его направили в распоряжение председателя департамента Санкт-Петербургской судебной палаты А. Ф. Кони, проводившего ревизию делопроизводства в Новгородском окружном суде. Две недели работы с выдающимся юристом дали Макарову очень многое в смысле профессиональных навыков.
Карьера молодого чиновника обещала быть успешной. В 1884 году двадцатисемилетний Макаров получает свою первую самостоятельную должность – городская дума избирает его «добавочным» мировым судьей по городу Санкт-Петербургу. В следующем году его уже назначают членом окружного суда. В 1887 году указом Правительствующего сената А. А. Макарова утверждают в должности санкт-петербургского почетного мирового судьи. В этом звании он прослужил два года, а в январе следующего был награжден орденом Святого Станислава II степени.
В дальнейшем послужном списке Макарова города меняются один за другим – Ревель, Нижний Новгород, Москва, Киев, Саратов, Харьков.
С одобрения императора Александра II назначенный министром юстиции и генерал-прокурором Н. А. Манасеин после основательной ревизии Прибалтийского края начал проводить там судебную реформу. Для этого ему потребовались квалифицированные кадры прокурорских и судебных работников. Среди кандидатов на руководящие должности в Прибалтике был и А. А. Макаров. В октябре 1889 года тридцатидвухлетний юрист стал первым прокурором Ревельского окружного суда и прослужил здесь почти пять лет, зарекомендовав себя хорошим профессионалом, строгим, внимательным руководителем. За время службы он достиг чина коллежского советника и получил очередной орден – Святой Анны II степени.
В апреле 1894 года Александр Александрович возглавил прокуратуру Нижегородского окружного суда, где выслужил чин статского советника. В начале 1897 года Макаров стал прокурором Московского окружного суда. Дел у московского прокурора всегда было немало: контроль за товарищами прокуроров и судебными следователями, участие во всевозможных комиссиях и заседаниях, прием посетителей и многое другое. Прокуратура тогда вела наступательную борьбу с преступностью, особое внимание уделяя разоблачению расхитителей и растратчиков.
В Москве А. А. Макаров оставался около двух лет. 24 мая 1899 года в чине действительного статского советника он был переведен в Киев на должность председателя окружного суда, прокурором которого был талантливый юрист С. Н. Цемш, а освободившееся место Макарова в Москве занял А. В. Степанов.
В новой должности А. А. Макаров служил до 14 марта 1901 года, удостоившись за свою деятельность ордена Святого Владимира III степени, а затем вновь перешел в прокуратуру. Теперь он стал прокурором Саратовской судебной палаты. Здесь ему пришлось работать вместе с губернатором Петром Аркадьевичем Столыпиным.
7 апреля 1906 года А. А. Макаров в качестве старшего председателя возглавил Харьковскую судебную палату, но на этой ответственной должности пробыл только полтора месяца. После многих лет тихого карьерного роста судьба сделала неожиданный поворот. Назначенный в правительстве И. А. Горемыкина министром внутренних дел П. А. Столыпин, успевший за время совместной работы в Саратове по достоинству оценить деловые качества Макарова, в мае 1906 года пригласил Александра Александровича к себе заместителем. В восхождении Макарова по ступеням служебной лестницы начался следующий, гораздо более ответственный период.
Время было не самое спокойное – назначение Макарова товарищем министра внутренних дел совпало, с одной стороны, с усилением террористической деятельности социалистов-революционеров, а с другой – с введением военно-полевых судов и наступлением царизма на революционное движение. Ему достался самый боевой участок – как заместитель министра он курировал департаменты полиции и духовных дел иностранных исповеданий, а также состоящий при министерстве техническо-строительный комитет.
Результаты его деятельности устраивали далеко не всех. Например, С. Ю. Витте считал серьезной ошибкой назначение на эти посты П. А. Столыпина и А. А. Макарова и утверждал, что со времени вступления Столыпина на пост министра «последовала полная дезорганизация полиции». Действительно, в это время работа полиции строилась в основном на провокациях. «Вся полиция в такое трудное время очутилась в руках лиц, совершенно незнакомых с тем делом, которым они должны были заниматься», – писал Витте.
Понятно, что Макарову как бывшему прокурору было довольно сложно сработаться со своими подчиненными – на многие вопросы он смотрел с точки зрения законности, и это не всем нравилось. Обладая неплохими ораторскими способностями, Макаров часто поднимался на думскую трибуну, чтобы отстоять тот или иной законопроект, разработанный Министерством внутренних дел, ответить на запросы депутатов, дать справку по расследуемым уголовным делам или разъяснения по сложным вопросам внутренней жизни империи. По словам В. Н. Коковцова, сменившего на посту председателя Совета министров Столыпина, выступления Макарова в Государственной думе, причем по делам «крайне щекотливого свойства, отличались всегда большим тактом, эрудицией и определенностью и снискали ему то уважение, без которого участие в работе законодательных учреждений для представителя правительственной власти просто невозможно».
Товарищем министра внутренних дел А. А. Макаров служил до января 1909 года, получив за это время чин тайного советника и одновременно став сенатором. 1 января 1909 года он был назначен государственным секретарем, что для него было «весьма неприятно». 17 января 1909 года А. А. Макаров, без освобождения от своих основных обязанностей, был утвержден членом Алексееве кого главного комитета по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией. За служебное рвение он был удостоен новых наград: ордена Святого Владимира II степени, золотого нагрудного знака в память столетнего юбилея Государственной канцелярии, и, как жест особой милости, ему был пожалован фотографический снимок их императорских величеств вместе с наследником.
Когда в сентябре 1911 года от руки террориста погиб председатель Совета министров и министр внутренних дел П. А. Столыпин, император Николай II разделил его обязанности между двумя лицами: предложил пост председателя Совета министров Владимиру Николаевичу Коковцову, а министра внутренних дел – А. А. Макарову. С января 1912 года Макаров одновременно являлся и членом Государственного совета.
В первых числах апреля произошло трагическое событие на приисках Ленского золотопромышленного товарищества – колонна рабочих организованно направилась к администрации, чтобы вручить прошение прокурору, но была расстреляна. Ленская трагедия всколыхнула всю страну. В Петербурге началась стачка протеста, которая быстро перекинулась и на другие губернии.
В это время Макаров находился на отдыхе в Крыму. 6 апреля он получил от своего заместителя И. М. Золотарева срочную телеграмму, немедленно выехал в Петербург и уже 9 апреля прибыл в столицу. Страсти кипели вовсю. Левые партии в Государственной думе внесли запрос правительству, требуя разъяснить создавшееся положение. Александру Александровичу, даже не успевшему полностью войти в курс дела, срочно пришлось выступить в Думе. Он произнес речь, неожиданная концовка которой всех ошеломила – о расстреле рабочих было сказано: «Так было, и так будет впредь». Эта фраза сыграла в его судьбе роковую роль.
Впоследствии, на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии, А. А. Макаров говорил, что теперь он не «защищает своей речи», произнесенной в Думе, поскольку тогда он «был односторонен, был самонадеян, был вследствие этого ложен в своей речи».
Объясняя причину появления столь убийственной фразы, Макаров оправдывался: «Я никогда своих речей не писал, а намечал себе что-нибудь в уме. Так что это вышло у меня совершенно случайно. С другой стороны, это было сказано не в том смысле, – отнюдь не в общем… Впоследствии придали этой несчастной фразе слишком, по-моему, распространительное толкование. А касалась она того, что если на маленькую воинскую часть, которой поставлена задача охранять порядок, наступает громадная толпа в несколько тысяч человек, то она находится в таком положении, что может быть этой толпой смята, и ей приходится стрелять. Вот смысл».
И все же неосторожных слов Макарову не простили. С. В. Завадский писал, что после Февральской революции бывший министр был арестован, конечно, не только за одни эти слова, а за все свое прошлое в совокупности, но только лишь из-за этой злополучной фразы А. Ф. Керенский не освободил его.
Министром внутренних дел Макаров оставался недолго – он был освобожден от должности 16 декабря 1912 года с изъявлением ему высочайшей благодарности.
После этого он был лишь членом Государственного совета, примыкая там к правой группе, а также оставался присутствующим в Правительствующем сенате. Новый и последний взлет карьеры А. А. Макарова пришелся на лето 1916 года. 7 июля император подписал указ, который гласил: «Члену Государственного совета, сенатору, тайному советнику Макарову Всемилостивейше повелеваем быть Министром юстиции, с оставлением членом Государственного совета и сенатором».
Но свое высокое назначение А. А. Макаров получил не в самое лучшее время – самодержавный трон раскачивался с удвоенной силой и вот-вот готов был рухнуть, погребая под своими обломками почти всех, кто находился рядом с ним. До крушения царизма оставалось немногим более семи месяцев.
Макаров сумел продержаться в генерал-прокурорской должности только пять.
Император Николай II, освобождая от должности А. А. Хвостова, возлагал определенные надежды на нового генерал-прокурора, полагая, что он будет «понятливее» и «более податлив» и что теперь высочайшие повеления будут ставиться выше закона. Но государь и на этот раз ошибся. «Честный нотариус», как, по свидетельству С. Ю. Витте, за глаза называли при дворе А. А. Макарова, оказался слишком упрямым, когда дело касалось исполнения самим же императором утвержденных законов. Например, он занял принципиальную позицию в отношении бывшего военного министра Сухомлинова – отказался прекратить это дело, несмотря на высочайшее повеление.
Переполнила же чашу терпения Николая II «несговорчивость» генерал-прокурора по делу И. Ф. Манасевича-Мануйлова. Оно возникло в августе 1916 года и было довольно заурядным – шантаж банка. Давление в связи с этим делом шло и на министров внутренних дел А. А. Хвостова и А. Д. Протопопова, и на генерал-прокурора А. А. Макарова, причем настолько сильное, что последний вынужден был даже публично заявить, что примет меры к тому, чтобы «не относящиеся к существу обвинения Манасевича-Мануйлова факты были отброшены» и чтобы «предметом судебного разбирательства» было только его дело. Понятно, что это не устраивало тех, кто стоял за спиной мошенника.
Дело было назначено к слушанию на 15 декабря, накануне же под вечер Манасевич-Мануйлов явился к следователю, заявив, что уже состоялось высочайшее повеление о прекращении дела, о чем ему Распутин якобы сообщил телеграммой из Ставки. Встревоженный следователь сразу поставил в известность об этом разговоре прокурора судебной палаты Завадского. На следующий день прокурор узнал, что действительно генерал-прокурор А. А. Макаров получил телеграмму от императора: «Повелеваю прекратить дело Манасевича-Мануйлова, не доводя до суда».
Но несговорчивый Макаров не стал беспрекословно выполнять это повеление – он тут же написал всеподданнейший доклад о том, что не считает возможным прекратить дело без суда и просит не приводить в исполнение повеление императора до его личного доклада. Понятно, что ответа на свою дерзкую записку Макаров так и не получил.
Реакция последовала другая – 20 декабря 1916 года появился высочайший указ об освобождении А. А. Макарова от должности «согласно прошению» (которого он добровольно не подавал), но с оставлением членом Государственного совета и сенатором. 1 января 1917 года Макаров получил чин действительного тайного советника, а 4 января возглавил Особое присутствие для предварительного рассмотрения всеподданнейших жалоб на решения департаментов Правительствующего сената. Управляющим Министерством юстиции был поставлен сенатор Н. А. Добровольский.
После Февральской революции А. А. Макаров, подобно другим бывшим министрам царского правительства, был арестован. Его неоднократно допрашивали в Чрезвычайной следственной комиссии. Товарищ председателя этой комиссии С. В. Завадский признавался, что из всех узников Керенского были два министра, Макаров и Маклаков, при допросе которых он отказался присутствовать и что его угнетали разговоры в президиуме комиссии о предании Макарова суду. Он объяснял это тем, что за пять месяцев совместной деятельности «увидел в нем, правда, человека, несомненно, склонного к формальности, но умеющего много работать, спокойно и внимательно прислушивающегося к чужим мнениям и чужим возражениям, уважающего суд и не останавливающегося перед опасностью потери министерского поста из-за отстаивания того, что ему представляется законным и должным». Макарова долго держали в Петропавловской крепости. Ходатайство его об освобождении по состоянию здоровья, а также прошение жены Елены Павловны о переводе мужа в «Кресты» оставались без удовлетворения. Лишь только 27 сентября 1917 года следователь П. Г. Соколов, допросив Макарова в очередной раз, вынес постановление об изменении ему меры пресечения на «подписку о неотлучке из места постоянного жительства в Петрограде».
И только 3 ноября, после того как Елена Павловна внесла за своего мужа залог в сумме 50 тысяч рублей, Чрезвычайная следственная комиссия все-таки освободила А. А. Макарова «ввиду тяжелой болезни», о чем на следующий день выдала официальное удостоверение.
После Октябрьской революции А. А. Макаров вновь был арестован и в 1919 году расстрелян.
Иван Григорьевич Щегловитов (1861–1918)
Суд превращен в «капище беззакония»?
Иван Григорьевич Щегловитов происходи; из потомственных дворян Черниговской губернии, где у его отца было имение и полторы тысячи десятин земли. Он родился 13 февраля 1861 года. Двадцати лет, окончив с золотой медалью Императорское училище правоведения, начал службу при прокуроре Санкт-Петербургского окружного суда в чине титулярного советника. Через некоторое время молодого чиновника направили в распоряжение следователя 9-го участка города Санкт-Петербурга. На новом месте Иван Григорьевич освоился быстро, и вскоре ему доверили самостоятельно производить следственные действия. Правда, занимался он этим хлопотным делом недолго. В конце года его перевели кандидатом на судебные должности, но теперь уже в более высокую инстанцию – при прокуроре судебной палаты. Прослужив полгода, как теперь сказали бы, «на побегушках», он занял место секретаря при прокуроре палаты. Его годовое содержание, включающее жалованье, столовые и квартирные, составляло вполне приличную сумму в полторы тысячи рублей.
Трудоспособный, усидчивый, умный, хорошо знающий законодательство, особенно уголовное, Иван Григорьевич обратил на себя внимание начальства. Бывший тогда прокурором Санкт-Петербургской судебной палаты Н. В. Муравьев, строгий и требовательный к подчиненным, быстро оценил блестящие способности своего сотрудника и старался держать его при себе. Когда Министерству юстиции потребовались толковые чиновники для проверки работы прокуроров и судебных следователей в Витебской губернии, Муравьев в числе других направил туда и Щегловитова. Справился тот со своими обязанностями превосходно.
Спустя два года после начала службы определением департамента герольдии Правительствующего сената от 19 октября 1883 года Иван Григорьевич произведен в коллежские асессоры. Вскоре после этого он назначается исполняющим должность смотрителя здания Петербургских судебных установлений, а в начале февраля 1884 года возвращается к исполнению своих основных обязанностей – секретаря при прокуроре судебной палаты. Тогда же Н. В. Муравьев представил молодого юриста к награждению орденом Святого Станислава III степени, что для двадцатитрехлетнего чиновника было большой честью. Он получил его 6 июня 1884 года.
Когда Н. В. Муравьев перешел на должность прокурора судебной палаты в Москву, Щегловитову была предоставлена первая самостоятельная должность товарища прокурора Нижегородского окружного суда. В городе на Волге он провел два года, а весной 1887 года возвратился в столицу, где занял должность товарища прокурора Санкт-Петербургского окружного суда. Здесь он прослужил три года. Ему приходилось выполнять разные поручения, но на всю жизнь ему запомнилось одно из первых: присутствие при казни «первомартовцев» – А. И. Ульянова и его товарищей, покушавшихся на жизнь императора Александра III и приговоренных за это к повешению. Позднее Щегловитов рассказывал, что воспринял это поручение как «чрезвычайно тяжелое». Ночевать накануне ему пришлось в Шлиссельбурге кой крепости, и всю ночь он не мог сомкнуть глаз. Утром, надеясь получить телеграмму о высочайшем помиловании, придумывал всяческие отговорки, чтобы только оттянуть казнь. И только после настойчивых требований коменданта крепости и жандармского офицера казнь состоялась.
Постепенно Щегловитов приобретает опыт и быстро преодолевает одну ступень служебной лестницы за другой. В ноябре 1887 года он становится надворным советником. В эти же годы активно сотрудничает в газетах и журналах, публикуя статьи на правовые темы. Только в «Юридическом вестнике» за пять лет появились пятнадцать его статей. Тематика публикаций была самая разнообразная, что свидетельствовало о широкой юридической эрудиции автора: «Сопротивление и неповиновение властям», «Права прибрежных владельцев в отношении судовых пристаней», «О праве судебных следователей направлять дела к прокурорскому надзору без производства следствия», «Участие потерпевшего от преступления в уголовном преследовании», «Уголовно-частный порядок преследования по Судебным уставам» и другие.
В январе 1890 года Щегловитов получает очередную награду – орден Святой Анны III степени, а в декабре назначается за обер-прокурорский стол в Правительствующем сенате. В следующем году Н. А. Манасеин переводит его в аппарат Министерства юстиции на должность заведующего уголовным отделом законодательного отделения. Благодаря своим личным качествам, старательности, основательности во всем, за что бы он ни брался, а также блестящим способностям и великолепной теоретической подготовке Иван Григорьевич сумел в 1893 году занять место юрисконсульта министерства. Оно считалось престижным, к тому же хорошо оплачивалось. Публицист И. В. Гессен писал, что юрисконсультская часть относилась к «привилегированной, аристократической» службе в министерстве. «Это был настоящий питомник министров и их товарищей», – сообщал он.
Щегловитов продолжал активно сотрудничать в юридических периодических изданиях и стал, в частности, одним из лучших авторов в возобновленном Н. В. Муравьевым «Журнале Министерства юстиции», а позднее и в газете «Право».
В 1894 году Щегловитов был назначен прокурором Санкт-Петербургского окружного суда, а в следующем году – товарищем прокурора столичной судебной палаты. Здесь он получил чин статского советника и сумел проявить себя не только хорошим организатором работы, но и блестящим судебным оратором. Одну из самых ярких обвинительных речей он произнес по крупному уголовному процессу – о подлоге духовного завещания миллионера Грибанова.
Иван Григорьевич был одним из самых эрудированных юристов того времени. С 1889 года он действительный член Юридического общества при Санкт-Петербургском университете. Вскоре его избрали членом ревизионной комиссии, а затем секретарем общества. Одним из первых Щегловитов понял всю ценность судебной фотографии для расследования преступлений и дал этому научное обоснование. В 1891 году он прочитал в Юридическом обществе доклад «Фотографическая экспертиза документов», и вскоре он был опубликован в третьем номере журнала «Юридическая летопись». На доклад и статью в печати появились многочисленные отклики, в частности, в «Судебной газете». В следующем году Щегловитов печатает в «Северном вестнике» еще одну статью – «Судебная фотография», которую также не обошли своим вниманием критики. Теорию он успешно совмещал с практикой – в бытность свою прокурором в Петербурге учредил там первую судебно-фотографическую лабораторию.
В 1897 году И. Г. Щегловитов становится товарищем обер-прокурора уголовного кассационного департамента Правительствующего сената. С 1900 по 1903 год он последовательно занимает должности вице-директора первого департамента Министерства юстиции и члена консультации при министерстве, выслуживает чин действительного статского советника. Его познания в области уголовного права и судопроизводства были настолько обширны и основательны, что он по праву считался лучшим криминалистом России. Иван Григорьевич участвовал в образованной под председательством министра юстиции Н. В. Муравьева Комиссии по пересмотру Судебных уставов, в многочисленных совещаниях по правовым вопросам, разрабатывал законопроекты по переустройству карательных учреждений Сахалина, об отмене ссылки и прочее. Большую организаторскую работу проделал он по подготовке Конгресса криминалистов в Петербурге в 1902 году, с этой целью посетил Париж и внимательно ознакомился там с деятельностью Центрального союза криминалистов.
Современники отмечали, что в те годы Щегловитов «чтил Судебные уставы и возражал против нажима на суд». Именно по его инициативе министр юстиции издал даже циркуляр о праве присяжных заседателей ходатайствовать об облегчении участи осужденных. В молодости Щегловитов «не чужд был и свободолюбивых речей». И. В. Гессен отмечает такой примечательный факт. 15 апреля 1902 года, в день убийства министра внутренних дел Д. С. Сипягина, он был в театре и в одном из антрактов встретил бывшего тогда вице-директором департамента Министерства юстиции Щегловитова. «Поздоровавшись и не выпуская моей руки, – писал Гессен, – он увлек меня в сторону и спросил: «Ну, что скажете?» Я ответил: «Конечно, это ужасно». Не давая мне окончить фразы, он торопливо перебил: «Ужасно, ужасно! Но поделом вору и мука».
6 апреля 1903 года Щегловитов занял высокий пост обер-прокурора уголовного кассационного департамента Правительствующего сената. Ему приходилось давать заключения по самым разнообразным делам, причем их содержательная часть всегда отличалась высоким профессионализмом, основательностью и глубиной, что отмечал даже такой требовательный юрист, как А. Ф. Кони. Последнему, например, очень понравилось заключение Щегловитова по делу Семенова, в котором обер-прокурор убедительно разъяснил, что в уголовном процессе слова «виновен» и «совершил» не синонимы.
Обремененный многочисленными служебными делами, зачастую довольно сложными, требующими напряжения всех сил, Иван Григорьевич продолжал разрабатывать теоретические вопросы уголовного права, судопроизводства и судоустройства. Одна за другой в печати появляются его заметки, статьи и сообщения, многие из которых он выпускает затем отдельными изданиями.
В 1903 году Щегловитов в качестве профессора стал читать лекции в Императорском училище правоведения, сначала по теории и практике уголовного судопроизводства, а позднее – об основных началах судоустройства. По материалам своих лекций он издал двухтомный «Курс русского судоустройства».
Будучи обер-прокурором Правительствующего сената, Щегловитов успешно выполнил ряд ответственных поручений первостепенной важности, чем обратил на себя внимание Высочайшего двора. Ему было доверено выполнение прокурорских обязанностей в Особом присутствии Правительствующего сената по так называемому Делу о злодеянии, жертвой коего пал великий князь Сергей Александрович. Расследованием дела занимался судебный следователь по особо важным делам Московского окружного суда Головня. Наблюдал за производством следствия обер-прокурор Щегловитов. Обвинительный акт был составлен Щегловитовым 23 марта 1905 года. Само событие было изложено так: «4 февраля 1905 года в Москве, в то время, когда его императорское высочество великий князь Сергей Александрович проезжал в карете из Николаевского дворца на Тверскую, на Сенатской площади, на расстоянии 55 шагов от Никольских ворот, неизвестный злоумышленник бросил в карету бомбу. Взрывом Сергей Александрович был убит, а сидевшему на козлах кучеру Андрею Рудинкину, который скончался через несколько дней, были причинены многочисленные тяжкие повреждения».
«Неизвестным злоумышленником» оказался И. П. Каляев, член Боевой организации партии социалистов-революционеров.
Дело слушалось в Особом присутствии Правительствующего сената 5 апреля 1905 года под председательством П. А. Дейера. Обвинение поддерживал Щегловитов. Подсудимого защищали присяжные поверенные М. А. Мандельштам и В. А. Жданов, произнесший одну из лучших своих речей. В три часа пополудни был вынесен приговор. Каляев осуждался на смертную казнь через повешение. Выслушав приговор, он заявил: «Я счастлив вашим приговором и надеюсь, что вы исполните его надо мною так же открыто и всенародно, как я исполнил приговор партии. Учитесь мужественно смотреть в глаза надвигающейся революции». Казнь состоялась в ночь на 10 мая 1905 года в Шлиссельбургской крепости.
Вскоре после окончания дела Щегловитов вернулся в Министерство юстиции. Высочайшим указом от 22 апреля 1905 года он назначается директором первого департамента. Иван Григорьевич с восторгом воспринял известие о подписании государем Манифеста от 17 октября 1905 года и искренне приветствовал начавшееся в империи преобразование государственного аппарата, созыв Первой Государственной думы. Он даже участвовал в выработке некоторых законодательных актов, последовавших вслед за Манифестом, – в частности, указа от 21 октября, «даровавшего» облегчение всем государственным преступникам, или, как их стали тогда называть, «пострадавшим за деятельность в предшествующий период».
Однако среди высших царских сановников у него появились явные недоброжелатели. Из них самый опасный и влиятельный – председатель Совета министров С. Ю. Витте. Последний настолько невзлюбил Щегловитова, что однажды даже просил министра юстиции С. С. Манухина не приглашать его на заседания Совета министров. По мнению Витте, новый директор департамента высказывал слишком «трафаретные красные идеи». Поэтому, когда 1 февраля 1906 года новый министр юстиции М. Г. Акимов назначил Ивана Григорьевича своим заместителем, Витте очень удивился и поинтересовался у министра, хорошо ли он знает Щегловитова. Акимов ответил, что не только хорошо знает его, но и ценит как отличного работника.
В апреле 1906 года председатель Совета министров С. Ю. Витте был отправлен в отставку, и кабинет его пал. Вслед за ним оставили свои посты почти все министры, в том числе и М. Г. Акимов.
24 апреля 1906 года министром юстиции и генерал-прокурором нового правительства назначается Щегловитов. На этой высокой должности он оставался девять лет, несмотря на частую смену председателей Совета министров. Ему одновременно были вверены посты статс-секретаря императора, члена Государственного совета и сенатора. Назначение Щегловитова вызвало неоднозначную реакцию, у одних сдержанную, у других откровенно враждебную. С. Ю. Витте писал впоследствии: «Это самое ужасное назначение из всех назначений министров после моего ухода, в течение этих последних лет и до настоящего времени. Щегловитов, можно сказать, уничтожил суд».
Когда после нового правительственного кризиса в июне 1906 года председателем Совета министров стал П. А. Столыпин, Щегловитов сохранил за собой портфель министра юстиции. Известно, что на этой должности Столыпин хотел видеть А. Ф. Кони, блестящего юриста и общественного деятеля, человека безупречной репутации, но тот отказался от такой «чести». Щегловитов же, со слов премьера, нравился государю «легкостью, вразумительностью и точностью своих докладов», и Николай II с таким министром расставаться не захотел. Абсолютное доверие императора помогало ему удерживать свое кресло долгое время.
Но если в молодости И. Г. Щегловитов ратовал за судебную независимость, приветствовал демократические преобразования, то теперь он, по словам современников, «круто повернул вправо». Он перестал считаться с принципом несменяемости судей и судебных следователей, зачастую изгонял со своих мест неугодных ему судебных работников и прокуроров, а на руководящие должности подбирал людей «более твердых, более монархически настроенных». Его замашки многим казались диктаторскими.
На одном из заседаний Государственной думы Щегловитов произнес: «Тяжелые годы смуты и политического шатания возлагали на Министерство юстиции сугубые обязанности ограждения русского суда от засорения всем тем, что отражает в себе колеблющееся, меняющееся общественное движение и настроение, и партийные вожделения. Между тем общее политическое шатание не может не коснуться суда, как ни прискорбно это явление. Волны бушующих политических страстей докатились и до святой храмины правосудия… Будучи призван… стать во главе Министерства юстиции, я приложил все усилия к тому, чтобы русский суд устоял перед соблазном политической борьбы и чтобы в нем, в особенности в лице его главных руководителей, были не люди, слабые волей и равнодушные к ограждению государственного порядка и общественного спокойствия, но люди, сильные волей и твердые в подлинном исполнении и применении закона. Само собою разумеется, что особое внимание пришлось обратить на обновление в некоторых судебных местах личного персонала».
Затем он продолжал: «Нападки… на меня не смущают, они бледнеют и гаснут перед величием лежащей на мне обязанности охранить тот храм, который именуется храмом правосудия, во всей чистоте».
Деятельность Щегловитова подвергалась критике со всех сторон. Резко выступали против него некоторые депутаты Государственной думы, в частности, В. А. Маклаков, который приводил убедительные факты того, что прокуроры, подчиненные Щегловитову как генерал-прокурору, часто подминались местной властью. Именно при нем были введены военно-полевые суды, когда на дознание, предварительное следствие, судебную процедуру и исполнение приговора отводилось всего двое суток – «скорострельность» чудовищная. И хотя идея их создания принадлежала не Щегловитову, и даже есть сведения, что он вовсе ее не одобрял, однако ему ничего не оставалось, как согласиться с волей государя.
Социалисты-революционеры немедленно дали свой ответ на введение военно-полевых судов. В 1906–1908 годах они объявили настоящую охоту на высших должностных лиц империи и провели ряд террористических актов. Считая Щегловитова главным проводником репрессий в стране, они вынесли ему смертный приговор и готовили покушение, но их попытки не увенчались успехом.
По мнению современников, щегловитовская юстиция самым печальным образом отразилась на деятельности суда. Никогда еще со времени введения Судебных уставов 1864 года судебные установления не падали так низко в общественном мнении. И. В. Гессен считал, что при нем «вплоть до Сената судебные учреждения насквозь пропитались угодливостью, разлагающей все устои правосудия». И еще одно, более жесткое его высказывание: «Суд превращен в капище беззакония». Ярким примером тому служит связанное с именем Щегловитова одиозное дело Бейлиса, который в конце концов оказался оправданным, несмотря на все подлоги и подтасовки.
В июле 1915 года, под давлением демократических кругов, император вынужден был отправить слывшего «безнадежным реакционером» И. Г. Щегловитова в отставку с поста министра юстиции, однако сохранил ему остальные должности. Но за этим последовал неожиданный взлет. В декабре 1916 года его вдруг приглашает Николай II и предлагает ему должность председателя Государственного совета. Указ об этом назначении опубликован 1 января 1917 года. Одновременно с этим назначением он получил и орден Святого Александра Невского.
Сведений о личной жизни Щегловитова сохранилось мало. Лишь отдельные крупицы, разбросанные по разным воспоминаниям, позволяют нарисовать более или менее целостный портрет российского министра юстиции.
Иван Григорьевич был женат три раза. Первой его женой была княжна Оболенская. От этого брака у него был сын Константин, родившийся в 1884 году, и дочь София. Вторично он женился на дочери действительного статского советника Детерихса, Елене Константиновне. В 1895 году у них родилась дочь Анна. Третьей супругой Щегловитова стала вдова статс-секретаря С. А. Тецнера, Мария Федоровна, урожденная Куличенко. Родившаяся от этого брака дочь Мария умерла в младенчестве.
По словам современников, Щегловитов познакомился с Марией Федоровной случайно, во время личного приема. Она пришла к нему хлопотать за своего брата-революционера, арестованного по какому-то делу в Харькове. До женитьбы Иван Григорьевич был «в домашнем обиходе под башмаком своей матери, своевольной и скупой старухи». Мария Федоровна вполне заменила ее в роли «домашнего цербера». Женщина умная и тщеславная, она имела огромное влияние на Ивана Григорьевича. Ходили слухи, что она рассматривала даже бумаги, поступавшие в Министерство юстиции, и делала на них для мужа пометки, ставя крестики, когда дело, по ее мнению, подлежало решить в положительном смысле, и нолики – в отрицательном.
Министр юстиции Щегловитов, при всех своих недостатках, был все же человеком доступным и общительным. Он не кичился своими званиями и чинами и мог, например, в самый разгар бала запросто чуть ли не на час увлечься оживленной беседой о литературе и искусстве с малознакомым ему пятнадцатилетним пареньком, пришедшим с родителями. Все сослуживцы знали, что Щегловитов не любит никаких ходатайств, особенно по политическим делам, неохотно их выслушивает и почти никогда не исполняет. «Холодный и жестокий, этот вечно улыбающийся и готовый улыбаться высокий старик с розовыми щечками неизменно отвергал все «протекции» о помиловании или снисхождении», – писал о нем мемуарист Крыжицкий. Однако и у него были уязвимые места. Как «большой ухажер и галантный кавалер» он не мог устоять перед просьбой какой-нибудь эффектной женщины. К тому же он был страстным театралом, чем тоже иногда пользовались знавшие его лица.
Однажды произошел такой случай. Известный драматург, театровед и врач Евгений Михайлович Беспятов в бытность свою студентом участвовал в политических выступлениях, за что прослыл неблагонадежным и угодил под следствие. Дело почему-то застопорилось на долгие годы. За это время он успел окончить Военно-медицинскую академию, поступить на службу в Главное военно-медицинское управление и даже получить орден. Но вдруг дело возобновили, и для Беспятова это могло обернуться заключением в крепость на срок до семи лет. врученный такой перспективой, он бросился по своим знакомым, пытаясь найти выход на самого министра юстиции. Мать Крыжицкого, который и описал этот случай, была хорошо знакома с женой Щегловитова, Марией Федоровной. Беспятов попросил ее похлопотать за него. Зная, что шансов на успех мало, решили пойти на хитрость. Беспятов был неплохой драматург, его пьесы шли в театрах, а одна из них, «Вольные каменщики» (о русских масонах), особенно понравилась Щегловитову. Этим и решили воспользоваться. В письме на имя министра юстиции мать Крыжицкого просила принять молодого автора и переговорить с ним лично о его деле. Щегловитов не мог отказать подруге своей жены и согласился. Здесь «заговорщики» решили, что на прием к министру идти лучше не самому Беспятову, а его жене, молодой и очень красивой женщине. Успех превзошел все ожидания – Щегловитов не только любезно принял интересную просительницу, но даже наговорил ей массу комплиментов и пообещал быстро уладить дело. Через несколько дней на поданной на высочайшее имя просьбе о помиловании рукой государя было написано: «Дело прекратить».
Февральская революция застала председателя Государственного совета И. Г. Щегловитова врасплох. Он был арестован одним из первых. Иван Григорьевич не пытался ни сопротивляться, ни скрыться, а сразу же беспрекословно подчинился победителям. Арест происходил так. В первый же день революции, днем, на квартиру Щегловитова заявился никому не известный студент, типичный представитель выплеснутой на улицу революционной массы, который привел с собой нескольких вооруженных людей. От имени революционного народа он объявил Щегловитова арестованным. Его вывели на улицу в чем захватили – в одном сюртуке, не дав даже накинуть пальто или шубу, хотя мороз на улице был изрядный. Так и провели без одежды до здания Государственной думы, по привычному маршруту.
Щегловитова ввели в Екатерининский зал. Там, сконфуженный и растерянный, красный от холода, а возможно, и от волнения, высокий ростом, он был похож на затравленного зверя. Ему предложили стул, он сел. Кто-то дал папиросу, он закурил. Находившиеся в зале люди с любопытством разглядывали некогда грозного министра юстиции и руководителя царской прокуратуры, но теперь он никому не был страшен. В это время появился председатель Государственной думы Родзянко, только что возглавивший так называемый Временный комитет Думы. Он приветливо обратился к Щегловитову, обнял за талию и предложил пройти в свой кабинет, но арестовавшие Щегловитова люди запротестовали, сказав, что не отпустят его без приказа А. Ф. Керенского. Тот вскоре появился в Таврическом дворце. Вот как описывает дальнейшие события А. А. Демьянов: «Удивительный контраст представляли собой встретившиеся Щегловитов и Керенский. Первый высокий, плотный, седой и красный, а второй видом совершенно юноша, тоненький, безусый и бледный. Керенский подошел и сказал Щегловитову, что он арестован революционной властью. Впервые тогда было сказано это слово, сказано, что существует революционная власть и что приходится с этой властью считаться и даже ей подчиняться».
Это были последние минуты Щегловитова на свободе. Вместе с другими арестованными высшими царскими сановниками его поместили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Временным правительством, предъявила ему обвинения в злоупотреблении служебным положением, превышении власти и других преступлениях. Октябрьские события существенно не повлияли на его судьбу – он остался в заключении, но его перевезли в Москву и поместили в Бутырскую тюрьму.
5 сентября 1918 года по приговору Верховного революционного трибунала Иван Григорьевич Щегловитов был расстрелян.
Павел Александрович Александров (1866–1940)
Мастер-криминалист и большевики-шпионы
Павел Александрович Александров родился в 1866 году в Петербурге, в мещанской семье. В 1890 году способный юноша окончил юридический факультет Петербургского университета. Дальнейшая профессиональная деятельность Александрова складывалась обычно – она началась с должности участкового судебного следователя, на которой он проработал пятнадцать лет с небольшим перерывом – в 1895 году Павел Александров недолго исполнял обязанности прокурора Митавского окружного суда. Затем он снова вернулся на следственную работу, в которой достиг большого мастерства. С 1897 года он служит в Петербургском окружном суде – сначала следователем, с 1909 года следователем по важнейшим делам, с 1916-го остается следователем по особо важным делам, только суд теперь уже называется Петроградским.
Будучи квалифицированным криминалистом, Павел Александров расследовал самые сенсационные преступления конца XIX – начала XX века, получившие широкое освещение в русских газетах.
Одним из них было громкое дело об отравлении Д. П. Бутурлина широко известным в дореволюционной России доктором Панченко, практиковавшим распространение и использование средства, известного под названием «Спермин Пеля». Панченко под видом «Спермина Пеля» ввел больному дифтерийную культуру и убил его дифтеритом. Преступление было разоблачено совершенно случайно. Если бы не признание доктора Панченко, то убийство Бутурлина, вероятно, не было бы раскрыто.
Еще одним громким делом было дело об убийстве артистки Марианны Тиме. Два молодых человека познакомились с ней в иллюзионе и убили ее, чтобы ограбить. Это убийство бурно обсуждалось в русской периодике – к примеру, фельетонист «Синего журнала» негодовал: «Злодеев доброго старого времени сменили изящные великосветские денди. С хорошими манерами, с недурными связями». Автор азартно живописал, как двадцатипятилетние преступники хладнокровно составили и реализовали план обольщения и убийства своей сорокалетней знакомой. Убийц ждало разочарование. Они не нашли у Тиме денег, только сорвали с руки кольцо.
Вскоре их арестовали. Статья «Люди хорошего тона» была опубликована в феврале 1913 года, а месяц спустя по российским синематографам уже шел фильм «Великосветские бандиты» – «уголовно-сенсационная драма», как значилось на афишах.
Александров участвовал и в расследовании дела авантюристки Ольги Штейн, муж которой, генерал Штейн, имел связи в высшем обществе, особенно близкие – с главой Синода Победоносцевым. В 1902 году Ольга поместила в газете объявление о том, что коммерческой компании требуются управляющие. Для поступления на доходную должность нужно было внести крупный залог. Наивных простаков оказалось немало. Им были обещаны места на «золотых приисках в Сибири», жалованье и хороший процент от прибыли. Обманутые спохватились не скоро, к тому же они были запуганы влиятельными связями Ольги, никто из них не обратился к прокурору. И все же правда выплыла наружу. Ольга была арестована, и в декабре 1907 года начался судебный процесс. Мошеннице грозила Сибирь, но у нее неожиданно нашелся покровитель – депутат Государственной думы, который помог ей бежать за границу. Ее объявили в международный розыск. Много лет она успешно скрывалась от правосудия. Тем временем в России произошла революция. Наконец полиция арестовала ее… в США. В кандалах Ольгу привезли в уже послереволюционный Петроград, где в январе 1920 года революционный трибунал приговорил Ольгу Штейн к бессрочным исправительным работам.
Александров также расследовал дело о покушении на жизнь премьер-министра С. Ю. Витте. Это покушение вызвало большой резонанс. Витте, в свое время ратовавший за террористические методы борьбы с революционерами, сам стал объектом охоты со стороны правых террористов. По своеобразной логике черносотенцев, именно Витте был одним из тайных вождей российской революции. При покушении на экс-премьера черносотенцы полностью изменили тактику – было решено осуществить террористический акт чужими руками. Организацией покушения занимался черносотенец А. Е. Казанцев, которому удалось ввести в заблуждение двух молодых людей – В. Д. Федорова и А. С. Степанова, считавших, что они выполняют задание эсеров-максималистов. 29 января 1907 года они подложили мощные бомбы в дом Витте, однако взрыва не произошло. В мае 1907 года во время подготовки второго покушения на Витте Федоров, заподозривший обман, убил Казанцева. Более того, разоблачения Федорова стали известны всей России.
За несколько месяцев до этого Витте потребовал от властей провести расследование в отношении председателя Главного совета «Союза русского народа» А. И. Дубровина. Власти сделали все возможное, чтобы остановить скандальные разоблачения. Вопрос о причастности руководства «Союза русского народа» к покушению на Витте остался открытым. Гораздо более явственно прослеживалась причастность к этому покушению секретных агентов политической полиции. Александров скрупулезно работал над этой версией, чем вызвал недовольство властей.
Александров занимался расследованиями и других известных преступлений, сообщения о которых не сходили с газетных страниц, – дела Орлова-Давыдова и артистки Пуаре, педагога-развратника Дюлу (воспитателя детей великих князей), участвовал в следствии по делу о гибели сына адмирала Кроша.
Февральскую революцию Павел Александрович встретил в должности судебного следователя по особо важным делам Петроградского окружного суда. Впоследствии он вспоминал: «Февральская революция, как это ни покажется странным, не произвела кардинального переворота в судебном мире и его воззрениях. Монархия и ее руководители сделали все, от них зависящее, чтобы исключить в нас всякое сожаление об их уходе и облегчить нам тяжелый переход от службы одному строю к такой же добросовестной службе другому. Временное правительство в этом отношении получило солидное наследство – вполне налаженный технический аппарат, готовый работать в направлении нового строя, тогда казавшегося единственно и исключительно правильным. Общественное мнение создавалось сильной прессой, лозунги брались, в общих чертах, нам знакомые и привычные. И мы работали в большей своей части не за страх, а за совесть, не заглядывая глубже в создавшуюся ситуацию, да вряд ли способны были в то время разобраться в ней – в то бурное время. Оговариваюсь, что я говорю сейчас о судебном мире, к которому я принадлежал и переживания которого мне хорошо известны… Мы знали наши законы, применение их, но не входили в оценку политической обстановки и ценности того или другого лозунга. Мы не считали даже себя вправе входить в такую оценку, поскольку это касалось нашей служебной деятельности. Да и по своему существу противники Временного правительства с их политическими лозунгами… не вызывали особой симпатии… Вот почему июльское выступление в Петрограде не вызвало и не могло вызвать сочувствие того круга, к которому принадлежал я, – круга петербургского чиновничества, привыкшего отгонять от себя углубление в серьезные политические вопросы, предпочитавшего в этих вопросах идти «по шаблону общественного мнения» и интересовавшегося прежде всего своей непосредственной службой».
После Февральской революции 1917 года П. А. Александров был откомандирован в Чрезвычайную следственную комиссию, производил расследование деятельности «Союза русского народа», занимался рассмотрением дел И. Ф. Манасевича-Мануйлова, С. П. Белецкого, А. Д. Протопопова и других.
В июле 1917 года он был направлен в следственную комиссию по представлению министра юстиции Переверзева, проводившую предварительное расследование июльских событий. Комиссию возглавлял прокурор П. С. Каринский, позже его заменил прокурор Карчевский. Товарищи прокурора судебной палаты Репнинский, Пенский, Поволоцкий, Моложавый и Попов наблюдали за следствием. В следственную часть вошли судебные следователи по особо важным делам Петроградского окружного суда Александров и Бокитько, по важнейшим делам – Сергеевский и Сцепура, а также участковые судебные следователи Можанский и Фридриберг.
Общее руководство следствием осуществляли генерал-прокуроры – сначала И. Н. Ефремов (практически переложивший свои полномочия на своего заместителя Г. Д. Скарятина), потом А. С. Зарудный, а после него – П. Н. Малянтович. Наиболее интенсивный период следствия совпал со временем руководства Зарудного.
Вскоре, благодаря своему уму и опыту, П. А. Александров занял в этой комиссии ведущее положение, и именно ему было поручено заняться расследованием по делу В. И. Ленина.
Уже при Советской власти, давая показания по этому делу, он объяснил причины, заставившие его взяться за расследование: «Я не имел и мысли отказаться от выполнения поручения, как равно не было отказа со стороны прочих лиц, назначенных в состав комиссии. Для того чтобы такой отказ мог иметь место, было необходимо твердое убеждение, что деятельность Временного правительства вредна для России, что партия большевиков способна вывести нас из того тупика, в который мы попали, что мы вообще находимся в тупике, что внутренние волнения не повредят нашему внешнему положению и т. д.».
Кроме того, на допросе он заявил, что «материалы дознания давали следователю данные о виновности руководителей партии большевиков в государственной измене и шпионаже, получении от Германии будто бы крупных денежных сумм, между прочим и на издание газеты «Правда». Следователь не может пройти мимо таких показаний, не зафиксировав их, не может и не имеет права обсуждать вопрос об их правдоподобности или неправдоподобности в момент дачи свидетелем показания».
Вот выдержки из некоторых следственных документов: «На основании изложенных данных Владимир Ульянов (Ленин), Овсей Герш Аронов Апфельбаум (Зиновьев), Александра Михайловна Коллонтай, Мечислав Юльевич Козловский, Евгения Маврикиевна Суменсон, Гельфанд (Парвус), Яков Фюрстенберг (Куба Ганецкий), мичман Ильин (Раскольников), прапорщик Семашко и Рошаль обвиняются в том, что в 1917 году, являясь русскими гражданами, по предварительному между собой уговору, в целях способствования находящимся в войне с Россией государствам во враждебных против нее действиях, вошли с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла для ослабления боевой способности армии, для чего на полученные от этих государств денежные средства организовали пропаганду среди населения и войск с призывом к немедленному отказу от военных против неприятеля действий, а также в тех же целях в период времени с 3 по 5 июля организовали в Петрограде вооруженное восстание против существующей в государстве верховной власти, сопровождавшееся целым рядом убийств и насилий и попытками к аресту некоторых членов Правительства, последствием каковых действий явился отказ некоторых частей от исполнения приказаний командного состава и самовольное оставление позиций, чем способствовали успеху неприятельских армий».
Предполагалось, что агент-пропагандист Ульянов (Ленин) давно был привлечен к сотрудничеству немецко-австрийской властью в борьбе с Россией. Через три месяца после начала войны возникла его связь с австрийским штабом, и он, будучи задержан как русский гражданин, получил не только свободу, но и покровительство и в этом же году уехал в Швейцарию. Именно этим периодом деятельности Ленина занимался следователь Александров. Сведений об этом процессе сохранилось мало, однако Керенский позже свидетельствовал: «Как лицо, которому принадлежала в те дни власть в самом широком ее масштабе и применении, я скажу, что роль немцев не была так проста, как она казалась, может быть, даже судебному следователю Александрову, производившему предварительное следствие о событиях в июле месяце 1917 года. Они работали одновременно и на фронте, и в тылу, координируя свои действия. Обратите внимание: на фронте – наступление, в тылу – восстание. Я сам был тогда на фронте, был в этом наступлении. Вот что тогда было обнаружено. В Вильне немецкий штаб издавал тогда для наших солдат большевистские газеты на русском языке и распространял их по фронту. Во время наступления, приблизительно 2–4 июля, в газете «Товарищ», издаваемой в Вильне немцами и вышедшей приблизительно в конце июня, сообщалось как о уже случившемся факте о первом выступлении Ленина в Петрограде, которое случилось позднее. Так немцы в согласии с большевиками и через них воевали с Россией…»
Главным свидетелем обвинения считался некий прапорщик 16-го сибирского стрелкового полка Д. С. Ермоленко, попавший в плен и переброшенный немцами в апреле 1917 года в тыл 4-й армии, где он и был задержан. По его словам, он был завербован немцами и переброшен в Россию для проведения агитации с целью смены Временного правительства, отделения Украины от России и наискорейшего заключения мира с Германией. Ермоленко под присягой и в присутствии прокурора дал показания о передаче немцами денег большевикам и лично В. И. Ленину.
Обвинительный материал пополнялся также за счет показаний Алексинского, Мартова, начальника контрразведки штаба Медведева, бывших директора департамента полиции Белецкого и главнокомандующего русской армией Алексеева, а также некоторых других лиц, враждебно настроенных к большевикам. Но вскоре выяснилось, что их показания не подтверждаются другими объективными доказательствами. «Взвешивая и анализируя добытые мною и моими товарищами данные, – говорил позднее П. А. Александров, – я начал приходить к выводу, что вообще следствие не подтверждает указаний актов дознания, что, следовательно, указания эти ложны и что поэтому виновность лиц, привлеченных по делу, не установлена. Особенно некоторые части обвинения, выдвинутые дознанием, нам удалось определенно и категорично опровергнуть следствием».
Однако из Министерства юстиции продолжали усиленно давить на следователей, требуя скорейшего ареста В. И. Ленина, который был «центральной и крупной фигурой следствия». П. А. Александров считал, что результаты следствия не дают оснований для ареста вождя большевиков, и поэтому отказался пойти на этот шаг. Тогда Керенский лично дал указание о допросе Ленина. Александров вынужден был выдать полиции предписание о приводе Ленина для допроса, твердо решив не арестовывать его, о чем поставил в известносгь прокурора судебной палаты. Однако постановление следователя выполнено не было.
Генерал-прокурор А. С. Зарудный постоянно интересовался ходом расследования. После своего назначения он потребовал от Александрова предоставить ему материалы, но через несколько дней вернул их, так и не дав никаких письменных указаний, в каком направлении продолжать работу. Впрочем, у них произошло одно серьезное столкновение – по делу А. Б. Каменева. Во время следствия из контрразведки поступил дополнительный материал о виновности Каменева в государственной измене, но Александров считал, что бессмысленно привлекать человека в качестве обвиняемого по делу, которое вот-вот будет прекращено. Однако Зарудный заявил, что «надо быть последовательным и если привлечены Троцкий и другие, то должен быть привлечен и Каменев». Александров возразил, что «лучше быть непоследовательным в правде, чем последовательным в неправде», Зарудный не стал настаивать, но передал это дело следователю Сергеевскому, однако и тот не предъявил обвинения, после чего Каменева освободили.
К августу 1917 года стало ясно, что пока доказательств собрано мало и дело не имеет никакой судебной перспективы, к тому же на комиссию оказывалось давление со стороны Советов, но А. С. Зарудный не соглашался на его прекращение. Тогда Александров начал изменять меру пресечения обвиняемым. В августе он вынес постановление об освобождении А. В. Луначарского под залог в пять тысяч рублей, а позже снизил сумму до трех тысяч. При освобождении Коллонтай следователь также проявил гуманность и посоветовал хлопочущей за нее Шадурской, у которой не хватало денег, купить ренту, курс которой был тогда на 30 процентов ниже номинала, и принял эту ренту по номиналу, снизив тем самым сумму залога.
Позже были освобождены Троцкий, Раскольников и другие большевики. Кроме залога, освобожденные давали еще и подписки о невыезде из города, однако Коллонтай была выслана в административном порядке. Узнав о подобном бесцеремонном вмешательстве полицейских властей в следственное дело, Александров возмутился. Он писал: «Эта практика явилась новой и вряд ли допустимой даже по сравнению с дореволюционным отношением административных органов к судебному ведомству». Он подал жалобу А. С. Зарудному, но безрезультатно.
Вскоре после этого П. А. Александров был вынужден оставить работу в комиссии – его направили в Пятигорск, поручив заняться делом о попытке освобождения царя. Это произошло незадолго до Октябрьской революции. 17 октября 1917 года Александров допросил своего последнего свидетеля – Алексеева. Дело в отношении большевиков так и не было завершено.
После Октябрьской революции Павел Александрович занимал последовательно ряд довольно скромных должностей в советских учреждениях: сначала был управляющим контрольно-ревизионным отделом по топливу в Петрограде, потом заведовал общей канцелярией Главного управления принудительных и общественных работ в Москве, был делопроизводителем, заведующим хозяйством и казначеем в воинской части в Уфе, юрисконсультом торгово-промышленной конторы и конторы «Главсахар», успел поработать и в некоторых других местах, однако старался особо не быть на виду.
Но участие Александрова в расследовании дела об июльских событиях 1917 года все же сыграло роковую роль в судьбе бывшего следователя по особо важным делам. Первый раз он был арестован 21 октября 1918 года и пробыл в заключении два года, вторично его арестовали уже через двадцать лет – 18 января 1939 года, в нарушение постановления Президиума ЦИК СССР от 2 ноября 1927 года «Об амнистии в ознаменование 10-летия Октябрьской революции». Следствие велось довольно долго и предвзято. Дело П. А. Александрова было заслушано 16 июля 1940 года на закрытом заседании Военной коллегии Верховного суда СССР. Он был признан виновным в том, что «искусственно создал провокационное дело по обвинению В. И. Ленина и других руководителей партии большевиков о так называемом шпионаже в пользу Германии и государственной измене в связи с июльскими событиями 1917 года в Петрограде». В тот же день Александров был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
Данных о дате казни в деле нет, но обычно такие приговоры исполнялись незамедлительно.
В ноябре 1993 года Павел Александрович был полностью реабилитирован.
Лев Иосифович Петражицкий (1867–1931)
«Что пользы в работе, когда все проиграно…»
Лев Иосифович Петражицкий происходил из польских дворян. Он родился 13 апреля 1867 года в местечке Коллонтаево Витебской губернии. Получив среднее образование, поступил на медицинский факультет Императорского унивеоситета Святого Владимиоа в Киеве, но вскоре перевелся на юридический, который блестяще окончил в 1890 году. Еще в студенческие годы увлекся римским правом и достиг в этой области больших успехов. Хотя, по признанию самого Петражицкого, сначала общая часть римского права ему казалась ненужной, слишком отвлеченной, даже бессмысленной. Но только потом, вчитываясь в другие, специальные части права, он понял смысл и значение его общих положений, понял всю стройность и логичность этого древнейшего классического права. И ему самому захотелось перевести с немецкого одну из наиболее интересных работ профессора Ю. Барона «Система римского гражданского права», что он и сделал. Причем перевод был выполнен настолько профессионально, что книга, вышедшая в Киеве в 1888 году, в течение нескольких лет рекомендовалась студентам в качестве учебного пособия.
Студент Петражицкий, подающий большие надежды и склонный к наукам, после окончания университета был командирован в русскую семинарию в Берлине. За два года обучения он не только углубил свои познания в области римского и гражданского права, но и опубликовал на немецком языке две монографии, в одной из которых подверг критике проект нового Гражданского уложения Германии, что вызвало негативное отношение к нему со стороны части научной общественности. В своих работах Петражицкий, по его словам, предпринял попытку доказать «возможность и необходимость создания науки политики права» и выработать основные посылки и научный метод для «решения вопросов законодательной политики».
Вернувшись из-за границы, Петражицкий некоторое время преподавал в Императорском училище правоведения, а после защиты магистерской диссертации стал читать лекции в Санкт-Петербургском университете в качестве приват-доцента. В 1898 году он защитил докторскую диссертацию по римскому праву и был избран профессором юридического факультета университета. Вскоре он становится здесь заведующим кафедрой энциклопедии и философии права. Длительное время он возглавлял в университете кружок философии права. Здесь Лев Иосифович оставался вплоть до 1917 года.
А. И. Петражицкий приобрел широкую известность своими трудами по гражданскому праву. В 1900 году он опубликовал большой труд «Право добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права» (переиздано кафедрой гражданского права юридического факультета Московского государственного университета и издательством «Статут» в 2002 году). В этой работе один из исследователей творчества Петражицкого, профессор Д. Д. Гримм, отмечал, с одной стороны, богатство идейного содержания, смелое новаторство на почве большой эрудиции, острую и тонкую критику, живую научную интуицию ученого, а с другой – избыток полемического задора, глубокую, даже «прямо фантастическую веру в непогрешимость собственных взглядов, идущих рука об руку с несколько заносчивым тоном по отношению к его предшественникам и вообще всем несогласно мыслящим». Другой рецензент, профессор Г. Ф. Шершеневич, также писал, что в книге Петражицкого «оригинальная мысль бьет ключом и пробивает себе новые пути, останавливая невольно внимание читателя, согласного или несогласного. Нельзя не благодарить автора за то, что он выдвинул забытые вопросы политики права, нельзя не поражаться обширностью его знаний юридических и экономических и умению связывать их в одно целое».
И действительно, в книге Петражицкого «полемического задора» было много. Он, например, утверждал: «Науки цивильной политики еще до сих пор нет, и о постановке развития гражданского права на почву научной, систематической и методической разработки может быть речь лишь относительно будущего, а не прошедшего или настоящего времени». «Что же такое теперешние гражданские уложения, как они делаются, продуктом каких психических процессов они являются?» – вопрошал он. И сам же отвечал: «Главнейшая и весьма преобладающая масса юридического материала, заключающегося в новых гражданских уложениях, представляет продукт подражания, копирования и компилирования, но без изучения цивильно-политического значения оригинала. Основным оригиналом для копирования является римское право». В этом, по мнению автора, заключается «причина и источник массы цивильно-политических промахов в новых гражданских уложениях».
В сентябре 1905 года Петражицкого избрали деканом юридического факультета университета, но спустя год на его место был поставлен профессор Д. Д. Гримм. В начале 1900 года из печати вышли такие значительные работы А. И. Петражицкого, как «Очерки философии права», «Введение в изучение права и нравственности», «Университетская наука», «Основы эмоциональной психологии», «Теория права и государства в связи с теорией нравственности» и др. В своих работах ученый выступал с новой, так называемой психологической (эмоциональной) теорией права. Суть его теории «эмоционального мира человечества» сводилась к признанию особой важности и значимости как непосредственных, так и опосредованных психических реакций и переживаний личности, которые, со своей стороны, влияют на человеческое поведение. Социальный и политический прогресс он связывал с изменениями в психике людей, с преодолением ими неких «антисоциальных склонностей», а для этого предлагал свои рецепты по «общей и политической социализации личности», которые он называл «политикой права». Современники считали, что теория Петражицкого оказала известное влияние на общепринятые в то время представления о праве. По отзывам современников, лекции и семинарские занятия Петражицкого, особенно по философии права, были настолько неотразимыми и захватывающими, что становились для студентов своеобразным отправным пунктом в становлении их взглядов на общество и государство. Не случайно он стал кумиром будущего премьер-министра России А. Ф. Керенского.
Лев Иосифович никогда не замыкался в узких рамках научных исследований и преподавательской деятельности. Он принимал самое непосредственное участие в политической жизни страны. В октябре 1905 года на Учредительном съезде конституционно-демократической партии (кадетов) он вошел в ее центральный комитет. Как представитель этой партии баллотировался и был избран от Санкт-Петербурга в Первую Государственную думу, открытие которой состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце. Первая Дума просуществовала немногим более двух месяцев и 8 июля была распущена. И все же Петражицкому удалось выступить с ее трибуны – 7 июля, в последний день ее работы, он произнес страстную речь о равноправии женщин. Вскоре представители оппозиционных партий собрались на свое заседание в Выборге, где приняли воззвание, призывавшее население, в знак протеста против закрытия Думы, к «пассивному сопротивлению». Это закончилось для всех депутатов арестом. Отбыв трехмесячное тюремное заключение, А. И. Петражицкий вернулся к своим научным занятиям, которые продолжал до Октябрьской революции. В 1919 году он поселился в Варшаве, где получил кафедру и стал читать лекции по социологии на юридическом факультете местного университета. Однако работ своих уже не публиковал. «Что пользы в работе, когда все проиграно», – сказал он как-то своему приятелю Г. К. Гинсу.
Ученик Петражицкого Р. Вандхейлер в течение нескольких лет записывал лекции профессора по социологии. Когда он затем показал своему учителю собранные материалы, Лев Иосифович тщательно переработал текст, внес в него исправления и дополнения. Рукопись «Социологии» была направлена в одно из издательств и готовилась к печати, но неожиданно Петражицкий забрал ее назад.
По словам хорошо знавших Петражицкого людей, он очень тяжело переживал «русскую катастрофу» и никак не мог примириться с ней. Еще более его удручало отношение к России со стороны «глупого и злого человечества», как он сам писал незадолго до смерти известному адвокату и политическому деятелю О. О. Грузенбергу.
Лев Иосифович Петражицкий умер 15 мая 1931 года в Варшаве.
Во время Второй мировой войны, когда Варшава была полностью разрушена, пропал весь архив Петражицкого, в том числе и рукопись его последней книги «Социология».
Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957)
«Хотя это и подлое правительство, но это все-таки русское правительство…»
Новый посол России, видный русский присяжный поверенный и общественный деятель, прибыл в Париж 26 октября 1917 года. В тот же день он отправился в Министерство иностранных дел Франции вручать верительные грамоты министру Луи Барту и только здесь узнал, что в России произошел переворот, а министр иностранных дел Временного правительства М. И. Терещенко, подписавший его верительные грамоты, сидит в Петропавловской крепости. Так он стал послом несуществующего правительства.
Родился Василий Алексеевич Маклаков 10 мая 1869 года в Москве, в семье преуспевающего врача-окулиста, впоследствии профессора медицинского факультета и главного врача глазной клиники Московского университета. Он рано потерял мать и с шестнадцатилетнего возраста воспитывался мачехой, Лидией Филипповной, известной писательницей, выпускавшей свои произведения под псевдонимом Л. Нелидова. Василий учился в 5-й Московской гимназии, которую окончил с серебряной медалью, потом поступил на естественный факультет Московского университета. После трех курсов обучения он был арестован за участие в студенческих беспорядках и исключен министром народного просвещения «по политической неблагонадежности» без права поступления в другое учебное заведение. Однако по ходатайству попечителя Московского учебного округа вскоре был вновь принят в университет «на его личную ответственность» и перешел на историко-филологический факультет. Когда он в 1894 году окончил университет, ему было предложено остаться при кафедре истории для подготовки к профессорскому званию (известный историк П. Г. Виноградов прочил ему научную карьеру), но этому воспротивился тогдашний попечитель университета Н. И. Боголепов. Тогда Маклаков самостоятельно освоил курс юридического факультета и сдал экстерном государственный экзамен, получив степень кандидата права.
В 1886 году Маклаков поступил в адвокатуру в качестве помощника присяжного поверенного, сначала А. Р. Ледницкого, а затем Ф. Н. Плевако, и после пятилетней адвокатской стажировки вступил в сословие присяжных поверенных округа Московской судебной палаты.
В адвокатской среде Маклаков выделялся своими способностями, умом, находчивостью и добросовестным отношением к делам, за ведение которых брался. Он умел в своих речах сосредоточить внимание слушателей на сути вопроса, строил свои доводы на почве законности и справедливости и делал всегда строго обоснованные выводы, поэтому быстро выдвинулся в число лучших московских адвокатов. Василий Алексеевич вел многие громкие уголовные и политические дела. Хорошо знавший его журналист и общественный деятель И. В. Гессен писал: «Речи Маклакова являются прекраснейшим образцом русского ораторского искусства. Голос не обнаруживает ни малейшего напряжения, и речь, отличающаяся изящной простотой и искренностью, несется с такой стремительностью, что кажется, будто оратор сам не в силах справиться с клокочущим потоком аргументов, и это держит слушателя в состоянии напряженного внимания и сочувствия».
В 1903 году Маклаков вступил в кружок защитников по политическим делам, организованный группой московских адвокатов. В 1905-м он стал одним из организаторов Союза адвокатов.
Круг общения его не ограничивался профессиональным. Его мачеха, писательница А. Нелидова, устраивала литературные вечера, где он часто встречался с А. П. Чеховым, М. Горьким, К. А. Тимирязевым и другими прогрессивными людьми России. Максим Горький говорил, что именно Маклаков послужил ему одним из прототипов главного героя романа «Жизнь Клима Самгина».
Маклаков выступал в делах о павловских сектантах, о Выборгском воззвании, на процессе известного большевика Н. Э. Баумана, в деле Бейлиса и многих других. С каждым годом росла его известность не только в столице, но и в провинции – основательные знания законов и адвокатский талант были полностью востребованы.
В 1904 году вместе со своим бывшим патроном Ф. Н. Плевако он выступал в Санкт-Петербургском окружном суде. Слушалось дело А. А. Стаховича против редактора газеты «Гражданин» князя В. П. Мещерского. Причем на этот раз оба адвоката являлись представителями «обвиняющей стороны». История началась с того, что камергер высочайшего двора Стахович, участвуя в качестве сословного представителя в заседании судебной палаты по делу об истязаниях, которым подвергся со стороны полиции некий Ибрагимов, написал по этому поводу статью. После нескольких безуспешных попыток напечатать ее сначала в местной прессе, а затем в «Санкт-Петербургских ведомостях» и газете «Право» он отложил ее в сторону. Однако спустя некоторое время статья без ведома автора появилась в заграничном органе «Освобождение», издававшемся П. Б. Струве. Вот по этому-то поводу князь В. П. Мещерский и поместил в своем «Гражданине» заметку – обвинял предводителя дворянства и камергера Стаховича в умышленном предании гласности событий пятилетней давности с целью «набросить тень на нынешнюю административную власть». Факт сотрудничества с оппозиционной печатью Мещерский назвал «оскорблением патриотизма, почти равным писанию сочувственных телеграмм японскому правительству» (тогда шла война с Японией) и заявил, что автору «плевать на все дворянство, избравшее его предводителем». В этом процессе Маклаков проявил себя наилучшим образом, блеснул своей речью и Плевако. В итоге суд признал Мещерского виновным в клевете, приговорив к двухнедельному аресту на гауптвахте. Приговор был встречен рукоплесканиями многочисленной публики. Правда, впоследствии судебная палата отменила его и оправдала князя.
Некоторые современники считали «ораторским шедевром» речь Маклакова в деле о Выборгском воззвании, когда в 1908 году под суд были отданы депутаты Первой Государственной думы, обратившиеся после ее роспуска с призывом к населению оказать гражданское неповиновение властям, а в знак протеста не платить налогов и отказаться от службы в армии.
Значителен его вклад и в оправдание Бейлиса, обвинявшегося в ритуальном убийстве мальчика. Дело казалось запутанным. Бейлис был предан суду дважды: в первый раз – в январе 1912 года, затем вторично, после доследования, – в мае 1913 года. Сам процесс начался 25 сентября 1913 года и продолжался пять недель. Дело слушалось Киевским окружным судом с участием присяжных заседателей. Защищали Бейлиса, как тогда считалось, «лучшие представители оппозиционно к правительству настроенной адвокатуры»: В. А. Маклаков, которого называли «наиболее блестящим оратором», знаменитый Н. П. Карабчевский и один из лучших «кассационных защитников», О. О. Грузенберг. По словам писателя В. Г. Короленко, присутствовавшего на процессе, состав присяжных заседателей по этому делу был «подобран тенденциозно», тем не менее адвокаты сумели найти к ним «ключи» и добиться оправдания подсудимого.
Маклаков активно участвовал в создании Конституционно-демократической партии (кадетов), был членом ее Центрального комитета и по партийным спискам трижды избирался в Государственную думу. Здесь он проявил себя как горячий сторонник законности и убежденный противник административного произвола. В своих многочисленных статьях и выступлениях этого периода высказывался против введения военно-полевых судов, ратовал за отмену смертной казни, настаивал на неприкосновенности личности. Заметно было его
участие и в думских комиссиях: редакционной, судебной, по запросам, по вероисповедным делам, по старообрядческим вопросам и некоторых других. Совместно с И. Я. Пергаментом он подготовил «Наказ» (регламент) Государственной думы, которым она неофициально руководствовалась в повседневной работе.
Выступления Маклакова в Государственной думе посвящались самым важным вопросам, его речи пользовались большим успехом и часто вызывали одобрение большинства. Один из московских друзей Маклакова, бывший городской голова Челноков, рассказывал, что накануне своих выступлений Василий Алексеевич обычно приходил к нему и перед ним, единственным слушателем, репетировал речь, с которой намеревался выступить в Думе, произнося ее с тем же темпераментом, как и с думской трибуны.
После его речи, произнесенной во Второй Думе 13 марта 1907 года и посвященной военно-полевым судам, Маклаков, по выражению его биографа Г. В. Адамовича, «проснулся знаменитым» – впечатление было потрясающим. Современники считали его «выдающимся мастером слова» и вспоминали, что он всегда умел в своих речах, произносимых замечательно искренне и талантливо, приходить к строго обоснованным выводам. Чаще всего Маклаков выражал взгляды конституционно-демократической фракции, но иногда проявлял самостоятельность и позволял себе некую партийную независимость – например, расходился с партийной программой по вопросу введения в России всеобщего избирательного права (считал эту меру преждевременной в связи с неграмотностью значительной части населения) или по аграрному вопросу (был противником принудительного отчуждения частновладельческих земель). Яркую речь, направленную против правительства, Маклаков произнес 3 ноября 1916 года, завершив ее словами: «Либо мы, либо они: вместе наша жизнь невозможна».
Когда в 1915 и 1916 годах так называемый Прогрессивный блок, включавший оппозиционные к правительству фракции Государственной думы, составил другое правительство, «теневое», Маклакову прочили в нем пост министра юстиции.
Большое общественное звучание имела статья Маклакова «Трагическое положение», опубликованная в «Русском вестнике» за 1915 год (№ 221). Эта статья распространялась по России в многочисленных копиях. В ней автор писал о «безумном шофере», который, не умея править, несется по горной дороге и «ведет к погибели вас и меня», но «цепко ухватился за руль» и не пускает людей, «которые умеют править». Намек был достаточно прозрачным.
Известно, что Маклаков одобрял убийство Г. Е. Распутина и даже был кем-то вроде «юридического советника» у одного из его исполнителей, Ф. Ф. Юсупова, но сам от участия в заговоре категорически отказался.
Февральскую революцию 1917 года В. А. Маклаков встретил с известной долей скептицизма, так как, будучи проницательным политиком, понимал, что события могут пойти по незапланированному сценарию. Тем не менее он все же принял предложение стать комиссаром в Министерстве юстиции. Впоследствии, когда министром юстиции был назначен А. Ф. Керенский, Маклакова избрали председателем Юридического совещания при Временном правительстве. Однако и этот «почетный» пост он переуступил министру юстиции, ограничившись ролью члена комиссии по выработке Положения о выборах в Учредительное собрание.
Прохладное отношение к новой власти со стороны Маклакова выразилось еще и в том, что от Февральской до Октябрьской революции этот пламенный оратор, не раз громивший правительство с думской трибуны, почти не произносил речей. Он появился на трибуне лишь в августе 1917 года на Московском государственном совещании, призывая всех к единению, и сказал тогда: «Ведь если возможно, что без соглашения тех сторон, на которые разбилась Россия, каким-то чудом какая-то сила спасет нашу родину, то без этого соглашения свободы уже не спасти».
В отличие от многих деятелей Временного правительства, уповавших на так называемое Учредительное собрание, Маклаков иронически заявлял, что для народа, большинство которого не умеет ни читать, ни писать, да еще и при избирательном праве для женщин наравне с мужчинами, Учредительное собрание явится фарсом. Он горько сожалел о том, что Временному правительству не дано было вовремя понять, какую поддержку ему могла бы оказать Государственная дума.
В первых числах октября 1917 года В. А. Маклаков неожиданно был назначен послом России во Франции. По этому поводу он впоследствии писал: «В самом начале революции в шутку я сказал Милюкову, что не желаю никаких должностей в России, но охотно бы принял должность консьержа по посольству в Париже. По-видимому, он шутку принял всерьез и стал что-то говорить о посольстве, но я замахал руками и разговор не продолжал. Позднее я узнал, что он сделал запрос обо мне без моего ведома; тогда же французское правительство выразило согласие».
Он выехал во Францию 11 октября 1917 года, а в Париже оказался на второй день Октябрьской революции. Естественно, этой революции он не принял. Уже через несколько дней после прибытия в Париж Маклаков отправил телеграммы другим российским послам – К. Д. Набокову в Лондон, М. Н. Гирсу в Рим и Б. А. Бахметьеву в Вашингтон, предложив выработать единую антибольшевистскую позицию. Более того, Маклаков принял на себя лидирующую роль в организации антибольшевистского движения, так называемого Белого дела.
Когда в начале декабря 1917 года нарком иностранных дел Советской России А. Д. Троцкий направил всем российским послам телеграммы с требованием подчиниться новой власти или уйти в отставку, грозя в противном случае рассматривать их отказ или молчание как тягчайшее государственное преступление, Маклаков на это просто не отреагировал.
До 1924 года, пока Франция официально не признала СССР, В. А. Маклаков проживал в посольском особняке в Париже на улице Гренелль, но затем вынужден был покинуть его. Тогда же он стал председателем эмигрантского комитета и главой «Офиса» по делам русских беженцев во Франции.
Василий Алексеевич внимательно следил за событиями в России, все еще надеясь, что свержение большевиков не за горами. В июне 1920 года он писал Б. А. Бахметьеву: «Рано или поздно большевизм сам себя съест и свалится; тогда настанет время перестраивать Россию, тогда у нас не будет недостатка в помощниках и прежде всего – в Америке, тогда на нас посыплются сотни миллиардов долларов, золота, товаров – и Россию ожидает невиданный расцвет. Пока же этого не сделается, будем сидеть спокойно, не волноваться, не терять национального и культурного знамени и поддерживать веру американцев в будущую Россию». Но надежды на быстрое свержение большевизма не оправдывались, и наступало некоторое прозрение. Уже в декабре 1920 года в письме тому же Бахметьеву можно прочитать такие строки: «Я вижу, что сейчас большевики, какие бы они ни были злодеи, одни сохраняют в России видимость государства и даже возвращают известный международный престиж; в конце концов ведь сбылось то, что Вы когда-то предсказали, – у одних большевиков во всей Европе сохранилась армия, и вот хотя это и подлое правительство, но это все-таки русское правительство и они служат русским интересам. И потому, ставя эту задачу выше всего, я, в худшем случае, просто перестаю подставлять им ножку, а в лучшем – начинаю говорить иностранцам: не смейте трогать большевиков, хотя они негодяи, но они все-таки – Россия».
Конечно, Маклаков ни в коей мере не мог смириться с большевиками и продолжал вести с ними борьбу, но для него всегда на первый план выступали именно интересы России, которую недоброжелатели рады были бы расчленить на «национальные куски». Он же видел Россию цельным, независимым и могучим государством.
В годы Второй мировой войны В. А. Маклаков занимал патриотическую позицию и поддерживал противников Германии, в результате был арестован нацистами и пробыл в тюрьме с апреля по июль 1942 года. Там, в заключении, он начал обдумывать свою книгу «Из воспоминаний», увидевшую свет в 1954 году.
Брат В. А. Маклакова Николай Алексеевич, гофмейстер двора его императорского величества, был министром внутренних дел и членом Государственного совета. Ему повезло меньше – он был расстрелян в сентябре 1918 года.
Василий Алексеевич Маклаков умер 15 июля 1957 года в Швейцарии.
Павел Николаевич Малянтович (1869–1940)
Телеграмма об аресте Ленина
Судьба уготовила Павлу Николаевичу Малянтовичу стать последним министром юстиции и генерал-прокурором дореволюционной России. Он родился в 1869 году в Витебске, в семье «личного дворянина». Его отец служил в частных и государственных организациях и одно время был ревизором городских сборов при Петербургском городском управлении.
Юноша рано начал помогать семье – в четырнадцать лет уже давал уроки. В восемнадцатилетнем возрасте Павел поступил на юридический факультет Московского университета, но закончить учебу ему не довелось. Как и многие студенты того времени, он проникся революционными идеями и сблизился с народниками, распространявшими нелегальную литературу. В 1889 году Малянтович был привлечен к дознанию по делу о распространении революционного журнала «Самоуправление», в следующем году оказался замешанным в деле «О преступном сообществе, имевшем целью революционную пропаганду и злоумышление против государя», возбужденном Смоленским жандармским управлением, что закончилось трехмесячным тюремным заключением. Понятно, что из Московского университета его в конце концов отчислили, и с 1891 года пришлось дослушивать курс юридических наук уже в Дергтгском университете. Но в 1893 году Малянтович все же получил диплом о высшем юридическом образовании, хотя возможности у молодого человека, замешанного в революционной борьбе, были ограничены.
13 ноября 1893 года Павел Николаевич стал помощником московского адвоката, а после положенной пятилетней стажировки вступил в сословие присяжных поверенных округа Московской судебной палаты. С юности связанный с революционным движением, Малянтович оказывал значительные услуги партии социал-демократов (преимущественно большевикам), а также партиям эсеров и кадетов. Тем не менее сам он ни в какую партию не вступал, а стоял от них в стороне – что, впрочем, не спасало его от постоянного надзора полиции.
В 1904–1905 годах Малянтович работал в лекторской и литературной группе партии социал-демократов и был тесно связан с И. И. Скворцовым-Степановым, Д. И. Курским, М. П. Покровским и другими ее лидерами.
В марте 1905 года вопреки запрещению правительства в Петербурге проходил Всероссийский съезд присяжных поверенных, в котором участвовал и Павел Николаевич. На съезде было принято решение об организации Союза русской адвокатуры, целью которого должна была стать пропаганда идей политической борьбы путем издания брошюр, чтения лекций и тому подобных акций. Адвокаты, представлявшие этот союз, чаще других выступали в политических процессах.
Малянтович довольно быстро выдвинулся в число лучших адвокатов столицы. За свою долгую адвокатскую деятельность он участвовал в сотнях процессов: политических, уголовных, гражданских. Во многих из них он добивался если не полного оправдания подсудимых, то смягчения им наказания. Он защищал крестьян, обвиненных в организации беспорядков в Харьковской и Полтавской губерниях, рабочих города Гусь-Хрустального Владимирской губернии, фабрики Морозова, Сормовского, Брянского, Коломенского заводов, политических подсудимых в Костромской губернии и области Войска Донского. Его страстные речи звучали на процессах первого Совета рабочих депутатов, Носаря-Хрусталева, Троцкого. Он защищал большевиков по делам о восстании на крейсере «Азов» в Москве, в так называемом неплюевском деле в Севастополе; армян, обвиненных в организации восстания в Эривани и Карсе; различных политических деятелей в процессах о печати (в частности, выступал по делу газеты партии социал-демократов «Борьба») – и это еще далеко не полный список.
Вот что рассказывала о Павле Николаевиче Е. И. Пешкова: «Я познакомилась с П. Н. Малянтовичем осенью 1902 года, когда мы жили в Нижнем и Алексей Максимович Горький организовывал защиту сормовичей, арестованных весной 1902 года. Среди них был П. А. Заломов, будущий прототип Павла Власова в романе М. Горького «Мать». В то время П. Н. Малянтович был членом группы политических защитников. К нему и к Н. К. Муравьеву, как двум виднейшим адвокатам этой группы, Алексей Максимович обратился с просьбой об организации защиты сормовичей, которая была ими блестяще проведена, и осужденные получили ссылку вместо каторги, которой мы опасались».
Современники высоко ценили профессиональную деятельность Павла Николаевича. Московский адвокат С. И. Барский вспоминал: «П. Н. Малянтович был широко известен как один из крупнейших политических защитников дореволюционной России. Демократическое направление всех мыслей, действий, стремлений Павла Николаевича никаких сомнений не вызывало и выражалось, в частности, в его смелых защитах политических обвиняемых перед царским судом. В доме П. Н. Малянтовича я часто бывал, встречал там многих его близких друзей, в том числе И. И. Сковорцова-Степанова, ставшего после Октябрьской революции редактором «Известий», знал о его дружеских отношениях с А. М. Горьким и А. Б. Красиным, бывавшими у него даже и после Октябрьской революции».
Малянтович успешно занимался и литературной деятельностью, постоянно публикуя статьи и заметки в газетах «Московский вестник», «Курьер», «Русские ведомости», «Право», «Борьба», «Правда» и других.
После Февральской революции 1917 года никакой официальной должности во Временном правительстве Павел Николаевич не занимал, продолжая свою адвокатскую деятельность. Однако 25 сентября 1917 года А. Ф. Керенский неожиданно предложил ему пост министра юстиции и генерал-прокурора. Малянтович занимал этот пост ровно месяц, пока Октябрьская революция «до основания» не разрушила старый строй и не уничтожила буржуазный суд и прокуратуру. Накануне переворота министр Малянтович по приказанию А. Ф. Керенского подписал телеграмму об аресте В. И. Ленина, не подозревая, что впоследствии это сыграет трагическую роль в его жизни. Но имеются сведения, что он сам же и предупредил В.И. Ленина о грозившей ему опасности.
25 октября (7 ноября) 1917 года П.Н. Малянтович вместе со всеми другими членами Временного правительства находился в Зимнем дворце. Позже он подробно описал, что происходило там перед захватом дворца большевиками: «В огромной мышеловке бродили, изредка сходясь все вместе или отдельными группами на короткие беседы, обреченные люди, одинокие, всеми оставленные… Вокруг нас была пустота, внутри нас пустота, и в ней вырастала бездумная решимость равнодушного безразличия…» Комиссар Временного правительства, публицист В.Б. Станкевич, так вспоминал последние часы перед переворотом: «Вообще в правительстве было желание проявить упорство и мужество. Кишкин и Коновалов памятны своим подъемом и непрерывным благородным жестом. Но более характерен для обстановки и исторического момента был Малянтович. Он ничего не говорил, а только слушал. Его глаза скорбно сияли. И было чрезвычайно ясно, что он прекрасно понимает все причины событий, ясно видит последствия, но отчетливо сознает безнадежность борьбы и страдает от неспособности не только сделать, но и вообще делать что-нибудь для предотвращения опасности…»
Все находившиеся в Зимнем дворце члены Временного правительства были арестованы и препровождены в Петропавловскую крепость. Через день Малянтовича и некоторых других министров-социалистов освободили. Встретившийся с Павлом Николаевичем в тот период бывший его заместитель по министерству А. А. Демьянов вспоминал, что он «производил впечатление развалины, но не с точки зрения физической, а в моральном отношении. Казалось, Малянтович уже ни во что не верил, на все глядел с мрачностью и недоверием, хуже всего было то, что свое пессимистическое настроение он применял там, где говорилось о необходимости действовать. Он как бы гасил тот огонь, который горел еще в умах и сердцах желавших бороться. Этим он в тот момент принес немало вреда».
После освобождения из крепости Малянтович вышел из партии меньшевиков, в которую вступил накануне своего назначения министром, и переехал в Москву, где почти двадцать пять лет назад начинал блестящую адвокатскую деятельность. По иронии судьбы теперь, когда ему было уже под пятьдесят лет, приходилось начинать все сначала. В Москве он встречался со своими бывшими товарищами, они вместе обсуждали, как жить дальше, поругивали большевиков. К этому времени у Павла Николаевича было уже четверо детей. Правда, старший сын, Николай, уже определился с выбором своего пути – собирался эмигрировать. Владимир и Георгий оставались с отцом. Самой младшей в семье была дочь Галли, ей едва исполнилось девять лет.
В начале августа 1918 года Малянтович отправился в Пятигорск – там проходила курс лечения его жена Анжелика Павловна. Здесь его застал переворот, совершенный Добровольческой армией. В октябре того же года он перебрался в Екатеринодар (ныне Краснодар), где жил до сентября 1921 года. При белогвардейцах он занимался исключительно консультационной юридической практикой – был товарищем юрисконсульта Общегородской больничной кассы. После освобождения города поступил на службу в Кубанско-Черноморский областной отдел народного образования, выполняя там обязанности секретаря комиссии по разбору дел несовершеннолетних.
С. Я. Маршак, живший в те годы в Краснодаре, вспоминал: «Малянтович был очень увлечен своим делом, работал горячо и много, и люди, окружавшие его, отзывались о нем и его работе в высшей степени положительно». По его мнению, Малянтович «производил впечатление человека серьезного, мыслящего, стоящего на платформе Советской власти совершенно искренне, с подлинным желанием работать и быть полезным народу».
21 сентября 1921 года по вызову наркома просвещения А. В. Луначарского и наркома юстиции Д. И. Курского Павел Николаевич вернулся в Москву. Здесь он служил юрисконсультом в Главлескоме Высшего совета народного хозяйства, а также в юридическом отделе Президиума ВСНХ, с октября 1923-го по февраль 1924 года работал юристом в Акционерном обществе «Транспорт». Уже тогда его пытались привлечь к уголовной ответственности за телеграмму об аресте В. И. Ленина и даже задержали, но вскоре освободили.
Малянтович стал одним из основателей советской адвокатуры, входил в ее руководящие органы и возглавлял Московскую коллегию защитников. Но в конце сентября 1930 года Павлу Николаевичу все же пришлось предстать перед Сокольнической районной комиссией по так называемой чистке соваппарата – теперь судьбу адвоката определяли не профессиональные качества, а «запятнанное» прошлое. С подачи комиссии Малянтович был включен в список «классово чуждых элементов», которые не могут проводить «правильную классовую линию». Надо сказать, что это испытание он выдержал с достоинством. Н. Я. Воробьев, долгое время друживший с сыном Малянтовича Георгием, приводит рассказ самого Павла Николаевича о «чистке». Придирались ко всему, даже к тому, что в 1921 году он вернулся в Москву. Объясняя комиссии причины своего возвращения, Малянтович оправдывался: «У меня было тогда три пути – я мог уехать за границу, я мог примкнуть к контрреволюционному движению на юге, и, наконец, я мог остаться в Советском Союзе.
Я не колеблясь выбрал последний путь. Мною руководило ясное сознание справедливости социалистической революции и желание отдать свой труд Родине».
Но и после «чистки» Малянтовича не оставили в покое. 13 декабря 1930 года его вновь арестовали органы ОГПУ. Павла Николаевича приговорили к десяти годам лишения свободы, вменив в вину принадлежность к центральному бюро меньшевистской организации. В связи с арестом исключили из коллегии защитников. Пять месяцев он провел в заключении, и только благодаря стараниям друзей, которые сразу же стали ходатайствовать за опального адвоката, подключив к этому делу А. И. Рыкова, А. М. Лежаву, А. А. Сольца и других видных большевиков, Малянтович 28 мая 1931 года был освобожден из тюрьмы, а в октябре того же года дело окончательно прекратили. 14 ноября 1931 года он восстановлен в членстве Московской городской коллегии защитников и снова допущен к адвокатской деятельности.
В течение нескольких лет Павел Николаевич имел возможность более или менее спокойно заниматься любимым делом. Он часто выступал в судах, вел общественную работу. Его жена Анжелика Павловна была уже тяжело больна, почти ослепла. Старший сын Николай проживал в Берлине, сыновья Владимир и Георгий пошли по стопам отца – тоже были членами коллегии защитников; юристом стала и дочь Галли, работавшая в Главспирте.
Но спокойная жизнь продолжалась недолго. Наступил 1937 год. В сентябре, защищая в так называемом спецделе очередного «контрреволюционера», Малянтович, как отмечено в документах, допустил в своей речи «выпад» (надо полагать, против власти) и снова был изгнан из коллегии защитников.
1 ноября 1937 года Павел Николаевич был в очередной раз арестован. 26 ноября ему предъявили обвинение в том, что он, «будучи членом партии меньшевиков и непримиримым врагом пролетарской революции, в 1917 году вошел в состав Временного правительства, заняв пост министра юстиции и главного прокурора», «подвергал преследованиям и репрессиям большевиков, издал приказ об аресте В. И. Ленина». После Октябрьской революции он якобы «вел активную борьбу против Советской власти до дня ареста, как член партии меньшевиков». Из этого постановления мы узнаем о том, что Малянтович писал «контрреволюционные мемуары», то есть воспоминания о своей жизни, которые у него были отобраны при аресте и исчезли где-то в архивах НКВД.
На одном из первых допросов Павел Николаевич признался, что являлся участником контрреволюционной организации, но впоследствии твердо отвергал все возводимые на него обвинения. Он признавал только общеизвестный факт – телеграмму о розыске и аресте В. И. Ленина. Судя по материалам следствия, Малянтовича только в течение первого года заключения допрашивали тридцать пять раз, а ведь расследование тянулось больше двух лет. Можно только поражаться мужеству, с каким стареющий адвокат держался на допросах, когда уличающие его показания давали не только люди, с которыми он дружил и которых уважал, но даже сын и брат.
Следователи так и не смогли вернуть Малянтовича к признательным показаниям. 19 января 1940 года Прокурор Союза утвердил обвинительное заключение, и дело было направлено в суд. К этому времени были осуждены и расстреляны сыновья Малянтовича, Владимир и Георгий, его брат, Владимир Николаевич, друзья – А. С. Тагер, А. М. Никитин, А. М. Датматовский, Н. Г. Вавин и другие участники так называемого контрреволюционного заговора, «идейным вдохновителем» которого считался Малянтович. 21 января 1940 года дело слушалось Военной коллегией Верховного суда СССР на закрытом заседании без участия обвинителя и защитника, без вызова свидетелей – по упрощенной процедуре, установленной еще законом от 1 декабря 1934 года. Не прошло и получаса, как суд приговорил П. Н. Малянтовича к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение на следующий день.
Обеспокоенная длительным отсутствием каких-либо достоверных сведений о судьбе мужа, Анжелика Павловна Малянтович в марте 1940 года добилась приема в Военной коллегии Верховного суда СССР. Ей объявили, что мужа осудили на десять лет без права переписки, правду о расстреле скрывали еще долго. После этого старая, больная женщина в отчаянии пишет председателю Верховного суда СССР: «Приостановите выполнение судебной ошибки (наговора, клеветы, может, невыдержанных человеческих мучений)! Спасите жизнь честного, талантливого, преданного человека, отдавшего всю свою жизнь на борьбу с судебными ошибками!..» В ответ – полное молчание.
Анжелика Павловна умерла в декабре 1953 года, так и не дождавшись реабилитации мужа.
В сентябре 1955 года Главная военная прокуратура по жалобе дочери Малянтовича Галли Павловны Шелковниковой снова изучила дело, но в реабилитации отца отказала. Спустя некоторое время полностью реабилитируются все лица, «изобличавшие» Малянтовича в контрреволюционной деятельности, его сыновья, но не он сам. Галли Павловна настойчиво продолжает добиваться пересмотра дела. Наконец в августе 1959 года появляется заключение, утвержденное Генеральным прокурором СССР Р. А. Руденко. В нем отмечается: «Дело по обвинению Малянтовича Павла Николаевича и материалы дополнительного расследования… представить в Военную коллегию Верховного суда СССР с предложением прекратить дело производством: а) в части обвинения в принадлежности к антисоветской террорисгической организации – за отсутствием состава преступления; б) в части обвинения в активной деятельности в составе Временного правительства – в силу акта амнистии». Военная коллегия Верховного суда СССР 29 августа 1959 года с этим предложением полностью согласилась. Но опять было принято половинчатое решение – реабилитация оказалась лишь частичной.
Последняя точка в этом деле была поставлена лишь 13 мая 1992 года. Генеральная прокуратура Российской Федерации по заявлению внука бывшего министра юстиции, Кирилла Георгиевича, пересмотрела дело его деда и признала, что на Павла Николаевича Малянтовича полностью распространяется действие Закона РСФСР от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий».
Павел Николаевич Переверзев (1871–1944)
Призван на ответственный пост
Павел Николаевич Переверзев родился в 1871 году. После окончания юридического факультета Санкт-Петербургского университета некоторое время служил в судебном ведомстве.
В 1901 году он вступил в сословие присяжных поверенных и вскоре завоевал признание как один из лучших столичных адвокатов. Как и А. Ф. Керенский, он примыкал к трудовикам и был активным участником масонской ложи.
П. Н. Переверзев имел свои предпочтения в работе – он редко вел гражданские и уголовные дела, но весь свой профессиональный опыт, все незаурядное ораторское искусство посвятил защите людей, обвиненных властями в политических преступлениях. Современники вспоминали, что здесь он был «принципиальным, смелым и мужественным», несмотря на то что политические пристрастия присяжного поверенного не раз оборачивались для него серьезными неприятностями. Он нередко подвергался преследованиям и репрессиям со стороны правительства, а после подписания совместно с А. Ф. Керенским, Н. Д. Соколовым и другими адвокатами известного письма-протеста по делу Бейлиса даже на восемь месяцев угодил в тюрьму.
Известный юрист Б. С. Утевский вспоминал, что П. Н. Переверзев выигрывал почти безнадежные дела – настолько сильное впечатление на слушателей производили его выступления. С восхищением писал об ораторском искусстве Переверзева и его коллега по адвокатской корпорации А. А. Демьянов: «Сам по себе милый человек, «душа-человек», веселый и экспансивный, Переверзев производил на всех очень хорошее впечатление. Он пользовался хорошей репутацией как оратор. И действительно, он владеет свободно речью, имеет хороший голос. Насколько я могу судить, речи его, однако, никогда не были программны, но мысли, им высказываемые, были метки, и речь его с внешней стороны была не без блеска».
Во время Первой мировой войны петроградские адвокаты на свои средства сформировали передовой санитарно-перевязочный отряд (санитарный поезд). Переверзев стал его руководителем и даже приобрел славу «искусного администратора». Человек он был артистичный, любил пофорсить и обратить на себя внимание – в редкие приезды в Петроград этот штатский чиновник направлялся обычно в Министерство юстиции верхом, да еще и в форме, сшитой по военному образцу.
После Февральской революции П. Н. Переверзев одним из первых столичных адвокатов получил от Временного правительства ответственный пост – 11 марта 1917 года он стал прокурором Петроградской судебной палаты. На его плечи легла неожиданно тяжелая ноша, ведь работу приходилось начинать в принципиально новых условиях, когда старые методы прокурорского надзора уже не годились, а новые еще не были созданы. К тому же прокурорская деятельность требовала несколько иных качеств, нежели привычная адвокатская, – в первую очередь нужна была «административная жилка». Хотя она у Переверзева и имелась, все же на него сразу свалилось слишком много неотложных и трудных вопросов. Немудрено, что на первых порах он допустил ряд серьезных ошибок. Пока еще он на все смотрел глазами присяжного поверенного.
Тем не менее Павел Николаевич пользовался хорошей репутацией в общественных кругах – сказывались, конечно, его активная адвокатская деятельность, пребывание на фронте, смелость и решительность. Познакомившийся с ним в этот период С. В. Завадский писал: «Среднего возраста и среднего роста, крепкого сложения, спокойно уравновешенный, скорый на слова, с неизменною трубкою-носогрейкою, он производил впечатление надежного человека. Подчиненные по прокурорскому надзору относились к нему, в общем, с симпатией».
После острого внутриполитического апрельского кризиса 5 мая 1917 года было сформировано новое правительство – его возглавил Г. Е. Львов. А. Ф. Керенский получил в нем портфель военного и морского министра, а Павел Николаевич Переверзев стал министром юстиции и генерал-прокурором. В еженедельнике «Искра» за 1917 год (№ 18) Переверзев был назван «одним из выдающихся присяжных поверенных округа». «Когда произошел настоящий переворот, – отмечалось в газете, – П. Н. Переверзев был призван министром юстиции А.Ф. Керенским на ответственный пост прокурора Петроградской судебной палаты. Через его руки за последнее время прошел целый ряд особо важных дел по расследованию преступлений старой власти».
Став министром и генерал-прокурором, Переверзев посчитал своей обязанностью нанести визит Петроградскому совету присяжных поверенных, из среды которых он вышел. Эта неофициальная и теплая встреча состоялась на квартире Н. П. Карабчевского. Здесь новый министр, несколько увлекшись, произнес странную речь – в другое время она, несомненно, шокировала бы адвокатов. Он откровенно говорил о том, что правительству часто приходится прибегать к явно незаконным действиям и он сам испытал их на себе в бытность прокурором судебной палаты. Так же, по всей вероятности, ему придется поступать и в качестве министра. Переверзев выразил даже сомнение, что после отставки присяжные поверенные примут его обратно в свое сословие, и далее продолжал в таком же духе. Однако радостное возбуждение адвокатов от встречи с высоко взлетевшим коллегой было настолько сильным, что они пропустили его слова «о беззакониях» мимо ушей.
С. В. Завадский отмечал в своих воспоминаниях, что, став министром, Переверзев «не обнаружил… ни настойчивости, ни последовательности. Его, как и Керенского, как и всё Временное правительство, как, может быть, и большинство членов исполнительного комитета Советов рабочих депутатов, несло куда хотело крайнее левое течение, становившееся сильнее и сильнее, но пока остававшееся по-прежнему подводным, хотя кое-где уже и поднимавшееся на поверхность». А известный революционер Н. Н. Суханов называл Переверзева «одной из подозрительнейших фигур в коалиционном правительстве». Некоторые современники, примыкавшие к большевистскому крылу социал-демократической партии, вообще полагали, что
Переверзев слишком уж круто изменил свою политическую ориентацию – защитник большевиков на судебных процессах, устраиваемых царским правительством, вдруг превратился в их ярого гонителя, особенно после июльских событий.
Став прокурором палаты, а затем и генерал-прокурором, П. Н. Переверзев занимался еще и вопросами, больше подходящими для амплуа общественного деятеля, нежели руководителя высокого государственного органа. Например, в Петроградской прокуратуре он держал на должности товарища прокурора специального человека, занимавшегося «подысканием» квартир для каких-то политических организаций. С подобными же просьбами к нему часто обращались и в министерстве юстиции. На замечания своих заместителей, что подыскивать квартиры не дело властей, Переверзев обычно отвечал: «Нельзя и опасно со всеми ссориться».
Вообще, он часто увлекался и брался не за свои дела (между прочим, часто это происходило с подачи А. Ф. Керенского). Так, однажды Керенский поручил ему, тогда еще прокурору палаты, заняться вопросами организации контрразведки. Переверзев не только согласился на это нелепое предложение, но так втянулся в дело, что когда стал генерал-прокурором, то оставил этот вопрос за собой и даже получил под него (без какого-либо постановления правительства) крупную сумму денег. В результате он ежедневно в ущерб другим делам подолгу выслушивал доклады заведующего контрразведкой эсера Миронова. Естественно, это не нравилось многим сотрудникам, но все они помалкивали, и только товарищ министра А. С. Зарудный, человек горячий и резкий, был настолько возмущен, что порывался даже уйти из-за этого в отставку.
Переверзев всегда стремился подчеркнуть свое высокое положение министра и генерал-прокурора, причем выходило это не всегда уместно. А. А. Демьянов вспоминал, как, в первый раз явившись на заседание комиссии по пересмотру Судебных уставов (в нее входили многие корифеи юриспруденции, в частности А. Ф. Кони), Переверзев высокомерно заявил, что они, то есть все собравшиеся, нужны ему для очень важной работы – будто забыв, что эта работа и так шла уже полным ходом.
По свидетельству Н. Н. Суханова, летом 1917 года «в стране продолжались эксцессы, беспорядки, анархия, захваты, насилия, самочинство, «республики», неповиновение и расформирование полков…». В таких условиях сделать ничего кардинального Переверзев не мог, и авторитет его стал заметно падать. Да и вообще в правительстве чувствовалась растерянность.
В Петрограде активную деятельность развили большевики, анархисты, представители некоторых других партий, и в начале июля 1917 года натиск «низов» на правительство достиг своего апогея. Коалиционное правительство, по существу, уже не владело обстановкой.
3 июля в Петрограде начались беспорядки, которые продолжались и на следующий день. Активную роль здесь играли большевики и их орган газета «Правда». Вечером 4 июля П. Н. Переверзев дал приказ о немедленном освобождении здания типографии. Посланный туда воинский отряд арестовал всех работников типографии, изъял рукописи и документы. Все это было доставлено Переверзеву, который находился в штабе Петроградского военного округа.
В июльские дни основные события разворачивались у Таврического дворца – там собралось несколько десятков тысяч рабочих и солдат, требовавших передачи всей власти Советам. На сторону митинговавших перешел и гарнизон Петропавловской крепости. Переверзева обвинили в бездействии. Спустя несколько дней П. И. Переверзев написал письмо в редакцию «Нового времени», где оправдывался: «Не арестовал же я 4 июля до опубликования документов главарей восстания только потому, что они в этот момент фактически уже арестовали часть Временного правительства в Таврическом дворце, а князя Львова, меня и заместителя Керенского могли арестовать без всякого риска, если бы их решимость хотя бы в десятой доле равнялась их преступной энергии».
Ситуация действительно была критической. В этих условиях, для того чтобы вызвать антибольшевистскую реакцию в войсках, Переверзев пошел на решительный шаг – собрался опубликовать попавший из контрразведки в его руки материал о якобы имевшихся связях В. И. Ленина с Германией и о финансовых отношениях большевиков с немцами, осуществляемых через Стокгольм. После небольшого совещания с генералом П. А. Половцевым и полковником Б. В. Никитенко он пригласил к себе представителей воинских частей Петрограда и журналистов. Здесь Переверзев представил им часть имеющихся у него документов и свидетельств. Основными свидетелями против большевиков выступали некий лейтенант Еременко, рассказавший, что, находясь в плену, он якобы слышал разговор, что «Ленин работает на Германию», а также Г. А. Алексинский, скомпрометировавший себя депутат от большевиков в Государственной думе. Хотя объяснения их были довольно невнятными и туманными, они представляли большую опасность для большевиков – даже недоказанные слухи могли заставить солдат от них отвернуться.
Прокурор судебной палаты Н. С. Карийский, сочувствовавший большевикам, информировал их о планах Переверзева. Сразу после этого И. В. Сталин позвонил в исполком Петроградского Совета и срочно потребовал «остановить распространение клеветнической информации о Ленине». Чхеидзе и Церетели стали обзванивать редакции петроградских газет, настаивая на отказе от публикации правительственного сообщения. «Разоблачение» большевиков считали преждевременным даже такие министры Временного правительства, как Терещенко и Некрасов. Но материалы Переверзева все-таки появились – в газете «Живое слово» от 5 июля 1917 года, да еще и под заголовком: «Ленин, Ганецкий и К0 – шпионы». К тому же по городу были расклеены плакаты с аналогичным текстом.
Опубликованные материалы вызвали взрыв негодования. Буржуазная пресса, захлебываясь, писала о продажности большевиков и устроила настоящую травлю В. И. Ленина и его соратников. Сторонники же большевиков резко осуждали публикацию и даже образовали комиссию для расследования клеветы. Вследствие разразившегося скандала Переверзеву ничего не оставалось, как 6 июля 1917 года подать в отставку с поста министра юстиции и генерал-прокурора.
После выхода в отставку Переверзев возвратился к своей прежней деятельности и снова стал заведовать на фронте санитарным отрядом петроградской адвокатуры. А. А. Демьянов считал, что П. Н. Переверзев был, при всех своих ошибках, «чистым и честным человеком», но «большим фантазером, беспрограммным и неумелым администратором». «Большевики должны ненавидеть Переверзева, – писал он. – Я знаю, что, когда пришло их время, они готовили крупный процесс с именем Переверзева. Предупрежденный Переверзев скрылся из Петербурга. Большевики преследовали его семью. Если бы Переверзева судили, то вряд ли бы он избежал смертной казни. Но большевики не постеснялись бы казнить его и без суда».
В большевистской России П. Н. Переверзев, конечно же, не остался. В 1920-х годах, подобно другим русским эмигрантам, он жил в Париже. Умер Павел Николаевич в 1944 году.
Александр Федорович Керенский (1881–1970)
«Тяжкое бремя история возложила на слабые плечи…»
Александр Федорович Керенский родился 22 апреля 1881 года в Симбирске. Он был четвертым ребенком в семье директора мужской гимназии Федора Михайловича и его жены, Надежды Александровны. В 1889 году, когда Саше исполнилось всего восемь лет, Федор Михайлович получил назначение в Туркестанский край, где ему предстояло занять должность главного инспектора учебных заведений. Здесь и прошли гимназические годы будущего вождя революции. Учился он хорошо, особенно увлекался историей, литературой и искусством, даже мечтал стать «Артистом Императорских Театров», как шутливо подписывал некоторые свои письма к родителям.
В 1899 году Александр Керенский приехал в столицу и поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Петербург очаровал и увлек его «полнотой своей внутренней жизни, полнотой умственной и эстетической». Здесь, по его словам, он «впервые в жизни испытал пьянящее чувство свободы». Керенский поселился в студенческом общежитии, расположенном в здании Двенадцати коллегий на Васильевском острове. Он активно участвовал в студенческих сходках, выражавших протест политике университетского начальства и министерства народного просвещения. Видимо, этот первый социальный опыт и заставил его усомниться в выборе профессии – история и филология выглядели слишком далекими от проблем реальной жизни. Неудивительно, что в сентябре 1900 года, преодолев некоторые трудности, Керенский перевелся на юридический факультет. На втором курсе уже проявились его ораторские способности, умение увлечь студенческую аудиторию. За это он даже поплатился временным «отлучением» от университета – его отправили в «отпуск» в Ташкент.
В эти годы Александр Керенский встретил свою первую большую любовь. Ею оказалась Ольга Львовна Барановская, внучка известного академика В. П. Васильева. В 1904 году молодые обвенчались. К этому времени университет был закончен.
Керенский недолго колебался в выборе своего дальнейшего пути. Еще в университете он твердо решил, что карьера кабинетного ученого не для него, и подал прошение о зачислении в сословие присяжных поверенных. Скоро Александр Федорович стал помощником присяжного поверенного Н. А. Оппеля. Первое время он оказывал юридические услуги в так называемом Народном доме, основанном графиней Паниной, и вел другие мелкие дела. Первое его публичное выступление состоялось в феврале 1905 года. Тогда же имя молодого помощника адвоката появилось и в полицейском досье. После Кровавого воскресенья, которое потрясло Керенского, он пытался установить связи с социалистами-революционерами. В декабре 1905 года его впервые арестовали и после четырехмесячного заключения отправили в Ташкент под надзор полиции. Вернувшись в Петербург, Керенский удачно выступил по одному политическому делу в Ревеле. Группу крестьян обвинили в разгроме имения местного барона и сопротивлении властям. В этом процессе Керенский был напорист, активен, дерзок, а главное, убедительно доказал, что противоправные действия крестьян не идут ни в какое сравнение с жестокой расправой, учиненной властями над зачинщиками беспорядков, – многих из них просто расстреляли без суда и следствия. Успех в этом деле принес молодому юристу некоторую известность. Теперь предложения принять на себя защиту по политическим и иным делам посыпались к нему со всех сторон. В 1910 году уже в качестве полноправного адвоката он вступил в сословие присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты.
По своим адвокатским делам А. Ф. Керенскому пришлось исколесить всю Россию. Он выступал защитником по политическим и уголовным делам, был представителем истцов и ответчиков по гражданским делам в судебных установлениях Москвы и Петербурга, Иркутска и Казани, Варшавы и Тифлиса, Саратова и Риги. Его речь звучала в военных судах и судебных палатах, мировых судах и Правительствующем сенате. Он защищал железнодорожников Полесья, служащих Двинской почтово-телеграфной конторы, рабочих Шлиссельбургского порохового завода, студентов Петербурга, редакторов газет, представителей различных партий и организаций, обвинявшихся в организации незаконных забастовок, антиправительственной агитации, вооруженном сопротивлении властям, хранении запрещенной литературы и взрывчатых веществ, организации незаконных сообществ и многих других преступлениях. Наряду с этим ему приходилось защищать лиц, совершивших убийства, разбои, грабежи и другие уголовные преступления.
В мае 1912 года Керенский в составе комиссии сенатора С. С. Манухина участвовал в расследовании причин Ленского расстрела. В том же году его избрали от трудовой партии (по городу Вольску Саратовской губернии) в Четвертую Государственную думу. Он активно использовал думскую трибуну для борьбы с царским самодержавием и к началу Февральской революции был в Думе неоспоримым лидером. С 1912 года состоял в масонской ложе и вскоре стал одним из ее руководителей. В 1915–1916 годах он был Генеральным секретарем Верховного совета масонов России.
По мнению современников, в большой политике Керенский стал заметен только со времени его выступлений в Государственной думе. Он имел репутацию «человека даровитого, но не крупного калибра», тем не менее его яркие и эмоциональные ораторские выступления неизменно привлекали всеобщее внимание.
2 марта 1917 года А. Ф. Керенский вошел в первый состав Временного правительства в качестве министра юстиции и генерал-прокурора и сразу же оказался на гребне славы. Вознесенный на правовой Олимп, он, конечно же, не забывал о своей корпорации. В первый день управления министерством юстиции Керенский обратился к советам присяжных поверенных с телеграммой, в которой просил их «принять посильное участие в установлении истинного правосудия в нашей Родине и поднятии его на высоту, соответствующую величию народа и важности исторического момента».
Керенский лично явился на заседание Петроградского совета присяжных поверенных – оно проводилось на квартире председателя Н. П. Карабневского, поскольку здание суда было уничтожено пожаром. Там он, обратившись к собранию с краткой речью, просил адвокатов «способствовать, по мере сил, к водворению порядка и законности».
Петроградские адвокаты ответили на это посещением Временного правительства. Председатель совета Н. П. Карабчевский сказал тогда: «В вашей среде видное место занимает любимый и дорогой нашему сословию товарищ. Он вырос и воспитался для своей политической борьбы в нашей общественной среде, в условиях не только узкопартийного, но и могучего человеческого правосознания. Я говорю о присяжном поверенном Александре Федоровиче Керенском. Я не могу вам выразить того глубокого и радостного волнения, которое мы испытали, когда, еще физически измученный всеми волнениями предыдущих дней и бессонных ночей, едва держась на ногах, только что объявленный министром юстиции, всесильный революционный генерал-прокурор кинулся прежде всего к нам, представителям сословия, товарищам по служению правосудию, и в наших горячих дружеских объятиях его первые слова были: «О, как бы я хотел поднять русское правосудие на недосягаемую высоту! Помогите мне в этом!»
В те дни Керенский работал день и ночь и от напряжения иногда терял сознание во время выступлений. Он неоднократно выезжал в Москву, Финляндию. Царское Село, на фронт, всюду встречая восторженный прием. Ему приходилось решать одновременно множество сложнейших задач: и наведение порядка в столице, и замена старого чиновничьего аппарата, и образование новых судебных учреждений, и отмена устаревших, противоречащих «революционному правосознанию» законов, и расследование деятельности высших царских сановников.
В первые дни революции была образована Чрезвычайная следственная комиссия, которой деятельно руководил Керенский. Очень быстро комиссия препроводила всех царских сановников в Петропавловскую крепость. Наиболее серьезные обвинения были предъявлены бывшим министрам юстиции И. Г. Щегловитову и Н. А. Добровольскому, министрам внутренних дел Б. В. Штюрмеру, А. И. Хвостову, А. Д. Протопопову, А. А. Макарову и другим деятелям административного аппарата.
В своей кадровой политике Керенский довольно строго придерживался основного принципа – назначать на все высшие должности лиц с более или менее популярными именами и только при условии, если их выдвигали различные общественные или политические организации. Преимущество при этом всегда отдавалось лицам из адвокатской корпорации. Однако эта популистская практика вскоре дала отрицательные результаты. Многие «выдвиженцы», вчерашние адвокаты, зачастую совершенно не имевшие склонности к руководящей деятельности, вдруг становились председателями и прокурорами судебных палат и окружных судов, сенаторами и даже занимали ключевые посты в министерстве юстиции – но оказывались некомпетентными в решении самых насущных вопросов.
Первым своим товарищем (заместителем) Керенский назначил присяжного поверенного А. С. Зарудного, сына известного деятеля Судебной реформы С. И. Зарудного. Товарищами министра стали также московский адвокат А. А Демьянов и присяжный поверенный Г. Д. Скарятин. Они хотя и слыли людьми «самой высокой моральной марки», но никакого административного опыта не имели. Сенаторами неожиданно стали присяжные поверенные О. О. Грузенберг, А. А. Леонтьев. П. С. Широкий, А. С. Чумаевский, С. А. Левицкий и многие другие.
В должности министра юстиции и генерал-прокурора Керенский оставался недолго, всего два месяца. Но еще ни один министр юстиции России не работал с такой интенсивностью. За это время, несмотря на многочисленные поездки, постоянные встречи с депутациями и делегациями, общественными организациями, бесконечные выступления, и днем и ночью, в самых разнообразных аудиториях, он сумел провести титаническую работу по созданию новых органов власти и управления, преобразованию старых судебных установлений, обновлению административного, уголовного и гражданского процессуального и материального законодательства. Популярность Керенского была огромна и все возрастала. Он умел, как никто другой, «зажигать сердца людей» и быть «всеобщим оракулом, вождем и любимцем».
Острый политический кризис, разразившийся в России в конце апреля 1917 года, привел к созданию 5 мая нового коалиционного правительства. Министром юстиции стал П. Н. Переверзев, бывший присяжный поверенный, назначенный в марте 1917 года прокурором Петроградской судебной палаты. Керенскому же достался портфель военного и морского министра.
Вскоре грянули июльские события 1917 года, сотни тысяч солдат и рабочих вышли на улицы Петрограда с требованием передачи власти Советам. Керенский фактически становится руководителем Временного правительства. 24 июля он формирует новый кабинет, сохранив за собою пост военного и морского министра. К своему взлету он относится всерьез, даже резиденцией избирает Зимний дворец. После подавления корниловского мятежа в августе 1917 года и провозглашения России республикой Александр Федорович получил фактически неограниченные права: возглавил Директорию из пяти человек и стал Верховным главнокомандующим. Последнее коалиционное правительство было им сформировано 25 сентября 1917 года, но продержаться ему суждено было только один месяц. Министром юстиции был назначен московский присяжный поверенный П. Н. Малянтович.
Как отмечал известный революционер Н. Н. Суханов, «тяжкое бремя история возложила на слабые плечи». По его мнению, Керенский «по мере сил удушал революцию». Престиж Керенского стал резко падать. В октябре он практически уже не владел ситуацией. 25 октября (7 ноября) 1917 года Временное правительство было низложено, а все министры арестованы. Керенский сумел накануне переворота выбраться из Зимнего дворца и покинул Петроград. После Октябрьской революции он попытался предпринять контрреволюционное выступление, но фортуна окончательно отвернулась от него. Потерпев неудачу, в июне 1918 года он эмигрировал.
За границей Керенский прожил более пятидесяти лет. Сначала он обосновался в Лондоне, потом переехал жить в Берлин, еще позже – в Париж, здесь и оставался до 1940 года. Первое время не оставлял надежды с помощью Антанты организовать антибольшевистскую революцию, но все его попытки ни к чему не привели. В 1920-х годах Керенский активно выступал в эмигрантской печати, осмысливая происшедшие события и критически оценивая реформаторские возможности Временного правительства. Позже Александр Федорович почти полностью отдался литературной деятельности, редактировал газету «Дни», готовил к изданию свои воспоминания. Во время Второй мировой войны, когда немецкие войска угрожали Парижу, он покинул Францию и перебрался за океан. Там он продолжал работать над своими мемуарами, а также выпустил в соавторстве с Р. Браудером трехтомный труд «Русское Временное правительство».
В эмиграции Керенский вторично женился на Терезе Нелль, с которой прожил до ее кончины в 1946 году.
Скончался Александр Федорович И июня 1970 года в Нью-Йорке, но праху его суждено было снова пересечь океан – похоронен он был в Лондоне, где жили сыновья от первого брака, Олег и Глеб.
Николай Михайлович Янсон (1882–1938)
«Хорошее, прекрасное прошлое…»
В конце XIX века в Петербург, крупнейший промышленный центр Северо-Запада России, стекались не только русские рабочие, но и выходцы из прибалтийских народов. В семье одного из них, эстонца, уроженца острова Сааремаа, и родился Николай Михайлович Янсон. Было это 6 декабря 1882 года.
Учеба обычного мальчика из рабочей среды началась с церковноприходской школы и закончилась в портовой школе в Кронштадте. В четырнадцать лет, в августе 1896 года, ему пришлось поступить учеником слесаря в Кронштадтскую минную школу, а с ноября 1900 года он уже работает на Невском судостроительном заводе. Что же заставило юношу идти в революцию? Скорее всего личные впечатления – эмоциональный шок, пережитый в страшный день Кровавого воскресенья. Тогда, 9 января 1905 года, вместе с отцом и другими рабочими ему привелось участвовать в мирном шествии к Зимнему дворцу, обернувшемся расстрелом безоружных демонстрантов. Пули, кровь, тяжелое ранение отца на глазах у сына – такое не забывается. После этого трагического дня выбор Николая Янсона был предопределен – в апреле он вступает в ряды Невской районной организации РСДРП (б).
В июле 1905 года молодой рабочий переезжает в Ревель и поступает слесарем на завод «Вольта». Там он быстро становится одним из активных лидеров местного революционного движения, и его авторитет в рабочей среде растет на глазах. Когда 16 ноября 1905 года на общем собрании заводских и фабричных старост Ревеля встает вопрос, кого отправить на установление связей с революционными организациями Петербурга, кандидатура Янсона не вызывает никаких возражений. Вернувшись оттуда, он так увлеченно и убедительно рассказывает товарищам о результатах поездки, что собрание тут же принимает решение образовать свой Совет рабочих депутатов. Естественно, самому Николаю Янсону и предлагают его возглавить, хотя в то время он еще очень молод – ему всего двадцать три года.
В декабре вспыхивает вооруженное восстание, и он принимает в нем самое активное участие. А дальше – тюрьма, где ему пришлось провести полгода, а потом, как водится, ссылка в Сибирь, в далекую Тобольскую губернию. Смириться со ссылкой Николай не мог – бежал при первой же возможности. Но оставаться в России было уже нельзя – вот и пришлось ему вместе с женой, Бертой Юрьевной, эмигрировать в США и осесть там на целых десять лет. В Америке родились и двое его детей, Виктор и Грета. Сам Николай Михайлович работал по специальности, слесарем-инструмен-тальщиком, и на каких только заводах не пришлось ему использовать свои профессиональные навыки. Сталелитейный, пушечный, электромеханический, механический… Но его активная политическая деятельность уже не прекращалась. Попав в среду таких же рабочих-эмигрантов, он с энтузиазмом пытается увлечь их своими идеями и организует в Филадельфии социалистическое общество эстонских рабочих. В американской социалистической партии он тоже состоит – с 1909 по 1917 год. А какая партия без партийной прессы? Вместе с X. Петельманом Янсону удается основать эстонскую газету «Уус ильм» («Новый мир»), первый номер которой попал в руки читателей 20 июня 1909 года.
Но когда в Америку проникают известия о Февральской революции 1917 года, Николай Янсон вместе с семьей начинает рваться в Россию. В июне он снова оказывается в Ревеле, где его тут же избирают в состав местного партийного комитета и Северо-Балтийского (Эстонского) бюро РСДРП(б). С октября 1917 по февраль 1918 года он увлеченно занимается установлением советской власти в Эстонии, пребывая в должности заместителя председателя городской управы.
Когда в Таллин (именно так с 1918 года именуется Ревель) вступили немцы, Н. М. Янсон дважды подвергался арестам, два месяца пробыл в заключении и, наконец, был выслан из Эстонии в Советскую Россию.
Самара – вот его следующий адрес. Он приезжает туда в мае 1918 года по заданию партии, чтобы заниматься хозяйственной и профсоюзной работой. Поначалу, когда город оказывается в руках белочехов, Николай Янсон опять попадает в тюрьму. После освобождения он устраивается слесарем в автомастерские главного артиллерийского управления, но в ноябре 1918 года уже становится главой Самарского губернского совета профсоюзов, а годом позже – первым «красным директором» Самарского трубного завода. В 1920–1921 годах его политическая карьера складывается вполне удачно – теперь он заместитель секретаря губернского комитета РКП(б).
Там, в Самаре, круто меняется и его личная жизнь – судьба уготовила ему встречу с Лидией Петрулевич, которая вскоре становится его второй женой. Именно эта женщина, Лидия Федоровна (Фридриховна), останется с ним до конца жизни и разделит выпавшие на его долю испытания.
Май 1921-го… Янсона переводят в Москву. Сначала он возглавляет там Союз металлистов, а в мае 1923 года становится секретарем ЦКК РКП(б). В 1925–1928 годах Николай Михайлович служит первым заместителем народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции.
16 января 1928 года постановлением Всероссийского Центрального исполнительного комитета Николая Янсона назначают народным комиссаром юстиции РСФСР и прокурором республики. Но в этих должностях пребывать ему пришлось недолго – он успевает провести лишь несколько крупных мероприятий. Одно из них – III совещание прокурорских работников, проходившее в Москве с 16 по 20 марта 1928 года. В совещании участвовали руководящие работники аппарата прокуратуры республики, прокуроры Крымской, Татарской АССР, немцев Поволжья, краевые прокуроры Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, прокуроры Уральской и
Ленинградской областей, Московской, Калужской, Тульской, Орловской, Нижегородской, Саратовской и некоторых других губерний, а также четырнадцать участковых и камерных прокуроров. Совещание заслушало два доклада: об общем надзоре и его методах в городе и деревне, а также о работе органов расследования и надзора за ними.
В 1929 году Н. М. Янсон провел VI съезд прокурорских, судебных и следственных работников РСФСР, на котором успешно выступил с большим отчетным докладом. Ничто, казалось бы, не предвещало грозу. Но сам воздух времени уже неуловимо менялся.
Бесконечные кадровые перемещения выглядят тревожно. После отставки с поста народного комиссара юстиции РСФСР в ноябре 1930 года Янсон некоторое время работает заместителем председателя Совнаркома РСФСР, а в феврале 1931 года возглавляет народный комиссариат водного транспорта СССР. В этой роли он остается до марта 1934 года, когда «согласно его просьбе» вдруг переводится на должность заместителя наркома по морской части. Однако в августе 1935 года его сместили и с этого поста и лишь в октябре того же года назначили первым заместителем начальника управления Северного морского пути при Совнаркоме СССР, где он и служит до дня своего ареста.
Осень 1937 года была зловещей. Арестованы многие руководящие сотрудники Главсевморпути: начальник строительства Мурманского судоремонтного завода, главный инженер и другие. Во время следствия они подробно рассказывают о своей «вредительской» деятельности, назвав среди соучастников и Николая Янсона. Его арестовали прямо накануне пятидесятипятилетия, в ночь с 5 на 6 декабря 1937 года, тщательно обыскав квартиру и служебный кабинет. Лидия Федоровна долго и безуспешно обивала пороги органов НКВД, пытаясь хоть что-то выяснить о судьбе своего мужа, но в ответ – только глухое враждебное молчание. Она терялась в догадках – за что? Лишь один из следователей, сжалившись, сказал: «У вашего мужа хорошее, прекрасное прошлое, но последние два года он ездил по Ленинграду и Москве и создавал эстонскую антисоветскую организацию». Поверить в это было трудно.
Но именно такое обвинение и было ему предъявлено в начале февраля 1938 года – якобы являясь участником антисоветской эстонской шпионско-диверсионной организации и входя в состав антисоветской правотроцкистской организации в Главсевморпути и наркомате, он «неуклонно проводил враждебную деятельность». На следствии он признал себя виновным сразу и почти сразу же начал давать развернутые показания об этой «деятельности». Обвинительное заключение было составлено сотрудником безопасности Звездичем и утверждено 15 июня 1938 года заместителем прокурора СССР Рогинским.
Судила Янсона Военная коллегия Верховного суда СССР, но как судила – в порядке постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года, то есть по упрощенной процедуре, без участия обвинения и защиты, без вызова свидетелей. Председателем был диввоенюрист Зарянов. Такое и процессом назвать трудно – чудовищный фарс длился не более пятнадцати минут. Военная коллегия приговорила Н. М. Янсона к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества. Приговор привели в исполнение сразу же – это было 20 июня 1938 года.
В связи с арестом Янсона в декабре 1937 года встал вопрос о партийной ответственности его жены, А. Ф. Петрулевич, – она работала тогда директором средней школы № 73 Киевского района Москвы. Первичная партийная организация сразу же объявила ей строгий выговор с предупреждением – «за потерю партийной бдительности в отношении своего мужа, арестованного органами НКВД». Но разве могло все на этом кончиться? Материалы были направлены в Киевский РК ВКП(б), а там трусливо вынесено такое решение: «Ввиду недостаточной проработки материала вопрос с обсуждения снять и поручить Хащенко собрать необходимые сведения о работе Петрулевич».
Разве райком могло удовлетворить слишком «мягкое» наказание для жены «врага народа»?
Лидию Петрулевич арестовали в ночь с 17 на 18 июня 1938 года, за два дня до расстрела мужа. Через месяц следователь направил дело на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР, и уже 4 августа она была приговорена к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на восемь лет. Чего же еще заслуживала такая женщина, «член семьи изменника родины»!
Когда через шестнадцать лет, в 1954 году, она обратилась с ходатайством в КПК при ЦК КПСС о пересмотре своего дела и дела Янсона, то писала так: «Возможно, его нет в живых, пусть же память о нем останется чистой…» Возможно, нет в живых… Она ведь так и не узнала, что муж расстрелян. Может быть, это незнание, обернувшееся надеждой, и придавало ей сил жить…
16 марта 1955 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР, заседавшей под председательством полковника юстиции Борисоглебского, дело в отношении А. Ф. Петрулевич было прекращено за отсутствием состава преступления. Но реабилитации она не дождалась – скончалась чуть раньше, так и не узнав о признании своей невиновности. Жаль, но она не успела узнать и о том, что 24 декабря 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством полковника юстиции А. Сенина реабилитирует, наконец, и Николая Михайловича Янсона.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954)
«Карающая десница вождя»
Андрей Януарьевич Вышинский родился 28 ноября (10 декабря) 1883 года в Одессе, в семье аптечного работника и учительницы музыки. Вскоре родители переехали в Баку – этот город он называл «своей настоящей родиной». После окончания классической гимназии имени императора Александра III в 1901 году Вышинский поступил на юридический факультет Киевского университета, но завершить учебу ему удалось лишь через двенадцать лет. За участие в студенческих беспорядках в феврале 1902 года он был исключен из университета и вернулся в Баку, где занял скромную должность бухгалтера и сблизился с рядом местных социал-демократических активистов, а в 1904 году официально вступил в бакинскую организацию РСДРП (меньшевиков). Будучи темпераментным оратором, он выступал на митингах и собраниях со страстными речами, громя в них самодержавие, эсеров и черносотенцев, создал боевую дружину из нескольких сотен рабочих. В 1906–1907 годах его дважды арестовывали, и тогда же, по его словам, он и его жена Капитолина Исидоровна подвергались нападению черносотенцев и, как отмечалось в ранних биографиях, были даже ранены. В апреле 1908 года Вышинский под кличкой Рыжий был осужден Тифлисской судебной палатой по статье 129 Уголовного уложения, предусматривавшей ответственность за произнесение или чтение публично речи или сочинения, возбуждающего к ниспровержению существующего строя. Его приговорили к одному году заключения в крепости. Наказание он отбывал в Баиловской тюрьме. Меньшевик Вышинский нередко оказывался в центре дискуссий, которые происходили в камере. Его оппонентом был арестант-большевик по кличке Коба. Так состоялось знакомство со Сталиным.
После освобождения из тюрьмы Вышинский сумел восстановиться в Киевском университете. Из-за блестящих способностей его оставили на юридическом факультете для подготовки к профессорскому званию по кафедре уголовного права, но ректор не захотел видеть у себя «политически неблагонадежного». Тогда Вышинский снова вернулся в Баку, где занялся газетно-репортерской деятельностью.
В 1915 году он приезжает в Москву и два года работает помощником у Павла Николаевича Малянтовича – знаменитого адвоката, специализировавшегося на политических делах. У Малянтовича было два помощника, фамилия одного из них Керенский, а другого – Вышинский. И если первый отблагодарил своего наставника, сделав его министром юстиции во Временном правительстве, то второй не пошевелил и пальцем для его спасения, позволив окончить свою жизнь в застенках НКВД. В бытность Вышинского Прокурором СССР Малянтович будет арестован и в 1940 году расстрелян.
После Февральской революции, став комиссаром милиции, Вышинский ревностно выполняет указания Временного правительства, в том числе и по розыску Ленина, скрывавшегося от властей после июльских событий.
Октябрьская революция застала Вышинского на посту председателя Якиманской районной управы. Он не сразу поддержал большевиков. По наблюдениям близко знавших его лиц, перелом наступил осенью 1918 года, когда произошла революция в Германии. В 1920 году Вышинский вступил в ВКП(б). Это дало ему возможность, не без поддержки Сталина, за несколько лет сделать неплохую карьеру.
В 1923 году в должности прокурора Верховного суда РСФСР он уже участвует в нескольких крупных процессах. В частности, весной 1923 года в Верховном суде республики слушалось дело по обвинению в злоупотреблениях директора-распорядителя Государственной экспортно-импортной торговой конторы при Наркомвнешторге (Госторге) Когана, его заместителя Зельманова и других. Было установлено, что руководители Госторга, имея монопольное право внешней торговли, закупали товар за границей, а затем продавали его частным лицам, выступавшим якобы представителями государственных или кооперативных организаций. Например, некий Кривошеий под видом уполномоченного продовольственного отдела ВЦИКа закупил в Госторге девять вагонов американского сала по цене 37 млн рублей за пуд, а перепродал «Урал-платине» по 50 млн рублей за пуд. В судебном заседании Вышинский доказывал, что хотя и не установлены факты корысти со стороны подсудимых, однако все обстоятельства так и кричат о том, что «здесь пахнет жареным». Хотя адвокаты категорически возражали против такой постановки вопроса, возобладала точка зрения обвинителя. Коган и Зельманов были приговорены к расстрелу, а остальные подсудимые – к различным срокам заключения.
В мае 1924 года выездная сессия Верховного суда слушала в Ленинграде грандиозное дело судебных работников. Обвинителем выступал Вышинский. Скамью подсудимых заняли 42 человека – 17 следователей, судей и других служителей Фемиды и 25 нэпманов. Как отмечалось в обвинительном заключении, «группа судебных работников г. Ленинграда в видах личного обогащения вступила на путь систематического взяточничества». Для этого, по версии следствия, они вошли в связь с нэпманами, заинтересованными в прекращении своих дел. Суммы взяток колебались от 650 рублей до 39 тысяч. Собственно говоря, прямой связи между всеми подсудимыми не было, в деле искусственно были соединены материалы о нескольких преступных группах. Вышинский говорил вдохновенно и с большим пафосом: «Взятка сама по себе – гнуснейшее орудие разврата, но она становится чудовищной, когда дается следователю или работнику юстиции. Ведь едва ли можно вообразить что-либо ужаснее судей, прокуроров или следователей, торгующих правосудием. Я требую беспощадного наказания, которое разразилось бы здесь грозой и бурей, которое уничтожило бы эту банду преступников, посягнувших на честь судейского звания. Пусть этот приговор очистительной грозой пронесется над головами преступников. Я требую расстрела всех главных виновников». Верховный суд счел недоказанной вину лишь двух подсудимых, которых и оправдал. Остальных приговорил к различным мерам наказания, семнадцать человек были расстреляны.
Будучи профессором Московского университета, Вышинский принял активное участие в ликвидации факультета общественных наук, что фактически упраздняло преподавание истории как науки. Сразу после этого, в 1925 году, предприимчивый профессор становится ректором МГУ, а также членом Комиссии законодательных предложений при Совнаркоме СССР.
В конце 1920-х годов начинается эра репрессий и политических процессов, ставшая для одних трагедией, а для других – удобной возможностью отличиться, выслужиться или избавиться от личных врагов, получив от этого не только моральное, но и материальное удовлетворение. Здесь-то в полной мере и проявились дарования Вышинского. В дальнейшем на всех важнейших процессах 1930-х годов – Каменева и Зиновьева, Пятакова и Радека, Бухарина и Рыкова – Вышинский, будучи уже руководителем прокуратуры, выступал в роли государственного обвинителя. Красноречие его не знало границ; Вышинский торжествовал свою победу еще до начала сражения, потому что знал, что все процессы – спектакли, в которых все, в том числе и обвиняемые, послушно исполняют предназначенные им роли. Знал это Вышинский и потому, что сам был одним из режиссеров-постановщиков этих спектаклей.
В мае 1928 года Вышинский назначается председателем Специального присутствия Верховного суда СССР по делу группы «вредителей» в угольной промышленности, известному как «шахтинское дело». Суду были преданы пятьдесят три специалиста старой буржуазной школы, которые, по версии следствия, были тесно связаны с бывшими собственниками предприятий и ставили своей целью «сорвать рост социалистической промышленности и облегчить восстановление капитализма в СССР». Двадцать подсудимых признали себя виновными полностью, десять – частично, а остальные категорически отрицали какую-либо причастность к вредительству. Дело было настолько шито белыми нитками, что даже Вышинскому пришлось оправдать четверых подсудимых, а еще троих приговорить к условной мере наказания. Одиннадцать человек предлагалось расстрелять, но в отношении шестерых из них суд ходатайствовал о смягчении наказания. Оставшихся пятерых все-таки приговорили к расстрелу.
Председательствовал Вышинский и на процессе в начале декабря 1930 года над «вредителями» из так называемой Промышленной партии. На скамье подсудимых оказались директор Теплотехнического института профессор Рамзин, а также ряд ответственных работников Госплана и ВСНХ СССР (всего восемь человек). Все подсудимые признали себя виновными и дали развернутые показания о своей «контрреволюционной деятельности». 7 декабря 1930 года Вышинский огласил приговор. Все подсудимые были признаны виновными, а пятерых суд приговорил к смертной казни, которую на следующий день Президиум ЦИК СССР… заменил лишением свободы.
И мая 1931 года Вышинский был назначен Прокурором РСФСР, сменив на этом посту Н. В. Крыленко, ставшего народным комиссаром юстиции республики. Об Андрее Януарьевиче заговорили как о новой восходящей звезде на юридическом небосклоне. Ни одно важное событие в правовой жизни страны, будь то совещания, активы, громкие судебные процессы, особенно по политическим делам, не обходилось без его участия. К этому надо добавить его многочисленные выступления в печати, издание книг и брошюр по правовой тематике, лекции и доклады на разнообразных конференциях и симпозиумах. Он чутко реагировал на все выступления Сталина, тщательно штудировал его статьи и тут же пытался использовать идеи вождя в своей практической деятельности.
15 декабря 1931 года на открытом собрании ячейки ВКП(б) Наркомата юстиции РСФСР Вышинский сделал большой доклад в связи с появлением в печати письма Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма». Он, в частности, сказал: «Для того чтобы быть беспощадными к этим врагам (троцкистам. – Авт.), для того чтобы ошибочно не вступать с ними в дискуссию, мы должны уметь различать этих врагов, знать, где эти враги и в чем их враждебность против нашего дела может проявляться и проявляется». Вышинский, например, указывает на «врагов», засевших в Кассационной коллегии Верховного суда РСФСР, в Ленинградском институте советского права, в Московском юридическом институте (один из студентов имел неосторожность сказать о том, что «партия насильно загоняет крестьян в колхозы»).
В третьем номере журнала «Советская юстиция» за 1932 год появилась статья Вышинского «Культурная революция и органы юстиции». В ней после традиционного восхваления Сталина он писал, что на повестку дня поставлен вопрос о проведении так называемой культурной революции: «Органы юстиции обязаны со всей беспощадностью обрушивать свои удары на головы оказывающих делу культурного строительства сопротивление, пытающихся дезорганизовать ряды борцов культурного фронта». Вышинский умело использует в статье вопиющие факты беззакония против лиц, несущих культуру в массы, и прежде всего учителей. Так, в Черновском районе учительнице, пришедшей в сельсовет за разъяснениями по поводу задержки зарплаты, вымазали лицо чернилами и поставили на лбу печать. В ряде мест задержка выплаты зарплаты учителям на два – четыре месяца стала хронической. В некоторых местах учителям отказывались выдавать промышленные товары, заявляя, что они предназначены только для «сдатчиков молока и яиц». В Средне-Волжском крае два представителя соваппарата угрозами принудили учительницу вступить с ними в половую связь.
5 февраля 1932 года Вышинский подписал циркуляр НКЮ «О привлечении к ответственности должностных лиц за необеспечение школ топливом». В нем органам прокурорского надзора предлагалось самым тщательным образом расследовать все случаи прекращения занятий в школах из-за отсутствия тепла, привлекая к судебной ответственности должностных лиц, в обязанности которых входило снабжение школ топливом.
20 июня 1933 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об учреждении Прокуратуры Союза ССР». В постановлении отмечалось, что Прокуратура СССР учреждается в целях укрепления социалистической законности и должной охраны общественной собственности по Союзу ССР от покушений со стороны противообщественных элементов. Первым Прокурором СССР был назначен известный государственный и политический деятель Иван Алексеевич Акулов, который не был юристом и не имел высшего образования. А. Я. Вышинский стал его заместителем.
Одним из первых громких дел, в расследовании которого принял участие Вышинский уже в новом качестве, было дело об убийстве члена Президиума ЦИК СССР и Политбюро ЦК ВКП(б) С. М. Кирова. Он был убит 1 декабря 1934 года в Смольном недалеко от входа в свой рабочий кабинет. Его убийцу Николаева задержали на месте преступления. На следующий день в Ленинград прибыли Сталин, Ворошилов, Молотов, Жданов, Ежов, Косарев. Ягода, Акулов, Вышинский. Дело принял к своему производству заместитель наркома внутренних дел СССР Агранов, однако «главным следователем» был Сталин, лично допросивший Николаева и заявивший, что «убийство Кирова – дело рук организации». Через несколько дней он добавил: «Ищите убийцу среди зиновьевцев». Эта установка вождя стала для следствия определяющей.
Прокурор СССР Акулов оказался в полной зависимости от работников НКВД, которые разрабатывали только версию Сталина. Формально Акулов, Вышинский и следователь по важнейшим делам А. Р. Шейнин (многим известный как автор книги «Записки следователя» и сценарист фильма «Встреча на Эльбе») тоже допрашивали обвиняемых, но допросы больше походили на оформление предварительно выбитых показаний, да и проводились они под надзором Ежова и Косарева. Вышинский лично допрашивал арестованных по этому делу Мандельштама, Левина, Соколова, Шатского, Хаика, Румянцева, Мясникова. Вместе с Акуловым и Шейниным он вел и последний допрос Николаева. Весь протокол свелся к шести строкам признания: «Виновным себя в предъявленном обвинении признаю. К убийству т. Кирова меня толкнула к(онтр) р(еволюционная) группа Котолынова, и я действовал по поручению этой группы. Я действовал как физический исполнитель всей группы».
Убийство Кирова развязало руки властям для организации массовых репрессий по всей стране. Для того чтобы их проводить, по поручению Сталина срочно изменили процессуальный закон. Установили, что по делам о террористических актах следствие должно заканчиваться в срок не более десяти дней, а обвинительное заключение вручаться за сутки до рассмотрения дела в суде. Эти дела надлежало рассматривать без прокурора и адвоката, по ним не допускались ни кассационное обжалование, ни подача ходатайства о помиловании. Приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение немедленно. Этот порядок был распространен на все так называемые контрреволюционные преступления.
21 декабря Сталин принял Ягоду, У\ьриха, Акулова, Вышинского и Агранова для обсуждения вопроса об организации судебного процесса по обвинению Николаева и других. После этого совещания Вышинский и Шейнин составили обвинительное заключение. Спустя двадцать лет Шейнин откажется от своих «авторских прав» на это «произведение». Он сказал: «Обвинительное заключение писал лично Вышинский. Он же два-три раза ездил с Акуловым в ЦК к Сталину, и тот лично редактировал обвинительное заключение. Я это знаю со слов Вышинского, который восторженно говорил о том, как тщательно и чисто стилистически редактировал Сталин этот документ». 26 декабря Сталин вызвал к себе Ульриха и Вышинского и дал им указание провести процесс в два дня и приговорить всех обвиняемых к расстрелу. Здесь же, в Москве, был составлен приговор по делу.
28—29 декабря 1934 года в Ленинграде в закрытом заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством Ульриха было заслушано уголовное дело по обвинению Николаева, Котолынова, Шатского и других (всего четырнадцать человек) в организации убийства Кирова. Все подсудимые были приговорены к расстрелу. Через час приговор был приведен в исполнение.
3 марта 1935 года ЦИК СССР назначил Вышинского Прокурором СССР. Освобожденный же от этой должности Акулов был переведен секретарем ЦИК СССР, а спустя два года арестован и после скоротечного суда расстрелян.
Вышинский услужливо и безропотно выполнял роль главного инквизитора вождя. Он завладел всеми ключевыми позициями юридической науки и практики. Бывший Прокурор РСФСР А. А. Волин, работавший с Вышинским, рассказывал автору этой книги, что в то время «всюду был слышен голос только его одного. Вообще говоря, Андрей Януарьевич настолько мог приспосабливаться к ситуации, что даже в наступившее демократическое время вполне пробился бы во власть, причем играл бы не последнюю скрипку».
Прокурор одним из первых подхватил тезис Сталина о том, что при определенных условиях «законы придется отложить в сторону». Среди многих научных трудов академика Вышинского особенно высоко в те времена ценилась монография «Теория судебных доказательств в советском праве». Именно в ней приводился один из главных постулатов древних, который активно и гипертрофированно эксплуатировался репрессивной машиной: «Признание обвиняемого – царица доказательств». Особыми директивами НКВД разрешалось добывать это признание с помощью «специальных методов дознания», то есть с помощью пыток. Немногие вышедшие из застенков ГУЛАГа живыми и в своем уме рассказывали об этих «специальных методах» такое, что волосы становились дыбом. Многие из этих методов удивительно напоминают способы дознания святой инквизиции во времена мрачного Средневековья.
На одном из допросов нарком внутренних дел Ежов рассказал, что идею о непригодности гуманного отношения к «врагам народа», отказывавшимся говорить «правду», подал Сталину именно Вышинский во время расследования дела Тухачевского. Сталин на это якобы сказал: «Ну, вы смотрите сами, а Тухачевского надо заставить говорить все и раскрыть свои связи. Не может быть, чтобы он действовал у нас один…» Физическое воздействие на подследственных Ежов называл «санкциями». По его словам, Вышинский заверил, что органы прокуратуры не будут принимать во внимание заявления арестованных о побоях и истязаниях. Как показал Ежов, Вышинскому же принадлежит одобренная Сталиным идея создания так называемых троек, внесудебных органов с широкими полномочиями в составе начальника областного управления НКВД, прокурора области и секретаря обкома партии.
Если первое время с юридическими новациями Вышинского полемизировали, в частности, нарком юстиции Крыленко и выдающийся ученый-юрист, директор Института права Академии наук СССР Пашуканис, то после физического устранения Крыленко, Пашуканиса и других ученых-«спорщиков» в теоретическую схватку с Андреем Януарьевичем уже никто не вступал.
Советские газеты печатали речи прокурора на первых полосах: «Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем – великим Сталиным – вперед и вперед, к коммунизму!» Подобный пафос прикрывал откровенную топорность и нелепость предъявляемых обвинений. Бухарина, например, обвиняли в том, что он начал свою шпионскую деятельность против советского строя… в 1912 году, когда строя еще не существовало вовсе. Но абсурд абсолютно никого не смущал, даже некоторые иностранные журналисты писали, что обвинения скорее всего совершенно правдивы. В кинотеатрах шел документальный фильм «Приговор суда – приговор народа», снятый в марте 1938 года на процессе Бухарина и Рыкова. И с киноэкрана Вышинский, распаляясь, кричал: «Изменников и шпионов расстрелять, как поганых псов! Раздавить проклятую гадину!», призывал уничтожить «вонючую падаль» и «бешеных собак».
Практически все, знавшие его, вспоминали редкостную грубость этого человека. Этим он отличался еще в 1920-х годах – и когда работал ректором МГУ, и в Наркомпросе. Всех поражало наслаждение, с которым он унижал подчиненных, коллег, заслуженных, уважаемых профессоров.
Бывший Главный военный прокурор СССР Н. П. Афанасьев (при Вышинском он занимал должность прокурора Орловского военного округа) рассказывал: «Так каков же был Вышинский? Внешне строгий, требовательный – в общем, человек, чувствующий свой «вес», явно показывающий, что близок к «верхам», и сам являющийся одним из тех, кто на самом верху вершит дела. Таким Вышинский был перед подчиненными. А на самом деле Вышинский был человек с мелкой душонкой – трус, карьерист и подхалим. Так что вся «значимость» Вышинского – позерство и трюки провинциального актера, до смерти боящегося за свою карьеру, а главное, конечно, за свою меньшевистскую шкуру».
Прокурор ревностно исполнял свои обязанности, стараясь преданным служением «отцу народов» загладить свое меньшевистское прошлое и боясь, что ему припомнят не только «грехи молодости», но и деяния настоящего. Ведь он знал очень многое. Не мог Вышинский не помнить и того, какая судьба постигла Николая Васильевича Крыленко, которого он сменил в 1931 году на должности Прокурора РСФСР.
Однако Вышинский, как ни странно, репрессирован не был. Хотя периодически и над ним сгущались тучи. Вспомнить хотя бы Шейнина, когда последнему предлагали дать показания против Вышинского. Незаметно оставив свой пост, в 1940 году он уходит «в дипломатию» и становится заместителем наркома иностранных дел. С первых дней работы в Наркоминделе он занимался отношениями СССР со странами формировавшейся антигитлеровской коалиции, прежде всего с Великобританией. В октябре 1943 года в Москве состоялась конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, которая рассматривала вопросы сокращения сроков войны против гитлеровской Германии и открытия второго фронта. Для участия в работе Европейской консультативной комиссии Вышинский выехал в Алжир. Это был его первый выезд за границу, где он получил первый опыт многосторонней дипломатии.
В феврале 1945 года Андрей Януарьевич Вышинский – член советской делегации на Ялтинской конференции руководителей трех союзных держав.
Победоносное завершение войны было ознаменовано 9 мая 1945 года подписанием Германией Акта о безоговорочной капитуляции. Привез текст акта в Берлин Вышинский, оказавший маршалу Жукову правовую поддержку в столь ответственный момент. Фотография, сделанная на процедуре подписания, зафиксировала его присутствие. После короткого пребывания в Москве он вновь, уже в составе советской делегации, едет в июле в Берлин на Потсдамскую конференцию руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании, которая решала вопросы послевоенного устройства Германии. Вышинский входил в комиссию, руководившую действиями советской стороны на Нюрнбергском процессе, и, нужно признать, немало сделал для успешной работы Нюрнбергского трибунала.
В январе 1946 года Советское правительство назначило Вышинского главой делегации СССР на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Поначалу, выступая, он еще употреблял выражения «наши американские и английские друзья», но очень скоро, по мере усиления «холодной войны», стали крепчать и его речи. Подтверждая, что «демократия – это есть ограничение тирании», он одновременно выступал против «принципа неограниченной свободы». Символично, что, когда в 1948 году ООН принимала Декларацию прав человека, позицию Советского Союза озвучил именно Андрей Януарьевич. Всю жизнь призывавший к расстрелу за любые проявления инакомыслия, теперь он сетовал на то, что в Декларации не прописано право на уличные демонстрации.
Когда Сталин в 1949 году решил, что настала очередь расправиться с одним из самых верных соратников – Молотовым, и убрал его с поста министра иностранных дел СССР, на место Молотова встал не кто иной, как Вышинский, – 7 марта был подписан приказ о его назначении. Тем не менее на собрании сотрудников МИД он требует выполнения не только своих указаний, но и приказов, подписанных ранее Молотовым. Остаются на своих местах и основные руководящие работники МИД. Вместе с тем в своей обычной жесткой манере он отдает ряд распоряжений по укреплению дисциплины среди сотрудников, ограничению их выступлений в печати и использования архивных документов при защите диссертаций.
В октябре 1952 года Вышинский становится кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. Однако уже 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, его звезда стремительно покатилась вниз – он был выведен из Президиума ЦК и освобожден от должности министра иностранных дел. Теперь его назначают только постоянным представителем СССР при Организации Объединенных Наций, в ранге замминистра. В Нью-Йорке тогда уже никто всерьез не воспринимал бывшего прокурора, чья фамилия когда-то вызывала трепетный ужас. Теперь он дал волю своей артистической натуре, и на устраиваемые им концертные номера, в которые он по старой привычке превращал все свои речи, сбегались посмотреть. Человек с моментальной реакцией, блестящей эрудицией, богатейшим лексическим запасом, он славился непредсказуемыми выходками. «Вот он, поджигатель войны!» – мог крикнуть Вышинский, указывая на человека пальцем. 22 ноября 1954 года, за час до начала очередного выступления, во время диктовки предстоящей речи по поводу создания Международного агентства по атомной энергии, он и умер. После его смерти в сейфе нашли заряженный «браунинг», что породило ложные слухи о самоубийстве Вышинского.
Грозный «Ягуарович», как втихую звали его сослуживцы, был примерным семьянином – еще в 1903 году он женился на Капитолине Исидоровне Михайловой и прожил с ней в счастливом браке свыше пятидесяти лет. Дочь Вышинского Зинаида, которую он нежно любил, тоже стала юристом.
Похоронен Андрей Януарьевич в Москве, в Кремлевской стене на Красной площади.
Иван Александрович Ильин (1883–1954)
Духовно-идейный пастырь России
Выдающийся русский философ, ученый-правовед, национальный мыслитель, оратор и публицист Иван Александрович Ильин родился в Москве 28 марта 1883 года.
Он происходил из дворянского рода. Его прадед служил при императоре Павле I коллежским советником, дед возводил Большой Кремлевский дворец, затем стал его смотрителем и комендантом. В Кремле жила вся семья деда. Здесь же родился и отец Ильина – Александр Иванович, его крестным был император Александр II.
Александр Иванович стал впоследствии губернским секретарем, присяжным поверенным и слыл человеком очень добрым и чутким. Мать Ивана Ильина – Каролина Луиза Швейкерт, лютеранка по рождению, после венчания приняла православие, став Екатериной Юльевной Ильиной. Детей у них было пятеро.
Иван Ильин учился в 1-й московской классической гимназии, окончив ее в 1901 году с золотой медалью, что давало право поступления без экзаменов на юридический факультет Московского университета. Под влиянием научного руководителя, известного правоведа Павла Ивановича Новгородцева, у него сразу возник глубокий интерес к философии. В сентябре 1906 года Ильину было предложено остаться в университете, чтобы готовиться к профессорскому званию.
27 августа 1906 года Иван Ильин обвенчался с выпускницей Высших женских курсов Наталией Вокач, с которой они прожили долгую жизнь. Детей у них не было, и после смерти Ивана Александровича все его наследие перешло к ученикам.
В 1909 году Ильин был утвержден в звании приват-доцента по кафедре энциклопедии права и истории философии права Московского университета. В 1910 году стал членом Московского психологического общества. В это же время в журнале «Вопросы философии и психологии» вышла его первая научная работа «Понятие права и силы». После этого он в течение двух лет работал в университетах Германии, Италии и Франции, а по возвращении на родину преподавал на юридическом факультете университета и в других высших учебных заведениях Москвы, занимался научной деятельностью.
После февральской революции, которую Ильин воспринял всего лишь как «временный беспорядок», он включился в активную общественно-политическую деятельность. Летом 1917 года у него вышли пять актуальных брошюр: «Партийная программа и максимализм», «О сроке созыва Учредительного собрания», «Порядок или беспорядок?», «Демагогия и провокация». Осенью в газете «Утро России» под псевдонимом Петер Юстус он напечатал серию статей: «Куда идет революционная демократия?», «Отказ г. Керенского», «Чего ждать?», «Кошмар», «Кто они?», «Корень зла».
После октябрьского переворота Ильин сразу же включился в борьбу с большевиками. Вскоре в газете «Русские ведомости» он выступил с пламенной статьей «Ушедшим победителям». В ней Ильин разоблачал новую власть и предвещал ей неизбежный крах. Иван Александрович установил связь с организатором Белого движения на Юге России генералом Алексеевым, за что в 1918 году трижды арестовывался ЧК, был судим Московским революционным трибуналом, однако его оправдали за недостаточностью улик.
Публичная защита работы «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» стала настоящим триумфом ученого. И. А. Ильину единогласно присудили сразу две степени – магистра и доктора государственных наук, а вскоре он стал профессором Московского университета. Его научный труд по сей день считается лучшим в мире комментарием философии Гегеля.
В августе 1919 года ЧК вновь выдала ордер на арест Ильина. Формально он проходил по делу «ЦК кадетов», хотя ни в какой партии никогда не состоял. Он скрывался у друзей, и дело кончилось только обыском в его квартире. В феврале 1920 года Ивана Александровича все же арестовали по знаменитому делу контрреволюционной организации «Тактический центр», куда входили «Союз возрождения России», «Совет общественных деятелей», «Национальный центр». Однако (говорили, что по настоянию Ленина) через два дня его отпустили.
Последний раз он был арестован в сентябре 1922 года. Обвинение звучало так: «…с момента октябрьского переворота до настоящего времени не примирился с существующей в России властью». По постановлению Коллегии ГПУ И. А. Ильин был приговорен к высылке за границу, причем возвращение на родину немедленно повлекло бы для него смертную казнь. На пароходе «Oberbergermeister Hacke», в числе других высланных философов, ученых и литераторов, он с женой 26 сентября 1922 года отбыл в Германию.
Прожитые в Советской России тяжелые годы тем не менее помогли русскому философу объективно понять и осознать трагические события, произошедшие на его Родине. И уже в эмиграции он осмыслил и обобщил свои наблюдения.
«Уходят ли от постели больной матери? – писал И. Ильин. – Да еще с чувством виновности в ее болезни? Да, уходят – разве только за врачом и лекарством. Но, уходя за лекарством и врачом, оставляют кого-нибудь у ее изголовья.
И вот – у этого изголовья мы и остались».
В жизни философа начался новый период. Иван Александрович сразу же активно включился в жизнь русских эмигрантов Берлина. В 1922 году Ильин выступил с речью перед русскими коллегами-изгнанниками:
«Для меня Отечество не столько географическое или этнологическое понятие, сколько духовное. Любой народ живет ради того, чтобы стать духовнее, чтобы создать свою духовную культуру. И вот эту целостность духовно-национальной культуры мы называем Отечеством. Душа, утрачивая в себе животные начала, становится духом тогда, когда тянется к вечному, когда жаждет Божественного, когда ее мысль мыслит бессмертным и создает бессмертное в смертном.
…Вот почему разлука существует только с географическим и этнологическим субстратом, но никак не с Отечеством. Где бы я ни был и что бы я ни делал, мое Отечество всегда во мне как духовная сущность моей души, меня самого. У патриота вся жизнь пропитана Отечеством; ход его мыслей, ритм его воли, огонь его страстей – все связано с Отечеством по его душевному складу и устремлениям. Невозможно лишить Родины человека духовного; невозможно заставить его жить без нее. С нею разлучить его может только смерть, потому что, опять же, Родина стоит того».
В эмиграции Ильин стал одним из основателей открывшегося в феврале 1923 года Русского научного института, в котором одиннадцать лет был профессором и читал там двенадцать систематических курсов, среди которых «Энциклопедия права», «История этических учений», «Введение в философию и эстетику», «Учение о правосознании», «Методология юридических наук» и другие, а также шесть эпизодических («О формах государственного устройства», «Основы советского государства», «О духовных причинах революции в России» и т. д.). Этот внушительный список говорит об энциклопедической широте его познаний, сочетавшейся с исключительно глубоким проникновением в суть предмета, а также о колоссальной работоспособности.
В 1923–1924 годах Иван Александрович стал деканом юридического факультета Русского научного института. Со своими лекциями он объездил почти все страны Европы, читая их на нескольких языках.
В 1924 году Ильин был избран членом-корреспондентом Славянского института при Лондонском университете.
В эмиграции у Ильина открылся еще один талант – он стал страстным публицистом. Не только сами научные идеи, но и тот пафос, с которым они высказывались, привлекали к ним всеобщее внимание.
Главным для Ильина в его научно-педагогической деятельности было учение о правосознании, созданное им еще в Советской России. И его заслугой является описание права как духовной сущности, а правосознания как расширения и утончения человеком своего внутреннего духовного опыта.
Он четко сформулировал три аксиомы правосознания: чувство собственного духовного достоинства, способность к самообязыванию и самоуправлению, взаимное уважение и доверие людей друг к другу.
Кроме того, «им выведены» шесть аксиом государственной власти: 1) государственная власть не может принадлежать никому, помимо правового полномочия; 2) государственная власть в пределах каждого политического союза должна быть едина; 3) государственная власть всегда должна осуществляться лучшими людьми, удовлетворяющими этическому и политическому цензу; 4) политическая программа может включать в себя только такие меры, которые преследуют общий интерес; 5) программа власти может включать в себя только осуществимые меры или реформы; 6) государственная власть принципиально связана распределяющей справедливостью, но она имеет право и обязанность отступать от нее тогда и только тогда, когда этого требует поддержание национально-духовного и государственного бытия народа.
В 1926 году в Белграде в издательстве «Общества галлиполийцев» вышла брошюра Ильина «Родина и мы» – своего рода программа Белого русского движения на далекую перспективу.
В июле 1924 года Ильин начал писать свою знаменитую книгу «О сопротивлении злу силою», которую он посвятил «Белым воинам, носителям православного меча, добровольцам русского государственного тягла!». Философское исследование сочеталось здесь со страстной злободневностью, поэтому книга не устарела за долгие годы. Против книги резко выступили 3. Гиппиус, И. Бердяев, Ф. Степун и другие известные деятели эмиграции. Горький грубо отозвался о ней в письме Пришвину. Однако книгу Ильина активно поддерживали идеологи Белого движения, считая ее своим знаменем, – долгое время это служило существенным препятствием не только для издания его трудов, но даже для упоминания его имени в СССР.
Ильин был одним из главных организаторов Русского зарубежного съезда 1926 года, его делегатом (имел два голоса). На съезде своей яркой и глубокой речью он призывал участников преодолеть политическую болезнь «партийности» и партийную психологию. «Ибо и в будущем цвести нашей родине только под Царем и мучиться и чахнуть ей в интригах республиканской партийности», – прямо высказал он свои монархические взгляды. «Духовное разложение наших дней должно быть изучено, опознано, вскрыто и формулировано. И тогда найдутся его преодоления», – так чутко реагировал философ на материальные причины трагедии России.
В отличие от социалистов, он не отвергает, а пытливо изучает многогранную суть частной собственности: «Подобает ли творческому духовному центру (человеку) иметь на земле некое прочное, вещественное гнездо, предоставленное ему и обеспеченное за ним, – гнездо его жизни, его любви, деторождения, труда и свободной инициативы?», «Возможен ли дух без свободы и творчества?», «Возможны ли свобода и творческая инициатива без частной собственности? И если подобает, если возможно, то в силу чего и на каких условиях?»
Ученик Ильина Роман Редлих вспоминал: «Ильин любил Россию сознательно и страстно. Он ненавидел большевизм и хорошо понимал его природу. Также безошибочно он усмотрел и природу гитлеризма, едва тот начал входить в силу. Никогда не забуду вечера у него в кабинете в 1936 году и его совершенно точного описания грядущего похода Гитлера в Россию».
В 1934 году Ильин, который помогал Веймарскому правительству бороться против коммунизма, отказывается следовать указаниям нацистов. Его увольняют из Русского научного института. В течение нескольких лет еще удается издавать в Германии книги и читать лекции, но вскоре последовал категорический запрет и на это. Философу угрожал арест и заключение в концлагерь.
Летом 1938 года с помощью своих друзей и учеников ему удалось бежать в Швейцарию, где он и провел последние пятнадцать лет своей жизни. Швейцария согласилась выдать вид на жительство, однако Ильин был ограничен в правах: ему не было предоставлено право на работу и запрещена политическая деятельность. Но творческая жизнь продолжалась своим чередом. Иван Александрович писал, читал лекции на русские темы, объединенные общим названием «Сущность и своеобразие русской культуры», которые переросли в лекции о Пушкине, Гоголе, Достоевском, Толстом, Шаляпине, русской сказке, древнерусской архитектуре, о юродивых во Христе и других.
В этот период благодаря меценатской поддержке Шарлотты Барсейсс, слушательницы и поклонницы Ивана Александровича, вышел в свет трехтомник его философско-художественной прозы: «Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий», «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний» и «Взгляд в даль. Книга размышлений и упований». «Эти три книги, – писал его ученик Роман Зиле, – представляют собою совершенно своеобразное литературное творчество – это как бы сборники не то философских эскизов, не то художественных медитаций, не то просветительно-углубленных наблюдений на самые разнообразные темы, проникнутые одним единым творческим писательским актом – во всем видеть и показать Божий луч».
Через все творчество Ильина удивительным образом красной нитью проходит тема России. «Три речи о России» – это уникальный гимн своей родине и своему народу. С научной точностью Ильин исследовал не только их достоинства, но и недостатки. Он с горечью писал: «…не только отпала тысячелетняя государственная форма, но водворилась не «российская республика», как о том мечтала революционная полуинтеллигенция левых партий, а развернулось всероссийское бесчестие, предсказанное Достоевским, и оскудение духа; а на этом духовном оскудении, на этом бесчестии и разложении вырос государственный Анчар большевизма, пророчески предвиденный Пушкиным, – больное и противоестественное древо зла, рассылающее по ветру свой яд всему миру на гибель».
«Что сулит миру расчленение России» – так называется известная статья Ильина, где он говорит о внешних силах, пагубно влияющих на Россию: «…мировая закулиса хоронит единую национальную Россию. Не умно это. Не дальновидно. Торопливо в ненависти и безнадежно на века. Россия не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не спаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно! Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!»
Почему же великий философ так верил в будущее России, отстаивал ее честь и достоинство?
«…Быть русским – значит созерцать Россию в Божьем луче, в ее вечной ткани, ее непреходящей субстанции, и с любовью принимать ее, как одну из главных и заветных святынь своей личной жизни. Быть русским – значит верить в Россию так, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и ее строители. Только на этой вере мы сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу. Может быть, и не прав Тютчев, что «в Россию можно только верить», – ибо ведь и разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна увидать ее земное величие и ее духовную красоту, и воле надлежит совершить и утвердить в России многое. Но и вера необходима: без веры в Россию нам и самим не прожить, и ее не возродить».
Актуально и сегодня убеждение Ивана Ильина в том, что «России необходимо новое правосознание», которое должно «оберегать себя от западного формализма: для того чтобы создать такое правосознание, русское сердце должно увидеть духовную свободу, как предметную цель права и государства, и убедиться в том, что в русском человеке надо воспитать свободную личность с достойным характером и предметною волею. России необходим новый государственный строй, в котором свобода раскрыла бы ожесточенные и утомленные сердца, чтобы сердца по-новому прилепились бы к родине и по-новому обратились к национальной власти с уважением и доверием. Это открыло бы нам путь к исканию и нахождению новой справедливости и настоящего русского братства».
Ильин руководствовался очень высокими нравственными требованиями, которые предъявлял России и россиянам. Он сомневался, что «новое рассудочное экономическое доктринерство, по-коммунистически слепое и противоестественное», вряд ли доведет до добра. Россия в будущем, по мнению Ильина, должна «осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую христианским духом любви и созерцания, свободы и предметности».
Строить государство – это значит «воспитывать в народе государственный образ мыслей, государственное настроение чувств, государственное направление воли». В своей речи «Об основных задачах правоведения в России», прочитанной незадолго до отъезда в эмиграцию, весной 1922 года, Иван Ильин провидчески заявил: «России необходимо поколение прозревших и перевоспитавших себя правоведов, которые сумели бы начертать и осуществить систему верного социального воспитания – воспитания в массе нормального субъекта права». Суждения Ильина о национальном образе и характере не лишены критического взгляда на определенный тип русского человека: «как властвующий – он взяточник, вымогатель и самодур, не умеющий и не желающий отличать публичное благо от частного и жертвовать вторым – первому». В себе, в своем сознании (правосознании) следует искать причины неудач, неприятностей, разлада и «не жмуриться перед лицом событий». И лишь тогда возможно обрести правовое и государственное видение фактов.
Со всей серьезностью относился он к миссии политиков и хотел чтобы они и сами осознали это: «…политика невозможна без идеала; политика должна быть трезво-реальной. Нельзя без идеала: он должен осмысливать всякое мероприятие, пронизывать своими лучами и облагораживать всякое решение, звать издали, согревать сердца вблизи… Политика не должна брести от случая к случаю, штопать наличные дыры, осуществлять безыдейное и беспринципное торгашество, предаваться легкомысленной близорукости. Истинная политика видит ясно свой «идеал» и всегда сохраняет «идеалистический» характер.
И в то же время политика должна быть трезво-реальной. Ее трезвый «оптимум» не должен покоиться на иллюзиях и не смеет превращаться в химеру…Истинная политика – сразу идеалистична и реалистична. Она всегда смотрит вдаль, вперед – на десятилетия или даже на столетия; она не занимается торгашеством по мелочам. И в то же время она всегда ответственна и трезва и не считается с утопиями и противоестественными химерами. Политика без идеи оказывается мелкой, пошлой и бессильной; она всех утомляет и всем надоедает».
С точки зрения Ильина, для взятия высокой «государственной планки» русскому народу необходимо духовное обновление: «…что же мы предлагаем и что мы будем пожизненно отстаивать? Прежде всего мы не верим и не поверим ни в какую «внешнюю реформу», которая могла бы спасти нас сама по себе, независимо от внутреннего, душевно-духовного изменения человека… Невозможно, чтобы дрянные люди со злою волею обновили и усовершенствовали общественную жизнь. Жадный пустит в ход все средства; продажный все продаст; человек, в коем Бога нет, превратит всю жизнь в тайное и явное преступление…Все великое и священное идет изнутри – от сердечного созерцания; из глубины – от постигающей и приемлющей любви; из таинственной духовности инстинкта; от воспламенившейся воли; от узревшего разума; от очистившегося воображения. Если внутри смутно, нечисто, злобно, жадно, скверно, то не поможет никакая внешняя форма, никакой запрет, никакая угроза, никакое «избирательное право», особенно всеобщее, равное и прямое».
Ильин всегда считал, что возрождение России зависит от гражданского долга и воли личности русского человека: «Когда русские патриоты говорят о возрождении России, то они представляют себе обычно восстановление достойной государственной формы, возобновление осмысленного хозяйства, основанного на частной собственности, и возрождение свободной русской культуры. Кажется, что вот рухнет тоталитарный режим, прекратится вмешательство коммунистического государства во все сферы человеческой жизни, возродится вольная, творческая инициатива – и Россия встанет, как долго спавший богатырь… Мы совершенно не сомневаемся в том, что все указанное необходимо и что оно будет полезно и значительно, но постоянно с грустью думаем о том, что всего этого мало; что есть еще нечто, значительнейшее и глубочайшее, такое, что здесь не упомянуто, но что составляет самое естество человеческого бытия: это личные качества и тяготения человека; это то, как он поведет себя в личной жизни; и еще глубже: это его вера, его совесть и верность; это его характер; это то, что он способен совершить в общественной жизни и чего не может не сделать…Чем больше порочности будет гнездиться за ширмами парламента и всех учреждений, тем ближе государство будет к смуте и разрухе, тем непосильнее будут ему исторические испытания…Россия рухнула на наших глазах не потому, что русский человек был силен во зле и злобе, наподобие немцев, а потому, что он был слаб в добре; и в роковой час истории (1917) он не сумел извлечь из своего добродушия и утомления, из своей улыбчивой, песенной и ленивой души – ту энергию воли, ту решимость поступка, то искусство организации, то умение сопротивляться злу силою, которых потребовал от него час испытаний. Русский человек оказался слабым в добре…»
Отголоски идей Ильина можно найти в «Красном колесе» Солженицына.
Иван Александрович никогда не обладал крепким здоровьем, часто и подолгу болел. Умер он в пригороде Цюриха, в больнице, 21 декабря 1954 года.
На его могиле был установлен надгробный камень, на котором высечена эпитафия, составленная самим Ильиным:
Все прочувствовано
Так много выстрадано
С любовью созерцаемо
Немало прегрешений
И мало понято
Спасибо Тебе, Вечная Доброта!
Богатое творческое наследие Ильина – это более сорока книг и брошюр, более шестисот статей, более ста лекций, огромное количество писем, часть незаконченных работ, стихотворения, поэмы, шуточные поэтические и прозаические опусы, воспоминания, документы, которые сохранились во многих архивах разных стран.
После смерти жены философа в 1963 году его архив был переправлен в США. Ученик Ильина, профессор Питтсбургского университета Н. П. Полторацкий, в том же году создал Архив И. А. Ильина в Мичиганском университете библиотек, содержащий сто ящиков рукописей и документов. По завещанию философа его архив после его смерти в 2006 году передан Московскому университету.
Сам Ильин не мог предполагать о предстоящем своем упокоении на родной земле, эта мечта казалась несбыточной. Но осенью 2005 года прах Ивана Александровича Ильина и его жены Наталии Николаевны был предан земле в некрополе Донского монастыря.
Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883–1938)
«Чувствую напряженность борьбы»
Владимир Александрович Антонов-Овсеенко родился 9 марта 1883 года в Чернигове в семье потомственного дворянина. В одиннадцатилетнем возрасте мальчика отдали в Воронежский кадетский корпус, где он проучился семь лет. В 1900 году его зачислили в Николаевское военно-инженерное училище в Петербурге. Однако пылкая натура юноши требует чего-то другого – весной 1902 года он вдруг покидает родительский дом и начинает самостоятельную жизнь. Первое время Владимир работает в Петербурге, в Александровском порту чернорабочим, а потом кучером в Обществе покровительства животным. Осенью того же года Антонов-Овсеенко становится слушателем Петербургского юнкерского пехотного училища. Там он сразу решительно вступил на путь революционной борьбы: поддерживал связь с социалистами-революционерами, получал нелегальную литературу, вел агитацию среди юнкеров. В 1903 году он познакомился с большевиком Стомояновым (партийная кличка Кузнецов) и через него связался с партийной организацией. После производства в офицеры в июле 1904 года В. А. Антонов-Овсеенко начал службу в 40-м пехотном Колыванском полку, который тогда стоял в Варшаве. Там он находит выход своей энергии – ему удается создать одну из первых в царской армии военно-революционных организаций. Военная служба мало занимала молодого офицера – он со всем пылом отдался революционной работе. По поручению петербургской организации большевиков он много ездит по России – посещает Москву, Екатеринослав, Одессу, Киев, Вильно и везде ведет политическую пропаганду и агитацию.
В 1905 году В. А. Антонов-Овсеенко вступил в члены РСДРП, оставил военную службу в чине подпоручика и теперь уже полностью перешел на нелегальное положение. С этого времени вся его жизнь – сплошной приключенческий роман: аресты, приговор к смертной казни, побеги, перестрелки, создание военных организаций, участие в подготовке восстания, выпуск подпольной литературы (статьи писал под псевдонимом Штык) и другие события.
В 1910 году В. А. Антонову-Овсеенко все-таки пришлось покинуть Россию. За границей он пробыл до мая 1917 года, пока Временное правительство не объявило амнистию всем лицам, занимавшимся при царском режиме революционной деятельностью. Возвратившись на родину, Владимир Александрович вступает в партию большевиков и по ее поручению проводит большую работу в Гельсингфорсе (Хельсинки) среди моряков Балтийского флота.
Октябрьская революция – одна из ярчайших страниц биографии В. А. Антонова-Овсеенко. Именно ему совместно с Н. И. Подвойским и Г. И. Чудновским было поручено захватить Зимний дворец и арестовать Временное правительство.
На II Всероссийском съезде Советов В. А. Антонов-Овсеенко вместе с прапорщиком Н. В. Крыленко и матросом П. Е. Дыбенко (председателем Центробалта) был введен в Совнарком членом коллегии Народного комиссариата по военным и морским делам. Тогда же его назначают командующим Петроградским военным округом. Но уже 6 декабря он направляется командовать армией на Украину, где красногвардейцы вели ожесточенную борьбу с войсками атамана Каледина и Центральной рады. С марта по май 1918 года он занимал должность командующего войсками юга России, наряду с этим выполняя обязанности члена Реввоенсовета республики. В сентябре – начале ноября того же года он командовал 2-й и 3-й армиями, в ноябре – декабре Курской группой, а в январе-июне 1919 года Украинским фронтом. В июле 1919 года В. А. Антонов-Овсеенко был отозван с фронта и направлен уполномоченным ВЦИК на борьбу с голодом вначале в Витебскую, а затем в Тамбовскую губернию. Еще несколько лет Антонова-Овсеенко почти беспрерывно перебрасывали с одной должности на другую. В апреле 1920 года он уже заместитель председателя Плавкомтруда и член коллегии Наркомтруда; с ноября 1920-го по январь 1921 года – член коллегии Наркомата внутренних дел и заместитель Председателя Малого Совнаркома; с середины января по февраль 1921 года – уполномоченный ВЦИК по Пермской губернии (председатель Совета, губкома и губполитпросвета); в феврале – июле 1921 года вновь в Тамбовской губернии, но на этот раз в качестве представителя ВЦИКа по ликвидации бандитизма. В октябре его направляют на борьбу с голодом в Самару председателем губернского исполкома.
В октябре 1922 года Антонов-Овсеенко становится начальником Политуправления РККА и членом РВС республики. На этой должности он оставался до января 1924 года и снят был за то, что открыто примкнул к оппозиции. Затем его перевели в систему Народного комиссариата иностранных дел. С этого времени, вплоть до назначения на пост прокурора республики, В. А. Антонов-Овсеенко в течение более десяти лет выполнял ответственные дипломатические поручения в Чехословакии, Литве и Польше.
25 мая 1934 года В. А. Антонов-Овсеенко стал прокурором республики. Его приход в прокуратуру совпал с активно начавшейся работой по ее централизации. В Российской Федерации эта тенденция проявилась особенно четко. Прокуратура республики, хотя формально еще и входила в систему Наркомюста, но уже все явственнее проявляла свою самостоятельность и все более зависела лишь от Прокуратуры Союза ССР.
Владимир Александрович не был юристом и никогда не служил в правоохранительных органах. С работой прокуратуры и суда он был знаком лишь исходя из своего опыта политического арестанта царских тюрем, и все же отсутствие профессиональных навыков не помешало ему сразу же активно включиться в работу. Помог большой жизненный опыт революционера, военачальника и дипломата.
В то время вся деятельность органов прокуратуры, как и других центральных учреждений, направлялась мощной рукой ЦК ВКП(б), который принимал основополагающие решения по вопросам государственного, хозяйственного и партийного строительства. Отступления от генерального курса считались недопустимыми, пресекались и жестоко карались. Стержневым для органов прокуратуры в те годы было, конечно, постановление ЦИК СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О революционной законности». Поэтому В. А. Антонов-Овсеенко как прокурор республики стремился четко и твердо проводить его в жизнь.
В личном общении он был исключительно простым и доступным человеком. Прокурор А. Красносельский вспоминал: «Сотрудники заходили в кабинет Владимира Александровича в любое время дня, как к своему старшему товарищу». В то же время Антонов-Овсеенко строго спрашивал с тех, кто проявлял нерешительность в борьбе с нарушениями законов, халатно относился к своим служебным обязанностям, вставал на путь злоупотреблений и беззакония. Таких работников прокуратуры он не только освобождал от должности, но и отдавал под суд.
Прокурором республики В. А. Антонов-Овсеенко оставался чуть более двух лет. В сентябре 1936 года он был назначен генеральным консулом в Барселоне. Именно в этот период в ЦК ВКП(б) стали появляться материалы, серьезно его компрометирующие. В конце 1936 года секретарь Куйбышевского райкома партии получил записку от секретаря парткома Наркомюста об «ошибках троцкистского характера», допущенных В. А. Антоновым-Овсеенко в бытность его прокурором республики.
Какие же ошибки Антонова-Овсеенко партийные функционеры относили к «троцкистским»? Оказывается, 31 января 1936 года на общем собрании сотрудников Наркомюста РСФСР Антонов-Овсеенко, развивая тезис о том, что классовая борьба внутри страны не завершилась, сказал, что еще «существуют классовые противоречия между рабочим классом и колхозным крестьянством, так как колхозы еще не являются вполне социалистической формой хозяйства» и что «колхозы лишь близки к социалистической форме хозяйства».
Бдительный секретарь рассмотрел в этом тезисе «троцкистский характер» и вынес этот вопрос на обсуждение парткома, где от В. А. Антонова-Овсеенко потребовали объяснений. Судя по записке, Владимир Александрович не дал «надлежащей большевистской развернутой критики этих ошибок» и не признал их «троцкистскими». Он пытался объяснить, что в своем выступлении сказал не о «классовых противоречиях» между рабочими и крестьянами, а просто о «противоречиях». Но секретарь продолжал «нажимать» на прокурора республики, в этом его поддержал присутствовавший на заседании парткома Н. В. Крыленко. Только тогда В. А. Антонов-Овсеенко признал, да и то с оговорками, что им допущена политическая ошибка.
Следующий вмененный ему «криминал» выглядел гораздо серьезнее. Спецколлегия краевого суда в марте 1936 года приговорила по части 2 статьи 109 и статье 58–10 УК РСФСР (контрреволюционная агитация) к 7 годам лишения свободы бывшего заведующего отделом агитации и пропаганды Балахинского РК ВКП(б) Сенаторова-Жирякова. Он обвинялся в том, что, читая лекции по истории партии на курсах сельских и городских пропагандистов и оглашая выдержки из так называемого завещания Ленина, извратил этот документ «в троцкистском контрреволюционном духе», сказав, что Ленин рекомендовал на пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Зиновьева. Кроме того, Сенаторов-Жиряков в июне 1935 года на заводе «Труд» в разговоре с рабочим Озеровым о перебоях в снабжении хлебом якобы сказал, что бороться с подобными безобразиями надо путем забастовок. Кассационная инстанция Верховного суда РСФСР оставила приговор в отношении Сенаторова-Жирякова без изменений. Однако Антонов-Овсеенко с этим не согласился и опротестовал приговор в Президиум Верховного суда РСФСР. В своем протесте прокурор республики утверждал, что троцкистского толкования завещания Ленина со стороны Сенаторова-Жирякова материалами дела не установлено. Президиум Верховного суда РСФСР оказался не столь смелым, как прокурор, и отклонил протест.
Летом 1937 года В. А. Антонов-Овсеенко был отозван из сражающейся Испании в Москву, а 15 сентября назначен народным комиссаром юстиции РСФСР. К этому времени судьба его была фактически предрешена. Знал ли он об этом, догадывался ли, сказать трудно – скорее всего догадывался, так как внезапные вызовы для получения «нового назначения» тогда ничего хорошего не сулили. Он вернулся в Москву и сразу же с головой ушел в работу. Владимир Александрович жил в то время вместе с женой Софьей Ивановной и пятнадцатилетней падчерицей Валентиной на Новинском бульваре, в так называемом Втором доме Совнаркома. Он был женат в третий раз. Первая его жена умерла во время Гражданской войны от тифа, со второй брак не сложился, и они разошлись. У Владимира Александровича было четверо детей: сыновья Владимир и Анатолий, дочери Вера и Галина. С Софьей Ивановной они познакомились в конце 1920-х годов в Чехословакии.
В конце сентября 1937 года Софья Ивановна уехала в Сухуми на лечение. В письмах к жене Антонов-Овсеенко иногда касался своих служебных дел. В одном из них явственно звучали тревожные нотки. За день до ареста, 10 октября 1937 года, он писал: «…чувствую напряженность борьбы».
Предчувствия не обманули – В. А. Антонов-Овсеенко был арестован в ночь с 11 на 12 октября 1937 года. Ордер на арест был подписан заместителем наркома внутренних дел Фриновским. Сразу же были произведены обыски в его квартире, в служебном кабинете и на даче в поселке Николина Гора. Владимир Александрович был доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД, а 13 октября 1937 года направлен в Лефортовскую, где он находился до 17 ноября. Затем его перевели в Бутырскую тюрьму. Там он содержался до 8 февраля 1938 года, потом вновь возвратили в Лефортовскую.
В тюрьме Владимира Александровича вызывали на допросы не менее пятнадцати раз, иногда по два раза в день, причем семь раз допрашивали по ночам. Наиболее продолжительным был первый ночной допрос 13 октября – он длился семь часов. Допрашивали Антонова-Овсеенко в основном работники госбезопасности Ильицкий и Шнейдерман. Первые двое суток он категорически отвергал все возводимые на него обвинения, говорил, что ни в чем не виноват, что допущена ошибка, и требовал от следователя предоставить ему «уличающие материалы». Затем, видимо, не выдержал нажима – появилось его короткое «признательное» письмо на имя Ежова. В нем Антонов-Овсеенко писал: «Контрреволюционный троцкизм должен быть разоблачен и уничтожен до конца. И я, оруженосец Троцкого, раскаиваясь во всем совершенном против партии и Советской власти, готов дать чистосердечные признания. Надо прямо сказать, что обвинение меня врагом народа правильно. Я на деле не порвал с контрреволюционным троцкизмом… Эта контрреволюционная организация ставила себе целью противодействие социалистическому строительству, содействие реставрации капитализма, что ее смыкало по существу с фашизмом… Я готов дать развернутые показания следствию о своей антисоветской, контрреволюционной работе, которую осуществлял и в 1937 году».
Можно с уверенностью предположить, что после вырванного у В. А. Антонова-Овсеенко признания он вновь отказался от своих показаний и стал все отрицать. Лишь этим можно объяснить тот факт, что, несмотря на неоднократные вызовы к следователю, протоколы допросов не составлялись. В них просто нечего было писать. Потом следователи все-таки заставили его вернуться к признательным показаниям.
Обвинительное заключение по делу В. А. Антонова-Овсеенко было составлено работником госбезопасности Ильицким и утверждено 5 февраля 1938 года заместителем Прокурора СССР Рогинским. Он обвинялся в том, что еще в 1923 году, работая начальником ПУРа, совместно с А. Д. Троцким разрабатывал план вооруженного выступления против Советской власти, а затем, занимая должность полпреда в Чехословакии, Литве и Польше, вел «троцкистскую деятельность в пользу польской и германской военных разведок». Не забыт был и испанский период службы. В обвинительном заключении указывалось, что Антонов-Овсеенко вошел в организационную связь с германским генеральным консулом и фактически руководил троцкистской организацией в Барселоне в «борьбе против Испанской республики».
Ордер на арест жены В. А. Антонова-Овсеенко Софьи Ивановны был выдан 12 октября 1937 года. На следующий день в Абхазию, где она тогда отдыхала, полетела шифрованная телеграмма, а 14 октября ее уже арестовали в Сухуми, прямо в доме отдыха «Синоп», и этапировали в Москву.
Первый допрос произвел 28 октября 1937 года сотрудник госбезопасности Шнейдерман, занимавшийся делом ее мужа (по оплошности он поставил дату 28 сентября). После этого Софью Ивановну не допрашивали (во всяком случае, протоколов допросов в деле нет). Ей даже не объявили об окончании следствия, которое затянулось до начала февраля 1938 года. Обвинительное заключение составил тот же Ильицкий, а утвердил заместитель Прокурора СССР Рогинский.
Она обвинялась в том, что была осведомлена о шпионской связи Антонова-Овсеенко и Радека с польской разведкой, а также о деятельности троцкистской террористической организации. Виновной она себя не признала.
Дела Владимира Александровича и Софьи Ивановны Антоновых-Овсеенко рассматривались Военной коллегией Верховного суда СССР в один день – 8 февраля 1938 года. Судейская «бригада» была одна и та же: председатель Ульрих, члены Зарянов и Кандыбин и секретарь Костюшко. Заседания были закрытые и проводились без участия обвинения и защиты, без вызова свидетелей.
В 19 часов 55 минут началось слушание дела С. И. Антоновой-Овсеенко. Она сразу же заявила, что виновной себя не признает, с польской разведкой связана не была, а также не знала, что ее муж является шпионом. В последнем слове Софья Ивановна сказала, что она ни в чем не виновата и верит в справедливость Советской власти.
Короткий приговор был вынесен за несколько минут. В нем Ульрих еще более усугубил ее «вину», записав, что она оказывала содействие в шпионской деятельности некоторым лицам (этого не было даже в обвинительном заключении). Военная коллегия приговорила С. И. Антонову-Овсеенко к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества. Приговор был приведен в исполнение в тот же день.
Судебное заседание по делу В. А. Антонова-Овсеенко открылось в 22 часа 40 минут. На нем Владимир Александрович тоже заявил, что виновным себя не признает, свои показания, данные на предварительном следствии, не подтверждает и дал их ложно. Шпионажем он не занимался и троцкистом никогда не был, был только примиренцем. О своих ложных показаниях на предварительном следствии он подавал заявление, но ответа на него не получил. В последнем слове он просил провести дополнительное расследование, так как он оговорил себя.
Понятно, что это заявление никак не повлияло на приговор суда, он был кратким и предельно жестким – расстрел с конфискацией имущества. Судебное заседание закрылось через 20 минут, в 23 часа. Приговор привели в исполнение 10 февраля 1938 года.
После гибели Владимира Александровича и Софьи Ивановны репрессии обрушились и на их детей, высланных из Москвы в административном порядке.
В первые годы «оттепели» родственники В. А. и С. И. Антоновых-Овсеенко обратились в Генеральную прокуратуру СССР с просьбой о пересмотре их дел. В Главной военной прокуратуре изучением их занялся подполковник юстиции Ф. Р. Борисов. Он подготовил аргументированные заключения о прекращении дел В. А. Антонова-Овсеенко и С. И. Антоновой-Овсеенко за отсутствием в их действиях состава преступления. С этими заключениями согласился Генеральный прокурор СССР.
25 февраля 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор в отношении Владимира Александровича Антонова-Овсеенко и полностью его реабилитировала, а 4 августа 1956 года была также реабилитирована и Софья Ивановна.
Николай Васильевич Крыленко (1885–1938)
«Пусть суд истории судит нас…»
2 мая 1885 года в глухой деревушке Бехтеево Сычевского уезда Смоленской губернии в семье политического ссыльного Василия Абрамовича Крыленко и его жены Ольги Александровны (урожденной Трипецкой) родился сын Николай. В десятилетнем возрасте мальчик начал учиться в Люблинской классической гимназии, окончил ее в 1903 году и поступил в Санкт-Петербургский университет. Первое время увлеченный серьезной наукой юноша не проявлял особенного интереса к студенческому движению, хотя и был, по собственному признанию, «пропитан ярким оппозиционным настроением». На нелегальной сходке студентов университета Николай Крыленко впервые выступил 18 октября 1905 года. Ораторскими способностями он обладал прекрасными, поэтому сразу же привлек к себе внимание руководителей эсеров и эсдеков, предложивших вступить в их партии, но Николай Васильевич выбрал партию социал-демократов и примкнул там к большевикам. С этого времени начинается его революционная деятельность. Он сразу вошел в группу содействия при партийном комитете РСДРП (б) и участвовал во всех студенческих сходках уже как агитатор-пропагандист. Во время московского вооруженного выступления в декабре 1905 года Николай Васильевич был легко ранен в ногу. После выписки из больницы, скрываясь от преследования, он выехал из столицы – и смог возвратиться в Петербург лишь в феврале 1906 года, а в июне того же года ему пришлось эмигрировать. По возвращении он дважды был арестован и предан военно-окружному суду, но суд неожиданно его оправдал.
В декабре 1907 года после очередного ареста Н. В. Крыленко был выслан из Петербурга в «порядке охраны» в Люблин, где пробыл до осени 1908 года. В этот сложный для него период Николай Васильевич не теряет времени – он серьезно переосмысливает свои взгляды, много занимается, пишет книгу «В поисках ортодоксии». Весной 1909 года ему удалось окончить университет и получить диплом.
В 1912 году Н. В. Крыленко призвали в армию, и здесь революционная волна снова захлестнула его кипучую натуру. В это же время он познакомился с Еленой Федоровной Розмирович, исполняющей обязанности секретаря Русского бюро
ЦК и думской фракции большевиков. Вскоре они стали супругами, и у них родилась дочь. В декабре 1913 года Крыленко в очередной раз арестовали, и ему пришлось три месяца пробыть в тюрьме, а затем последовала административная высылка на два года с запрещением жить в обеих столицах. Сначала Николай Васильевич обосновался в Харькове, но вскоре снова эмигрировал, вместе с женой нелегально перейдя границу. Они жили некоторое время в Галиции, а позднее – в Вене и в Швейцарии, под Лозанной. В июле 1915 года по решению Центрального Комитета партии Н. В. Крыленко и Е. Ф. Розмирович тайно вернулись в Россию и обосновались в Москве, занявшись воссозданием Московского комитета РСДРП(б). Однако власти не дремали – уже в ноябре того же года супругов арестовали.
После нескольких месяцев тюремного заключения Крыленко был переправлен в Харьков и оставался под стражей до августа 1916 года. Туда же сначала этапируется и Елена Федоровна, но вскоре ее отправляют на пять лет в Иркутскую губернию – там ей пришлось пробыть до Февральской революции. После освобождения из Харьковской тюрьмы офицер запаса Крыленко был мобилизован и направлен в действующую армию Юго-Западного фронта, проходил службу в составе 13-го Финляндского полка и практически все время находился в окопах на передовой. 5 марта 1917 года до солдат дошли первые известия о революционных событиях в Петрограде и отречении Николая II. Через день Крыленко срочно был отозван в тыл, а уже 9 марта организовал первый открытый митинг солдат. Его популярность возрастала. В марте 1917 года Н. В. Крыленко вместе с Н. И. Подвойским, В. И. Невским и другими большевиками вошел в военную организацию при Петроградском комитете РСДРП(б).
В сентябре – октябре 1917 года большевики во главе с В. И. Лениным стали усиленно готовиться к вооруженному захвату власти. 12 октября 1917 года создается Военно-революционный комитет при Петроградском Совете. В него вошли Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко и другие лидеры большевистской партии. Через несколько дней Николай Васильевич выступил на расширенном заседании ЦК партии, где от лица военной организации заверил, что «настроение в полках поголовно» в пользу большевиков и что партия должна взять на себя «инициативу восстания». На открывшемся II Всероссийском съезде Советов Николай Васильевич был избран в первое Советское правительство как член комитета по военным и морским делам (совместно с В. А. Антоновым-Овсеенко и П. Е. Дыбенко). Для него начались напряженные дни и бессонные ночи.
Вскоре к его обязанностям добавились новые – он стал Верховным главнокомандующим и отправился в войска. Его задачей было создание Вооруженных Сил Советской Республики. Однако весной 1918 года ввиду «принципиальных разногласий по вопросу формирования Красной Армии», по выражению самого Крыленко, он оставил пост главковерха и народного комиссара по военным и морским делам и перешел в Наркомат юстиции РСФСР.
Весной 1918 года Н. В. Крыленко занялся организацией работы первых революционных трибуналов. Вначале он возглавил отдел, а затем – коллегию обвинителей Революционного трибунала при ВЦИК, учрежденного 16 мая 1918 года для «суждения по важнейшим делам». Его жена Е. Ф. Розмирович стала руководителем следственной комиссии этого трибунала.
Выбор главного государственного обвинителя не был случайным. Н. В. Крыленко не без оснований слыл блестящим оратором и полемистом, к тому же был фанатично предан идеям революции и непримирим к ее врагам. Его отличали прямота и бескорыстие. В ранге обвинителя он уже успел провести ряд процессов. Выступал он почти беспрерывно – поддерживал обвинение по всем крупным контрреволюционным и уголовным делам того времени, заслужив репутацию «прокурора пролетарской революции». В некоторых белогвардейских изданиях его называли не иначе как «советским генерал-прокурором», настолько высок был его авторитет и велико влияние на правовую политику молодой республики. Н. В. Крыленко выступал обвинителем в процессах английского дипломата Локкарта, провокатора Малиновского, левых и правых эсеров, а также по делам бывшего царского прокурора Виппера, тюремного надзирателя Бондаря, сотрудника ВЧК Косырева и многих других. В этих процессах Николай Васильевич заявил о себе как о судебном ораторе, выступающим исключительно с классовых позиций, великолепно владеющим словом. Истинный представитель своего революционного времени, он был беспощаден к тем, кого считал врагами революции. Сейчас, читая его речи, можно легко уловить в них элементы не только твердости, но даже неоправданной жесткости и предвзятости по отношению к подсудимым. Безусловно, в его речах соображения революционной целесообразности нередко брали верх над принципами гуманности и законности.
Одним из самых громких процессов того времени был процесс правых эсеров, который проходил в Москве с 8 июня по 7 августа 1922 года.
Н. В. Крыленко произнес в Верховном трибунале большую многочасовую речь, в которой с присущей ему революционной страстностью доказывал вину подсудимых (их было 34 человека). В самом начале своей речи Н. В. Крыленко сказал: «Дело суда истории определить, исследовать, взвесить и оценить роль индивидуальных лиц в общем потоке развития исторических событий и исторической действительности. Наше же дело, дело суда, решить: что вчера, сегодня, сейчас сделали конкретно эти люди, какой конкретно вред или какую пользу они принесли или хотели принести республике, что они еще могут сделать, и в зависимости от этого решить, какие меры суд обязан принять по отношению к ним. Это наша обязанность, а там – пусть суд истории судит нас с ними».
С именем и деятельностью Н. В. Крыленко неразрывно связана вся история становления органов советской прокуратуры. Он был автором проекта первого Положения о прокурорском надзоре, активно выступал против принципа «двойного» подчинения прокуратуры и сделал основной доклад на 3-й сессии ВЦИК 9-го созыва, принявшей в мае 1922 года закон об учреждении Государственной прокуратуры.
После образования органов прокуратуры Николай Васильевич занял высокий пост старшего помощника прокурора республики и одновременно стал заместителем народного комиссара юстиции РСФСР. Эти должности он занимал до сентября 1928 года, когда, оставаясь заместителем наркома, был назначен прокурором республики.
В качестве старшего помощника прокурора, а затем и прокурора республики Н. В. Крыленко подписал значительное количество циркуляров и директив, которые стали основополагающими при становлении новой прокуратуры. Николай Васильевич был частым гостем на заводах и фабриках, в университетах и институтах, нередко выезжал в губернские, областные и даже уездные прокуратуры. Одна за другой выходили из печати его статьи и брошюры по правовым вопросам, в суде он выступал почти беспрерывно.
В мае 1928 года в Москве под председательством А. Я. Вышинского начался грандиозный политический процесс над группой «вредителей» в угольной промышленности, известный как «шахтинское дело». Специальному присутствию Верховного суда СССР были преданы 53 специалиста старой буржуазной школы. По версии следствия, «вредители», инженеры и техники Шахтинского района Донбасса, были тесно связаны с бывшими собственниками предприятий, русскими и иностранными, и ставили своей целью «сорвать рост социалистической промышленности и облегчить восстановление капитализма в СССР». Поддерживал обвинение по этому делу Н. В. Крыленко.
5 мая 1931 года постановлением Президиума ВЦИК Николай Васильевич Крыленко был назначен народным комиссаром юстиции РСФСР. Свое прокурорское место он уступил А. Я. Вышинскому, новой восходящей юридической «звезде», который всего через несколько лет растопчет и предаст анафеме имя Крыленко, а его самого уничтожит.
На посту наркома юстиции Николай Васильевич был особенно активен и неутомим. Правда, он теперь уже не выступал в громких уголовных и политических процессах, предоставив это делать А. Я. Вышинскому. Однако сотни проведенных им коллегий, совещаний, активов, съездов, многочисленные выступления перед населением и в печати, поездки по стране – все это свидетельствовало о титанической работе, проводимой им в наркомате. Конечно, он был верным проводником идей партии и правительства, по-прежнему громил «классовых врагов» и был беспощаден к ним. В то же время, знакомясь с жизнью и деятельностью Крыленко, всякий раз убеждаешься, что этот человек, очень часто излишне суровый, не избегнувший ошибок, имел страстную и увлекающуюся натуру, был одержимой и талантливой личностью.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 года была учреждена Прокуратура Союза ССР. Первым Прокурором СССР стал Иван Алексеевич Акулов, известный революционер, партийный и советский деятель, но человек далекий не только от прокурорской, но и вообще от юридической деятельности. Крыленко был бы более уместен на этом посту, однако его обошли. Он продолжал руководить Наркоматом юстиции РСФСР и в 1935 году все еще находился на вершине славы. К этому времени Крыленко был награжден орденами Ленина и Красного Знамени, а главное, был исключительно популярен в народе.
На 1935 год пришлись два юбилея Н. В. Крыленко – тридцатилетие активной революционной и профессиональной деятельности и пятидесятилетие со дня рождения. В печати появилось много приветственных статей и поздравлений. В одном из них отмечалось: «Мечом и пером, делом и пламенным словом т. Крыленко отстаивал и отстаивает партийные позиции в борьбе против врагов революции, открытых и тайных».
Н. В. Крыленко был человеком разносторонних интересов. Среди советских прокуроров трудно найти другого, который имел бы такие далекие от юриспруденции увлечения и в которых он достиг подлинного мастерства. К пятидесяти годам Крыленко был не только лидером в юридической науке и практике (список его трудов приближается к сотне), но и признанным мастером-альпинистом, не раз штурмовавшим неприступные горные вершины, иногда даже в одиночку. О своих походах он тоже написал несколько интересных книг. Кроме того, он активно занимался развитием советского туризма, руководил обществом охотников и шахматной организацией страны.
В 1936 году Н. В. Крыленко занял высокий пост наркома юстиции Союза ССР.
Приближался 1937 год – год массовых репрессий. 5 декабря 1936 года принимается новая Конституция СССР, известная как «сталинская». Николай Васильевич Крыленко находится в самом расцвете сил. Казалось бы, такой пламенный революционер, незаурядный человек, искренне преданный идеям большевизма и доказавший это всей своей деятельностью, должен был бы рассчитывать на звездную карьеру – но этого не случилось.
К этому времени у Николая Васильевича была уже большая семья: вторая жена, Зинаида Андреевна Железняк, и четверо детей: сыновья Сергей и Николай и дочери Ирина и Марина.
Над головой Н. В. Крыленко плотно сгущались грозовые облака. 26 июля 1937 года был арестован его брат, Владимир Васильевич, работавший на Уралмедстрое заместителем главного инженера (расстрелян в марте 1938 года).
В конце 1937 года в ЦК ВКП(б) «неожиданно» стали поступать письма и заявления, чернящие деятельность Н. В. Крыленко. В одном из них на имя Мехлиса (копия предусмотрительно была направлена и в Секретариат И. В. Сталина), озаглавленном «О хамах и иудах», сообщалось, что Крыленко груб по отношению к посетителям, а его «неистовый крик, топанье ногами, угрозы, стопудовые остроты… общеизвестны», что любимым изречением наркома было «расстрелять», произносимое им через неоднократное «р-р-р» и «металлическим» («под Троцкого») голосом». Доносчик припомнил одну фразу, якобы произнесенную Крыленко, когда тот был прокурором республики и одновременно руководителем Союза охотников: «Мне дан мандат и на зверей, и на людей».
12 января 1938 года открылась 1-я сессия Верховного Совета СССР, избранного на основе новой Конституции СССР. Шел процесс формирования правительства СССР, выступали делегаты. Один из них, депутат М. Д. Багиров, видимо, выполняя чью-то установку, подверг резкой критике деятельность наркома юстиции Крыленко. В новое правительство Николай Васильевич уже не вошел.
Органы НКВД составили справку на его арест еще 15 декабря 1937 года, но выжидали месяц и дали ей ход только после окончания сессии. В ней отмечалось, что Крыленко «является активным участником антисоветской организации правых и организованно был связан с Бухариным, Томским и Углановым. С целью расширения антисоветской деятельности насаждал контрреволюционные кадры правых в наркомате. Лично выступал в защиту участников организации и проталкивал буржуазные теории в своей практической работе». Далее указывалось, кем именно он изобличается. Картина вырисовывалась такая: Крыленко якобы считал, что ЦК пытается обмануть страну, скрывая истинное положение дел, что руководство страной и партией оказалось в руках людей, не понимающих значения закона и свое усмотрение ставящих выше закона, что страна заинтересована в скорейшей смене этого руководства. Сталина же Крыленко называл диктатором, загнавшим страну в тупик, и считал, что он должен быть снят с поста Генерального секретаря.
31 января 1938 года нарком внутренних дел Н. И. Ежов начертал на этой справке лаконичную резолюцию: «Арестовать», и в тот же день его заместитель Фриновский подписал ордер на арест Крыленко и на производство у него обыска.
В ночь на 1 февраля 1938 года Николая Васильевича арестовывают в своей квартире в доме № 25 по Новинскому бульвару. Так начался непродолжительный, но самый трагичный период его жизни.
Следствием по делу Н. В. Крыленко занимался сотрудник госбезопасности Коган. Он и произвел первый допрос бывшего наркома. Однако «признательные» показания Николая Васильевича появились в деле только 3 февраля 1938 года, причем даже не оформленные официальным протоколом. Это было заявление Крыленко, адресованное наркому внутренних дел Н. И. Ежову и написанное на разрозненных листках бумаги. Текст был такой: «Я признаю себя виновным в том, что с 1930 года я являюсь участником антисоветской организации правых. С этого же года начинается моя борьба с партией и ее руководством. Антипартайные шатания я проявил еще в 1923 году по вопросу внутрипартийной демократии. Если в этот период я из своих взглядов никаких организационных выводов не сделал, то внутреннее недовольство положением в партии не изжилось. Организационной связи с троцкистами я тогда не имел, организационной борьбы с партией не вел, но оставался человеком, оппозиционно настроенным на протяжении ряда лет…»
Далее он подробно излагал, в чем конкретно заключалась его «вредительская» деятельность. Свое заявление закончил так: «Признаю целиком и полностью громадный вред, причиненный моей антисоветской деятельностью делу строительства социализма в СССР».
Несмотря на столь обширное заявление с признанием своей «вины», первый протокол допроса Н. В. Крыленко был оформлен лишь спустя два месяца, 3 апреля 1938 года. Он был отпечатан на машинке на двадцати шеста листах. И хотя после этого Николай Васильевич неоднократно вызывался к следователю, второй протокол допроса, теперь уже на тридцати листах, составлен лишь 28 июля 1938 года. Крыленко снова подтвердил свои признательные показания и даже назвал тридцать человек, якобы вовлеченных им в организацию правых.
Примерно за десять дней до окончания следствия его делом стал заниматься сотрудник госбезопасности Аронсон. Он заканчивал дело в спешке – видимо, поступило указание разобраться с Крыленко побыстрее. 28 июля 1938 года Аронсон предъявил ему обвинение в контрреволюционной деятельности, и в тот же день состоялось подготовительное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством Ульриха. Обвинительное заключение, очевидно, было составлено загодя, так как Рогинский поставил на нем дату: «27 июля 1938 года».
Судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР открылось 29 июля 1938 года в 13 часов 20 минут. На вопрос председателя Крыленко ответил, что виновным себя признает и показания, данные им на предварительном следствии, подтверждает. Он пояснил, что в 1936 году у него был разговор с Бухариным, во время которого они затрагивали вопросы терроризма. Бухарин его информировал о террористической деятельности правых и спрашивал его и Пашуканиса, что они делают. Он Бухарину ответил, что пока конкретно ничего не сделал, но если надо, то будет «работать» в этом направлении.
Больше Н. В. Крыленко никаких вопросов не задавали – сразу же предоставили последнее слово. Он сказал, что у него за плечами двадцать пять лет революционной работы и только восемь лет антисоветской деятельности, поэтому надеется на соответствующее решение суда.
И суд действительно не замедлил дать ответ. Уже через несколько минут Ульрих объявил приговор: высшая мера наказания – расстрел с конфискацией имущества. Заседание продолжалось всего двадцать минут и закрылось в 13 часов 40 минут. Приговор был приведен в исполнение в тот же день.
…14 октября 1954 года 3. А. Железняк обратилась в ЦК КПСС с заявлением, прося реабилитировать ее мужа Н. В. Крыленко. По поручению Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко дело проверила Главная военная прокуратура. Военный прокурор подполковник юстиции Васильев, тщательно изучив все материалы и допросив ряд свидетелей, пришел к выводу, что в действиях Н. В. Крыленко состав преступления отсутствует и дело подлежит прекращению. Об этом он составил 25 апреля 1955 года мотивированное заключение, которое Р. А. Руденко 9 августа утвердил. 10 августа 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством генерал-лейтенанта юстиции Чепцова и при участии членов коллегии полковников Борисоглебского и Лихачева отменила приговор в отношении Н. В. Крыленко и прекратила дело за отсутствием в его действиях состава преступления.
Спустя тридцать лет, 27 мая 1985 года, в Мраморном зале Прокуратуры Союза ССР собрались работники правоохранительных органов, ответственные работники ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР, ветераны органов юстиции, представители юридической общественности, ученые и журналисты для того, чтобы торжественно отметить столетие со дня рождения «выдающегося юриста, наркома юстиции СССР и РСФСР и прокурора республики Николая Васильевича Крыленко». В президиуме собрания – дети Н. В. Крыленко: Ирина Николаевна, Марина Николаевна, Сергей Николаевич и Николай Николаевич. Торжественное собрание открыл первый заместитель Генерального прокурора СССР Н. А. Баженов. Министр юстиции СССР Б. В. Кравцов рассказал о жизненном пути и деятельности одного из организаторов советской юстиции и прокуратуры. Выступившие ветераны поделились своими воспоминаниями о Николае Васильевиче Крыленко, рассказали о его «кипучей энергии». С огромным интересом собравшиеся слушали дочь Крыленко – М. Н. Симонян, автора многих очерков о жизни и деятельности отца.
25 сентября того же года в Смоленске в торжественной обстановке был открыт памятник Николаю Васильевичу Крыленко (скульптор В. Горевой, архитекторы Н. Соколов и И. Марченков). На торжества прибыли заместитель Генерального прокурора СССР И. В. Черменский, представители Министерства юстиции СССР и Министерства обороны СССР, родные и близкие. В бронзе Крыленко был изображен именно таким, каким его запомнили современники: порывистым, страстным и решительным.
Фаина Ефимовна Нюрина (1885–1938)
«Исполняющая обязанности герцогини»
Фаина Ефимовна Нюрина родилась в декабре 1885 года в городе Бердичеве Киевской губернии в большой купеческой семье, где у Эфрама Липеца и его жены Рэйзии было десять детей. Фаня была девятой. В Бердичеве она провела свое детство, там же получила начальное образование. Отец ее умер в 1902 году. Хотя Фаина росла и воспитывалась в достаточно обеспеченной семье, тем не менее ее с юных лет тянуло в революционную среду. Уже в семнадцать лет она стала членом Бунда («Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России») и в составе партии активно занималась революционной деятельностью – в основном руководя рабочими кружками.
В 1903 году Фаина переехала в Киев, где продолжала вести антиправительственную деятельность среди учащихся, студентов и рабочих, руководила небольшими стачками, разъезжала по провинции с агитационными целями. В ее квартире часто проводились заседания киевского и даже центрального комитета Бунда. Хотя в Киеве Нюрина жила нелегально, поскольку ей отказали в выдаче вида на жительство, она все же экстерном сдала экзамены за семь классов женской гимназии.
В конце 1903 года по заданию своей организации она выехала за границу и более чем на год поселилась в Париже, с энтузиазмом участвуя во всех делах заграничного отделения Бунда. Там для пополнения образования Нюрина поступила в высшую школу общественных наук и посещала ее восемь месяцев. Девушка свободно владела немецким языком, неплохо знала французский и польский. Вскоре Фаина вступила в брак с Израилем Исааковичем Нюренбергом и придумала себе двойную фамилию Нюрина-Нюренберг. Вернувшись в 1905 году в Россию и обосновавшись в Варшаве, она стала еще более активной революционеркой, причем выступала уже в роли организатора массовых демонстраций. Но вскоре ее явочная квартира провалилась, и бундовцы срочно перебросили ее в Одессу. Там Фаину можно было встретить в самых горячих точках: она выступала в порту, появлялась на мятежном броненосце «Потемкин», участвовала в массовом шествии во время похорон убитого матроса.
В конце 1905 года Ф. Е. Нюрина снова выехала за границу и поселилась в Галиции, где у нее родился сын Александр. Менее чем через год она вернулась в Россию. Жила преимущественно в Киеве, где успела закончить фельдшерские курсы, но в 1906 году ее арестовали прямо на объединенной конференции Бунда. После трех с половиной месяцев пребывания в тюрьме она была выпущена на свободу и почти сразу же нелегально выехала за границу. Там она поступила в университет, однако закончить его не сумела – долго жить за рубежом Нюрина не могла, ее снова тянуло в Россию. В 1909 году у нее родился второй сын – Шера. С двумя детьми на руках ей приходилось трудно – надо было постоянно думать о заработках, но при ее полулегальном проживании в России это было весьма проблематично. Неугомонная Фаина часто переезжала из города в город, появляясь попеременно в Киеве, Бердичеве, Житомире, Одессе и нигде не прекращая революционной деятельности. Не имея постоянной работы, она лишь изредка давала уроки – жить нередко приходилось только на скудные средства, выделяемые бундовской организацией.
В 1914 году Ф. Е. Нюрина поселилась в Лодзи и вместе с мужем некоторое время учительствовала, а заодно вела пропагандистскую работу среди приказчиков. С началом Первой мировой войны она переехала в Москву, где снова перебивалась случайными заработками. Хотя семья Нюриной жила впроголодь, это никак не сказалось на ее революционной активности. Она была все так же деятельна, наладила постоянную связь с рабочими фабрики братьев Жиро, читала лекции и делала доклады в различных кружках, преимущественно по еврейскому вопросу.
В 1916 году Ф. Е. Нюрина переехала в Петроград, где сразу организовала курсы для еврейских рабочих, на которых выступала по вопросам истории социализма, политической экономии и др. В Петрограде она встретила Февральскую революцию. В эти дни она была особенно деятельна, часто выступала на митингах, полемизировала с социалистами-революционерами и большевиками. Жилось ей все так же трудно, она бедствовала. Чтобы хоть как-то подкормить детей, летом 1917 года Нюрина выехала на свою родину, в Бердичев, там и застряла надолго, до июля 1919 года.
После Октябрьской революции и в первые годы Советской власти Ф. Е. Нюрина продолжала оставаться активным членом Бунда и поддерживала все меньшевистские лозунги. Ей наконец удалось поступить на службу. В 1918–1919 годах она работала секретарем и заместителем заведующего отделом охраны труда Бердичевской городской управы, была членом городского Совета рабочих и крестьянских депутатов, президиума совпрофа и бундовского комитета. Бердичевская партийная организация избрала ее делегатом VI съезда РСДРП (б). Бунд выдвинул ее также кандидатом в Учредительное собрание и в члены Украинской рады.
От активной работы в Бунде Ф. Е. Нюрина отошла в 1919 году, когда у нее возникли серьезные сомнения в правильности выбранной бундовцами позиции. Летом 1919 года она поселилась в Киеве, где стала работать заместителем заведующего районным отделом народного образования. Вскоре под натиском белогвардейцев Красная армия оставила Киев. Нюрина не сумела эвакуироваться, и ей снова пришлось перейти на полулегальное существование. Когда большевики вернулись в Киев, Ф. Е. Нюрина окончательно порвала с Бундом и в начале 1920 года вступила в партию большевиков. Она продолжала работать в советских органах, была членом комитета Киевского губернского отдела народного образования, заведующей секцией в собесе, избиралась членом Совета рабочих и крестьянских депутатов.
В мае 1920 года Нюрину направили на работу в Екатеринослав, где она возглавила губернский отдел народного образования. Там она, как обычно, активно вела и партийную работу, но теперь уже громя своих недавних соратников – бундовцев и меньшевиков. В ноябре того же года по решению Оргбюро ЦК партии Ф. Е. Нюрину перевели на работу в Москву. Здесь она занимала ряд ответственных постов в различных организациях – в частности, была политкомиссаром в Главном и Московском управлениях воинских учебных заведений. В июне 1922 года ее назначили в женотдел ЦК ВКП(б) на должность заведующей подотделом, там она проработала более шести лет.
28 сентября 1928 года Совнарком РСФСР утвердил Ф. Е. Нюрину членом коллегии Наркомата юстиции республики – его тогда возглавлял Н. М. Янсон, бывший одновременно и Прокурором РСФСР. Ее зачислили в штат Наркомюста РСФСР и сразу же поручили возглавить отдел общего надзора в прокуратуре республики.
Привыкать к новой работе было довольно сложно, так как юридических познаний явно не хватало. Тем не менее, по словам Н. В. Крыленко, Ф. Е. Нюрина «с самого начала производила впечатление энергичного и толкового работника».
В мае 1929 года постановлением ВЦИК Николай Васильевич Крыленко был назначен прокурором республики (Н. М. Янсон остался народным комиссаром юстиции РСФСР). В соответствии с этим же постановлением Янсон назначил и некоторых помощников прокурора республики: по судебно-следственному надзору и общему управлению – Ф. К. Трасковича, по надзору за органами ОГПУ – Р. П. Катаньяна, по трудовым делам – А. М. Стопани. Помощником прокурора по общему надзору он утвердил Ф. Е. Нюрину. В этой должности она оставалась, впрочем, недолго. Уже в декабре нарком юстиции Я неон назначил ее начальником вновь образованного организационно-инструкторского управления Наркомюста РСФСР. На этом посту Нюрина обеспечила проведение целого ряда исключительно важных мероприятий: съездов, совещаний, активов, слетов работников органов юстиции и прокуратуры и т. п., в которых сама принимала участие, нередко выступая с докладами и сообщениями. Благодаря своей неуемной энергии и организационным способностям она в конце 1920 – начале 1930-х годов быстро выдвинулась в число основных сотрудников Наркомата юстиции республики.
В мае 1934 года Прокурором РСФСР был назначен известный государственный и политический деятель В. А. Антонов-Овсеенко. Фаина Ефимовна вначале временно исполняла обязанности заместителя прокурора республики, но скоро была утверждена в этой должности. 23 сентября 1936 года Антонов-Овсеенко издал следующий приказ:
«Ввиду назначения меня на новую работу Управление Прокурора РСФСР, по указанию Прокурора СССР, передаю с 25 сего сентября т. Нюриной Ф. Е.
Всему трудовому коллективу сотрудников Прокуратуры РСФСР – привет и пожелание дружной и успешной работы на благо нашего великого дела, нашей прекрасной Родины».
После отъезда Антонова-Овсеенко в Испанию Нюрина фактически возглавила органы прокуратуры республики. 14 ноября 1936 года Прокурор Союза ССР А. Я. Вышинский подтвердил ее полномочия своим приказом. До августа 1937 года она несла тяжелую ношу и. о. Прокурора РСФСР.
Ф. Е. Нюрина руководила органами прокуратуры республики не в самое лучшее время. Прокуратуру лихорадило, никак не удавалось наладить прочные связи с регионами, давала о себе знать еще не до конца осуществленная централизация прокурорской системы (новая Конституция СССР была принята лишь 5 декабря 1936 года), квалифицированных прокурорских и следственных кадров не хватало.
В связи с принятием Конституции СССР прокуратуре республики пришлось перестраивать свою работу. В частности, назначение городских и районных прокуроров теперь полностью легло на плечи республиканских прокуратур (с утверждением их Прокуратурой Союза ССР).
В качестве исполняющей обязанности прокурора республики Ф. Е. Нюриной приходилось нередко выступать с докладами и сообщениями на многочисленных совещаниях и активах, проводившихся тогда бесконечно. На некоторых из них работа прокуратур республик, краев и областей подвергалась сокрушительной критике со стороны А. Я. Вышинского. Тот был резок и саркастичен, говорил эффектно, но иронично и зло. Доставалось, конечно же, и Ф. Е. Нюриной. Так, на собрании актива прокуратур Союза ССР, РСФСР, г. Москвы и Московской области, проводившемся с 15 по 19 марта 1937 года, Вышинский, недовольный чересчур независимым поведением некоторых прокуроров, едко заметил, что еще «не выкорчеван старый недобрый порядок, при котором каждый местный прокурор считал себя маленьким удельным князьком». Он назвал этих прокуроров поименно: «В Западной Сибири сидит хан Барков, в Московской области – удельный князь Филиппов, в РСФСР – исполняющая обязанности герцогини Нюрина». «Каждый чувствует себя самостоятельным, автократичным, – продолжал он. – Это означает, что наша прокуратура все еще не представляет собою стройной, систематически и планомерно работающей организации, подчиняющейся единому командованию и действующей по единому плану».
5 июня 1937 года на состоявшемся в Москве собрании актива Прокуратуры Союза ССР, где председательствовал А. Я. Вышинский, вновь подверглась серьезной критике работа Прокуратуры РСФСР. Но Ф. Е. Нюрина, признавая многие «промахи и неувязки», ссылалась на очень тяжелые условия работы, низкую квалификацию работников аппарата, текучесть кадров, отсутствие достаточного количества помещений и т. д. Выступление Нюриной очень не понравилось Вышинскому. В заключительном слове он резко высказался, что она «вместо большевистского признания ошибок занимается подтасовкой фактов, защитой чести своего «мундира», совершенно неосновательно полагая, что в Прокуратуре РСФСР все в порядке». И далее: «Я знаю, что у нас в работе Прокуратуры Союза ССР имеются громадные недостатки, о которых мало говорят, – раз в месяц на активе, но о которых надо говорить, хотя и скромно, без крика, без шума, без рекламы, но с настойчивостью, преодолевая постепенно волокиту, бюрократизм, гнилье. А самовлюбленность т. Нюриной тем более опасна, что она ни на чем не основана, что работа прокуратуры все еще крайне неудовлетворительна».
1937 год вошел в историю Советского государства как год массовых репрессий. Многие тысячи людей, ни в чем не повинных, попадали под суд по так называемым контрреволюционным преступлениям, после чего их в лучшем случае ожидал какой-нибудь лагерь. Всеобщая подозрительность приближалась к своему апогею, многим представителям не только центральной, но и местной власти везде мерещились враги, заговоры, теракты. Но даже и в это непростое время и. о. прокурора республики Ф. Е. Нюрина пыталась отстаивать своих подчиненных, которым грозили серьезные неприятности. Например, прокурор Вавожского района Удмуртской АССР Кунгуров был исключен из партии как «враг народа». Ему предъявили обвинение по восемнадцати пунктам. Что ему только не инкриминировалось! А истина состояла в том, что он не прекратил в угоду местным руководителям уголовное дело в отношении лиц, занимавшихся «администрированием», притеснявших единоличников и колхозников. Более того, проявляя настойчивость, Кунгуров довел дело до суда, и виновные понесли наказание. Тогда от Кунгурова отвернулся даже прокурор автономной республики. Жалоба районного прокурора дошла до Нюриной, и она настояла на том, чтобы Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) проверила обоснованность исключения из партии. Было установлено, что прокурор никакого преступления не совершил и все его требования были законными. Кунгурова восстановили в партии и на службе.
Стоит ли удивляться тому, что в начале августа 1937 года Ф. Е. Нюрина была неожиданно снята с работы. Формальным поводом для этого послужили аресты ее родственников, в частности брата Д. А. Петровского-Липеца. Не заставила себя ждать и травля в печати, особенно откровенная после ареста Н. В. Крыленко. Некоторое время после освобождения от должности Нюрина работала на скромной должности юрисконсульта в Горпромторге, но и оттуда незадолго до ареста ее уволили.
Фаина Ефимовна была арестована 26 апреля 1938 года по ордеру, подписанному заместителем наркома внутренних дел Фриновским. Основанием для ареста явились материалы, подготовленные 1-м отделением 4-го отдела ГУ ГБ НКВД СССР. Справка на арест была датирована еще 17 апреля 1938 года и подписана начальником отделения Райхманом. В ней отмечалось, что «агентурными данными и показаниями арестованных помощников] Прокурора РСФСР Бурмистрова, Крыленко и Соколова Нюрина изобличается как участница антисоветской организации правых, по заданию которой вела активную контрреволюционную деятельность». Далее в справке приводились небольшие выдержки из показаний названных лиц, а также из агентурных донесений, полученных еще в январе – феврале 1938 года. В них отмечен, например, и такой «факт». «Нюрина в годы Гражданской войны, – писал агент, – при занятии Житомира Петлюрой встречала его во главе делегации, держала перед ним погромную речь против большевиков, выставляя его как спасителя цивилизации и восстановителя демократии на Украине. При возвращении от Петлюры стреляла из пулемета по рабочему поселку».
То, что Нюрина в первые годы Советской власти идейно противостояла большевикам, было фактом общеизвестным. Но для пущей убедительности агент приплел к своему донесению и «погромную речь», и «пулемет».
По всей видимости, агент знал о материале, который в свое время рассматривался в ЦКК при ЦК ВКП(б). В конце 1920-х годов некая С. и ее муж М. обратились с письмом в ЦК партии, в котором сообщали о том, что в 1919 году Ф. Е. Нюрина и ее брат Д. А. Петровский-Липец были причастны к расстрелу петлюровцами их родственников. ЦКК при ЦК ВКП(б) 29 июня 1929 года после соответствующей проверки рассмотрела этот вопрос на заседании и признала, что обвинения против Нюриной являются «недоказанными». Из материалов проверки усматривалось, что сестры С. были арестованы и расстреляны петлюровцами, однако Нюрина никакого отношения к этому не имела. В документе ЦКК отмечалось, что Нюрина и ее брат Петровский-Липец, а также муж Нюренберг действительно являлись бундовцами и вели борьбу «против взглядов и деятельности большевистской партии», однако этого она никогда не скрывала, от своих прежних взглядов отказалась и в 1920 году вступила в большевистскую партию.
Дело Ф. Е. Нюриной принял к своему производству оперуполномоченный 4-го отдела l-ro управления НКВД лейтенант госбезопасности Зайцев. Каких-либо свидетелей по ее делу не вызывалось. Следователь приобщил только выписки из протоколов допросов руководящих работников органов юстиции и прокуратуры, с которыми Нюрина общалась по роду службы и к тому времени уже арестованных, – в частности, наркома юстиции СССР Н. В. Крыленко, заместителя Прокурора Союза ССР Г. М. Аеплевского, помощника Прокурора РСФСР В. М. Бурмистрова и других. Все они «изобличали» Ф. Е. Нюрину как активного участника антисоветской организации, якобы существовавшей в органах прокуратуры.
Первый и единственный протокол допроса Ф. Е. Нюриной был составлен лишь 27 июля 1938 года. А 22 июля ей было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 58-7, 19-58-8 и 58–11 УК РСФСР. Можно только догадываться, что происходило в течение трех месяцев, которые Фаина Ефимовна провела в тюрьме. Пытки, истязания, оскорбления?.. Однако ничто не могло сломить волю мужественной женщины, все усилия «заплечных дел мастеров» оказались тщетными. Несмотря на прямые «изобличения», она твердо и решительно отвергала все обвинения и виновной себя не признавала. В отличие от других прокуроров, сломленных в ежовских застенках, эта единственная среди них женщина не «потянула» за собой никого из окружавших ее людей.
Сразу же после допроса оперуполномоченный Зайцев составил краткое, на одном листе, обвинительное заключение. В этом документе отмечено, что Ф. Е. Нюрина была арестована как участник антисоветской организации правых. И далее: «Нюрина проводила вербовочную работу, вовлекая в организацию правых новых участников. Ею были завербованы бывш[ие] прокурорские работники Бурмистров В. М. и Деготь. На протяжении ряда лет проводила подрывную вредительскую работу в прокуратуре, разваливая работу органов прокуратуры и извращая политику ВКП(б) и Советской власти в области революционной законности, ослабляя борьбу с врагами народа». Обвинительное заключение было согласовано с начальником 4-го отделения 4-го отдела 1-го управления НКВД капитаном государственной безопасности Аронсоном, а утвердили его начальник 4-го отдела Глебов и заместитель Прокурора Союза ССР Рогинский.
Далее судебный конвейер действовал уже стремительно и без остановки. 28 июля под председательством диввоенюриста Никитченко состоялось подготовительное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР. На нем присутствовал также и Рогинский. Было принято решение – дело Ф. Е. Нюриной заслушать в закрытом судебном заседании в порядке закона от 1 декабря 1934 года, то есть без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей.
Судебное заседание выездной сессии Военной коллегии открылось 29 июля 1938 года в 18 часов 20 минут под председательством того же Никитченко. В качестве судей участвовали диввоенюрист Горячев и бригвоенюрист Романычев. После выполнения некоторых формальностей (удостоверение личности подсудимой, выяснение вопроса о том, вручено ли ей обвинительное заключение) секретарь судебного заседания Коспошко зачитал обвинительное заключение. На традиционный вопрос о виновности Ф. Е. Нюрина снова ответила, что виновной себя не признает. Тогда были частично оглашены показания Крыленко, Липшица, Леплевского и других лиц, говоривших о ее вредительской деятельности в органах прокуратуры. Нюрина назвала их явной и злостной клеветой. В последнем слове Ф. Е. Нюрина еще раз подтвердила, что ее «оклеветали враги», что ни в каких контрреволюционных организациях она не состояла, и просила суд «тщательно разобраться» в деле. Но это, конечно же, в планы суда не входило, ведь исход дела был уже фактически предрешен.
Суд удалился на совещание только для того, чтобы через несколько минут выйти и объявить приговор. В нем содержались все те же «перепевы» обвинительного заключения – об участии в антисоветской террористической организации, вербовке в свои ряды других лиц и проведении в органах прокуратуры вредительской деятельности. Фаина Ефимовна Нюрина была приговорена к расстрелу с конфискацией имущества. Заседание суда закрылось, как отмечено в протоколе, в 18 часов 40 минут, то есть спустя двадцать минут после открытия. Приговор был приведен в исполнение незамедлительно.
…Прошло семнадцать лет. Обстановка в стране изменилась. Дожившие до этого времени политзаключенные стали понемногу возвращаться домой. Сфабрикованные органами НКВД дела (пока еще робко и очень выборочно) прекращали, а лиц, осужденных по ним, реабилитировали. К Генеральному прокурору Союза ССР Р. А. Руденко поступали тысячи писем от осужденных или их родственников с просьбой пересмотреть то или иное дело. В 1955 году написали такое заявление и сыновья Ф. Е. Нюриной – А. Е. Ниточкин и Ш. И. Шаров. Они просили пересмотреть дело их матери, бывшего и. о. прокурора республики Ф. Е. Нюриной. Проверка дела была поручена Главной военной прокуратуре, а непосредственно занимался этим вопросом военный прокурор подполковник юстиции Прошко.
Тщательно проверив все обстоятельства дела по обвинению Нюриной, он пришел к выводу, что оно было от начала до конца сфабриковано. 22 декабря 1955 года Прошко составил заключение о том, что Ф. Е. Нюрина осуждена необоснованно. С этим мнением согласился старший помощник Главного военного прокурора полковник юстиции Аепшин, а 28 декабря утвердил заместитель Главного военного прокурора полковник юстиции Максимов.
21 января 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР в составе председательствующего генерал-майора юстиции Степанова, членов коллегии полковника юстиции Дашенко и подполковника юстиции Плющ рассмотрела заключение Главной военной прокуратуры по делу Ф. Е. Нюриной. Суд вынес следующее определение: «Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 29 июля 1938 года в отношении Нюриной-Нюренберг Фаины Ефимовны отменить по вновь открывшимся обстоятельствам, а дело на нее производством прекратить за отсутствием состава преступления».
Сыновья Ф. Е. Нюриной достигли заметного положения в обществе. Старший, Александр Ниточкин (фамилию он выбрал произвольно), стал крупным специалистом в области холодильных установок на рыболовецких судах-рефрижераторах, трижды лауреатом Государственной премии СССР. Младший, Шера Израилевич, – писателем, выступавшим под псевдонимом А. И. Шаров.
Иван Алексеевич Акулов (1888–1937)
«Воля партии и суда»
Иван Алексеевич Акулов родился 12 апреля 1888 года в Петербурге в бедной трудовой семье. В раннем детстве он потерял отца, четверых малолетних детей пришлось воспитывать матери. Неудивительно, что мальчик оказался в приюте, там и постигал первые азы грамоты. Оказался он на удивление способным – после начального училища в двенадцать лет поступил в торговую школу и в 1905 году окончил ее с отличием. С шестнадцати лет юноша начинает работать и сразу же окунается в революционную среду. Вначале ему нравилась скорее внешняя сторона – демонстрации, митинги, маевки. Сознательный выбор был сделан позже – в 1907 году Акулов вступил в члены РСДРП, примкнув к большевикам. Среди товарищей по партийным рядам он выделялся энергией и активностью, поэтому ему скоро доверили руководство подпольной группой. С этих пор начинается его жизнь как профессионального революционера.
В двадцатилетием возрасте Иван Акулов впервые арестован – задержан вместе с девятью товарищами на собрании представителей подрайонов Петербургского комитета РСДРП. Следствие длилось полгода, и в сентябре 1908 года Санкт-Петербургская судебная палата приговорила его к одному году заключения в крепости. Но это оказалось даже в каком-то смысле полезным – активная революционная деятельность почти не давала времени на образование, а тут, во время вынужденного безделья, можно было пополнить знания. Позже он вспоминал: «Самообразованием занимался все время, но без системы. Просто – много читал. Особенно много читал в тюрьме. Интересовали меня, главным образом, книги по общественным вопросам…»
Выйдя из крепости, И. А. Акулов вновь с головой окунулся в революционную борьбу. Он стал одним из организаторов большевистской фракции в профессиональном союзе металлистов, а впоследствии секретарем этого союза. В 1912 году по рекомендации А. Е. Бадаева его избрали в Петербургский комитет РСДРП(б). В 1913 году Акулов был дважды арестован и в конце концов выслан в Самарскую губернию, но упрямо пытался вернуться поближе к столице. Через два года это ему удалось, и он поселился в финляндской деревушке недалеко от Выборга. После Февральской революции перебрался в Новгородскую губернию, где активно помогал местным партийным организациям. Затем вернулся в
Выборг и создал там военную организацию РСДРП (б). От Выборгской партийной организации И. А. Акулов был выдвинут делегатом на VII (Апрельскую) конференцию РСДРП, а позднее – и на VI съезд партии.
После Октябрьской революции энергия и активность Акулова еще более востребованы – он с головой окунается в ответственную партийную, военную и профсоюзную работу. География его перемещений кажется причудливой – в ноябре 1917 года он оказывается на Урале, где становится вначале секретарем Екатеринбургского комитета РСДРП (б), а позже – Уральского областного комитета партии. Во время мятежа белочехов – он комиссар снабжения фронта. Акулова перебрасывают с одной должности на другую, в самые горячие точки полыхающей по стране Гражданской войны. В 1918 году он уже в Вятке, где возглавляет губком и губисполком, а в 1919 году – председатель Оренбургского комитета партии.
В 1920 году Акулов избран секретарем Киргизского, а в 1920 году – Крымского обкома партии. Он везде нужен и востребован – в 1927–1931 годах председатель Всеукраинского совета профсоюзов, секретарь ВЦСПС, заместитель народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции СССР, член Президиума ЦКК. В 1931 году его направляют в органы Государственного политического управления – первым заместителем председателя ОГПУ, в 1932 году избирают секретарем ЦК КП (б) Украины по Донбассу.
Его жизнь резко изменилась, когда 20 июня 1933 года постановлением ЦИК и СНК СССР, подписанным М. И. Калининым, В. М. Молотовым (Скрябиным) и секретарем ЦИК А. Медведевым, была учреждена Прокуратура Союза ССР. Она создавалась «в целях укрепления социалистической законности и должной охраны общественной собственности по Союзу ССР от покушений со стороны противообщественных элементов». На следующий же день первым Прокурором Союза ССР был назначен Иван Алексеевич Акулов, а его заместителем – А. Я. Вышинский.
Будущий прокурор узнал о новом назначении совершенно неожиданно – он отдыхал с семьей в санатории «Мухалатка» в Крыму, туда и пришла правительственная телеграмма, подписанная Сталиным, Калининым и Молотовым.
17 декабря 1933 года ЦИК и СНК СССР приняли исключительно важный законодательный акт – «Положение о Прокуратуре Союза ССР», над которым Акулов работал лично. Этим же постановлением была упразднена Прокуратура Верховного суда СССР. Свою первоначальную функцию она выполнила, и теперь требовался другой орган, более мобильный и оперативный, способный сцементировать всю прокурорскую систему. Положение устанавливало, что Прокурор Союза ССР назначается ЦИК СССР, а его заместитель утверждается Президиумом ЦИК СССР. Прокурор Союза ССР отвечал только перед Совнаркомом СССР, ЦИК СССР и его Президиумом.
Отличительной чертой Акулова, проявившейся на этом посту, была удивительная простота в общении как со своими подчиненными, так и с многочисленными посетителями. Укреплению связей работников прокуратуры с населением он уделял особое внимание. С первых же дней в Прокуратуре Союза ССР был налажен четкий порядок приема граждан и рассмотрения их жалоб и заявлений. Обязанность вести прием посетителей он возложил на всех сотрудников, а не только на тех, кто работал в приемной, причем на свой личный контроль брал наиболее важные жалобы, в которых сообщалось о грубых нарушениях законности.
Но в марте 1934 года И. А. Акулов издал неожиданный приказ «О перестройке аппарата прокуратуры в центре и на местах». Видимо, если бы он был более сведущим в прокурорской деятельности, он не стал бы так резко разрушать уже сложившуюся и хорошо зарекомендовавшую себя структуру, построенную по функциональному принципу. Теперь же отделы перестраивались по производственному и территориально-производственному принципу, что, по мнению руководства Прокуратуры Союза ССР, должно было обеспечить «высокое качество работы по охране общественной (социалистической) собственности и осуществлению социалистической законности» во всех сферах народного хозяйства и государственного аппарата, усилить единоначалие и личную ответственность каждого прокурора за порученную работу.
Для того чтобы сосредоточить «основное внимание органов прокуратуры на судебно-следственной деятельности», решено было ликвидировать разделение на общий и судебный надзор, а также упразднить бюро жалоб. Предполагалось, что каждый отдел будет решать весь комплекс задач, стоящих перед органами прокуратуры, начиная с разрешения жалоб и заканчивая надзором за рассмотрением судебных дел. Поэтому вместо отделов были образованы сектора по делам промышленности, сельского хозяйства, торговли, кооперации, финансов и прочего.
Сохранялись Главная военная прокуратура, Главная транспортная прокуратура (с выделением из нее водной), прокуратура по спецделам, сектор надзора за местами лишения свободы и управление делами.
Как и следовало ожидать, новая структура прокуратуры оказалась неудачной. Искусственное разделение по производственному принципу желаемых результатов не дало, и менее чем через три года (при Прокуроре Союза ССР А. Я. Вышинском) органы прокуратуры вновь перешли на работу по функциональному принципу, который, немного видоизменившись, сохранился и по сей день.
Неоценимую роль в деле дальнейшей централизации органов прокуратуры сыграло 1-е Всесоюзное совещание судебных и прокурорских работников, открывшееся 23 апреля 1934 года.
Доклад «Решения XVII партсъезда и задачи органов юстиции» сделал Прокурор Союза ССР И. А. Акулов. В этом полуторачасовом выступлении он остановился на всех актуальных вопросах практической деятельности прокуроров, судей и народных следователей, проанализировал задачи, стоящие перед органами юстиции на современном этапе, обратив особое внимание участников совещания на целый ряд «недочетов и извращений» и предложив конкретные меры по их устранению. Как писала тогда пресса, «докладчик говорил просто, без малейшей погони за вычурной красной фразой».
В руководстве работой прокуратуры на местах И. А. Акулов проявлял большую оперативность и требовал того же от своих подчиненных. Он был рьяным противником «бумажного руководства», очень быстро подмечал самые слабые звенья в работе, на которые всегда остро реагировал. Чтобы наиболее важные решения вырабатывались коллективно, Акулов организовал в прокуратуре так называемое оперативное совещание, прообраз будущей коллегии, порядок работы которого определялся специальным приказом.
При И. А. Акулове Прокуратурой СССР был учрежден собственный журнал «За социалистическую законность» (позже он назывался «Социалистическая законность», а сейчас – «Законность»). Первый номер был подписан в печать в конце января 1934 года. Его ответственным редактором стал сам Акулов.
1 декабря 1934 года происходит трагическое событие – в Смольном револьверным выстрелом убит член Президиума ЦИК СССР и Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь Центрального и Ленинградского областного комитетов ВКП(б) Сергей Миронович Киров. Его убийца Л. В. Николаев задержан на месте преступления.
Расследование этого дела – одна из самых темных страниц истории советской прокуратуры. Прокурор Союза ССР И. А. Акулов оказался в полной зависимости от работников НКВД, которые разрабатывали только одну версию убийства – ту, которую выдвинул И. В. Сталин. Прокурор не только не мог противодействовать незаконным методам ведения следствия, но и фактически сам потворствовал нарушителям законности. Формально Акулов, его заместитель Вышинский и следователь Шейнин допрашивали обвиняемых, но это выглядело фарсом – допросы сводились лишь к оформлению заранее «выбитых» показаний.
Трагедия пришлась как нельзя кстати – она развязала руки властям, по всей стране начались массовые репрессии. Чтобы хоть формально не нарушать строгие рамки законности, требовалось совсем немногое – изменить сам закон, что и было немедленно сделано. Подготовить соответствующий документ Сталин распорядился сразу же, в день убийства Кирова. На следующий день уже было опубликовано постановление, принятое ЦИК СССР 1 декабря 1934 года, «О внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство», подписанное М. И. Калининым и А. С. Енукидзе. Сам текст был написан наркомом внутренних дел Г. Г. Ягодой и лично отредактирован Сталиным. Новый закон явился предельно кратким, жестким и беспощадным. Он устанавливал, что по делам о террористических актах следствие должно вестись не более десяти дней, а обвинительное заключение – вручаться за сутки до рассмотрения дела в суде. Дела эти слушались без участия сторон, то есть без прокурора и адвоката, по ним не допускались ни кассационное обжалование, ни подача ходатайства о помиловании. Приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение немедленно. Это значило, что подсудимый полностью отдавался в руки судей, решавших его судьбу, судьи же целиком зависели от властей. Судебную ошибку исправить было в принципе невозможно.
Запахло инквизицией – были попраны самые элементарные принципы советского судопроизводства. Тем не менее юридическая печать с восторгом сообщала, что «этим законом в руки советской юстиции дано острое оружие», силу которого «дадут почувствовать врагам народа со всею пролетарской твердостью и непоколебимостью». Увы! Это оружие было обращено не столько против врагов, сколько против тысяч безвинных людей, попавших в маховик такого «правосудия».
Вряд ли раскручивающий это колесо Прокурор Союза ССР И. А. Акулов догадывался, что сам попадет под него – и всего лишь через несколько лет. 8 декабря 1934 года он совместно с Председателем Верховного суда СССР А. Н. Винокуровым подписал директиву о применении на практике постановления ЦИК от 1 декабря 1934 года, где был дан перечень должностных лиц, покушение на жизнь и здоровье которых должно квалифицироваться как террористический акт. Директива придавала закону обратную силу, то есть распространяла его на деяния, совершенные до его принятия.
Иван Алексеевич занимал пост Прокурора Союза ССР до марта 1935 года. У своих подчиненных он пользовался неизменной симпатией. Вот что писал о нем бывший сотрудник прокуратуры Н. А. Орлов: «Акулов был в полном смысле слова обаятельным человеком, человеком широкой русской души. Любил жизнь, природу. Уезжая в отпуск, любил путешествовать, узнавать и показывать другим новые, красивые места, был тонким ценителем искусства, любил и понимал музыку. Дома это был идеал семьянина, необыкновенно любящий отец. Он высоко ценил дружбу, умел дружить и был верным, надежным другом».
Возможно, именно эти качества и не понравились Сталину. И хотя Акулов, подобно другим лицам, стоявшим на вершинах власти, слепо исполнял все требования вождя, Сталин понимал, что на посту прокурора должен стоять не этот человек.
Интеллигентность и мягкость только мешали исполнить роль организатора массовых репрессий – здесь нужен был другой, и он нашелся. Постановлением ЦИК СССР от 3 марта 1935 года И. А. Акулов был утвержден секретарем ЦИК с освобождением от обязанностей Прокурора Союза ССР, а на его место был назначен А. Я. Вышинский, которого Сталин, безусловно, лучше знал и которому больше доверял.
На новой должности Акулов работал с обычным энтузиазмом, полностью отдаваясь очередному делу, уготованному ему судьбой.
В мае 1937 года органами НКВД СССР была неожиданно арестована группа советских военачальников: М. И. Тухачевский, И. П. Уборевич, А. И. Корк и другие. В их числе оказался и приятель Акулова, И. Э. Якир, с которым он поддерживал связь еще со времен Гражданской войны, а в конце 1920-х годов им привелось два года жить по соседству в Киеве. 11 июня Специальное присутствие Верховного суда СССР приговорило всех участников так называемого военного заговора к высшей мере наказания, мера эта была приведена в исполнение незамедлительно. После этого в армии начались повальные аресты.
Обстановка в высших эшелонах власти становилась все более гнетущей – каждый подозревал, что может стать следующей жертвой и попасть в ежовские застенки. Акулов заметно нервничал, хотя даже после освобождения от должности секретаря ЦИК не вполне верил, что его тоже могут арестовать. Его жена, И. И. Шапиро, позже писала: «В последние дни этот спокойный уравновешенный человек дошел до такой степени морального изнеможения, что не в состоянии был написать письмо в ЦК. Д ля него было все случившееся с ним непонятно, и неоднократно срывались вопросы «кому это нужно?» и «за что?». Также он говорил: «О чем просить, если я не знаю, в чем я виноват».
Ордер на обыск и арест Акулова был выдан заместителем наркома внутренних дел 23 июля 1937 года. В тот же день он был задержан на своей даче в селе Покровском Красногорского района. Обыск произвели и в его московской квартире, в особняке ЦИК на Троицкой улице.
Через два дня он собственноручно заполняет так называемую анкету арестованного, в которой сообщает основные биографические данные. В то время на его иждивении находится большая семья – жена, Надежда Исааковна Шапиро, трехмесячная дочь Елена, девятилетний сын-второклассник Гавриил (отец звал его Ганей) и мать, Мария Ивановна, – ей семьдесят четыре. Кроме того, с ним проживали и сестры, Анна Алексеевна и Мария Алексеевна.
И. А. Акулова поместили в Лефортовскую тюрьму. Делом занимались сотрудники госбезопасности Краев и Альтман. Сначала допрашивал Краев – без протокола. 4 августа Иван Алексеевич написал собственноручное заявление на имя следователя Альтмана, вот некоторые строки этого документа.
«Вчера на допросе у следователя Краева я дал частичные показания (устно) о своем участии в троцкистской организации и подготовке антисоветского вооруженного переворота в стране.
Эти мои показания были еще далеко не полными, но по существу полностью правдивыми.
Сегодня я снова сдвурушничал, и вместо того, чтобы продолжить показания о своей предательской деятельности, я заявил, что участником троцкистской организации не являлся…
Утверждаю, что правде соответствует следующее: я, Акулов, являлся участником антисоветской троцкистской организации и подготовки антисоветского вооруженного переворота…»
Судя по заявлению, Акулов более десяти дней держался стойко и не давал каких-либо признательных показаний, но все же был сломлен. Повод для шантажа очевиден – следователи искусно пользовались тем, что у него оставалась жена с малолетними детьми и престарелая мать. Несомненно, без физического воздействия тоже не обошлось – на тюремной фотографии один глаз у него почему-то закрыт. Может, заплыл?
Не исключено, что Акулов продолжал упорствовать и после этого, поскольку первое развернутое показание – двадцать семь машинописных листов – появилось только 17 августа. В нем он признавался, что является «скрытым троцкистом», участвовал в заговорщицкой деятельности Якира, Пятакова, Бухарина и других лиц. В частности, он сказал: «Я, Иван Алексеевич Акулов, по день моего ареста в 1937 году, т. е. в течение 10 лет, являлся участником подпольной троцкистской организации, в ее рядах вел активную работу против руководителей ВКП(б) и Советского правительства – против Советской власти. Мне было тяжело в этом сознаться сразу же после ареста. Кроме того, я не думал, что соучастники меня выдали. Ведь с момента ареста Голубенко, Логинова и других прошло уже больше года, а я все это время продолжал оставаться на ответственной партийной и государственной работе. Мои надежды на стойкость участников организации не оправдались. Значит, изворачиваться бесполезно. Я готов искренне ответить на все интересующие следствие вопросы, касающиеся деятельности троцкистской организации и лично моей, как ее участника».
Следующий допрос состоялся лишь через месяц. Характерно, что, кроме анкетных данных, в протоколе ничего нет, показания не записаны. Возможно, он опять все отрицает. В анкете есть одна интересная деталь – в графе «Какие имеет награды при Советской власти» отмечено «Не имеет». Как могло случиться, что заслуженный революционер, занимавший самые высокие партийно-государственные посты, ни разу не удостоился ни одной награды?
Расследование закончилось, и 25 октября Краев составил стандартное обвинительное заключение на трех листах, которое было утверждено Рогинским, заместителем Прокурора СССР. Было решено заслушать дело в закрытом заседании, без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей, по обычной упрощенной схеме.
Судебное заседание открылось в 11 часов 15 минут 29 октября 1937 года. Председательствовал на нем Ульрих. Иван Алексеевич сразу же заявил, что виновным себя не признает и показания, данные им на предварительном следствии, отрицает. Правда, он дружен был с Якиром, но троцкистом его не считает. В ответ было оглашено его заявление на имя следователя Альтмана, но Акулов заявил, что оно не соответствует действительности, все признательные показания он дал в «состоянии потери воли». В своем последнем слове сказал, что троцкистом никогда не был, всегда боролся с ними и тем более не мог быть вредителем, террористом и изменником родины. О своей судьбе он выразился так: «Воля партии и суда».
Суд удалился на совещание, которое было кратковременным. Приговор – расстрел с конфискацией имущества – был вынесен за несколько минут. Все заседание продолжалось полчаса.
Приговор был приведен в исполнение на следующий день. При этом присутствовали заместитель Прокурора СССР Рогинский и заместитель наркома внутренних дел Фриновский. В деле бывшего помощника Прокурора СССР М. В. Острогорского имеются некоторые подробности, связанные с исполнением приговора. Со слов Шейнина, ему было известно, что Акулов, обращаясь к Фриновскому, сказал: «Ведь вы же знаете, что я не виноват». Тогда Рогинский, демонстрируя свою непримиримость к «врагу народа», стал осыпать Акулова бранью. Впоследствии же в беседе с Шейниным Рогинский признавался, что далеко не убежден в действительной виновности Акулова, которого всегда считал хорошим большевиком.
После ареста И. А. Акулова его жену Н. И. Шапиро с малолетними детьми выселили из особняка ЦИК СССР, затем еще раз переселили, и она поздней осенью оказалась в каком-то холодном бараке из дранки. Ей было тогда тридцать лет. В отношении ее тоже было возбуждено уголовное дело, вскоре рассмотренное Особым совещанием при НКВД СССР. Надежда Исааковна как член семьи «изменника родины» была приговорена к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на восемь лет. Ее направили в Темниковский лагерь (Темлаг) в Мордовии. После отбытия срока наказания ее не освободили, а задержали по так называемому вольному найму до особого распоряжения. В 1946 году Особое совещание добавило ей еще пять лет ссылки как «социально опасному элементу», и ее отправили «этапным порядком» в Тюкалинский район Омской области. Отбыв ссылку, Н. И. Шапиро поселилась в поселке Акчатау Карагандинской области, куда был выслан в 1949 году ее сын Гавриил.
22 июня 1954 года Надежда Исааковна обратилась к Председателю Совета министров Г. М. Маленкову с большим письмом, в котором подробно рассказала о своих злоключениях. Кроме того, она просила реабилитировать своего мужа И. А. Акулова: «Пусть его уже нет в живых, но пусть память о нем, если я права, будет для знавших его светлой».
По поручению Генерального прокурора СССР ее делом занялся в следственном управлении КГБ СССР майор Будников. Он быстро подготовил заключение о необходимости прекращения дела за отсутствием состава преступления. Н. И. Шапиро была реабилитирована.
Вскоре было пересмотрено и дело И. А. Акулова. 18 декабря 1954 года Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством генерал-лейтенанта юстиции Чепцова отменила приговор в отношении Акулова и дело о нем прекратила «за отсутствием состава преступления».
К сожалению, расстрел отменить невозможно.
Григорий Константинович Рогинский (1895–1959)
«Падают стены…»
Г. К. Рогинский родился в 1895 году в Бобруйске, в еврейской семье. Кроме него, у Константина Григорьевича и Анны Марковны было еще двое детей: сын Борис и дочь Ревекка. До Октябрьской революции Григорий Рогинский нигде не служил – давал частные уроки. Он вступил в партию в 1917 году, а через год познакомился с Н. В. Крыленко, Председателем Революционного трибунала и главным обвинителем по политическим делам. Эта встреча во многом определила жизненный путь Рогинского. Молодой человек приглянулся «прокурору пролетарской революции», и тот сделал его своим техническим секретарем. Старательный и способный, Григорий Рогинский быстро завоевал доверие Крыленко, став вскоре его правой рукой. В 1921–1922 годах Григорий Константинович выдвинулся в число основных сотрудников трибунала. В последующие годы он работал в системе Верховного суда РСФСР, вначале в Ростове-на-Дону, а затем на Дальнем Востоке.
В 1925 году Рогинский вернулся в Москву, где до 1928 года занимал должность прокурора Уголовно-судебной коллегии Верховного суда РСФСР, а потом стал старшим помощником прокурора республики. Естественно, он принимал участие во всех важнейших делах того времени – в частности, выезжал в Ростов, где проделал большую работу по подготовке «шахтинского процесса» и исполнял на нем обязанности помощника главного обвинителя Крыленко. Ту же работу он провел и по делу Промпартии. В 1929–1930 годах Г. К. Рогинский был прокурором Северо-Кавказского края, потом снова вернулся в Москву. В 1931 году вместе с Крыленко он участвовал в процессе меньшевиков. Когда Н. В. Крыленко занял пост наркома юстиции РСФСР, он сделал Рогинского членом коллегии наркомата.
Вплоть до назначения Вышинского Прокурором РСФСР Рогинский фактически был заместителем Крыленко по прокуратуре. Назначение Вышинского прокурором республики Рогинский воспринял болезненно. «Он считал себя как бы обойденным, – вспоминал Крыленко, – и первое время отношения у них с Вышинским не налаживались, и я боялся, что они не сработаются». Однако все обошлось, и в апреле 1933 года Рогинский уже активно помогал Вышинскому в процессе английских инженеров. Они сработались до того, что назначенный в июле 1933 года заместителем Прокурора Союза ССР Вышинский потянул за собой и Рогинского, сделав это без согласия и ведома Н. В. Крыленко. Крыленко видел причину этого в своем двойственном отношении к Рогинскому: «Этот переход был вызван его явным недовольством мной, так как я колебался, выдвинуть ли его кандидатуру в Прокуроры РСФСР… Он был точным исполнительным работником, хорошим администратором, очень нажимистым и резким (до грубости), – но своего «я» политически ни во что не вносил, ни в область политических высказываний, ни в область теоретических дискуссий… Эта ограниченность его политического кругозора, его узость (а может быть, и заведомое скрывание и нежелание высказываться по острым вопросам) была причиной того, что я не выдвинул его кандидатуру в Прокуроры РСФСР».
С этого момента, вспоминал Крыленко, «началось резкое охлаждение наших личных отношений, вскоре перешедшее в очень натянутые, а в 1935 году – холодно-враждебные на почве вмешательства Прокуратуры Союза в управление личным составом прокуроров краев и областей, подчинявшихся одновременно и Прокуратуре Союза, и Наркомюсту РСФСР».
В Прокуратуре Союза ССР Рогинский занял должность старшего помощника прокурора, с «отнесением к его ведению отдела общего надзора за законностью», в марте следующего года он стал уже заведующим сектором по делам промышленности, а в апреле 1935 года постановлением ЦИК СССР утвержден в должности второго заместителя Прокурора Союза ССР. Он был легок на подъем и часто выезжал в командировки в различные регионы Союза: Дальневосточный край, Закавказье, Украину, Свердловск, Ростов-на-Дону и другие. В качестве заместителя Прокурора Союза ССР он курировал первое время уголовно-судебный отдел и Главную военную прокуратуру. После увольнения Ф. Е. Нюриной из прокуратуры республики в августе 1937 года Г. К. Рогинский некоторое время исполнял обязанности Прокурора РСФСР. Он являлся депутатом Верховного Совета РСФСР, был награжден орденом Ленина.
Рогинский был непосредственно причастен к гибели многих людей, чьи обвинительные заключения он так бесстрастно утверждал. Среди них немало прокурорских работников, в том числе первый Прокурор Союза ССР И. А. Акулов, и. о. прокурора республики Ф. Е. Нюрина, прокурор республики, нарком юстиции РСФСР и СССР Н. В. Крыленко – бывший благодетель Рогинского и прочие. Современники вспоминают, что, направляя в суд дела в отношении бывших соратников, Г. К. Рогинский, неуверенный и в собственной безопасности, был «неспокоен за себя и делал все возможное, чтобы заручиться поддержкой и доверием со стороны работников НКВД». Например, Рогинский присутствовал на казни И. А. Акулова вместе с заместителем наркома внутренних дел Фриновским. Когда Акулов сказал: «Ведь вы же знаете, что я не виноват», Рогинский стал осыпать бывшего Прокурора Союза ССР бранью. Позже он признавался, что далеко не убежден в действительной виновности Акулова.
У Рогинского были веские основания опасаться за свою судьбу – Вышинский мог сдать его органам НКВД в любое время, что он и сделал 25 мая 1939 года, направив лично начальнику следственной части НКВД СССР Кобулову строго секретное письмо. Там сообщалось, что в уголовном деле бывших судебных и прокурорских работников Красноярского края имеются данные о принадлежности Рогинского к контрреволюционной организации, якобы существующей в органах прокуратуры, и приложены были протоколы допросов. Кобулов передал эти материалы для проверки своему заместителю Влодзимирскому.
Однако до ухода Вышинского из Прокуратуры Союза ССР Рогинский продолжал выполнять свои обязанности. Дамоклов меч опустился только в августе 1939 года – новый Прокурор Союза ССР Панкратьев нашел уважительную причину для увольнения Рогинского. В приказе было написано следующее: «За преступное отношение к жалобам и заявлениям, поступающим в Прокуратуру Союза ССР, тов. Рогинского Григория Константиновича, несущего непосредственную ответственность за работу аппарата по жалобам и заявлениям, снять с работы заместителя Прокурора Союза ССР». На самом же деле причиной увольнения были не жалобы, а некий мифический «заговор прокуроров», в котором будто бы участвовал и Рогинский. Ирония судьбы – ведь многих он сам отправлял под суд именно по такому же подозрению.
Почти месяц после увольнения Рогинского не трогали. Он жил в Москве, в Старопименовском переулке, вместе с женой Ириной Михайловной и восемнадцатилетним сыном Семеном.
5 сентября 1939 года за ним все-таки пришли. Постановление на арест вынес помощник начальника следственной части НКВД СССР Голованов, завизировал его Кобулов, а утвердил нарком внутренних дел Берия. Санкцию на арест дал Прокурор Союза ССР Панкратьев (он и Берия сделали это задним числом, только 7 сентября). В постановлении отмечалось, что «имеющимися в НКВД материалами Рогинский Г. К. достаточно изобличается как один из руководящих участников антисоветской правотроцкистской организации, существовавшей в органах прокуратуры».
В отличие от многих политических дел того времени, трагическая развязка которых наступала очень быстро, дело Г. К. Рогинского расследовалось почти два года. Сначала он держался стойко и категорически отрицал какую-либо причастность к антисоветским организациям. Но, судя по всему, на него все время оказывалось жестокое психологическое давление – Григорий Константинович стал проявлять в тюрьме «истерические реакции», что выражалось в плаксивости и боязни ложиться в кровать из-за того, что на него якобы «падают стены и он проваливается в пропасть». В начале января 1940 года Рогинский был осмотрен врачами, и те констатировали: «Душевной болезнью не страдает, но обнаруживает ряд навязчивых ярких представлений неприятного характера, связанных со сложившейся для него ситуацией».
17 января 1940 года состоялась очная ставка Рогинского с одним из основных его «разоблачителей», бывшим прокурором Приморской области А. А. Любимовым-Гуревичем. Григорий Константинович назвал эти показания «ложью и клеветой». Но в тот же день, устав от бесплодной борьбы, он пишет письмо на имя Берии. «Настоящим заявляю, что прекращаю сопротивление следствию и стану на путь признания своей заговорщической работы против Советской власти. Подробные показания дам на следующих допросах. Я должен собраться с мыслями и вспомнить все подробности вражеской работы, как своей, так и своих сообщников». Спустя два дня на этом заявлении появилась резолюция Кобулова: «Т. Сергиенко. Допросить срочно и подробно Рогинского и доложить».
По всей видимости, своим письмом Рогинский хотел добиться небольшой передышки, а вовсе не имел намерения давать развернутые признательные показания – во всяком случае, их в деле нет. А вот в протоколе допроса от 9 марта 1940 года записано: «Участником антисоветской правотроцкистской организации я никогда не был, поэтому виновным себя в предъявленном мне обвинении я не признаю. Я признаю себя виновным лишь в том, что, работая заместителем Прокурора Союза
ССР, я вместе с другими лицами допустил в своей работе ряд преступных, по существу, антисоветских действий, за которые я должен нести уголовную ответственность».
Далее произошел следующий характерный диалог со следователем:
«Вопрос. В чем же конкретно заключалась ваша антисоветская деятельность в Прокуратуре СССР?
Ответ. Я сейчас не могу дисциплинировать свои мысли для того, чтобы рассказать о всей своей работе. Мне нужно изменить обстановку, тогда я расскажу все о своей преступной деятельности.
Вопрос. Что же вы хотите, выпустить вас на свободу?
Ответ. Я прошу, чтобы меня из внутренней тюрьмы НКВД перевели в другую тюрьму с более облегченным режимом, и тогда я начну давать показания о всей своей преступной работе.
Вопрос. Рогинский, вы государственный преступник, и вам надлежит говорить на следствии не об облегчении тюремного режима, а о своих вражеских делах. Прекратите крутиться и приступайте к показаниям.
Ответ. Прошу мне изменить тюремные условия. Я не в состоянии рассказывать следствию о своих преступлениях.
Вопрос. До сих пор упорно не желаете давать показания, ссылаясь на свое нервное расстройство. Прекратите свои увертки и говорите правду о ваших враждебных делах.
Ответ. Я уже говорил, что при таком психическом состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не могу давать показания о своих преступлениях.
Вопрос. Из имеющегося у следствия акта психиатрической экспертизы видно, что ваше нервное расстройство – сплошная симуляция. Не валяйте дурака, а приступайте немедленно к показаниям.
Ответ. Я не симулянт. Все мои мысли направлены к тому, чтобы дисциплинировать себя и приступить к показаниям о своей преступной работе. Но я не могу взять себя в руки».
В полночь допрос был окончен. На этот раз следователю не удалось заставить его заговорить. Следующий раз допрашивали его ночью 29 марта 1940 года, но он снова заявил, что в «этой тюрьме» не может давать показания, и просил перевести его в другую, с более «щадящим» режимом.
Только через год, в Сухановской тюрьме, следователям удалось вырвать у Рогинского признание, что еще в 1929 году, в период пребывания на Северном Кавказе, у него возникло сомнение в правильности политики партии, а позже он, являясь участником правотроцкистской организации, вел активную борьбу с партией и Советским правительством «путем проведения подрывной работы в органах прокуратуры».
В показаниях, данных 28 июня 1941 года, Рогинский сказал: «Начиная с 1936 г. по заданию организации я проводил вредительскую работу в Прокуратуре Союза ССР по трем линиям, а именно: по жалобам, по делам прокурорского надзора и по линии санкционирования необоснованных арестов».
Хотя Г. К. Рогинский говорил о своих «преступлениях» лишь в общих чертах, не приводя никаких конкретных фактов, следователя вполне устроили его показания, и он стал готовить для направления в суд дело, разбухшее уже до двух больших томов. Кроме показаний Рогинского, к нему были приобщены протоколы допросов других лиц, соприкасавшихся с ним по работе (некоторые «обвинители» Рогинского к тому времени были уже расстреляны), – в частности, показания наркома внутренних дел Ежова, его заместителя Фриновского, наркома юстиции СССР Крыленко, бывших прокурорских работников: Леплевского, Деготя, Острогорского, Бурмистрова, Розовского и других.
7 июля 1941 года следователь 6-го отделения 2-го отдела следственной части НКГБ лейтенант госбезопасности Домашев составил обвинительное заключение, подписанное руководителями следственной части и утвержденное заместителем наркома госбезопасности СССР комиссаром госбезопасности 3-го ранга Кобуловым. Через два дня на нем появилась резолюция заместителя Прокурора Союза ССР Сафонова: «Обвинительное заключение утверждаю. Направить дело в В[оенную] К[оллегию] Верхсуда СССР».
Обвинительное заключение было небольшим, всего пять страниц машинописного текста, и в нем не было приведено ни одного факта «преступной» деятельности Рогинского. Делались лишь краткие выписки из показаний лиц, «изобличавших» бывшего заместителя Прокурора Союза ССР, – также, впрочем, неконкретные. В таком виде дело поступило на рассмотрение Военной коллегии Верховного Суда СССР.
Дело по обвинению Г. К. Рогинского слушалось на закрытом заседании 29 июля. Ни обвинителя, ни защитника, естественно, не было. Несмотря на обстановку военного времени, дело Рогинского слушалось более обстоятельно, чем другие политические дела, на которые хватало пятнадцати – двадцати минут. Протокол составлен достаточно подробно – по нему можно проследить, как же защищал себя Рогинский.
После нескольких формальных вопросов о личности подсудимого, ходатайствах и т. п. председательствующий Кандыбин лично огласил обвинительное заключение (обычно это делал секретарь). На вопрос о виновности Рогинский ответил: «Предъявленное обвинение мне понятно, виновным себя в антисоветской деятельности не признаю. Я виноват в том, в чем виноваты все прокурорские работники, проглядевшие вражескую работу в органах НКВД и в системе суда и прокуратуры».
После этого Кандыбин приступил к «изобличению» подсудимого, оглашая те или иные показания «свидетелей». Начал он с показаний бывшего Главного военного прокурора Розовского, который на следствии сказал, что Рогинский «препятствовал борьбе с фальсификацией следствия», не допускал «рассылки на места для расследования жалоб обвиняемых на неправильные методы следствия». Эти действия он расценил как «антисоветские».
Г. К. Рогинский ответил, что о фальсификации дел ему не было известно. Дела к нему поступали законченными, и он утверждал обвинительные заключения. О поступлении жалоб заключенных «на противозаконное ведение следствия» знало и руководство Прокуратуры СССР.
Тогда Кандыбин зачитал выдержку из показаний Фриновского, где говорилось о том, что Рогинский был причастен к правотроцкистской организации. Подсудимый вполне резонно заметил на это, что показания Фриновского неконкретны. «Он не называет меня участником антисоветской организации, а только предполагает, что я якобы являлся участником этой организации».
Председательствующий огласил показания Ежова. Последний сказал на следствии: «Антисоветские связи с Рогинским я не устанавливал, да и это было в известной мере вопросом формальным, ибо фактически антисоветский контакт между нами существовал, так как Рогинский видел и знал всю нашу преступную практику и ее покрывал».
Григорий Константинович парировал и эти «разоблачения»: «Откуда я мог знать о вражеской работе Ежова. За следствием наблюдала Главная военная прокуратура в лице Розовского, я никакого отношения к следствию не имел. Показания Ежова считаю вымышленными».
Кандыбин задал очередной вопрос: «Зубкин… показывает, что вами протоколы решений особого совещания подписывались без проверки материалов дела, за 30–40 минут подписывали 5–6 тысяч протоколов. Разве это не преступная практика в работе?» Рогинский ответил: «Протоколы решений особого совещания я никогда не подписывал, подписывал их сам Вышинский. Показания Зубкина в отношении меня не соответствуют действительности».
Тогда председательствующий решил воспользоваться «признательными» показаниями самого Рогинского. Выслушав их, Рогинский сказал: «Это же ложь. Человеческие силы имеют тоже предел. Я держался два года, не признавая себя виновным в антисоветских преступлениях, больше терпеть следственного режима я не мог. Следствием не добыто данных о том, кем я был завербован в антисоветскую организацию, где и когда. Это обстоятельство очень важно для доказательства моей вины».
Так и не добившись от Рогинского никакого признания, Кандыбин закрыл судебное следствие и предоставил подсудимому последнее слово. В нем Г. К. Рогинский сказал: «Граждане судьи, в антисоветских преступлениях я не повинен. Я прошу проанализировать мой жизненный путь. Я всегда и везде проводил правильную политику партии и Советского правительства, я вел борьбу с троцкистской оппозицией. В 1925–1927 годах я беспощадно громил «рабочую» оппозицию, проникнувшую в Верховный Суд Союза ССР. Будучи на Кавказе, я вел ожесточенную борьбу с кулачеством. В то время Андреев называл меня огнетушителем. Все последующие годы я по-большевистски вел борьбу с врагами партии и советского народа. Я повинен в том, в чем повинны все работники прокуратуры и суда, что просмотрели вражескую работу некоторых работников НКВД и что к следственным делам относились упрощенчески. Если суд вынесет мне обвинительный приговор, то это будет крупнейшей судебной ошибкой. Я неповинен. Жду только одного: чтобы мое дело объективно было доследовано».
Суд удалился на совещание, и вскоре был вынесен приговор: «Рогинского Григория Константиновича подвергнуть лишению свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях сроком на пятнадцать лет, с последующим поражением в политических правах на пять лет и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества».
Г. К. Рогинский избежал смертного приговора, обычного в подобных делах. Начавшаяся ли война была тому причиной или что-то иное – сказать трудно. После освобождения Рогинский поселился в Красноярске. Умер он в возрасте шестидесяти четырех лет 17 декабря 1959 года. В ноябре 1992 года его посмертно реабилитировали.
Николай Михайлович Рычков (1897–1959)
«Крепкий большевик»
Николай Михайлович Рычков родился 20 ноября 1897 года в поселке Белохолуницкого завода Слободского уезда Вятской губернии, в простой рабочей семье. Его отец, Михаил Рычков, сын крепостного крестьянина, с тринадцатилетнего возраста познал тяжесть труда. Он работал в Вятской губернии, в Баку, в Омске и, наконец, освоив профессию литейщика, перебрался на Урал, где до самой смерти в мае 1917 года трудился на Надеждинском заводе в Кабаковске. Мать, вышедшая из семьи плотника, всю жизнь хлопотала по хозяйству. «Семья была большая, здоровье у отца слабое, и материальная нужда всегда была спутницей нашей жизни», – вспоминал позднее Рычков.
Николай рано приобщился к труду – надо было помогать отцу. С двенадцати лет он служил мальчиком на побегушках на том же заводе, затем пристрастился к токарному делу и, пробыв какое-то время в учениках, стал квалифицированным токарем по металлу. На Надеждинском заводе Николай Рычков работал до Февральской революции.
С юности Николай постоянно тянулся к знаниям, однако учиться ему почти не довелось. Когда семья проживала в Баку, он был принят в Пушкинское начальное училище и пробыл там два с половиной года. Но учеба закончилась очень скоро, так как отец, уволенный с работы за участие в забастовке, вынужден был перебраться на Урал. Там Николая в школу не приняли под предлогом отсутствия мест. На самом деле, как вспоминал Н. М. Рычков, требовалась «смазка», другими словами – взятка, но его отец свободными деньгами не располагал. Николай по мере сил и возможностей занимался самообразованием, много, но бессистемно читал, однако ни в какие учебные заведения так и не поступил.
Еще до Февральской революции Рычков близко познакомился с некоторыми революционерами, и те стали снабжать его нелегальной литературой. После свержения царя, в марте 1917 года, когда на Надеждинском заводе стали создаваться первые партийные группы, Н. М. Рычков вступил в члены РСДРП (б). Рекомендовали его в партию рабочие Василий Соболев и Семен Маков. Сразу же после Октябрьской революции девятнадцатилетний Николай Рычков поступил на службу в советские органы. Первое время был ответственным секретарем, а затем и заведующим отделом Надеждинского Совета рабочих и солдатских депутатов. В 1918 году уральские рабочие избрали его делегатом V Чрезвычайного съезда Советов. В июле 1918 года он стал красногвардейцем. Н. М. Рычкову довелось сражаться на Восточном фронте, на ялуторовском направлении. В октябре 1918 года он оставил военную службу и уехал на Урал, где до апреля 1919 года служил в Белохолуницкой и Слободской уездных чрезвычайных комиссиях. Затем способному молодому чекисту доверили более ответственный пост – секретаря и члена коллегии Вятской губчека. Через три месяца его перевели на ту же должность в Пермскую губернию. В апреле 1920 года решением ЦК партии Н. М. Рычков был откомандирован на работу в военно-судебные органы Красной армии. С мая 1920-го по октябрь 1921 года он занимал должность заместителя председателя революционного трибунала войск ВОХР Восточно-Сибирского округа в Красноярске, а затем в течение года – ревтрибунала 5-й армии в Иркутске.
В мае 1922 года была учреждена советская прокуратура, а в августе – октябре стали формироваться военные прокуратуры округов и фронтов. Прокурорами назначались главным образом члены военных трибуналов и политработники. Первым прокурором Военной коллегии Верховного трибунала при ВЦИК (позднее он именовался уже Главным военным прокурором) стал Николай Иванович Татаринцев, тридцатилетний большевик, бывший во время Гражданской войны комбригом, а затем председателем военного трибунала 5-й армии.
Одним из первых военных прокуроров становится и Николай Михайлович Рычков. В октябре 1922 года Н. И. Татаринцев, его бывший начальник по ревтрибуналу 5-й армии, выдвинул Н. М. Рычкова на должность военного прокурора Восточно-Сибирского военного округа, откуда тот в феврале 1923 года был переведен в Западно-Сибирский и Сибирский округа (в Омске и Новосибирске). Там Рычков прослужил до апреля 1927 года.
В мае 1927 года Н. М. Рычкова переводят в Москву помощником прокурора в отдел военной прокуратуры Верховного суда СССР, который тогда возглавлял Петр Ильич Павловский. Наконец, в январе 1931 года, ЦК ВКП(б) выдвинул Николая Михайловича на более ответственный пост – он стал членом Военной коллегии Верховного суда СССР. Именно тогда начал со страшной силой раскручиваться маховик репрессий, беспощадно перемалывавший судьбы сотен тысяч людей. Свою кровавую лепту в борьбу со всякого рода «контрреволюционерами», «вредителями» и иными «врагами народа» внесла и Военная коллегия Верховного суда СССР во главе с такой одиозной личностью, как В. В. Ульрих. Конечно же, и сам Рычков был одним из тех, кто приводил в движение зловещий маховик.
В октябре 1933 года Н. М. Рычков, как и все другие члены партии, проходил чистку в комиссии партийной ячейки Прокуратуры СССР и Верховного суда СССР. Он подробно рассказал о себе и своей служебной деятельности, ответил на вопросы.
Первым в прениях выступил заместитель Председателя Верховного суда СССР М. И. Васильев-Южин. Он сказал: «Товарищ Рычков один из самых вдумчивых членов Военной коллегии, но по судебным делам в отдельных случаях им допускались ошибки. Например, был случай, когда он приговорил к высшей мере наказания машиниста. Надзорная тройка заменила долгосрочным лишением свободы. В остальном товарищ Рычков крепкий большевик».
Выступивший вслед за ним председатель Военной коллегии В. В. Ульрих назвал Рычкова одним из лучших членов коллегии. Он не согласился с оценкой Васильева-Южина, что осуждение машиниста к расстрелу – судебная ошибка, так как тот, по его словам, был в самом деле виноват. Комиссия постановила: «Рычкова Н. М. считать проверенным».
Служба в органах военной юстиции принесла Н. М. Рычкову ряд наград. В 1928 году Реввоенсоветом республики он был награжден именными серебряными часами, а в 1933 году – золотыми. 20 августа 1937 года «за образцовое выполнение задания правительства» удостоен высшей награды – ордена Ленина.
К тому времени Николай Михайлович был женат на дочери профессионального революционера, Ариадне Михайловне Морозовой. Его жена работала врачом-педиатром в клинике МГУ (после войны она была сотрудником Московского городского отдела здравоохранения). У Рычкова было четверо детей: сыновья Виктор, Юрий и Борис и дочь Наталья.
28 августа 1937 года приказом Прокурора Союза ССР Вышинского Николай Михайлович Рычков был назначен прокурором республики. Пробыл он на этом посту всего пять месяцев. Когда он пришел в прокуратуру республики, то обнаружил, что в ряде важнейших участков центрального аппарата «положение было катастрофическим», особенно в отделе жалоб – там без всякого движения лежали, большей частью в мешках, почти 20 тысяч жалоб и заявлений граждан, «вплоть до личных, интимного порядка, писем помощников прокурора». Оперативные отделы их почти не рассматривали. Еще более удручающее положение сложилось в областных прокуратурах. Служебная дисциплина была низкой. На запросы прокуратуры республики местные прокуроры, по существу, не реагировали. Н. М. Рычков стал вызывать к себе прокуроров областей для личных объяснений. К январю 1938 года Николаю Михайловичу удалось решительно перестроить всю работу по рассмотрению жалоб – теперь в Прокуратуре РСФСР вместо 20 тысяч остались нерассмотренными всего 650 первичных и повторных заявлений.
12—19 января 1938 года в Москве состоялась 1-я сессия Верховного Совета СССР. После уничижительной критики наркома юстиции СССР Н. В. Крыленко, прозвучавшей в речи депутата Багирова, всем стало ясно, что удача на этот раз улыбнулась Рычкову. 19 января на третьем, заключительном совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей выступил В. М. Молотов с речью об образовании нового правительства СССР. Перечисляя его состав, он просил депутатов утвердить народным комиссаром юстиции СССР Николая Михайловича Рычкова.
За время своей работы в Народном комиссариате юстиции СССР Н. М. Рычков совместно с Прокурором Союза ССР подписал целый ряд приказов, направленных на усиление борьбы с преступностью, – все они свидетельствуют о чрезвычайной жесткости проводимой тогда политики. Так, в июле 1940 года совместно с М. И. Панкратьевым он направил на места приказ, в соответствии с которым рабочие и служащие, допустившие опоздания без уважительных причин более чем на двадцать минут после обеденного перерыва или самовольный уход с работы ранее чем за двадцать минут до обеденного перерыва, подлежали привлечению к уголовной ответственности как за прогул (по части 2-й статьи 5-й Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года).
Стоит напомнить, что спрос с работников органов прокуратуры и юстиции, а также судей за неукоснительное выполнение приказов был тогда самый строгий. Любые послабления в карательной практике могли повлечь за собой не только отрешение «провинившегося» от занимаемой должности, но и предание его суду. В августе 1940 года коллегия Наркомюста СССР под председательством Рычкова дважды рассматривала вопросы применения указа от 26 июня 1940 года. Несколько судей, проявивших либерализм в отношении «прогульщиков», сами были отданы под суд. Был уволен нарком юстиции Белорусской ССР, который отказался привлекать к ответственности за прогулы временных и сезонных работников, полагая, что действие указа распространяется только на лиц, постоянно работающих на производстве. Рычков строго предупредил также наркомов юстиции Украины, Узбекистана и Азербайджана.
С началом Великой Отечественной войны наркому юстиции СССР Н. М. Рычкову пришлось работать особенно напряженно. Он направил на места множество указаний и приказов, обращая особое внимание на наведение порядка в исполнении судебных решений, необходимость чуткого отношения к обращениям военнослужащих и членов их семей. В экстренном порядке был подготовлен сборник законодательных актов о пособиях, пенсиях и льготах семьям военнослужащих рядового и начальствующего состава. В одном из своих приказов от 29 июня 1941 года Рычков отмечал, что в эти трудные для всей страны дни «прямым преступлением является волокита, бюрократизм при рассмотрении уголовных и гражданских дел». В другом приказе он обращал внимание на то, что «ни на один день ни один участок народного суда не должен оставаться без народного судьи». Начальники управлений Наркомюста и наркомы юстиции союзных республик должны были лично «ежедневно и ежечасно» решать вопросы укомплектования судов.
Пост наркома (а с 1946 года – министра) юстиции СССР Н. М. Рычков занимал десять лет. За это время он дважды был награжден орденом Ленина, двумя орденами Кр асного Знамени. Был избран депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го созыва (в 1938 году) и депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (в 1946 году). 28 августа 1944 года ему присвоили воинское звание генерал-лейтенанта юстиции.
«Придирки» к Н. М. Рычкову начались сразу же после окончания Великой Отечественной войны. Вначале он получил выговор от Секретариата ЦК ВКП(б) за назначение людей на должности председателей военных трибуналов без предварительного согласования с ЦК партии. В декабре 1946 года заместитель начальника управления кадров ЦК ВКП(б) Никитин и заместитель заведующего отделом этого же управления Бакакин направили на имя секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецова большую записку «О неправильном стиле руководства министра юстиции Союза ССР тов. Рычкова Н. М.». В ней Николай Михайлович обвинялся чуть ли не в полном развале всей работы Министерства юстиции. На него возлагалась также ответственность за создание «специальных судов» (их было тогда в стране 887), которые по своей численности уже стояли на втором месте после народных судов, и за нарушения, допускавшиеся судьями.
Авторы записки делали следующий вывод: «Считаем, что т. Рычкова в интересах дела надо очень серьезно предупредить, иначе он, а вместе с ним и Министерство юстиции СССР и его органы на местах по-прежнему будут не выполнять те требования, которые к ним предъявляются Партией и Правительством». Вскоре к служебным неурядицам добавились и личные. Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б) объявил ему выговор за незаконное расходование на строительство личной дачи денежных средств и стройматериалов, принадлежащих министерству.
29 января 1948 года в соответствии с решением ЦК ВКП(б) Верховный Совет СССР освободил Рычкова от должности министра юстиции. Было ему тогда 52 года. Он хорошо понимал, что это конец его карьеры, и очень переживал. До декабря того же года он находился в резерве Главного управления кадров, так как подходящей должности для него не оказалось. В конце 1948 года Генеральный прокурор Союза ССР Г. Н. Сафонов предложил Н. М. Рычкову должность заместителя военного прокурора Сухопутных войск, и Рычков снова вернулся в лоно военной прокуратуры. Спустя полтора года, в апреле 1950 года, Г. Н. Сафонов выдвинул Николая Михайловича на новую в Главной военной прокуратуре должность начальника 3-го управления (по судебному надзору), а в апреле 1951 года назначил его заместителем Главного военного прокурора. Однако занять более высокую должность ему больше не пришлось. Вскоре его отправили в почетную ссылку.
В 1952 году Н. М. Рычков был откомандирован в Венгерскую Народную Республику «для работы в качестве советника по вопросам суда и прокуратуры». 5 июля 1955 года его уволили в отставку «по болезни». Здесь его задержали почти до самой пенсии.
Остается только добавить, что старший сын Николая Михайловича, Виктор, погиб двадцатилетним в самом начале Великой Отечественной войны.
Скончался Н. М. Рычков 28 марта 1959 года в поселке Малаховка Люберецкого района Московской области. Похоронили его в Москве.
Михаил Иванович Панкратьев (1901–1974)
«Активно участвовал в выкорчевывании врагов народа»
Михаил Иванович Панкратьев родился 4 ноября 1901 года в деревне Каблуково Бежецкого уезда Тверской губернии в семье мелкого служащего. Отец и мать, выходцы из крестьянской среды, трудились с малых лет. Иван Панкратьев в молодости был приказчиком в бакалейной лавке, а впоследствии, сколотив деньжат, сам занялся торговлей. Мать работала портнихой на дому. У супругов было пятеро детей: три сына, Михаил, Сергей и Николай, и две дочери, Елена и Анна. В 1914 году Иван Панкратьев был призван в действующую армию, где сумел дослужиться до унтер-офицера.
Постоянные нужда и скудость, преследующие семью, не позволили Михаилу Панкратьеву получить в юности хорошее образование. Он окончил лишь три класса церковноприходской школы, да по одному классу в начальном и реальном училищах в Бежецке. Трудился с пятнадцати лет – поначалу на различных сезонных работах, а после Февральской революции 1917 года – грузчиком на Виндаво-Рыбинском участке Московской железной дороги. После октябрьских событий Михаил поступил делопроизводителем в Бежецкий уездный продовольственный комитет. В январе 1920 года он был принят в партию и с марта стал заведующим учетным подотделом, а позже возглавил организационный отдел Бежецкого укома РКП (б). В мае 1921 года его призвали в Красную армию – там он служил вначале инструктором, а затем и начальником организационной части политотдела 27-й Омской стрелковой дивизии. В ноябре 1922 года Михаил Панкратьев стал военным комиссаром 81-го стрелкового полка. В сентябре 1923 года молодого офицера выдвинули на должность комиссара штаба 8-й стрелковой дивизии, а в январе 1925 года – 22-го стрелкового полка той же дивизии.
Летом 1925 года М. И. Панкратьев по решению аттестационной комиссии получает отпуск для подготовки к поступлению в Военную академию, но по состоянию здоровья к приемным испытаниям его не допустили. В 1926 году Михаил Иванович, служивший тогда в городе Карачеве Брянской области, познакомился с девятнадцатилетней Ольгой Сергеевной Желоховцевой, учащейся педтехникума. Вскоре они поженились и уехали в Новозыбков, к новому месту службы Панкратьева. В 1927 году у молодых родилась дочь Галина, которую Михаил Иванович очень любил и всегда называл Алечкой.
Панкратьев служил военным комиссаром до сентября 1929 года. Он всегда искренне тянулся к знаниям – за годы службы много читал, серьезно увлекался юриспруденцией, даже сумел прослушать два курса юридического факультета Института красной профессуры. Так пришло решение стать юристом. В ноябре 1929 года двадцативосьмилетний Панкратьев получает назначение в органы военной прокуратуры и становится помощником военного прокурора Азербайджанской 2-й Кавказской стрелковой дивизии и Каспийского военного флота. Вскоре его прикомандировали к военной прокуратуре Кавказской краснознаменной армии и поручили исполнять нештатную должность прокурора Тбилисского гарнизона. В апреле 1933 года его назначают военным прокурором 4-й бригады железнодорожных войск на строительстве железной дороги Москва – Донбасс. В марте 1933 года его переводят на работу в центральный аппарат, где он служит сначала в должности военного прокурора отдела, а позднее – начальника отдела и помощника Главного военного прокурора.
В апреле 1937 года Панкратьев был избран заместителем секретаря партийного комитета Прокуратуры СССР. В характеристике отмечалось, что Панкратьев «принимал активное участие в работе прокуратуры по выкорчевыванию врагов народа и ликвидации последствий вредительства». Сам Михаил Иванович писал в автобиографии, что он «колебаний от линии партии не имел, взгляды разного рода оппозиции не разделял».
Первое время приходилось ютиться у родственников жены, но в 1937 году после ареста Тухачевского освободилась огромная квартира из одиннадцати комнат, и Панкратьеву предоставили две из них. Жил он очень замкнуто, ни в театры, ни в гости ходить не любил.
20 мая 1938 года М. И. Панкратьев был назначен Прокурором РСФСР. Ему сразу же пришлось участвовать во Всесоюзном совещании прокуроров, которое заслушало доклад А. Я. Вышинского о перестройке работы органов прокуратуры и обсудило проект его же приказа по этому вопросу. Панкратьев выступил от Прокуратуры РСФСР и начал со следствия, качество которого было еще очень низким. Привел вопиющие факты беззакония, когда люди попадали под суд по надуманным основаниям. В Куйбышевской области, например, председатель колхоза был осужден только за то, что выставил из дома вломившегося пьяного колхозника. В Чувашии был лишен свободы учитель – за сказанную им в гостях при женщинах непристойную фразу. Затем Панкратьев поднял вопросы подготовки кадров, организации руководства нижестоящими прокуратурами – в первую очередь районного звена. «Мы районного прокурора редко вызываем в Москву, с тем чтобы показать ему, как надо работать, – говорил Панкратьев, – чтобы поучить его, как нужно работать. Мы не знаем, что он из себя представляет… Когда просматриваешь план обследования, то убеждаешься в том, что он нереальный, не рассчитан на то, чтобы помочь районному прокурору. На это мы должны обратить внимание, подумать о районной прокуратуре; в соответствии с этим мы должны перестроить нашу работу».
3 января 1939 года Прокурор Союза ССР А. Я. Вышинский в письме на имя секретаря ЦК ВКП(б) Маленкова подтвердил свое предложение об утверждении Панкратьева в должности прокурора республики, охарактеризовав его как опытного работника, политически твердого и устойчивого. Прокурором республики М. И. Панкратьев работал в течение года. За это время он стал депутатом Верховного Совета РСФСР, ревностно выполнял все директивы партии и правительства, а также указания и распоряжения Вышинского. Последний рекомендовал его на свое место после того, как стал заместителем Председателя Совнаркома СССР. Правда, особого выбора у него и не было, так как после основательных чисток кадры органов прокуратуры серьезно оскудели.
31 мая 1939 года Панкратьев занял кабинет Прокурора Союза ССР в здании на Пушкинской улице. На высоком посту он пробыл немногим более года. Первая жена Панкратьева, Ольга Сергеевна, рассказывала: «Михаила назначили на эту должность в страшное время, шли аресты и расстрелы людей, занимавших высокие посты. Телефон в нашей квартире на Ленинском проспекте звонил не умолкая, хоть совсем его срезай, да нельзя. По сто раз на дню: «Помогите с Михаилом Ивановичем встретиться, умоляю!» Мне было запрещено отвечать, и я молча вешала трубку. Все равно повлиять на мужа никак не могла. Бакинский прокурор, с которым когда-то жили в одном доме, был арестован. Его жена все время искала со мной встречи. Я жалела ее, рассказывала мужу, как она убивается, спрашивала, можно ли ей помочь. Михаил закрыл эту тему раз и навсегда. Говорить дома о его работе было запрещено… С какого-то времени Михаил стал просить, чтобы в доме был коньяк, чтоб, когда он придет с работы, бутылка стояла. Так всю ночь, бывало, за бутылкой и просидит. А когда я забывала поставить, сердился: «Ты пойми, Оля, мне хоть рюмочку, но обязательно надо выпить». Сколько санкций на арест и расстрел ему приходилось подписывать! Неимоверное количество! Он много подписывал, но и на пересмотр много отсылал. Не терпел никакой неясности. Когда его секретарь спрашивала, что делать с неподписанными доносами и жалобами, которые шли мешками, орал: «Рвать, не читая!» Анонимки приводили мужа в ярость, его трясло. А как еще прикажете реагировать, когда от твоей подписи зависит столько жизней? У него голова шла кругом».
За то непродолжительное время, в течение которого Панкратьев возглавлял Прокуратуру Союза ССР, он сумел провести целый ряд мероприятий, направленных на активизацию прокурорского надзора на всех важнейших участках работы. В отличие от своего предшественника А. Я. Вышинского, часто пускавшего пыль в глаза, делавшего ставку на раскручивание помпезных политических процессов, новый Прокурор Союза занимался в основном будничной работой органов прокуратуры, его деятельность не была столь броской и эффектной, поэтому с первых же дней вызвала нарекания у высшего руководства. Вскоре после его назначения Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) проверила работу Прокуратуры СССР по рассмотрению жалоб, направленных из партийных органов, и нашла ее крайне запущенной. И хотя было совершенно очевидно, что все недостатки следовало отнести на счет бывшего Прокурора Союза ССР Вышинского, тем не менее в июле 1939 года было принято решение указать Прокурору СССР Панкратьеву на то, что он «не принял до сих пор мер к ликвидации преступного отношения некоторых работников прокуратуры к жалобам и заявлениям» и проявил «медлительность в наведении порядка в работе аппарата Прокуратуры СССР».
Выступая на Всесоюзной конференции лучших следователей, Панкратьев сказал: «Живя в капиталистическом окружении, чувствуя и осязая это окружение, мы должны всегда иметь в виду, что враг оружия не сложил. Он только меняет формы и методы борьбы. Естественно, что наши органы следствия, призванные прежде всего к борьбе с вражеской работой, не могут, не имеют права застывать как в смысле своей политической подготовки, так и в смысле профессиональных знаний и опыта. Наши следственные органы должны быть остро отточенным оружием, крепко закаленным, метко разящим».
После многочисленных ссылок на высказывания И. В. Сталина Прокурор Союза ССР Панкратьев перешел к анализу состояния следствия. Результаты были неутешительные. Около 20 процентов дел прекращалось как «неосновательно возбужденные», многие возвращались на дополнительное расследование, сроки следствия грубо нарушались. Одной из причин такого положения, по мнению Панкратьева, являлось то, что «враги народа пытались, и порой небезуспешно, использовать в своих контрреволюционных целях наш прокурорский аппарат, хотя бы тем, что засыпали органы прокуратуры колоссальным количеством материалов, требуя по ним судебных процессов. А некоторые наши работники… оказывались на поводу у врага и объективно, а кое-кто и субъективно, помогали избивать кадры». Затем Панкратьев заметил, что все еще слаба организационная работа, плохо обстоит дело с обеспечением следователей методическими пособиями. Районные прокуроры редко включаются в руководство следствием, предпочитая заседать в исполкомах и комиссиях.
М. И. Панкратьев обратил внимание на важность соблюдения процессуальных норм. В связи с этим он вспомнил о судебном процессе над некоторыми смоленскими работниками прокуратуры и суда, которые полностью пренебрегали процессуальными нормами. Доходило до того, что в постановлении о возбуждении дела не указывалась даже фамилия лица, совершившего преступление. Дела направлялись в суд при отсутствии каких-либо объективных доказательств. Панкратьев сказал: «Были случаи, когда судебные приговоры признавали людей виновными в контрреволюционных преступлениях, в то время как обвинительное заключение им таких обвинений не предъявляло и на суде это доказано не было».
В 1939 году под редакцией Панкратьева было издано и направлено подчиненным прокурорам методическое письмо «О квалификации преступлений», особое внимание в нем уделялось правильной квалификации посягательств на социалистическую собственность, должностных преступлений, спекуляции, хулиганства.
Вопросы состояния следствия в то время широко обсуждались на страницах журнала «Социалистическая законность». В статье «Уголовно-судебные доказательства и следственная практика», опубликованной в № 8–9 за 1939 год, В. Громов писал: «Всесоюзная конференция лучших следователей, созванная Прокуратурой СССР в июне 1939 года, показала, что среди наших следователей имеется уже группа таких работников, которые способны раскрывать самые запутанные, самые сложные дела. Повышение за последнее время качества расследования – факт бесспорный. Но не нужно забывать, что в общей массе рядовых следственно-прокурорских работников еще немало и таких, которые не обладают ни достаточным опытом, ни знаниями и не гарантированы от крупных, а иногда и непоправимых ошибок при производстве следствия».
Серьезные провалы в следственной работе на местах заставили Прокуратуру Союза ССР принимать срочные меры. Особенно неблагополучное положение сложилось в Прокуратуре Азербайджанской ССР. Прокурор Союза ССР М. И. Панкратьев принял решение направить туда бригаду из десяти участников Всесоюзной конференции лучших следователей и двух прокуроров. В бригаду вошли подлинные мастера своего дела, на счету которых было немало раскрытых тяжких преступлений. Вот некоторые примеры.
Григорий Николаевич Орел родился в 1908 году, в двадцать два года стал народным следователем. Особенно удавались ему самые запутанные хозяйственные преступления. Так, благодаря своему упорству он раскрыл дело о крупном хищении зерна в колхозе, на которое все следователи, работавшие до него, махнули рукой как на бесперспективное. Однако Г. Н. Орел с этим не согласился. Предположив, что расхитители обязательно захотят перемолоть украденное зерно, он объездил десятки мельниц, кропотливо изучая сотни документов и все-таки натолкнулся на подозрительную квитанцию, которая помогла распутать все дело.
Следователь Чкаловской областной прокуратуры Лукьянов специализировался на раскрытии сложных и загадочных убийств. Кропотливую работу он провел по делу о безвестном исчезновении заведующего магазином Лысикова, пропавшего с крупной суммой денег. Предполагали, что он присвоил их и скрылся, но Лукьянов, тщательно изучив образ жизни завмага, усомнился в этом. Его насторожила одна деталь – из показаний свидетелей стало известно, что некая Черняева, за которой ухаживал Лысиков, настойчиво приглашала его к себе на квартиру, хотя муж ее был очень ревнив. Лукьянов решил провести обыск в квартире Черняевых, но поиски ни к чему не привели, и следователь уже стал составлять протокол, когда заметил в выражении лица Черняевой «искру облегчения и радости». Тогда он возобновил поиск и вскоре в сарае под плитой нашел банку с крупной суммой денег, происхождение которых супруги объяснить не смогли. С удвоенной энергией Лукьянов почти сутки продолжал обыск, пока не нашел в другом сарае закопанный труп Лысикова.
Смекалка помогла ему раскрыть еще одно жестокое убийство. Некий Викторов заявил о том, что его жена зарезала малолетнюю дочь и покончила жизнь самоубийством – это подтверждалось собственноручной запиской погибшей, и дело было прекращено. Однако Лукьянова насторожило то, что Викторов, обнаружив запертой изнутри дверь своей квартиры, вызвал соседей, прежде чем взломать ее. После тщательного изучения всех материалов было установлено, что Викторов сам убил жену и дочь, а чтобы скрыть следы преступления, воспользовался запиской, написанной женой после одной из ссор, – в ней она грозилась убить дочь и покончить с собой.
В. И. Глухов из Керчи после революции был батраком, затем, получив кое-какое образование, стал работать следователем, первое время при губернском суде, а затем и в органах прокуратуры. Он отличался исключительной оперативностью и дотошностью, мог часами копаться в документах, выискивая самые ничтожные доказательства. Сумел разоблачить ловких расхитителей – бухгалтеров Еникальского рыбозавода, для чего ему пришлось просмотреть сотни бухгалтерских книг, несколько тысяч квитанций, расписок и счетов. Почувствовав неладное, расхитители скрылись, прихватив крупные суммы денег. Приложив немало трудов, исколесив тысячи километров по городам и весям, Глухов разыскал и лично задержал всех.
В приказе по итогам работы бригады М. И. Панкратьев подчеркнул, что особого одобрения заслуживают методы, «состоявшие в том, чтобы, не ограничиваясь только разгрузкой следственных дел, научить следователей лучше работать, передать им опыт лучших следователей, привить культуру квалифицированного следственного труда», и обязал всех прокуроров союзных республик полнее использовать этот опыт.
В январе 1940 года в Прокуратуре Союза ССР состоялось первое Всесоюзное совещание прокуроров по общему надзору. Выступая на нем, М. И. Панкратьев, в частности, отметил: «Чем дальше, тем сильнее будут требования стабильности наших законов, тем более суровой будет борьба со всеми теми, кто полагает, что законы для них не писаны. Следовательно, от органов прокуратуры требуется такая организация общего надзора, чтобы он не отставал от современных политических требований…»
Оценивая с этих позиций состояние общего надзора, М. И. Панкратьев сказал, что он «в очень сильной степени отстает и находится на таком уровне, который нас никак удовлетворить не может». Затем он проиллюстрировал недостатки конкретными примерами «отставания прокуроров» при проведении посевных кампаний, хлебозаготовках, выполнении плановых заданий. По его мнению, прокуратура еще не шла «в ногу с важнейшими хозяйственно-политическими задачами».
Другой серьезный недостаток общего надзора, по словам М. И. Панкратьева, – это его «пассивный, созерцательный» характер. «Наш прокурор действует иногда как посторонний наблюдатель, не горит, не волнуется, не беспокоится, когда он видит то или иное нарушение закона. Этим объясняется недостаточная действенность общего надзора», – сказал он.
Панкратьев подверг серьезной критике практику участия прокуроров в заседаниях исполкомов и других представительных органов. Нередко они приходили на заседания неподготовленными, не зная повестки, часто принимались незаконные постановления и решения. Прокурор Союза сказал, что пора «всерьез поставить во главу угла общего надзора знание обстановки». Он потребовал от прокуроров «резко улучшить качество надзора», чаще опираться в своей деятельности на помощь общественности, активнее пропагандировать законы.
Вскоре после этого, 25–26 марта 1940 года, М. И. Панкратьев провел еще одно крупное мероприятие – первое Всесоюзное совещание прокуроров морского и речного флота, на котором выступил с большой речью.
С 10 по 13 мая 1940 года в Прокуратуре Союза ССР также впервые проводилось Всесоюзное совещание прокуроров уголовно-судебных отделов. В нем приняли участие Прокурор Союза ССР Панкратьев, его заместители Сафонов и Симонов, Прокурор РСФСР Волин, начальники управлений и отделов Прокуратуры СССР, уголовно-судебных отделов союзных и автономных республик, краев и областей.
Панкратьев подготовил также Всесоюзное совещание прокуроров гражданско-судебного надзора, но провести его не успел, так как был освобожден от занимаемой должности. Оно проходило 25–27 июля 1940 года под руководством заместителя Прокурора Союза ССР Сафонова.
За время руководства Прокуратурой Союза ССР Панкратьев подписал целый ряд приказов и директив по вопросам организации следственной работы. Многие из них носили явно конъюнктурный характер и касались выполнения важнейших постановлений партии и правительства. Так, 9 июня 1939 года, в связи с постановлением СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС, Панкратьев издал приказ, в котором предложил «безоговорочно привлекать к ответственности» всех лиц, допустивших нарушения закона при выплате пособий рабочим и служащим по временной нетрудоспособности. Расследование по таким делам предписывалось производить «в самом строгом порядке». Прокуроры республик, краев и областей должны были держать эти дела на особом контроле.
15 августа 1939 года Совнарком СССР принял постановление «О порядке контроля за расходованием фондов заработной платы по бюджетным и хозяйственным организациям». Спустя неделю М. И. Панкратьев направил на места приказ, в котором потребовал от своих подчиненных привлекать к уголовной ответственности руководителей и главных бухгалтеров учреждений и организаций за предоставление Госбанку заведомо неправильных сведений о расходовании фондов зарплаты, а также за выплату зарплаты сверх сумм, выданных банком для этих целей, за повышение зарплаты вследствие неукомплектованности штатов и другие финансовые нарушения. Такие дела он предложил расследовать в течение пяти дней.
В конце 1939-го – начале 1940 года М. И. Панкратьев подписывает самые различные приказы – о возбуждении уголовных дел по фактам «массового истребления колхозниками и единоличниками скота, находящегося в их личном пользовании», небрежного хранения шерсти в Наркомтекстиле или недостаточной экономии никеля, вольфрама, молибдена и ванадия на предприятиях. Многие приказы Панкратьева касались вопросов уголовно-судебного, гражданско-судебного и общего надзора органов прокуратуры, а также организационных вопросов. В целях развития соревнования между коллективами отделов и управлений и поощрения кадровых работников Панкратьев учредил переходящее знамя лучшего отдела (управления) и выделил деньги для премирования наиболее отличившихся работников.
В марте 1940 года М. И. Панкратьев обязал прокуроров республик, краев и областей улучшить контроль за исполнением приказов Прокурора Союза ССР – выяснилось, что они нередко просто подшивались в наряд, оперативные работники с ними не знакомились, исполнение не контролировалось. Панкратьев предложил заносить их в специально заведенные для этих целей книги (отдельно – секретные и несекретные), в день поступления приказа назначать ответственных лиц за его исполнение и обязательно знакомить с ним под расписку всех оперативных работников.
Большое внимание М. И. Панкратьев уделял подбору и расстановке кадров в органах прокуратуры. Он внимательно относился к прокурорским работникам, проявлял о них заботу и, когда мог, пресекал любые незаконные действия в отношении них. Характерен случай, происшедший си. о. прокурора Буда-Кошлевского района Гомельской области Ц. Он был снят с работы Прокурором Белорусской ССР и привлечен к уголовной ответственности за волокиту в рассмотрении жалоб и утерю двадцати пяти переписок с гражданами. Интересно, что прокуратура Гомельской области, привлекая к ответственности за волокиту собственного работника, также заволокитила его дело. Следовало учесть, что Ц. не имел юридического образования, а был «выдвиженцем». Первые три месяца он работал помощником прокурора, а затем ему приказали принять дела районного прокурора. В течение нескольких месяцев он оставался в прокуратуре совершенно один, причем аппарат прокуратуры Гомельской области никакой помощи ему не оказывал. Во время следствия были найдены восемь переписок по жалобам и установлено, что одиннадцать обращений граждан потерял еще его предшественник. В конце концов дело было прекращено, но места своего Ц. лишился и, имея семью из четырех человек, долгое время находился без средств к существованию. Прокурор Союза ССР М. И. Панкратьев восстановил Ц. на работе и указал Прокуратуре Белорусской ССР на недопустимость формального подхода к воспитанию и обучению молодых кадров.
Как Прокурор Союза ССР, к тому же не пользующийся популярностью, Панкратьев, конечно же, не мог что-либо противопоставить тем беззакониям, которые продолжались в стране. Уже через несколько месяцев после его назначения некоторые старейшие работники центрального аппарата обратились с письмом в ЦК ВКП(б), к тогдашнему секретарю А. А. Жданову – о том, что постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» указало на «грубейшие искривления советских законов органами НКВД и обязало эти органы и прокуратуру не только прекратить эти преступления, но и исправить грубые нарушения законов, которые повлекли за собой массовое осуждение ни в чем не повинных, честных советских людей к разным мерам наказания, а зачастую и к расстрелам». И далее: «Эти люди – не единицы, а десятки и сотни тысяч – сидят в лагерях и ждут справедливого решения, недоумевают, за что они были арестованы и за что, по какому праву мерзавцы из банды Ежова издевались над ними, применяя средневековые пытки».
В письме утверждалось, что не происходит выправления «линии мерзавца Ежова и его преступной клики», а идет обратный процесс и что пришедший на смену Вышинскому Панкратьев «не может обеспечить проведение в жизнь» решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года, «в силу своей неавторитетности в прокурорской среде, а особенно в глазах работников НКВД». Это якобы наглядно проявляется на заседаниях Особого совещания, где «решающее значение и окончательное слово» принадлежит не представителю надзора – прокурору, а Берии и его окружению. Прокуроры просили Жданова «взяться за это дело первостепенной важности». «Подумайте только, – продолжали они, – что сотни тысяч людей, ни в чем не повинных, продолжают сидеть в тюрьмах и лагерях, а ведь прошел почта год со дня решения ЦК партии. Неужели это никого не беспокоит? Поговорите с прокурорами специальных прокуратур (железнодорожной, водной), и они Вам расскажут фактам от которых волосы встают дыбом, и покажут эта «дела», этот позор для Советской власти». Наряду с этим прокуроры просили «исправить грубейшую ошибку» с назначением Панкратьева. «Дайте нам высокоавторитетного руководителя, способного дать по рукам и Берии». Старые работники напоминали в письме о том, что прокуроров нельзя на протяжении десятка лет держать «в полуголодном состоянии», что «полуграмотные юнцы» в аппарате НКВД имели оклады вдвое большие, чем прокуроры центрального аппарата, работающие по десять – пятнадцать лет.
Конечно, это обращение ничего не изменило ни в положении самих прокуроров, ни в отношении к органам прокуратуры со стороны властей. Панкратьев продолжал оставаться на посту. По словам Г. Н. Сафонова, Панкратьев во время заседаний Особого совещания первое время пытался защищать протесты прокуратуры и возражал Берии. Но последний с присущей ему наглостью и бесцеремонностью в присутствии работников НКВД и прокуратуры однажды так отчитал его, что после этого Панкратьев вообще перестал ходить на совещания.
При Панкратьеве появилось пресловутое решение Политбюро ЦК ВКП(б) об освобождении арестованных за контрреволюционные преступления лиц только с согласия органов НКВД. В своих воспоминаниях Н. П. Афанасьев так рассказывает об этом. В начале 1940 года к нему, бывшему тогда заместителем Главного военного прокурора, попало заявление члена Военного совета Ленинградского военного округа Матера, арестованного за причастность к «заговору» Тухачевского и других военачальников. Он писал о том, что незаконно арестован, подвергается избиениям и издевательствам. Изучив дело и допросив Матера, Афанасьев выяснил, что занимавшиеся им лица сами арестованы за фальсификацию материалов следствия. Тогда он предложил допросить следователя, и тот признался, что никаких оснований для ареста не было, что на допросах Матера избивали, наказывали «стойками», не давали спать. Афанасьев вынес постановление о прекращении дела за отсутствием состава преступления. С этим он и пошел к Панкратьеву. Тот с постановлением согласился и попросил оставить дело для изучения, но через несколько дней вернул его Афанасьеву, сказав при этом: «А вы что, боитесь ответственности? Зачем тут мое утверждение? Решали же вы до сих пор дела – решайте и это».
Афанасьев попытался было объяснить, что дело Матера наверняка дойдет до ЦК партии. «Ну и что? – заявил Панкратьев. – Вот тогда, если будет нужно, мы пойдем вместе в ЦК и докажем, что Матер не виноват. А сейчас давайте кончайте дело сами».
Матер был освобожден из тюрьмы, но неосмотрительно явился в Наркомат обороны, а затем в ЦК партии для решения вопроса о трудоустройстве, и его дело снова «завертелось». Афанасьева вызвал нарком внутренних дел Берия. «Как только я вошел, – пишет Н. П. Афанасьев, – Берия стал спрашивать, на каком основании и почему я освободил из тюрьмы Матера и прекратил дело. Я объяснил.
«Да, – ответил Берия, – я вот читаю его дело (оно действительно каким-то образом оказалось у него). Материалов в деле нет, это верно, и постановление правильное, но вы все равно должны были предварительно посоветоваться с нами. На Матера есть «камерная» агентура. Сидя в тюрьме, он ругал Советскую власть и вообще высказывал антисоветские взгляды». Никакой агентуры в деле не было, но Берия повторил: «Надо было посоветоваться с нами, прежде чем решать…»
Утром, едва я пришел на работу, меня вызвал Панкратьев. Он был явно расстроен и сразу же набросился на меня: «Что вы сделали с делом Матера? Получился скандал. В дело вмешался товарищ Сталин, и теперь черт знает что может быть, и зачем было связываться с этим Матером?» Пока Панкратьев испуганно причитал в этом роде, в кабинет вошел фельдъегерь связи НКВД и вручил ему «красный пакет» (в них обыкновенно рассылались важные правительственные документы, имеющие срочный характер). Приняв пакет и прочитав находящуюся там бумагу, Панкратьев вновь обратился ко мне: «Вот видите, чем обернулось для нас дело Матера?»
Бумага была выпиской из решения Политбюро ЦК за подписью Сталина. В ней значилось:
«Слушали: доклад тов. Берия. Постановили: впредь установить, что по всем делам о контрреволюционных преступлениях, находящихся в производстве органов прокуратуры и суда, арестованные по ним могут быть освобождены из-под стражи только с согласия органов НКВД».
В силу личных качеств, в том числе таких, как низкий уровень образования, недостаточная твердость и простодушие, неумение эффектно преподнести властям свою работу (что особенно ярко проявилось на фоне Вышинского – блестящего оратора и эрудита, изворотливого, хитрого и беспощадного), М. И. Панкратьеву трудно было долго удерживаться в кресле Прокурора СССР. Формальным поводом для освобождения его от занимаемой должности 5 августа 1940 года стало якобы необеспечение руководства работой прокуратуры по выполнению Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».
Сразу же после появления этого указа М. И. Панкратьев и Н. М. Рычков издали совместную директиву, в которой предупреждали работников органов прокуратуры, юстиции и судов о том, что отныне вопросы борьбы с нарушениями трудовой дисциплины должны стать для них первостепенными. Было предложено расследовать дела о прогулах в течение трех дней, а рассматривать в суде в пятидневный срок. Но, несмотря на драконовские меры, дисциплина на производстве существенно не улучшилась, хотя следственными органами только за месяц было возбуждено около ста тысяч уголовных дел. Указ встречал противодействие со стороны как рабочих, так и хозяйственников.
Руководство страны было явно недовольно. По предложению И. В. Сталина этот вопрос даже был включен в повестку дня очередного Пленума ЦК ВКП(б). Г. М. Маленков довольно резко говорил о том, что хозяйственные руководители «больше болтают о дисциплине, а не насаждают ее», что органы прокуратуры проявляют пассивность и перестраховку, а суды медленно рассматривают дела. Особенно уничижительной критике была подвергнута инициатива Панкратьева и Рычкова о проведении показательных процессов. Когда Сталин сказал, что своим ошибочным приказом Панкратьев «не вооружил своих людей на местах, а дезорганизовал», судьба его была фактически предрешена – 5 августа 1940 года он был освобожден от должности Прокурора Союза ССР. Ольга Сергеевна вспоминала: «Я узнала о том, что его сняли, из газет и сразу вылетела к нему из Сочи. Он очень переживал, но старался не подавать виду. Говорил: «Не волнуйся, за мной ничего нет, я кристально чист. Вы с Алечкой можете спать спокойно».
Вскоре для М. И. Панкратьева нашлась подходящая номенклатурная должность, хотя и со значительным понижением, в системе Наркомата юстиции СССР. Нарком Н. М. Рычков внес представление в ЦК ВКП(б) об утверждении его в должности заместителя начальника Управления военных трибуналов. Отмечалось, что при проверке работы Прокуратуры Союза ССР в связи с передачей дел новому Прокурору СССР «крупных недочетов в работе прокуратуры не обнаружено», и Панкратьев, по их мнению, с новой работой справится. В личной беседе, состоявшейся в ЦК ВКП(б), Панкратьев заявил, что предлагаемая работа его вполне удовлетворяет. Назначение произошло в октябре 1940 года.
В обязанности второго заместителя начальника Управления военных трибуналов входило изучение практики работы трибуналов военизированных железных дорог, водных бассейнов и войск НКВД, обобщение опыта их деятельности, производство ревизий с выездом на периферию и т. п. Здесь Панкратьев работал полтора года. 18 апреля 1942 года он был направлен в действующую армию и возглавил военный трибунал Брянского фронта. Начальник Управления военных трибуналов диввоенюрист Зейдин, способствовавший новому назначению Панкратьева, писал в характеристике, что он «обладает большим кругозором и достаточной теоретической практикой», «идеологически и морально устойчив».
В октябре 1943 года М. И. Панкратьев стал председателем военного трибунала 2-го Прибалтийского фронта. В этой должности он служил до конца Великой Отечественной войны. Судя по служебным характеристикам этого периода, он вполне удовлетворял требованиям командования – «правильно строил карательную политику, вел беспощадную борьбу с врагами Родины», а в период наступательных боев «добился оперативности в разборе дел». Проверки, проводимые Главным управлением военных трибуналов, вскрывали в его деятельности лишь отдельные недостатки. В частности, в январе 1945 года его внимание было обращено на то, что отдельные военные трибуналы «допускали послабление при избрании мер наказания за хищения и разбазаривание военного имущества, по отдельным делам об убийствах, грабежах и насилии над населением». В апреле 1945 года М. И. Панкратьев уже рапортовал начальству, что трибуналы суровее наказывают за указанные преступления.
В августе 1945 года, в связи с реорганизацией фронтов, Панкратьева утверждают в должности председателя военного трибунала Прибалтийского военного округа. На ней М. И. Панкратьев оставался пять лет. Ревизия, проведенная в марте
1946 года, установила, что Панкратьев «правильно обеспечивает руководство судебной практикой военных трибуналов округа». Однако уже на следующий год в его адрес стали высказываться критические замечания. В справке от 30 января 1947 года, подписанной начальником 2-го отдела Главного управления военных трибуналов Пелевиным и утвержденной Зейдиным, отмечалось, что Панкратьев «живое оперативное руководство» военными трибуналами стал подменять бумажным, перестал сам вести процессы, не выезжал в подведомственные трибуналы, а его заместители были на местах лишь в единичных случаях, военные следователи и судьи допускали волокиту по делам. Однако, несмотря на столь серьезную критику, в справке делался вывод о том, что М. И. Панкратьев занимаемой должности соответствует.
За время службы в Прибалтийском военном округе М. И. Панкратьев редко бывал в Москве, где жили его жена и дочь. Ольга Сергеевна руководила лабораторией на кондитерской фабрике «Ударница», а дочь Галина после окончания школы с золотой медалью поступила на исторический факультет МГУ. Связь Михаила Ивановича с семьей настолько ослабла, что даже о свадьбе дочери он узнал последним. Она вышла замуж за сына советского посла в Голландии Бориса Сергеевича Крылова.
По всей видимости, М. И. Панкратьев и дальше продолжал бы успешно служить на военно-судебном поприще, если бы не допустил одну серьезную «политическую» промашку. Суть ее была изложена в записке: «Министр юстиции СССР т. Горшенин просит ЦК ВКП(б) освободить т. Панкратьева от должности председателя Военного трибунала Прибалтийского военного округа… свою просьбу… мотивирует тем, что 20 декабря 1949 года на общем открытом собрании военных трибуналов и прокуратуры Прибалтийского военного округа т. Панкратьев в своем выступлении допустил ряд антипартийных, клеветнических и политически ошибочных высказываний».
Что же случилось на открытом партийном собрании? В тот день торжественные заседания проходили повсеместно – страна отмечала семидесятилетие И. В. Сталина. М. И. Панкратьев поделился своими воспоминаниями о встречах (впрочем, немногочисленных) с И. В. Сталиным. Вначале Панкратьев, отдавая должное вождю, сказал, что Сталин «далеко предвидел вперед», «глубоко анализировал события и делал выводы», но затем Панкратьева «занесло». Он простодушно стал рассказывать о том, о чем следовало бы умолчать.
Говоря, например, о методах ведения следствия, Панкратьев, со ссылкой на Сталина, заявил, что вполне допустимо применение физического воздействия в отношении обвиняемых в контрреволюционных преступлениях. Далее, опять же ссылаясь на вождя, он объяснил причину фактического запрещения досрочного освобождения осужденных.
Панкратьев также поделился подробностями своего участия в приеме, организованном в Кремле в 1939 году в честь шестидесятилетия Сталина.
Конечно, все эти откровенные высказывания М. И. Панкратьева в официальный протокол собрания включены не были. Тем не менее некоторые особенно «бдительные» слушатели поспешили сообщить о них в Москву. Например, помощник военного прокурора Прибалтийского военного округа Ч. в письме отметил, что подобное воспоминание либо «было вызвано желанием скомпрометировать тов. Сталина в глазах присутствующих, либо Панкратьев является болтуном, разгласившим на открытом партийном собрании государственную тайну». И такое письмо оказалось не единственным.
М. И. Панкратьев был вызван в Москву, признал «допущенные им грубые ошибки и недостойное поведение» и согласился с тем, что оставаться в занимаемой должности он не может.
В своем объяснении от 15 мая 1950 года он писал, что допустил «непродуманное и политически ошибочное выступление», в котором «раскрыл некоторые секреты», объясняя это тем, что подошел к своему выступлению «по-делячески, а не как политический работник». Постановлением Секретариата ЦК ВКП(б) от 13 марта 1950 года (подписано Г. М. Маленковым) предложение министра юстиции СССР Горшенина об освобождении Панкратьева было принято. За «неправильное поведение в бытность председателем военного трибунала Прибалтийского военного округа» ему объявили строгий выговор с предупреждением и занесением в учетную карточку.
В октябре 1950 года М. И. Панкратьев был отправлен в отставку. Хотя было ему всего сорок девять лет, никакой номенклатурной должности ему больше не доверили. С декабря 1954 года он состоял на учете в партийной организации Октябрьского районного комитета ДОСААФ и был там вначале руководителем семинара в системе партпросвещения, а затем всего лишь инструктором внештатного отдела пропаганды военных знаний.
В 1955 году Панкратьев развелся с Ольгой Сергеевной и женился на А. И. Моисеевой, работавшей в то время врачом в поликлинике Министерства обороны СССР. Однако затем он вновь вернулся к своей первой жене.
В июне 1973 года по заявлению Панкратьева, поддержанному первичной партийной организацией и Московским городским комитетом партии, партийное взыскание, наложенное на него в 1950 году, было снято.
За свою тридцатилетнюю службу Михаил Иванович Панкратьев был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени и многими медалями. Он являлся депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.
Умер М. И. Панкратьев 23 сентября 1974 года. Урна с его прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища в Москве.
Андрей Владимирович Филиппов (1904–1938)
«Прокурор спас!»
Андрей Владимирович Филиппов родился в Москве 26 октября 1904 года. Его отец, Владимир Константинович, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества вместе с А. С. Голубкиной, Л. А. Сулержицким, Татьяной Толстой и другими известными деятелями искусства. Закончил он его с серебряной медалью и стал работать архитектором – возводил жилые дома и другие сооружения.
Человеком был очень талантливым – спроектированная им железнодорожная станция в Царицыне и сейчас считается лучшей в Москве. На подмосковной Лосиноостровской он по собственному проекту построил дом, там и жил с семьей. Андрей получил образование в классической гимназии.
Но вот грянули октябрьские события. Юноша, увлеченный революционной романтикой, вскоре вступил в комсомол, в шестнадцать лет – в партию, а после этого ушел добровольцем на фронт. В марте 1921 года ему вместе с колонной бойцов пришлось штурмовать Кронштадтскую крепость. Вернувшись с фронта, он некоторое время секретарствовал, но чувствовал постоянную тягу к продолжению образования. В итоге выбор был сделан в пользу общественных наук, и Филиппов, одновременно с работой, начал изучать право в Московском государственном университете.
В 1923 году Андрей Владимирович был принят на службу в только что образованные органы прокуратуры. Первое время способный и грамотный юноша занимал должность помощника прокурора Московской губернии, затем возглавил прокуратуру Бронницкого уезда. Продвижение по службе шло быстро – чуть позже он стал помощником и старшим помощником, а с 1930 года – заместителем прокурора Московской области. Через год двадцатисемилетнего Филиппова выдвинули на должность помощника Прокурора РСФСР, а вскоре назначили одновременно и прокурором города Москвы. Эти две должности он совмещал около четырех лет. В августе 1936 года он получил предложение возглавить прокуратуры Москвы и Московской области, но срок его пребывания на этих постах оказался недолгим – через год он неожиданно был снят и направлен в Челябинскую область, где ему предложили должность исполняющего обязанности прокурора. Там ему и пришлось оставаться вплоть до своего ареста.
Из воспоминаний племянницы, Вероники Юльевны Филипповой, Андрей Владимирович предстает перед нами человеком незаурядным, разносторонне одаренным, большим ценителем искусства – и это неудивительно, если вспомнить круг его общения. Жизнерадостность, красота и доброта располагали всех к дружескому общению с ним. Он любил петь, танцевать, а в юности так успешно выступал на любительской сцене, что его даже приглашали играть в Малом театре. Не только непосредственные служебные обязанности в прокуратуре занимали его – он был серьезно увлечен наукой и работал в секции уголовной политики Института советского строительства и права, а кроме того, возглавлял прокурорское отделение Института совправа имени Стучки.
Жена А. В. Филиппова, Зинаида Васильевна Ершова, тоже увлекалась научными исследованиями и делала это так талантливо, что по праву заслужила прозвище «русской Марии Кюри». Впоследствии она стала заслуженным деятелем науки, доктором технических наук и профессором.
Когда Филиппов работал в Челябинской прокуратуре, Ершовой случилось проездом быть в этом городе. Разыскав здание прокуратуры, она позвонила мужу по телефону, надеясь на встречу, но он ответил, что не сможет спуститься к ней, опасаясь ареста, и что он «пытается спасти кого сможет». EIotom добавил, что повидаться с ним можно будет только после его предварительного звонка. Нужно ли объяснять, почему встреча так и не состоялась…
За что же был арестован А. В. Филиппов? Его обвинили в том, что он якобы сумел создать в Москве целые три боевые группы для совершения террористических актов против руководителей партии и правительства. По версии следствия, готовились покушения на Сталина, Ежова, Вышинского, Хрущева, бывшего тогда первым секретарем МК и МГК
ВКП(б). Кроме того, Филиппову вменялось в вину, что он руководил подпольными совещаниями, а также в рамках выполнения служебных обязанностей занимался систематическим вредительством – то всячески противодействовал разгрому троцкистов, то сознательно уничтожал заявления бдительных граждан, разоблачающих деятельность «врагов народа», то смазывал дела правых, и особенно кулацкие, путем их переквалификации, то «придирался» к материалам следствия и затягивал его. Давать признательные показания заставляли самым жестоким образом – после допросов, сопровождавшихся жестокими избиениями, его не раз швыряли обратно в камеру в полусознательном состоянии. В итоге Филиппов не выдержал пыток и признал себя виновным. Однако во время суда Андрей Владимирович свою вину полностью отрицал. 29 августа 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к высшей мере наказания. Расстрелян он был в тот же день.
…Прошло более сорока лет. Однажды в дверь квартиры племянницы Филиппова, Вероники Юльевны, позвонил незнакомый человек. Он не назвал себя, но сразу же спросил ее об Андрее Владимировиче и его судьбе. Очень огорчился, услышав известие об аресте и гибели Андрея Владимировича, а потом рассказал, как в 1929 году в Ногинске, во время суда, прокурор Филиппов спас его самого и его семью. Он так и сказал – прокурор спас!
Григорий Николаевич Сафонов (1904–1972)
«Умеет руководить аппаратом»
Григорий Николаевич Сафонов родился 13 октября 1904 года в Ростове Ярославской губернии. Отец его, Николай Дмитриевич, до революции имел собственную кузницу, там и работал до 1920 года. Затем до самой смерти, последовавшей в 1930 году, считался кустарем, но иногда подрабатывал на местной фабрике «Рольма». Мать Григория Николаевича происходила из семьи богатого лесопромышленника Григория Яковлева, владевшего в Угличском уезде Ярославской губернии лесами и землями. После его смерти все состояние перешло по наследству к сыну, Николаю Григорьевичу. Когда совершилась революция, состояние было конфисковано. Н. Г. Яковлева за антисоветскую деятельность осудили и сослали на Север.
До восемнадцатилетнего возраста Григорий Сафонов жил с родителями и учился в ростовской средней школе. В сентябре 1922 года он стал студентом правового отделения Ленинградского государственного университета, а еще через три года занял скромную должность помощника юрисконсульта машиностроительного треста в Ленинграде. В ноябре 1926 года был призван в Красную армию, служил в Старой Руссе в 48-м стрелковом полку, в составе так называемых краткосрочников. Вернувшись через год в Ленинград, Григорий Сафонов несколько месяцев не мог найти работу, а в декабре 1927 года устроился юрисконсультом на Ремонтно-механический завод Наркомата путей сообщения. Однако через несколько месяцев должность сократили, и он вновь оказался безработным. Только в марте 1929 года ему удалось получить место юрисконсульта на Невском машиностроительном заводе имени В. И. Ленина. Вскоре он возглавил юридическое бюро завода.
На машиностроительном заводе Г. Н. Сафонов работал более шести с половиной лет, заслужив репутацию способного юриста, особенно хорошо разбирающегося в гражданском и трудовом законодательстве, и активного общественника (он часто выступал перед населением, руководил различными агитационно-пропагандистскими кружками и семинарами). По совместительству Сафонов читал курс лекций по гражданскому праву в Институте советского права, а позднее – в Ленинградском университете.
В апреле 1935 года прокуратура Ленинградской области стала перетягивать Сафонова к себе, однако воспротивилось руководство завода, не желавшее терять хорошего юриста. Тогда прокурор обратился в обком партии с просьбой «мобилизовать» Сафонова, как в то время практиковалось. В декабре бюро Ленинградского обкома партии согласилось с этим предложением и своим решением утвердило Г. Н. Сафонова в должности прокурора Окуловского района Ленинградской области. В 1938 году он стал прокурором одного из центральных районов Ленинграда – Кировского.
В этом районе Сафонов проработал менее года. Способности молодого прокурора успели заметить и по достоинству оценить в Прокуратуре Союза ССР. Весной 1939 года Сафонова пригласили в центральный аппарат союзной прокуратуры – там требовался толковый начальник гражданско-судебного отдела. Теперь уже Ленинградский обком партии не хотел отпускать инициативного прокурора, однако Вышинский, бывший тогда в большой силе, оказался настойчивее.
В июле 1939 года Г. Н. Сафонов перебрался в Москву и приступил к исполнению своих новых обязанностей. С этого времени его карьера резко и стремительно пошла вверх. Принявшись за работу энергично и напористо, он в сжатые сроки сумел значительно улучшить положение дел. В декабре 1939 года новый Прокурор Союза ССР М. И. Панкратьев внес предложение в ЦК ВКП(б) об утверждении Г. Н. Сафонова одним из своих заместителей. Там оно нашло поддержку, и вчерашний районный прокурор в тридцатипятилетнем возрасте становится заместителем Прокурора Союза ССР.
Как часто бывает в таких случаях, не обошлось без завистников. Вскоре в ЦК партии стали поступать «сигналы» о том, что у Сафонова, оказывается, не совсем пролетарское происхождение и что этот факт он якобы скрыл. Действительно,
Григорий Николаевич не особенно распространялся в своих анкетах о родственниках, сообщал о них очень скупо. Он писал, в частности, что его отец до революции арендовал кузницу, а потом работал кустарем. О своем деде-лесопромышленнике умолчал, а о дяде сообщал лишь то, что тот занимался торговлей, а о дальнейшей его судьбе ничего не знает.
Начались проверки, в разные концы полетели запросы. Секретарь Ростовского райкома партии Ярославской области Смирнов доложил в ЦК ВКП(б) о том, что отец Сафонова имел кузницу, а дед по линии матери был лесопромышленником и все свое состояние оставил сыну, то есть дяде Сафонова, который погиб на Севере. Написал он и о других родственниках. Единственным «криминалом» оказалось лишь то, что две его тетки были замужем за офицерами старой армии. Сестры Сафонова Ольга и Людмила проживали в Ленинграде. Первая из них была медсестрой, а другая находилась на иждивении мужа, работавшего юристом. Третья сестра, Нина, преподавала в Москве. Получив эти сведения, в ЦК ВКП(б) посчитали проверку завершенной. Для Сафонова она никаких негативных последствий не имела.
В должности заместителя, а затем и первого заместителя Прокурора Союза ССР Григорий Николаевич Сафонов пробыл около девяти лет. Непосредственно на него было возложено руководство различными подразделениями центрального аппарата, в частности отделами общего надзора, статистики и учета, управлением по надзору за местами заключения. Он курировал также главные военные прокуратуры железнодорожного транспорта и морского и речного флота. Много внимания уделял работе с кадрами и административно-финансовым вопросам.
Отличительной чертой Григория Николаевича был исключительно высокий профессионализм, особенно наглядно проявившийся в тот период, когда органы прокуратуры возглавлял малокомпетентный Бочков. Во многом именно благодаря таким людям, как Сафонов, Прокуратура Союза ССР сумела сохранить в то время свое лицо. В одной из характеристик Сафонова этого периода отмечается: «У тов. Сафонова каждый прокурорский работник получает исчерпывающее указание по конкретному служебному вопросу, с которым он к нему обращается, и здесь авторитет тов. Сафонова, в смысле знания прокурорской работы, стоит высоко».
Работа Сафонова положительно оценивалась и в ЦК партии, особенно в трудный для страны период 1941–1945 годов. Именно в это время заметно активизировалась деятельность курируемого Сафоновым отдела общего надзора.
Г. Н. Сафонову приходилось много раз возглавлять бригады Прокуратуры Союза ССР во время проверок в прокуратурах союзных республик. С этой целью он выезжал на Украину, в Латвию и другие места. Григорий Николаевич принимал участие в Нюрнбергском процессе и часто выезжал в Нюрнберг, где консультировал группу обвинителей и следователей от Советского Союза.
В партийной характеристике, подготовленной в ЦК ВКП(б), отмечалось, что Сафонов «глубоко и всесторонне знает работу прокуратуры… К разрешению конкретных вопросов подходит исключительно вдумчиво, серьезно. Аппарат Прокуратуры СССР почти не знает таких дел, которые после рассмотрения их тов. Сафоновым вторично истребовались бы в Прокуратуру СССР для нового рассмотрения. Тов. Сафонов умеет руководить аппаратом».
С введением в Прокуратуре Союза ССР классных чинов Г. Н. Сафонову был присвоен чин государственного советника юстиции 1-го класса. В марте 1945 года Григория Николаевича наградили орденом Ленина. В феврале 1947 года избрали депутатом Верховного Совета РСФСР.
4 февраля 1948 года Григорий Николаевич Сафонов был назначен Генеральным прокурором Союза ССР. Было ему тогда немногим более сорока трех лет.
Наиболее значительным мероприятием в первый год руководства Г. Н. Сафоновым прокурорской системой стало состоявшееся в апреле 1948 года Всесоюзное совещание руководящих работников прокуратуры. Генеральный прокурор Союза ССР, отметив успехи, достигнутые органами прокуратуры за последние годы, подверг резкой критике имеющиеся недостатки в работе, особенно заметные в подборе и расстановке кадров, в поддержании государственного обвинения в суде.
В октябре 1948 года было проведено еще одно крупное мероприятие – Всесоюзная учебно-методическая конференция лучших следственных работников страны. Ее итоги были подведены в приказе Генерального прокурора СССР от 23 октября 1948 года. Отмечалось, что многие «прокуроры и следователи добились значительных успехов в борьбе с преступностью и в организации следственной работы». Среди лучших была названа прокуратура Сталинской области, которую возглавлял И. Д. Ардерихин, а также прокуратуры Казахской ССР, Алтайского края, Иркутской и Барановичской областей. В приказе говорилось о том, что «работу передовых народных следователей характеризует активность в борьбе с преступностью, инициативность и высокая бдительность, дающая возможность быстро распознавать новые формы преступлений». Одним из первых среди лучших следственных работников страны был назван народный следователь прокуратуры Орехова-Зуева юрист 1-го класса Порфирий Михайлович Дубинкин, который, как отмечено в приказе, «являет собою образец замечательного советского следователя, преданного своему делу, любящего свою работу». За достигнутые успехи в расследовании преступлений он был награжден личной автомашиной «Москвич». Следственному отделу Прокуратуры Союза ССР предложено было подготовить и издать выпуск «Следственной практики», посвященный опыту работы этого следователя.
В сентябре 1949 года в Ленинграде была открыта первая следственная школа Прокуратуры СССР. Ее возглавила С. Мусина. Учебный план школы был рассчитан на два года обучения, причем большая часть времени отводилась изучению криминалистики и других специальных дисциплин. Основную массу слушателей составила молодежь в возрасте до двадцати пяти лет. Все, как правило, имели среднее образование. Исключение было сделано лишь для молодых национальных республик.
В 1949 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт криминалистики. Его руководителем стал Степан Петрович Митричев.
На ВНИИ криминалистики возлагались задачи научной разработки методики расследования наиболее распространенных видов преступлений и внедрения в следственную практику научно-технических средств и тактических методов раскрытия преступлений, а также теоретической разработки приемов криминалистики. В первый же год работы группа научных сотрудников института сконструировала «следственный чемодан», в котором были сосредоточены необходимые для первоначальных следственных действий технические средства. Стали выпускаться и пособия по методике, тактике и технике расследования.
Григорий Николаевич Сафонов придавал исключительно важное значение не только следствию, но и другим участкам прокурорской деятельности. В этой связи в целях дальнейшего повышения уровня прокурорского надзора он организовывал многодневные учебно-методические конференции и совещания по различным направлениям прокурорской работы.
Г. Н. Сафонов занимал пост Генерального прокурора Союза ССР более пяти лет. К тому времени, в силу целого ряда причин, он уже не пользовался особым авторитетом у руководителей партии и правительства. Ему так и не был присвоен положенный Генеральному прокурору СССР классный чин действительного государственного советника юстиции.
Писатель А. А. Безуглов, работавший прокурором уголовно-судебного отдела при Сафонове, вспоминал, что Генеральный прокурор СССР запомнился ему человеком небольшого роста, полным, напоминавшим какой-то колобок. В руке он всегда держал кожаную папку. В приемной у него были не секретари, а два офицера – адъютанты Ильин и Гусев. Безуглову особенно запомнилась первая встреча с Сафоновым. «Прокуроры по очереди дежурили по ночам в приемной Генерального прокурора СССР, – рассказывал А. А. Безуглов. – Это дежурство заключалось в приеме почты, а иногда кто-нибудь звонил. И вот однажды во время моего дежурства появился в приемной Сафонов. Я, естественно, встал и поздоровался с ним. Сафонов на меня посмотрел и ничего не ответил. Так повторилось еще раз. Я был удивлен. И однажды с одним старшим товарищем поделился своим недоумением. В ответ он говорит: «Многого хочешь, он даже с начальниками отделов, генералами, не здоровается, а ты хотел, чтобы он здоровался с рядовым». К этому сотрудники привыкли. Но вот к нам в отдел поступает на работу Антонина Яковлевна Ионкина. Она была женой первого заместителя Прокурора РСФСР Буримовича. И когда она поздоровалась с Сафоновым, а тот не ответил, Антонина Яковлевна была возмущена и решила обратиться к секретарю парткома Прокуратуры СССР Сливину. Тот пообещал выяснить причины, по которым Сафонов не ответил на приветствие Ионкиной. Через несколько дней он объявил Антонине Яковлевне, что разговаривал по этому поводу с Сафоновым, и тот заявил, что он настолько занят государственными делами, только и думая о них, что никого и ничего вокруг себя не замечает».
После отставки, по свидетельству ветеранов прокуратуры, Сафонов стал совершенно иным человеком. Вел себя очень демократично, был прост в общении, не кичился прежней должностью, иногда рассказывал интересные эпизоды из своей жизни.
В те годы, когда Г. Н. Сафонов руководил органами прокуратуры, в стране раскручивался последний виток репрессий, вершиной которого стали известные «ленинградское дело» и незавершенное «дело врачей». Властями был нанесен также удар по органам государственной безопасности и прокуратуры.
О репрессиях конца 1940 – начала 1950-х годов написано немало: выходили статьи, монографии, книги, мемуары и другая литература. Поэтому, не вдаваясь в подробности, хотелось бы остановиться только на том, как объяснял причины творившегося в стране беззакония, роль в этом деле органов госбезопасности и прокуратуры сам Сафонов – тот, кто по своему должностному положению должен был бы стать надежной преградой на пути произвола. В личном деле Сафонова на этот счет есть немало документов.
В одном из своих объяснений он писал:
«Массовым извращениям в деятельности органов государственной безопасности на протяжении столь длительного периода времени способствовал тот факт, что МГБ (МВД) было поставлено в ненормальное положение в системе государственных органов.
При всем чрезвычайно важном значении функции охраны безопасности государства не следовало допускать столь большой концентрации власти в одном государственном органе, что позволило ему фактически почти совсем уйти от контроля.
Был создан государственный орган, который имел мощный аппарат для наблюдения с разветвленной, всюду проникающей сетью сотрудников и агентов; свою армию (войска МГБ); свой суд (особое совещание); свои места заключения (внутренние тюрьмы и особые лагеря) и зависимую от него систему прокуратуры и трибуналов войск МВД. Именно этой прокуратуре и этим трибуналам была по положению поднадзорна и подсудна основная часть дел, расследуемых МГБ. Органам государственной безопасности был создан непомерный авторитет, отнюдь не оправданный их работой».
В своих объяснениях в КПК при ЦК КПСС Сафонов признавал, что «состояние прокурорского надзора за следствием в органах МГБ – МВД было неудовлетворительным. Прокурорский надзор не обеспечивал строгого соблюдения законности, и вследствие этого имели место факты необоснованного привлечения органами государственной безопасности граждан к уголовной ответственности и другие серьезные нарушения советских законов… Некоторые прокуроры безответственно относились к санкциям на арест, не осуществляли должного надзора в ходе следствия, мирились с возмутительными фактами волокиты по расследуемым в органах МГБ делам».
Сафонов признавал, что с его стороны было явно недостаточным реагирование на серьезные недостатки в работе, а иногда и беспринципность при осуществлении надзора за следствием в МГБ. «Я ограничился изданием нескольких приказов о наказании виновных работников, периодическими проверками работы и проведением отдельных совещаний, – писал Г. Н. Сафонов. – Видя порочность самой организации надзора, я крайне затянул разрешение этого вопроса…»
Г. Н. Сафонов назвал и объективные причины слабого прокурорского надзора за следствием в органах государственной безопасности. «Я и мои предшественники при осуществлении надзора за следствием в органах госбезопасности были поставлены в очень тяжелые условия. Специальными указаниями этот надзор был в значительной мере парализован. Поэтому и приходилось впоследствии восстанавливать предусмотренные законом надзорные права прокуроров».
Осенью 1952 года в ЦК партии стали поступать материалы, компрометирующие Генерального прокурора, – видимо, сработанные не без участия Берии. Среди них были и письма прокурорских работников. Они касались якобы неправильного поведения руководителей Прокуратуры СССР и лично Сафонова, а также серьезных нарушений в осуществлении надзора за соблюдением законности при расследовании дел органами Министерства государственной безопасности СССР.
Секретариат ЦК КПСС принял решение провести по всем этим материалам соответствующую проверку. В октябре 1952 года результаты проверки были доложены Шкирятову, а им – секретарю ЦК Г. М. Маленкову. Выводы комиссии были чрезвычайно жесткими и не сулили ничего хорошего. В них отмечалось, что Г. Н. Сафонов «недобросовестно относится к своему государственному долгу и неудовлетворительно осуществляет возложенный на него Конституцией СССР высший надзор за точным исполнением законов в стране». В справке, в нескольких разделах, подробно и обстоятельно излагались так называемые факты. В заключение утверждалось, что Г. Н. Сафонов «работает без напряжения, от работников аппарата оторван, за период пребывания на посту Генерального прокурора СССР он не выступил в качестве государственного обвинителя ни в одном судебном процессе и ни разу не выезжал на проверку работы в подчиненные ему прокуратуры. При рассмотрении в ЦК партии вопроса о борьбе с многочисленными фактами необоснованного предания граждан суду он оказался неспособным разобраться в этом деле и дать свои предложения по устранению этих фактов грубого нарушения законов».
Авторы делали вывод: «В связи с фактами антигосударственного отношения т. Сафонова к порученному делу считаем, что он не может оставаться на посту Генерального прокурора СССР, как не оправдавший оказанного ему доверия, и заслуживает строгого партийного взыскания».
Однако сразу после проверки ход этому документу не дали. В апреле 1953 года Г. Н. Сафонов был лишь вызван в КПК при ЦК КПСС, где с ним провел беседу Шаталин. Последний (по всей видимости, с одобрения ЦК), указав Сафонову на ошибки, сказал, что никакого решения приниматься не будет. Сафонов продолжал еще в течение более двух месяцев выполнять свои обязанности.
30 июня 1953 года Г. Н. Сафонов был освобожден от должности Генерального прокурора Союза ССР. Основанием для этого послужили серьезные просчеты в надзоре за следствием в органах госбезопасности. В своем объяснении он честно признавался, что в период его работы действительно были допущены серьезные недостатки и что их было значительно больше, чем приводится в записке отдела ЦК КПСС. Снятие с работы он рассматривал как «серьезное, но справедливое наказание» и тяжело переживал его. В соответствии с постановлением Президиума ЦК партии он был оставлен в так называемой номенклатуре ЦК, то есть мог рассчитывать на соответствующую должность. Лично Г. М. Маленков заявил на заседании Президиума, что Сафонову будет предоставлена работа в прокуратуре, органах юстиции или другом государственном органе.
После сдачи дел новому Генеральному прокурору Союза ССР Р. А. Руденко Григорий Николаевич ушел в отпуск на полтора месяца, так как не отдыхал несколько лет. После отпуска он обратился в административный отдел ЦК с просьбой направить его на работу. Ему была предложена должность председателя областного суда в одном из регионов РСФСР. Не возражая в принципе, Сафонов попросил предоставить ему аналогичную работу в Москве. Шло время… Наконец ему сообщили, что его кандидатура рассматривается на должность заместителя Председателя Верховного суда РСФСР или члена Верховного суда СССР. Григорий Николаевич согласился с этими предложениями. Однако никаких вестей из ЦК партии долгое время не было. Наконец Сафонова пригласил на беседу Председатель Верховного суда РСФСР. Были заполнены анкеты, написана автобиография, и вновь потянулись томительные дни ожидания. Сафонову сказали, что все материалы отослали в ЦК КПСС на утверждение. Однако вместо назначения на должность его опять вызвали в КПК при ЦК КПСС для дачи объяснений по фактам, которые уже были предметом рассмотрения Президиума ЦК КПСС. Здесь он узнал, что в январе 1954 года административный отдел подготовил записку о привлечении его к партийной ответственности. Секретариат ЦК КПСС 9 февраля 1954 года поручил Комиссии партийного контроля рассмотреть материалы и внести свои предложения. Г. Н. Сафонову пришлось вновь писать многочисленные объяснения.
Решение о наказании Г. Н. Сафонова было принято только 25 февраля 1955 года. Ему был объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку, снятый только в марте 1967 года.
Пока рассматривалось персональное дело Г. Н. Сафонова, никакой номенклатурной должности ему не предлагали, и с июля 1953 года он почти два года нигде не работал. Только в марте 1955 года Сафонов был назначен на должность заместителя Московского окружного транспортного прокурора, на которой пробыл два года. В мае 1957 года его перевели на работу в аппарат Прокуратуры РСФСР, где он также занял весьма скромное место заместителя начальника уголовно-судебного отдела. Последние годы жизни он работал рядовым прокурором следственного управления прокуратуры республики.
Г. Н. Сафонов являлся депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го созыва. Награжден двумя орденами Ленина. Григорий Николаевич был женат, имел сына.
Скончался Григорий Николаевич в 1972 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии Новодевичьего кладбища в Москве.
Лев Романович Шейнин (1906–1967)
«Агентом иностранной разведки не был…»
Лев Романович Шейнин родился 12 марта 1906 года в поселке Брусованка Велижского уезда Витебской губернии в семье служащего. В 1921–1923 годах учился в Высшем литературно-художественном институте имени В. Я. Брюсова. С 1923 года работал в прокуратуре.
Служебная карьера Льва Романовича Шейнина складывалась неплохо. Еще когда он только начал работать следователем по важнейшим делам, тогдашний Прокурор Союза СССР Акулов (позднее один из подследственных Шейнина) по рекомендации Вышинского взял его с собой в Ленинград, где тогда проводилось расследование убийства С. М. Кирова. Поскольку следствие «вершил» лично Сталин со своими подручными Ягодой, Ежовым, Аграновым, роль Акулова была там эпизодической, а уж Шейнина – тем более. Тем не менее участие в этом деле дало ему возможность «высветиться» – скоро он стал правой рукой Прокурора Союза ССР А. Я. Вышинского. Видимо, это и спасло Шейнина от участи многих прокуроров, попавших в жернова сталинских репрессий конца 1930-х годов. То и дело ставили к стенке то одного, то другого очередного «заговорщика» – неудивительно, что имя Льва Шейнина тоже фигурировало в некоторых протоколах допросов. Но ход этим показаниям почему-то так и не дали, отложив до лучших времен.
В 1936 году, в тридцатилетием возрасте, он уже возглавил следственный отдел Прокуратуры Союза ССР. Руководил им более двенадцати лет и слыл большим «спецом» по политическим делам. Принимал участие в работе Нюрнбергского трибунала. Благосклонность к нему власть предержащих была поразительна – правительственные награды, в том числе орден Ленина, загранкомандировки (даже во время войны!), роскошная жизнь. Возможно, дело в том, что кто-то из сотрудников госаппарата высоко ценил его писательский талант. Писал Шейнин много, и его имя было широко известно, особенно в начале 50-х годов. Тогда у нас практически не печатали детективную литературу – ни Агату Кристи, ни Жоржа Сименона, – поэтому непритязательные шейнинские «Записки следователя» стали очень популярными. Он писал пьесы (в соавторстве с братьями Тур), киносценарии, ставил спектакли. Знаменитый фильм «Встреча на Эльбе» принес ему Сталинскую премию.
Он был вхож в тогдашние «звездные круги» – вращался среди писателей, артистов, художников, ученых, спортсменов, политиков. Гонорары он получал немалые – хватало и на модную тогда машину «Победа», и на двухэтажную дачу в Серебряном Бору, и на богатый гардероб. Образ жизни по тем временам вел довольно свободный, несмотря на то что был женат. Меж московских интеллектуалов после войны ходила стихотворная байка: «На берегах литературы пасутся мирно братья Туры и, с ними заводя амуры, Лев Шейнин из прокуратуры».
Тучи над его головой начали вдруг сгущаться в конце 1940-х годов. В 1949 году его освобождают от должности, не объясняя причин. Обещают поставить директором Института криминалистики, но назначение так и не состоялось. Шейнин выжидает, сидя дома, занимается литературой, но почву зондирует постоянно. Наверняка он знал, что ему грозит, – на одной из вечеринок подвыпивший сотрудник органов сболтнул: «Эх, Лева, Лева, старый уголовник, умная у тебя башка, но все же мы за тебя взялись». Незадолго до ареста то же самое он услышал от знакомого драматурга – один из сотрудников госбезопасности посоветовал тому держаться подальше от Шейнина, так как его скоро посадят.
В это время, особенно после гибели Михоэлса, власти усиленно будировали так называемый еврейский вопрос. Для того чтобы его раскрутить, следовало найти «заговорщиков». Шейнин тут был как нельзя кстати – прокурор, писатель, он имел такие обширные связи в еврейской среде, что на роль заговорщика подходил как нельзя лучше. К тому же все знали, что хитрый и осторожный Шейнин был изрядно труслив.
Не было секретом, что этот «любитель ночных бдений» сам панически боялся допросов с пристрастием. По свидетельству знакомых, человеком он был нестойким по характеру, ненадежным, способным изменить в любой момент.
Его арестовали 19 октября 1951 года. В постановлении на арест указывалось: «Шейнин изобличается в том, что, будучи антисоветски настроен, проводил подрывную работу против ВКП(б) и Советского государства. Как установлено показаниями разоблаченных особо опасных государственных преступников, Шейнин находился с ними во вражеской связи и как сообщник совершил преступления, направленные против партии и Советского правительства». Арест санкционировал Генеральный прокурор Союза ССР Г. Н. Сафонов. В дальнейшем прокуратура чисто символически принимала участие в этом деле – ежемесячное продление срока действия и один-два допроса, учиненные помощником военного прокурора. Можно сказать, что Прокуратура СССР бросила на произвол судьбы своего сотрудника, отдавшего следственной работе двадцать семь лет жизни. Сам Шейнин связывал все происшедшее с происками Абакумова, хоть тот и сам уже находился в тюрьме. В конце 1949 года Шейнин со своей командой занимался расследованием причин пожара на даче Ворошилова и установил халатность органов безопасности, отдав виновных под суд. После этого Абакумов отпускал в адрес Шейнина невнятные угрозы и намеки.
Странно и непонятно, почему дело Шейнина тянулось два года – другие, даже гораздо более сложные, заканчивались гораздо быстрее. Допросы перемежались с очными ставками, дело пухло и к концу насчитывало уже семь солидных томов. Семь старших следователей МГБ по особо важным делам принимали в нем участие. Шейнину пришлось выдержать около двухсот пятидесяти допросов, в основном ночных, во время которых его шантажировали, оскорбляли, грозили побоями. «За провинности» лишали прогулок, книг, передач. Больше года ему пришлось пробыть в одиночке, шесть дней его продержали закованным в наручники. К концу следствия, по его словам, запас «нравственных и физических сил был исчерпан».
В первый год ведения дела усиленно раскручивался так называемый еврейский заговор. Шейнин охотно и подробно выдавал всех и вся. Эренбург, братья Тур, Штейн, Крон, Ромм, Б. Ефимов, Н. Рыбак – все они якобы вели с ним «националистические» беседы. Вот типичный образчик стиля его показаний: «Эренбург – это человек, который повлиял, может быть в решающей степени, на формирование у меня националистических взглядов». Он обвинял Эренбурга в разговорах о том, что «в СССР миазмы антисемитизма дают обильные всходы и что партийные и советские органы не только не ведут с этим должную борьбу, но, напротив, в ряде случаев сами насаждают антисемитизм», что советская пресса замалчивает храброе поведение евреев во время Отечественной войны, что к евреям отношение настороженное.
Задачей следователей было расширить круг подозреваемых «еврейских националистов», поэтому от Шейнина требовали показаний даже на Утесова, Блантера, Дунаевского, Шостаковича. В своем письме министру безопасности С. Игнатьеву Шейнин писал: «Следователь пошел по линии тенденциозного подбора всяческих, зачастую просто нелепых данных, большая часть которых была состряпана в период ежовщины, когда на меня враги народа… завели разработку, стремясь меня посадить, как наиболее близкого человека А. Я. Вышинского, за которым они охотились». Другое письмо он отправил на имя Берии: «Вымогали также от меня показания на А. Я. Вышинского».
Впрочем, Шейнин и сам «топил» многих своих сослуживцев. Когда следователь спросил, все ли он рассказал о своей вражеской работе против Советского государства, он заявил: «Нет, не все. Мне нужно еще дополнить свои показания в отношении преступной связи с работниками Прокуратуры СССР Альтшуллером и Рагинским». Называл он и многих других лиц, например, прокурора Дорона, профессоров Швейцера, Шифмана, Трайнина.
Безусловно, прессинг он испытывал сильный – и физический и психологический. Но даже запрещенными приемами следствия нельзя объяснить изощренное смакование им подробностей личной жизни своих знакомых, приведенные в многостраничных протоколах, – вплоть до предметов женского туалета, оставленных в кабинете начальника после визита некоей дамы. Жизнь своих соавторов братьев Тур он тоже «живописал» весьма подробно. Конечно, следователей очень занимала вся эта «клубничка», но все же они больше интересовались наличием предполагаемого «подполья» в еврейской среде. Через год «еврейский вопрос», видимо, перестал волновать следователей, и они взялись за шпионскую версию. В протоколах появились вопросы о его связи с «загранкой», но здесь Шейнин был непоколебим – свою вину в шпионаже и измене родине отрицал начисто. Протоколы допросов превратились в жиденькие листочки, хотя каждый допрос по-прежнему длился четыре-пять часов. Вот отрывок из одного февральского протокола 1953 года.
«Вопрос. Материалами дела установлено, что вы проводили враждебную работу против советского народа по заданию представителя иностранного государства. Признаете это?
Ответ. С представителями иностранных государств я не был связан, и заданий по проведению вражеской работы из-за кордона я не получал.
Вопрос. Ваше заявление лживое, имеющиеся в распоряжении следствия факты полностью изобличают вас в связи с заграницей. Прекратите уклоняться от правды.
Ответ. Еще раз заявляю следствию, что я агентом иностранной разведки не был».
Шейнин не возлагал никаких надежд на то, что Прокуратура СССР поможет ему вырваться из тюрьмы. Поэтому он пошел путем, казавшимся ему наиболее эффективным, – стал писать заявления лично первым лицам государства. Писал Сталину, Поскребышеву, Берии, Игнатьеву и другим – язык у литератора был подвешен неплохо. В июле 1952 года в письме Сталину хитрый Шейнин выглядит раскаявшейся овечкой: «У меня нет чувства обиды за свой арест, несмотря на перенесенные физические и нравственные страдания. Скажу больше: тюрьма помогла мне многое осознать и переоценить. И если мне вернут свободу, этот процесс нравственного очищения и глубокого самоанализа даст мне как писателю очень многое. Слишком легко мне раньше удавалась жизнь».
После смерти Сталина многие дела стали прекращаться, но Льва Романовича продержали в тюрьме еще более восьми месяцев. Он резко изменил свои показания, многое из сказанного стал отрицать. Писал многостраничные заявления руководству МВД: «Я «признавал» факты, в которых нет состава преступления, что я всегда могу доказать. Следователей же в тот период интересовали не факты, а сенсационные «шапки» и формулировки. Чтобы сохранить жизнь и дожить до объективного рассмотрения дела, я подписывал эти бредовые формулировки, сомнительность которых очевидна… Я не перенес бы избиений».
Дело было прекращено только 21 ноября 1953 года. Старший следователь следственной части по особо важным делам МВД СССР подполковник Новиков вынес постановление об освобождении Шейнина из-под стражи, его утвердил министр внутренних дел С. Круглов. Так закончилось затяжное следствие.
Через некоторое время Шейнин по какому-то делу зашел в Верховный суд СССР и встретил там его председателя, своего бывшего знакомого А. А. Волина. Тот пригласил его в свой кабинет. «Ну что, тебе там крепко досталось?» – «Да нет, меня не били». – «Мне сказали, – рассказывал Волин автору этой книги, – что ты во всем признался уже в машине, по дороге в МГБ». – «Нет, – ответил Шейнин, – это было не так». – «Но ты же признавался?» – настойчиво добивался Волин. «Я действительно что-то такое признавал, но я боялся избиений», – уклончиво отвечал осторожный Лев Романович.
В последние годы своей жизни Лев Шейнин был заместителем главного редактора журнала «Знамя», а потом один из редакторов на киностудии «Мосфильм». Но тогда он уже вел очень скромную и незаметную жизнь и окончил свою земную юдоль в 1967 году.
Роман Андреевич Руденко (1907–1981)
Патриарх советской прокуратуры
Дольше всех находиться на посту Генерального прокурора СССР выпало Роману Андреевичу Руденко. Недаром его называли человеком блестящей карьеры – роль Главного обвинителя в Международном военном трибунале, исполненная с блеском и достоинством, во многом предопределила его дальнейшую судьбу. Советская перестроечная пресса то и дело говорила о его обласканности властью, ведь еще до войны молодому и способному юристу явно благоволили такие видные политические деятели, как Н. С. Хрущев и А. Я. Вышинский. Однако ни в одном официальном документе, ни в одной публикации и слова не было о том, что всего за шесть лет до Нюрнбергского процесса будущий Главный обвинитель попал в такую передрягу, что не знал, как и когда закончится его жизнь.
В 1940 году в работе Сталинской областной прокуратуры, которую он возглавлял, были выявлены недостатки – речь шла о том, что прокуратура надлежащим образом не реагировала на заявления граждан. Руденко получил партийный выговор и был снят с должности. Ясно было, что следует ожидать ареста и более суровых мер.
Рассчитывать на помощь покровителей не приходилось. Руденко знал недавнюю историю П. Н. Малянтовича – последнего генерал-прокурора во Временном правительстве Керенского, подписавшего в 1917 году постановление о задержании Ленина по делу о шпионаже. Ранее Малянтович был адвокатом и очень самоотверженно защищал в суде социал-демократов. В помощниках его ходили А. Я. Вышинский и А. Ф. Керенский. Вышинский считал Малянтовича своим учителем, до революции бывал у него дома и даже столовался. После ареста Малянтовича его жена, Анжелика Павловна, не раз обращалась к Вышинскому, доказывая, что муж ни в чем не виноват. Но высокопоставленный ученик не только ничем не помог учителю, но даже не удосужился сообщить Анжелике Павловне о его расстреле.
Больше года Руденко провел без работы, находясь в постоянном плену тягостных мыслей, но духом не пал и даже использовал это время для продолжения образования. Начавшаяся война, видимо, списала его грехи, и вскоре Роман Андреевич был вновь востребован на профессиональном поприще. В 1941 году он опять в строю, а в 1943 году уже получает пост прокурора Украинской ССР.
Ярчайшей страницей его биографии стало участие в Нюрнбергском процессе. Неожиданное назначение Главным обвинителем от СССР прокурора Украины, да еще имевшего «черную метку» в биографии, было стремительным взлетом к вершине мировой юриспруденции. Оно вовсе не вытекало из логики тогдашнего мышления – причины происшедшего понять трудно. Можно представить волнение и трепет Романа Андреевича, которому предстояло выполнить историческую миссию.
…Родился он 17 (30) июля 1907 года в селе Носовка Черниговской губернии в многодетной семье крестьянина-бедняка. Кроме Романа, у родителей было еще пять сыновей – Николай, Иван, Федор, Петр и Антон, а также две дочери – Нина и Надежда. До революции отец имел лишь одну четверть десятины земли и, чтобы прокормить большое семейство, плотничал по найму, а мать, подобно другим малоземельным крестьянкам, батрачила. После Октябрьской революции Андрей Руденко получил от Советской власти немного земли, но семья жила так же трудно. В 1929 году вступили в колхоз.
Роман рос сметливым и бойким, любил верховодить, за что получил у товарищей прозвище Ватажок. Окончив в 1922 году школу-семилетку, он работал в родительском крестьянском хозяйстве, летом пас скот по найму. В 1924 году поступил на сахарный завод чернорабочим и быстро сделался комсомольским активистом.
Старший брат, Николай Андреевич, рассказывал автору этой книги, что еще в детские и юношеские годы Роман отличался неуемной тягой к знаниям, удивительной собранностью и дисциплинированностью. Именно эти черты характера позволили ему пройти путь от чернорабочего до Генерального прокурора СССР, до Главного обвинителя от Советского Союза в Международном военном трибунале.
В декабре 1925 года Романа Руденко избрали членом Носовского райкома комсомола. На пленуме райкома он вошел в состав бюро и стал штатным комсомольским работником, заведующим культурно-пропагандистской деятельностью, совмещая эти обязанности с работой инспектора в райисполкоме. После вступления в партию (декабрь 1926 года) он возглавил там отдел культуры.
Следующим шагом была должность инспектора окружного комитета рабоче-крестьянской инспекции города Нежина. Здесь, выступая общественным обвинителем в суде, Руденко впервые познакомился с юриспруденцией. Приобрел он также и журналистский опыт, тесно сотрудничая с местными газетами.
Хоть и был Роман Андреевич крестьянином, политику большевистской партии он безоговорочно разделял. Как сам писал в анкетах, у него «колебаний не было, в оппозициях не участвовал». Убежденные люди ценились в те времена, и партийные комитеты их, естественно, эксплуатировали, бросая на самые трудные участки работы. Так произошло и с Руденко.
В 1922 году была образована советская прокуратура. Она остро нуждалась в кадрах. Грамотных людей в стране было не так уж и много, а юридически подкованных – тем более. В ноябре 1929 года окружной комитет партии принял решение о «мобилизации» молодого коммуниста Романа Руденко – ему предложили должность старшего следователя Нежинской окружной прокуратуры.
Руденко оказался одним из тех, кто схватывает все на лету, и всего через семь месяцев его переводят помощником окружного прокурора в Чернигов, а спустя еще четыре месяца двадцатитрехлетний Роман Андреевич уже возглавляет Бериславскую районную прокуратуру в Николаевской области.
Карьерному росту способствовали незаурядные личные качества Руденко: высокая работоспособность, вдумчивость, принципиальность, умение отстаивать свою точку зрения. Но не только они имели значение – окружающим нравились его скромность, доброжелательность, умение располагать к себе, создавать теплую обстановку в коллективе.
Быстрое выдвижение способных людей было характерной чертой того бурного времени. В 1931 году Руденко – помощник мариупольского городского прокурора, в 1932 году – старший помощник областного прокурора в Донецке, в 1933 году – прокурор города Макеевка… В конце 1937 года он уже на посту прокурора Донецкой области, а затем, после разделения ее на Сталинскую и Ворошиловградскую, становится прокурором Сталинской области.
Роман Андреевич стал заметной политической фигурой. Достаточно сказать, что в 1939 году он присутствовал с правом совещательного голоса на XVIII съезде ВКП(б). Его знал и ценил Н. С. Хрущев, избранный в феврале 1938 года первым секретарем ЦК компартии Украины.
Роман Андреевич был на особом счету и в Прокуратуре Союза ССР. Ходили даже слухи, что в июне 1939 года Вышинский, уходя на должность заместителя Председателя Совнаркома СССР, предложил освободившееся кресло прокурора СССР именно Руденко, но тут «заартачился» Хрущев, не желая отпускать толкового областного прокурора, и назначение тогда не состоялось.
Но судьба переменчива, и в 1940 году карьера перспективного прокурора кончилась увольнением. Проведенная проверка выполнения постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 ноября 1938 года о перестройке работы по надзору за органами НКВД установила, что прокурор Сталинской области этого постановления не выполнил.
Так, спецотдел прокуратуры оказался неукомплектованным – вместо пяти человек по штату работали только двое. На день проверки в спецотделе прокуратуры имелось 3603 жалобы, из них 1839 жалоб лежали неразрешенными с 1939 года, а отдельные жалобы волокитились с 1938-го.
Не стоит подозревать в происках недоброжелателей – скорее всего, недостатки действительно были. Тридцатитрехлетнего прокурора области сняли с работы и объявили выговор по партийной линии. Решение об этом принималось в Москве. Заведующий отделом управления кадров ЦК ВКП(б) Бакакин и инструктор управления кадров Гришин подписали заключение, в котором было предложено ЦК КП(б) Украины и Прокуратуре СССР освободить Руденко от занимаемой должности. Обычно в те годы увольнением дело не заканчивалось – за ним, как правило, следовал арест.
Наверное, Роман Андреевич провел тогда много бессонных ночей, хотя об этой горькой странице своей жизни он никогда и никому не говорил. Тем не менее Руденко устоял и даже не оставил мыслей продолжить прокурорскую службу. 15 сентября 1940 года он стал слушателем Высших академических курсов Всесоюзной правовой академии. Одновременно его зачислили в экстернат Московской юридической школы Наркомата юстиции РСФСР. Таким образом, учиться ему пришлось на два фронта.
Выпускные экзамены на Высших курсах совпали с началом Великой Отечественной войны. Свидетельство об окончании курсов Руденко получил 27 июня 1941 года. Оценки почти по всем предметам у него были отличные. А еще через три дня Роман Андреевич успешно выдержал экзамены в юридической школе. В том же 1941 году Руденко поступил в экстернат Московского юридического института, однако продолжить учебу помешала война.
И тут судьба вновь улыбнулась Руденко. 26 июня 1941 года приказом Прокурора СССР он назначается начальником отдела Прокуратуры СССР по надзору за органами милиции. В коллективе Роман Андреевич прижился довольно быстро, сослуживцы оценили его выдержанность, спокойствие и трудолюбие. В Москве Роман Андреевич оставался до начала весны следующего года.
В феврале 1942 года встал вопрос о направлении Руденко в Прокуратуру Украинской ССР на должность заместителя прокурора республики (вместо Ф. А. Беляева, поставленного Прокурором Узбекской ССР). Скорее всего, это было сделано не без инициативы тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины Н. С. Хрущева, хотя официально вопрос согласовывался с секретарем республиканского ЦК Спиваком. 25 февраля 1942 года Прокурор СССР В. М. Бочков обратился с соответствующей просьбой к секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову. В союзном ЦК партии не возражали, и 12 марта 1942 года Бочков издал приказ о назначении Руденко заместителем Прокурора Украинской ССР по общим вопросам.
Аппарат прокуратуры Украины, большая часть территории которой была оккупирована, располагался в то время в Ворошиловграде. Штат был невелик – всего 23 человека вместе с техническими работниками, а задач по прокурорскому надзору – много: выполнение оборонных заказов, ремонт боевой техники, строительство оборонительных сооружений и т. д. Заниматься приходилось также укреплением трудовой дисциплины и предупреждением эпидемий. Работники прокуратуры выезжали в прифронтовые районы, чтобы налаживать там работу, помогали районным прокурорам. Транспорта обычно не было, приходилось добираться до места на попутных машинах, а то и пешком.
Когда в конце июля 1942 года военная обстановка осложнилась и советские войска полностью оставили Украину, оперативная группа прокуратуры республики во главе с исполняющим обязанности прокурора Украины Р. А. Руденко продолжала действовать на территории РСФСР.
Освобождение украинской земли началось в 1943 году и к октябрю 1944 года было завершено. Оперативной группе Прокуратуры УССР предстояло восстановить все звенья прокурорского надзора. В начале 1943 года группа базировалась в очищенных от врага районах Ворошиловградской области, затем – Харьковской, а с августа 1943 года – в самом Харькове.
23 июня 1943 года Р. А. Руденко назначается на пост Прокурора Украинской ССР вместо А. И. Яченина – тот действовал в Красной армии на должности прокурора фронта.
Забот у руководителя прокуратуры второй по величине советской республики, серьезно пострадавшей от фашистов, было предостаточно. Прокурорский надзор был направлен на выполнение директив правительства о восстановлении народного хозяйства, соблюдение прав военнослужащих и членов их семей, инвалидов войны, трудящихся предприятий и колхозов, борьбу с детской беспризорностью. Р. А. Руденко лично возглавил работу по расследованию фактов злодеяний, бесчинств и террора нацистов против мирных жителей. Собранные по этому вопросу материалы передавались в созданную Правительством СССР Чрезвычайную государственную комиссию.
Незадолго до освобождения Киева, 4 октября 1943 года, Руденко своим приказом создал специальную группу. В приказе говорилось: «1. Группе войти в Киев в день его освобождения. 2. Под руководством и при содействии партийных и советских органов обеспечить соблюдение в нем социалистической законности и советского правопорядка».
Прокуроры вошли в город 6 ноября, вслед за войсками. Член группы К. Н. Гавинский вспоминал: «…Оставив позади пылающую Дариину, наша группа вышла к Днепру. Нашли лодку без весел и поплыли по течению, подгребая к правому берегу обломком доски. Нас снесло к разрушенному мосту. По его фермам добрались до берега. Среди руин Крещатика шла узкая тропа. По безлюдным улицам, промокшие и озябшие, но бесконечно счастливые, мы вышли на площадь Калинина.
Было шесть часов вечера. Неожиданно из репродуктора, установленного воинской частью на одной из стен полуразрушенного здания городского Совета, раздался голос диктора: «От Советского Информбюро…» Прозвучало сообщение об освобождении Киева.
На следующий же день мы приступили к делу. Прежде всего установили связь с прибывающими в город партийными и советскими работниками. Каждый из нас, возглавив одну из прокуратур района, обязан был немедленно организовать ее деятельность».
В столицу республики, еще дымящуюся военными пожарами, переместился Р. А. Руденко и весь аппарат прокуратуры.
Гавинский рассказывал автору книги, что Роман Андреевич проявил тогда большие организаторские способности и умение работать в экстремальных условиях. Был очень доступным для общения руководителем, все вопросы решал быстро, четко и профессионально.
В начале 1944 года на освобожденной территории Украины уже действовала 321 районная прокуратура. Кадры для них собирали по всей стране. По состоянию на июнь 1944 года в распоряжение Прокурора УССР прибыло две тысячи человек. Этого, конечно, не хватало, тогда Р. А. Руденко распорядился создать в шести городах краткосрочные юридические курсы.
Будучи профессионалом, он часто выступал в судах в качестве государственного обвинителя, в том числе и в Москве. Например, с 20 по 22 июня 1945 года Военная коллегия Верховного суда СССР рассматривала дело по обвинению генерала А. Б. Окулицкого и других (всего 15 человек), руководивших польским подпольем в тылу Красной армии (так называемой Армии Крайовой). В ходе террористической деятельности этой «армии» только с июля 1944-го по май 1945 года было убито и ранено около пятисот советских солдат и офицеров.
Основным обвинителем был утвержден Главный военный прокурор Н. П. Афанасьев. Когда при обсуждении этого дела у Сталина возник вопрос о том, кто будет помогать обвинителю, Афанасьев назвал Прокурора Украинской ССР Р. А. Руденко. Сталин с ним согласился.
Процесс был громким, его широко освещала советская и зарубежная пресса, некоторые заседания транслировались по радио на всю страну. Роман Андреевич показал себя на этом процессе настойчивым и находчивым обвинителем, ярким, красноречивым оратором. Сталин не мог этого не заметить – возможно, внимание вождя и было причиной назначения Руденко Главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.
Что ж, Прокурор Украинской ССР блестяще справился с трудной задачей! Он показал себя юристом высочайшей квалификации, человеком твердых принципов, великолепным оратором. Стиль допроса Руденко отличался наступательносгью, четкой аргументацией, неопровержимой и убийственной логикой преподнесения факта.
Характерную деталь привел участник Нюрнбергского процесса А. Полторак. Он писал: «Геринг и его коллеги по скамье с самого начала прибегали к весьма примитивному приему, для того чтобы посеять рознь между обвинителями четырех держав. Держась в рамках судебного приличия в отношениях с западными обвинителями, они сразу же пытались подвергнуть обструкции советского прокурора. Как только Руденко начал вступительную речь, Геринг и Гесс демонстративно сняли наушники. Но продолжалось это недолго. Стоило же только Руденко назвать имя Геринга, как у рейхсмаршала сдали нервы, он быстренько опять надел наушники и через минуту-две уже стал что-то записывать».
По его же словам, когда Руденко закончил допрос Риббентропа, Геринг с жалостью посмотрел на бывшего министра иностранных дел и лаконично подвел итог: «С Риббентропом покончено. Он теперь морально сломлен».
«С не меньшим основанием, – писал А. Полторак, – Риббентпроп мог сказать это же и в отношении Германа Геринга, когда он возвращался на свое место после допроса советским обвинителем. В Нюрнберге в то время распространился нелепый слух, будто Руденко, возмущенный в ходе допроса наглостью Геринга, выхватил пистолет и застрелил нациста № 2. ГО апреля 1946 года об этом даже сообщила газета «Старз энд страйпс». Такая дичайшая газетная утка многих из нас буквально ошеломила. Но меня тотчас же успокоил один американский журналист: «Собственно, чего вы так возмущаетесь, майор? Какая разница, как было покончено с Герингом? Как будто ему легче пришлось от пулеметной очереди убийственных вопросов вашего обвинителя…»
Молодого советского прокурора (ему было тогда 38 лет) узнал и услышал весь мир. Его выступления вошли в учебники для юридических вузов как образцы доказательности, логики и ораторского искусства.
Заключительную речь главный обвинитель от СССР Руденко произносил два дня, 29 и 30 июля 1946 года. Конечно, эта речь – коллективное творчество советской делегации, но произнес ее Роман Андреевич мастерски, об этом единодушно говорят очевидцы событий тех лет.
30 августа 1946 года Руденко произнес заключительную речь по делу преступных организаций. Кончалась она страстно и убедительно: «Обвинение выполнило свой долг перед Высоким Судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей собственной совестью. Да свершится же над фашистскими палачами Суд Народов – Суд справедливый и суровый!»
После завершения Нюрнбергского процесса Роман Андреевич продолжал руководить Прокуратурой Украинской ССР, по праву считаясь одним из лучших юристов страны.
В начале пятидесятых годов должность Генерального прокурора СССР занимал Г. Н. Сафонов, который не пользовался большим уважением у руководства страны. Великолепный практик и исполнитель, он был хорош на вторых ролях, а вот обязанности первого лица были для него трудны. Претензии к Сафонову накапливались, но он оставался на своем посту. Ход событий ускорил арест Берии, произведенный группой высокопоставленных военных на заседании Президиума ЦК КПСС 26 июня 1953 года.
Н. С. Хрущеву и Г. М. Маленкову, вершившим тогда дела в стране, нужен был авторитетный и умелый правовед, облеченный должностью союзного масштаба. В Москву был срочно вызван Прокурор УССР Руденко.
В воспоминаниях Хрущева об этом сказано так: «Тут же мы решили, назавтра или послезавтра, так скоро, как это было технически возможно, созвать пленум ЦК, где и поставить вопрос о Берии. Одновременно было решено освободить Генерального прокурора СССР, потому что он не вызывал у нас доверия и мы сомневались, что он может объективно провести следствие. Новым Генеральным прокурором утвердили товарища Руденко и поручили ему провести следствие по делу Берии».
Не зная о цели вызова, Роман Андреевич отправился в Москву из Киева 29 июня 1953 года. Командировочное удостоверение свидетельствовало, что он едет в столицу «по служебным делам» на семь дней. Кто мог предполагать, что недельная командировка растянется на 27 лет напряженной работы на посту главного законника страны?
События развивались с ошеломительной скоростью. В тот же день на заседании Президиума ЦК КПСС Руденко был утвержден Генеральным прокурором СССР вместо смещенного Сафонова. 29 июня вышел соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР. На том же заседании Президиума ЦК было принято постановление «Об организации следствия по делу о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берии».
Вести следствие поручалось Руденко. Спешка была немыслимой. Ему предлагалось в суточный срок подобрать следственный аппарат, доложив о его персональном составе Президиуму ЦК КПСС, и немедленно приступить, «с учетом данных на заседании Президиума ЦК указаний», к выявлению и расследованию «фактов враждебной антипартийной и антигосударственной деятельности Берия через его окружение (Кобулов Б., Кобулов А., Мешик, Саркисов, Гоглидзе, Шария и др.)».
1 июля 1953 года работников Прокуратуры СССР срочно собрали в Мраморном зале. Перед ними появился Р. А. Руденко – один, без обычного в таких случаях представителя ЦК, и объявил, что он назначен Генеральным прокурором.
Следственная работа закипела. Однако, как и следовало ожидать, результат был задан сверху. Еще до начала следствия были опубликованы партийные и государственные решения по делу Берии, в которых он уже был назван преступником. Следствию, а затем и суду лишь предстояло облечь в юридическую «упаковку» партийные и советские директивы, и никакой Генеральный прокурор при всем желании не смог бы сломать этот порядок вещей.
Нарушений юридических норм и традиций было немало. Проект обвинительного заключения рассматривался и дорабатывался не в прокуратуре, а на заседании Президиума ЦК. Более того, «для усиления партийного влияния» к шлифовке этого документа был приставлен секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов. Кандидатов в состав специального присутствия Верховного суда СССР обязан был предложить Р. А. Руденко, то есть прокурору самому предстояло определить судей по делу, по которому он вел следствие. Вдобавок Президиум ЦК решил, что дело Берии и его соучастников должно рассматриваться в закрытом судебном заседании, без участия сторон, то есть без обвинителей и защитников.
Из восьми назначенных судей только двое имели отношение к органам юстиции. Одним из этих двух был первый заместитель председателя Верховного суда СССР и председатель Московского городского суда А. А. Громов. Остальные являлись партийными и профсоюзными функционерами, военными. Судья К. Ф. Лунев, например, был первым заместителем министра внутренних дел СССР.
Генерал армии Москаленко, участвовавший в аресте Берии, и вовсе оказался в нескольких ипостасях. Он был в составе следственной бригады, затем оказался в числе судей и, наконец, участвовал в расстреле Берии. Чтобы один и тот же человек арестовывал, вел следствие, судил и приводил приговор в исполнение – такого не случалось даже во время репрессий тридцатых годов!
Все подсудимые обвинялись по давно затверженным статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за государственные преступления (измена Родине, совершение террористических актов, активная борьба против рабочего класса и революционного движения и т. д.). Судебное заседание открылось 18 и закончилось 23 декабря 1953 года вынесением смертного приговора всем подсудимым. В день окончания суда приговор был приведен в исполнение в присутствии Генерального прокурора СССР.
Вскоре Роману Андреевичу пришлось заняться и другими одиозными материалами. Именно ему поручили провести следствие по делу В. С. Абакумова, бывшего министра госбезопасности СССР, инициатора так называемого ленинградского дела. Подход к нему также трудно назвать абсолютно правовым. На заседании Президиума ЦК КПСС 15 сентября 1954 года фактически было предопределено решение, утверждена судебная коллегия. На суде, начавшемся 14 декабря 1954 года, Абакумов виновным себя не признал, утверждая, что дело его сфабриковано Берией, Кобуловым и Рюминым. Тем не менее Абакумов и некоторые его соучастники были приговорены к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение незамедлительно, Абакумову даже не дали возможности его обжаловать.
В 1955–1956 годах Руденко участвовал и в процессах над бывшими грузинскими «друзьями» Берии – Рапавой, Рухадзе, Церетели, Савицким, Кримяном, Надарил, Хазаном и Парамоновым, а также «соратником» Берии – бывшим первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана и председателем Совета министров республики Багировым. Вместе с Багировым на скамье подсудимых оказались еще пятеро руководителей органов внутренних дел Дагестана, Армении и Азербайджана.
Однако времена менялись, и чуткий к новым веяниям Роман Андреевич начал постепенно расчищать «авгиевы конюшни» – в них фактически превратились не только органы правопорядка, но и сама законность в стране. Именно Руденко осуществил мероприятия по восстановлению в своих правах прокурорского надзора после долгих лет диктатуры и произвола. И не просто восстановлению, а созданию гарантии «социалистической законности», соответствующей духу перемен.
Он всегда подчеркивал обязательность советских законов для всех, недопустимость противопоставления законности и целесообразности, неразрывную связь законности с культурностью.
Эти идеи можно было провести в жизнь только в пределах, дозволенных руководством страны, но и в этой ситуации перемены к лучшему были хорошо заметны. Например, в центральном аппарате появилась стабильность кадров, исчезла чехарда, так мешающая работе.
Прокуроры, ранее безликие и совершенно бесправные, делались наиболее активными проводниками «социалистической законности». Слово «закон» стало наконец употребляться в связке с такими понятиями, как «справедливость», «порядочность», «честность». Началось постепенное, пока еще медленное и нерешительное исправление недостатков и преступлений сталинского времени.
Одной из причин произвола при расследовании преступлений, пусть не главной, был низкий уровень следственной работы, недостаточная квалификация следователей. Приказ Руденко «О мероприятиях по повышению квалификации следователей органов прокуратуры» от 14 октября 1953 года был одной из его первых директив. По всей стране началась учеба кадров, улучшалось техническое оснащение следствия.
После июльского (1953 года) Пленума ЦК КПСС в стране повеяло «оттепелью» и какой-то, пусть урезанной, ограниченной определенными рамками, но все же свободой. Всесильные органы внутренних дел и государственной безопасности теперь были поставлены в рамки закона и играли в жизни общества уже не ту роль, что прежде. Восстанавливались в своих правах суды и прокурорский надзор. Внесудебные расправы ликвидировались.
Вскоре после назначения Генеральным прокурором Р. А. Руденко подписал первые документы, касающиеся реабилитации лиц, невинно привлеченных к уголовной ответственности. Раньше других справедливость была восстановлена в отношении высшего командного состава Красной армии. 19 марта 1954 года Руденко, министр внутренних дел Круглов, председатель КГБ Серов и министр юстиции Горшенин направили в президиум ЦК записку с предложением образовать Центральную комиссию по пересмотру дел осужденных за «контрреволюционные преступления», содержащихся в лагерях, колониях, тюрьмах (467 946 человек) и находящихся в ссылке на поселении (62 462 человека). Кроме Центральной, предлагалось создать соответствующие комиссии в республиках, краях и областях. 4 мая 1954 года такие комиссии были образованы и вскоре приступили к работе.
Но первая кампания по пересмотру дел была довольно осторожной – примерно каждый второй из осужденных получал отказ в реабилитации. Так, поэтесса А. А. Ахматова обратилась к К. Е. Ворошилову с просьбой пересмотреть дело ее сына Льва Николаевича Гумилева, молодого ученого-востоковеда, вторично арестованного органами МГБ СССР в 1949 году и приговоренного Особым совещанием к десяти годам лишения свободы. На письме имеется резолюция Ворошилова: «Руденко Р. А. Прошу рассмотреть и помочь». Тем не менее в своей записке на имя Ворошилова Руденко сообщил, что Гумилев занимался антисоветской деятельностью, осужден правильно и что Центральная комиссия по пересмотру дел 14 июня 1954 года приняла решение отказать Ахматовой в ее ходатайстве.
И все же тенденция к расширению процесса реабилитации была очевидной. Р. А. Руденко подчеркивал: «Всем нам придется столкнуться с тем, что оценки некоторых событий и их участников, казавшиеся неизменными, нужно будет пересмотреть. Сделать это надо во имя истины, справедливости и правды истории».
Важно было также не наделать новых ошибок. 4 августа 1955 года Генеральный прокурор Союза издал приказ, который касался усиления прокурорского надзора за соблюдением законности при задержании, аресте и привлечении граждан к уголовной ответственности. Р. А. Руденко потребовал от подчиненных «ювелирной» точности при решении этих вопросов.
В приказе предписывалось применять арест в качестве меры пресечения лишь при совершении тяжких преступлений, тогда как многие прокуроры прибегали к нему по незначительным поводам. Например, прокурор одного из районов Баку за единичный случай обвеса покупателя арестовал продавщицу, на иждивении которой находилось девять человек, из них семь малолетних детей, а в Московской области районный прокурор арестовал трех подростков за кражу голубей.
В то же время Роман Андреевич активно боролся с волокитой, которую проявляли некоторые прокуроры при привлечении к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления.
В начале 1957 года была реформирована структура Прокуратуры СССР, а затем и прокуратур республик, краев и областей. Руководство стремилось подчеркнуть изменения, наметившиеся в правоохранительной системе, как бы показывая, что с прошлым покончено раз и навсегда. Менялось судопроизводство, уголовное, уголовно-процессуальное и даже гражданское законодательство. Прокуратура СССР и Р. А. Руденко, как ее руководитель и одновременно депутат Верховного Совета СССР, деятельно участвовали в подготовке законопроектов, обсуждая и шлифуя каждую статью новых нормативных актов.
Улучшению деятельности прокурорской системы способствовало образование в феврале 1959 года коллегий – как в Прокуратуре Союза ССР, так и в прокуратурах союзных республик. Коллегиальность была надежным средством снизить число поспешных, необоснованных и субъективных решений. Первыми членами коллегии Прокуратуры Союза стали: Р. А. Руденко (председатель), А. Т. Горный, П. И. Кудрявцев, В. В. Куликов, А. М. Мишутин, Г. Н. Новиков, И. Е. Савельев, Д. Ш. Салин, Г. А. Терехов.
Коллегия рассматривала (в необходимых случаях привлекая работников местных органов прокуратуры) наиболее важные вопросы прокурорского надзора, проверки исполнения, подбора и подготовки прокурорско-следственных кадров, проекты важнейших приказов и инструкций, заслушивала отчеты начальников управлений и отделов Прокуратуры СССР, прокуроров союзных республик и других работников прокуратуры. Решения коллегии проводились в жизнь приказами Генерального прокурора СССР.
Прокуроры, оставаясь главными защитниками государственных интересов, теперь в неизмеримо большей степени были ориентированы на защиту прав и законных интересов граждан.
Занятый государственными делами, Руденко уже не так часто, как в первые годы, поднимался на судебную трибуну. Однако в 1960 году вновь возникло столь громкое уголовное дело, и сам Генеральный прокурор взялся поддерживать по нему обвинение, – это было дело американского летчика-шпиона Ф. Г. Пауэрса, сбитого над территорией СССР 1 мая 1960 года.
Процесс над Пауэрсом подтвердил многое – и большой прогресс, достигнутый советской правоохранительной системой, и высочайшую квалификацию Р. А. Руденко. После окончания судебного следствия Роман Андреевич произнес аргументированную, взвешенную и обстоятельную обвинительную речь. По оценкам западных юристов, Руденко был предельно справедлив по отношению к Пауэрсу.
«Я не думаю, что если бы Пауэрса судили в США, то к нему отнеслись бы так же вежливо и внимательно», – подчеркнул американский юрист В. Холлинен. Английский же юрист А. Дейчес заметил, что ему было «приятно отметить вежливую, сдержанную манеру допроса обвиняемого Генеральным прокурором. Его допрос не оскорблял и не задевал Пауэрса. Именно такой стиль допроса обвиняемого любят в Англии».
19 августа 1960 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Пауэрса к десяти годам лишения свободы, причем первые три года он должен был находиться в тюрьме. Два года спустя по решению Советского правительства Пауэрса обменяли на задержанного в США советского разведчика Абеля.
Материалы следствия и судебного процесса над летчиком-шпионом Пауэрсом, а также вся история с этой подрывной акцией, разработанной под руководством небезызвестного директора ЦРУ Даллеса, легли в основу двухсерийного художественного фильма «Государственный обвинитель», снятого в 1985 году режиссером-постановщиком народным артистом СССР Т. Левчуком по сценарию Б. Антонова и И. Менджерицкого.
Героем фильма стал Генеральный прокурор СССР Руденко, чью роль блестяще исполнил киноактер С. Яковлев. Достоверно и убедительно была воспроизведена обстановка тех лет, роль Руденко в расследовании, а затем и судебном рассмотрении уголовного дела. Перед зрителями предстал не только умудренный опытом большой юрист и государственный деятель, но и просто обаятельный человек.
В конце 1950 – начале 1960-х годов Роман Андреевич Руденко достиг вершины, на которую до него не поднимался ни один союзный прокурор. Он внес живую, человеческую струю не только в содержание прокурорского надзора, но и в саму атмосферу прокурорских коридоров. Бывший Генеральный прокурор Сафонов мог «не заметить» при встрече не только рядового работника, но и начальника отдела. С Романом Андреевичем никогда такого не случалось.
Работавшая с 1980 года в Секретариате Руденко, Ольга Анатольевна Бондаренко рассказывала мне: «Указания Романа Андреевича всегда были четкими, в корректной форме. «Чем выше руководитель, тем сдержаннее он должен быть с подчиненными. Недопустимо хамить тому, кто не может тебе ответить», – не раз подчеркивал Руденко.
Я многому научилась у него… Однажды он обратил внимание на мое плохое настроение: «Оля, мы работаем в организации, в которую люди приходят со своими бедами. Поэтому все свои неприятности мы должны оставлять за воротами…» С тех пор это стало для меня законом.
Выдержка у него была необыкновенная. Хорошо помню, как новый дежурный прокурор по неопытности соединил Романа Андреевича с психически больным человеком по фамилии Соловьев из Ленинграда. Но в то время прокурором
Ленинграда тоже был Соловьев и дежурный решил, что звонит прокурор города. Руденко терпеливо слушал его минут двадцать. И не бросил трубку.
Работать с ним было легко. Несмотря на возраст, Роман Андреевич обладал необыкновенной памятью. Я часто наблюдала, как он возвращал документы, где исполнители забывали поправить какое-то слово ранее им исправленное или учесть какие-либо другие его замечания».
При всей своей требовательности и взыскательности он был неизменно корректен, доброжелателен и доступен для всех. Следователей по особо важным делам всегда принимал без всякой записи. Любой прокурор управления или отдела мог прийти к нему на прием и изложить свою точку зрения на тот или иной вопрос. Единственное, на чем настаивал Руденко, так это на соблюдении прокурорской иерархии – требовал, чтобы ему докладывали о делах, по которым состоялись решения его заместителей. Роман Андреевич не только уважал и ценил «процессуальную независимость» любого работника, но и насаждал ее, добиваясь, чтобы каждый отвечал за свое решение.
Он был совершенно непримирим, когда дело касалось очищения органов прокуратуры от нечистоплотных работников, злоупотребляющих высоким положением.
До недавнего времени считалось, что, как Генеральный прокурор, Руденко при рассмотрении конкретных дел явно пасовал перед неудержимым напором Первого секретаря ЦК партии Хрущева.
Однако история, хоть, и с опозданием, но все же открывает некоторые свои тайны. И мы видим, что Руденко, не боясь открыто высказывал свою точку зрения.
В 1961 году к длительным срокам лишения свободы за противозаконные операции с валютными ценностями были привлечены Рокотов и Файбышенко. Казалось бы, что на этом можно было поставить точку.
Однако такой итог судебного заседания не устроил Хрущева. Наверное, по чьему-то наущению он приказал подготовить указ Президиума Верховного Совета СССР, который бы предусматривал за незаконные валютные операции в качестве меры наказания смертную казнь. Но потом началось непредвиденное. Указу решили придать обратную силу, то есть распространить на деяния, совершенные до его принятия. Именно по этим основаниям приговор суда в отношении Рокотова и Файбышенко был отменен, и дело слушалось повторно. На этот раз судьи знали, что делали, и приговорили Рокотова и Файбышенко к высшей мере наказания.
Что же предшествовало столь стремительному развитию событий и изменению действующего законодательства? Как и где обсуждались эти вопросы? Как в те далекие годы вел себя Р. А. Руденко? Об этом стало известно только сейчас – в 2007 году. Вот что рассказал мне недавно сын Романа Андреевича, Сергей Руденко:
«В 1964 году состоялся серьезный разговор отца с моей старшей сестрой Галиной. Отец сказал, что на состоявшемся заседании по делу валютчиков Рокотова и Файбышенко Хрущев потребовал применить к ним высшую меру наказания – расстрел. Это означало, придание закону обратной силы. Отец в ответ заявил, что он с этим не согласен, и он лично не даст санкцию на такую меру, так как это противозаконно.
«А Вы чью линию проводите, мою или чью-нибудь еще?» – спросил Хрущев. «Я провожу линию, направленную на соблюдение социалистической законности», – ответил отец. «Вы свободны», – сказал Хрущев.
После этого с Хрущевым у отца долго не было никаких контактов, и он ожидал отставки в любой момент. И вот, одним из вечеров, после ужина он пригласил к себе в кабинет Галину, и все ей рассказав, попросил ее, чтобы она, когда я вырасту (а было мне тогда 10 лет), объяснила реальные причины его возможной отставки.
Однако все сложилось иначе. На проходящей спустя 2 или 3 месяца сессии Верховного Совета СССР, Хрущев, вдруг, опять обратил внимание на отца, попросил его подняться и, ссылаясь на упомянутый случай, поставил его в пример всем присутствующим, как человека, принципиально отстаивающего свои взгляды».
Многие современники, хорошо знавшие Романа Андреевича, отзывались о нем как о действительно «государственном человеке». Но даже явные достоинства, большие заслуги и то, что он был вхож к первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву, не гарантировали Руденко безоблачной карьеры. Теперь интриги вокруг Руденко начал плести заведующий отделом административных органов ЦК КПСС Н. Р. Миронов. Над Романом Андреевичем вновь сгустились тучи…
Первая публичная стычка Руденко и Миронова произошла во время открытого партсобрания работников Прокуратуры СССР, сразу же после принятия Программы КПСС. Миронов тогда резко выступил против Руденко, что в то время значило очень многое.
Партийное руководство страны тогда поставило совершенно авантюрную задачу – в кратчайшие сроки ликвидировать преступность. За сверхбыстрое решение этой «эпохальной» задачи рьяно взялся Миронов, а подыгрывал ему тогдашний министр внутренних дел Щелоков. Победить преступность одним махом можно было только путем сокрытия преступлений. Но этому мешали работники прокуратуры, в первую очередь Генеральный прокурор, требовавший от своих подчиненных регистрации всех преступлений.
Миронов многое успел предпринять: открыто критиковал Руденко, подготовил почву для смены генпрокурора в ЦК и даже внедрил в заместители Романа Андреевича своего ставленника – М. П. Малярова, которого прочили на главное место. Но ход событий резко изменился. 19 октября 1964 года Миронов погибает в авиационной катастрофе, а за несколько дней до этого, 14 октября, на заседании Пленума ЦК был освобожден от должности Н. С. Хрущев. Центральный Комитет теперь возглавил А. И. Брежнев, с которым у Руденко были неплохие отношения.
В те годы любое слово не только главного партийного вождя, но любого члена Президиума ЦК или Политбюро было законом. Однако Роман Андреевич, несмотря на свою дипломатическую натуру, уже тогда поднимался до открытых возражений.
Во времена Брежнева развернулась настоящая битва за следствие. Право прокуратуры расследовать уголовные дела ставилось под сомнение. Особенно усердствовал в критике министр внутренних дел Щелоков, добивавшийся передачи всего следствия в МВД. Большой поддержки он не получил и, наконец, поставил вопрос в урезанном виде – передать в подследственность МВД хотя бы дела несовершеннолетних. На свою сторону он заранее склонил Леонида Ильича, и тот неожиданно для всех вынес предложение Щелокова на заседание Политбюро. Над головой Романа Андреевича опять грянул гром.
Руденко не мог не знать об особых, дружеских отношениях Брежнева и Щелокова. Однако в ходе заседания Роман Андреевич пошел ва-банк – решительно и аргументированно выступил против предложения Щелокова. Стоит ли удивляться, что «бунт» Генерального прокурора никто из членов Политбюро не поддержал, и все, даже сочувствующие, послушно проголосовали за то, что предложил генсек.
Но авторитет Руденко был столь велик, что его выступление осталось без последствий. Сознавая, видимо, неловкость ситуации, Брежнев развел руками и сказал, как бы извиняясь перед Руденко: «Вот видите, Роман Андреевич, никто вас не поддерживает», – и добавил еще несколько слов о том, как Политбюро уважает и ценит Генерального прокурора.
Старожилы прокуратуры приводили много и других примеров когда Руденко проявлял характер. Делясь своими воспоминаниями о Романе Андреевиче, заведующий кафедрой криминалистики, психологии и уголовно-исправительного права Московской государственной юридической академии, почетный работник прокуратуры, государственный советник юстиции 3 класса, профессор Владимир Евгеньевич Эминов рассказывал мне, что когда он работал в ВНИИ Прокуратуры СССР (1963–1980 гг.), ему не раз приходилось участвовать в проводимых аппаратом Прокуратуры Союза ССР по заданию Руденко проверках, давать заключения. Многое за давностью лет сейчас запамятовалось. Однако он хорошо помнит стычку в 1977 году Р. А. Руденко с Б. П. Бугаевым – министром гражданской авиации, Главным маршалом авиации, фаворитом А. И. Брежнева.
А было это так. Рассказывает В. Е. Эминов:
«По личному распоряжению Руденко ВНИИ и следственному управлению Прокуратуры СССР было дано задание разработать первую отечественную методику расследования авиационных происшествий в гражданской авиации и подготовить предложения по совершенствованию прокурорского надзора за соблюдением законодательства, регламентирующего безопасность полетов и эксплуатацию гражданских воздушных судов.
Работа поручалась мне и старшему прокурору следственного управления Прокуратуры СССР Марату Сергеевичу Лодысеву.
По итогам этой сложной и длительной работы мы подготовили методические рекомендации, информационные письма, а также представление генерального прокурора СССР министру гражданской авиации СССР «О грубейших нарушениях законодательства о безопасности полетов при эксплуатации легких самолетов и вертолетов в гражданской авиации».
Проект представления в 1977 году лег на стол Р. А. Руденко. Многие считали, что такой резкий документ он не подпишет. Ведь представление адресовалось самому Бугаеву – шеф-пилоту и любимцу Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева.
Однако Руденко без каких-либо комментариев и сомнений представление сразу же подписал, ибо речь шла о безопасности граждан и интересах государства.
По свидетельству очевидцев, Бугаев, получив представление пришел в неописуемую ярость и устроил скандал в отделе административных органов ЦК КПСС, откуда немедленно в следственное управление и Министерство гражданской авиации примчались проверяющие. Наша с Лодысевым служебная карьера висела в буквальном смысле на волоске. Однако это продолжалось недолго. Вскоре ревизоры ЦК КПСС завершили проверку. При этом они не только подтвердили все описанные в представлении просчеты, но и выявили еще и другие. Об этом они не преминули довести до сведения обескураженного министра. Руденко же как всегда был невозмутим и сразу же подписал приказ, в котором мне и Лодысеву были объявлены благодарности и выданы денежные премии в размере месячного оклада».
Как видим, Руденко был тверд в своих мнениях. Действовал он хоть и строго, но всегда осмотрительно.
Вспоминается один случай, который произошел в конце 1980-го года, незадолго до начала работы 26 съезда КПСС (съезд начал работу в феврале 1981 года). В то время все письма граждан, адресованные в адрес съезда, брались на контроль и направлялись для проверки по соответствующим ведомствам.
В числе самых первых жалоб «съезду» тогда поступила и такая, которая была доложена лично Роману Андреевичу. И причины тому были. Во-первых, заявители, ее подписавшие, проживали в Ворошиловградской (Луганской) области. А Руденко, именно, от этого региона многие годы избирался в Верховный Совет СССР. Во-вторых, в письме сообщалось, что жизни был лишен человек, который, якобы, спас от верной смерти самого Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева во время кровопролитных сражений с фашистами во время Великой Отечественной войны при обороне Малой земли. И об этом, как утверждали заявители, даже упоминается в книге вождя «Малая земля».
Естественно на эту жалобу сразу было обращено особое внимание и в Прокуратуре Союза ССР, и в Прокуратуре Украинской ССР, куда она поступила на разрешение. Проверку ее, как прокурору следственного управления, курирующего Ворошиловградскую область, поручили мне. Помню, что сроки установили минимальные – 7 дней. Однако получилось так, что дело, о котором шла речь, я уже изучал и с принятым по нему решением согласился. И вот почему.
…Поздним осенним вечером, на хорошем подпитии домой вернулся муж. И как всегда стал требовать у жены спиртное. Та наотрез ему в этой просьбе отказала, продолжая чистить картошку. Тогда разъяренный супруг схватил топор и набросился на женщину. Однако она увернулась от удара. И когда он замахнулся на нее топором очередной раз, она, обороняясь, кухонным ножом нанесла ему удар в живот – он оказался смертельным.
Изучив все обстоятельства происшедшего, я тогда установил, что во время совместной супружеской жизни это был не первый случай, когда муж реально покушался на жизнь жены. Буквально за год до трагедии, в присутствии детей, семейный тиран бросил в женщину топор, который чудом не попал ей в голову. Но тогда, возбужденное в отношении пьяного дебошира уголовное дело было прекращено, и он к ответственности привлечен не был.
Было также установлено, что жена очень положительно зарекомендовала себя на работе. И даже была награждена орденом «Знак почета». Характеризовалась как трудолюбивый, доброжелательный, неконфликтный человек. В то время как муж являл собой полную противоположность…
Тем не менее, понимая всю серьезность ситуации, я затребовал дело повторно и тщательно проштудировал его еще раз. Не найдя весомых оснований для отмены, принятого по делу решения, я составил по нему заключение и доложил заместителю Прокурора УССР С. Ф. Скопенко. Тот согласился со мной и дело вместе с утвержденным им заключением и с подробным письмом, которое после доклада подписал Прокурор УССР Ф. К. Глух, в конце ноября 1980 года было отправлено Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко.
В Прокуратуре Союза ССР разрешение жалобы поручили прокурору следственного управления, нашему куратору Григорию Федоровичу Маляренко. Стиль работы его мы хорошо знали. Григорий Федорович был очень отзывчивым и чутким человеком, однако в служебных отношениях он являлся сущим деспотом. От его многоопытного взгляда не ускользала ни одна оплошность. Занудно требовательным голосом он, скрупулезно въедаясь в каждое слово, каждую запятую, мог по долгу учить жизни. За эти «деловые качества» мы дали ему прозвище – «Тля».
Вот такой был Григорий Федорович Маляренко! Поэтому, подготавливая материалы для отправки в Прокуратуру Союза ССР, мы понимали, что они могут попасть на разрешение и к нему. И как видим, так оно и случилось.
Однако вскоре стало известно, что въедливый зоил с нашей позицией согласился. Обстоятельный же Роман Андреевич, после доклада сразу решение не принял, и все материалы оставил у себя. И это, было понятно. Ознакомившись лично с досье и безусловно взвесив все «за» и «против», он не стал принимать конъюнктурных популистских решений и прибегать, как это довольно часто бывало (да и сейчас случается), к маленьким прокурорским хитростям – отменять постановление о прекращении уголовного дела и направлять его по формальным основаниям на дополнительное расследование «ввиду неполноты проведенного следствия» с указанием – исследовать какие-либо малозначительные, не имеющие для существа дела второстепенные обстоятельства. Руденко без дополнительного доклада и дрожи в руках, правда, немного подправив ответ в ЦК, сразу подписал его – ибо был абсолютно уверен в том, что в тот роковой миг добропорядочная женщина, защищая свою жизнь, действовала в состоянии необходимой обороны.
Вот так закончилась еще одна очень маленькая, но очень запоминающаяся история, характеризующая Романа Андреевича Руденко.
Столь же решительно Руденко противостоял распространенному в те времена «директивному», или, как его еще называли, «телефонному» праву, когда те или иные высокопоставленные чиновники, и не только из партийной элиты, пытались так или иначе воздействовать на прокуроров и следователей.
Его усилия не пропали даром. Позиции права в стране заметно укрепились. При этом основной упор делался на предупреждение преступлений и искоренение причин, их порождающих, а также сопутствующих им социальных болезней, таких, как пьянство и наркомания.
Прокуратура повернулась лицом и к таким важнейшим проблемам, как охрана природы и окружающей среды.
Расширились и укрепились связи с общественностью и средствами массовой информации, появились новые формы и методы пропаганды права. Прокуратура одной из первых заговорила о необходимости правового воспитания граждан и прежде всего молодого поколения.
Понятно, что с сегодняшней точки зрения можно найти в биографии Руденко и множество негативных моментов. С его именем связана борьба против так называемого диссидентства – одна из самых мрачных страниц советской прокуратуры послесталинекого периода, которая не завершилась и с уходом Романа Андреевича. Двигателем этой борьбы, естественно, были партийные органы. Но тем не менее санкции на арест и высылку давали именно прокурорские работники.
Будучи верным сыном Советского государства, Роман Андреевич совершенно искренне отрицал всякое диссидентство. Ведь он был человеком своего времени, а времена, как сказал один поэт, «не выбирают, в них живут и умирают». Именно Руденко способствовал выдворению из страны А. И. Солженицына и ссылке академика А. Д. Сахарова.
В 1962 году по постановлениям судов и решениям исполкомов было выселено на основании указа в специально отведенные местности 15 700 человек. Среди них оказался и поэт И. А. Бродский. Как известно, впоследствии он эмигрировал, а позже стал лауреатом Нобелевской премии.
В 1966 году были осуждены по статье 70-й части первой УК РСФСР (агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти) известные московские литераторы Синявский и Даниэль.
Но чаша добрых дел на государевых весах несравненно больше. Особенно весом вклад Романа Андреевича в укрепление прокурорских кадров. Когда он только пришел в Генеральную прокуратуру СССР, высшее юридическое образование имели лишь 30 процентов прокуроров и следователей. Менее чем через двадцать лет их стало уже 70 процентов, а в 1981 году – почти 99. Две трети районных и городских прокуроров, основного звена прокурорской системы, имели стаж работы свыше десяти лет, то есть были умелыми и опытными руководителями. Среди них было немало и тех, кто занимал должности три, а то и четыре конституционных срока подряд.
Стараниями Романа Андреевича Руденко в 1970 году созданы Высшие курсы повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР, впоследствии преобразованные в институт, существующий и поныне. Только за первое десятилетие его деятельности здесь прошли переподготовку несколько тысяч работников прокуратуры, а также группы прокуроров из зарубежных стран.
Значительно возрос контингент в Ленинградском институте усовершенствования следователей (до 1500 человек ежегодно) и в Харьковском институте повышения квалификации Прокуратуры СССР.
После Нюрнбергского триумфа Роман Андреевич Руденко приобрел мировую известность. Он представлял страну на различных конгрессах еще в сталинскую эпоху, когда выезды наших юристов за рубеж были весьма ограничены. В 1946 году по инициативе французских юристов (участников движения Сопротивления во время Второй мировой войны) была создана неправительственная организация – Международная ассоциация юристов-демократов (МАЮД). У ее истоков стоял и Руденко.
Вопросы справедливого наказания нацистских преступников, на которых не распространялись сроки давности, всегда находились в поле зрения Романа Андреевича. В марте 1969 года он был одним из организаторов и генеральным докладчиком на Московской международной конференции по преследованию нацистских преступников.
Международные контакты при Р. А. Руденко расширились и укрепились. По его инициативе Советский Союз подписал ряд соглашений об оказании правовой помощи по уголовным, гражданским и семейным делам. Частыми гостями Прокуратуры СССР были и прокуроры зарубежных стран.
Роман Андреевич был женат на Марии Федоровне – дочери рабочего Бакинских нефтяных промыслов, погибшего от рук белогвардейцев в 1918 году. От этого брака имел двух дочерей – Галину и Ларису, а также сына Сергея.
Многогранная и напряженная деятельность Романа Андреевича Руденко на посту главного стража законности страны была по достоинству оценена Советским правительством. Он был награжден золотой звездой «Героя социалистического труда», шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями, являлся депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов, на четырех партийных съездах избирался в Центральный Комитет КПСС.
Конечно, много и еще очень много можно рассказать о профессиональной деятельности Руденко и о его окружении. Ведь сколько интересных людей было рядом, какие горы сложнейших дел они перевернули. Но формат настоящего издания, к сожалению, не позволяет этого сделать.
Думаю, здесь будет весьма уместно вспомнить о «тыле» Романа Андреевича – его семье, их образе жизни. Ведь до сего времени это была закрытая тема – «Terra incognita» – нигде об этом не писалось. Сам Руденко к родному очагу никого на пушечный выстрел не подпускал. За исключением тех, кому он искренне верил и доверял. Но таких было очень немного. Наложенное же им табу сохранялось и после его смерти.
Тяжелым выдался на Украине 1932 год. Голодное время… Многие работники прокуратуры, что называется «на последнем градусе чахотки» исполняли свои непростые обязанности. И именно в это суровое время в шахтерском крае «неньки Украины» в Донбассе решили зарегистрировать свой брак 25-летний Роман Руденко и 23-летняя Мария Ткалич.
Молодой помощник Мариупольского городского прокурора, тогда делал только первые шаги на тернистой стезе служения закону. Но уже был ярок и заметен. И поэтому неудивительно, что молодая видная брюнетка Мария Федоровна Ткалич, дочь рабочего Бакинских промыслов, погибшего в гражданскую войну в 1918 году, сразу обратила внимание на стройного, интересного и умного молодого человека.
Роман Андреевич был галантным кавалером, и Мария Федоровна сразу в него влюбилась. От сонма чувств тогда у обоих вскружилась голова, и они 4 ноября 1932 года зарегистрировали брак, а 7 ноября сыграли свадьбу.
Без малого 50 лет прожили вместе в согласии и любви, мире и уважении, воспитали прекрасных детей и внуков.
Первой на свет в 1934 году появилась дочь Галина. И было это 30 июля, в день рождения Романа Андреевича. Второй – Лариса. Родилась она в год 30-летия отца и в день свадьбы родителей – 7 ноября. Только рождение, 24 марта 1951 года, сына Сергея в Киеве ни к каким памятным датам семьи Руденко привязано не было.
Семья быстро росла. Сначала появились зятья Михаил (муж Галины) и Всеволод (муж Ларисы). Потом пошли внуки и внучки, их было семеро – два Сергея, Михаил, Андрей, Маша, Таня и Катя. Чуть позже – правнуки. Сейчас их трое – Роман, Нина и Маша.
Роман Андреевич любил детей и много своего свободного времени отдавал общению с ними. Конечно, не все из них помнят своего деда, а тем более прадеда, ибо некоторые из них родились тогда, когда его уже не было рядом с нами. Но те, на долю которых выпала радость общения с ним, его уже никогда не забудут. Да и как можно забыть те дни, когда после наполненных державными заботами будней Роман Андреевич вдруг совершенно преображался – суровый лик недоступного чиновника превращался в сияющий добротой и заботой образ любящего главы семейства.
В летнее время, после завтрака, собрав на даче, как он выражался, «всю свою футбольную команду» (а к ней он относил все свою многочисленную семью), он начинал матч, который, как правило, продолжался часа два. Сам Руденко стоял на воротах и всегда оставлял за собой право бить пенальти. Это ему удавалось блестяще. Несмотря на солидный возраст и вес, удар у него был поставлен великолепно. Зная это, иногда члены его команды сами провоцировали собственное падение, чтобы заслужить «11-метровый». Футбольные баталии всегда проходили легко, весело, без напряжения.
Такой же атмосферой были наполнены семейные встречи и вечера в Москве, в квартире на Грановского, где собирались родственники и друзья. Даже казалось бы такую серьезную карточную игру как преферанс, Роман Андреевич умел превращать в удовольствие для всех играющих. Пульку расписывали, как правило, в выходные дни. Как рассказывал мне Сергей Романович, «играли мы регулярно; кроме отца, матери, сестер и их мужей с 9-го класса уже на постоянной основе в этой игре участвовал и я. Отец говорил, что преферанс его хорошо отвлекает от мыслей, связанных с работой, помогает немного расслабиться и отдохнуть». Во время игры Роман Андреевич шутил, смеялся, каламбурил, мог затянуть какую-нибудь песню.
Особенно весело и незаметно пролетало время, когда в гости приезжал из Киева его родной брат Федор. Он садился за пианино, и они тогда уже дуэтом пели: «Рывэ та стогнэ Днипр широкый», «Рушнычок», «Ой, мороз, мороз…» – и другие русские и украинские песни.
Как уже ранее отмечалось, Руденко достаточно взыскательно относился к отбору друзей и приятелей. Гостями семьи в 50– 70-е годы были министры: культуры – Е. Фурцева, цветной металлургии – П. Ломако, гражданской авиации – С. Дементьев, радиопромышленности – В. Калмыков, а также Маршал Советского Союза К. Москаленко и первый заместитель Руденко А. Мишутин. С двумя последними, чета Руденко довольно долго поддерживала теплые дружеские отношения. Несмотря на разногласия, а порой даже и жаркие споры по ряду актуальных вопросов правоохранительной деятельности, в целом неплохие человеческие отношения были и с Н. Щелоковым. Они приезжали друг к другу. А жена Щелокова, Светлана Владимировна, по собственной инициативе лично даже проводила Роману Андреевичу специальный курс медицинского лечения.
Родным и близким Романа Андреевича запомнились также визиты к ним генерального прокурора Чехославакии Яна Бартушки. Он хорошо владел русским языком и обладал, как и Руденко, большим чувством юмора. «Его визиты в гости к отцу, – рассказывал Сергей Романович, – оставили у меня самые светлые воспоминания – много смеха, веселья, а также очень много внимания ко мне, тогда еще маленькому ребенку».
Вспоминая свои детские годы, потомки Романа Андреевича, отмечали, что он никогда не повышал на них голос, и они никогда не слышали, чтобы родители ссорились или устраивали перебранку, но хорошо знали, что если вдруг глава семейства менял интонацию и переходил на требовательный тон, это означало, что-то ему не нравится и делается не так.
«Когда мне было около пяти лет, – рассказывал мне Сергей Романович Руденко, – произошел такой случай. Не помню уже почему, но, когда матери не было дома, я разозлился на гостившую у нас одну дальнюю родственницу и, схватив веник, стал гоняться по квартире за молодой женщиной (ей было около 30 лет). В это время пришла мать и мгновенно привела меня в чувство – сильно отшлепав и поставив в угол. Хотя это было непедагогично и единственный раз в моей жизни, но я надолго запомнил этот урок – потому что это было строго, но справедливо.
Вечером, когда вернулся с работы отец, у них с матерью состоялся разговор. Случайно мне довелось его услышать. Отец сказал примерно следующее: «Наказать Сергея конечно надо было, но применение силы в любой форме в нашей семье недопустимо. Исходи из того, что ты это сделала последний раз в жизни».
Конечно, более приятные впечатления остались у меня от отдыха в Крыму, куда мы часто выезжали в те годы. Отдыхали мы в Нижней Ореанде. Часто в этот санаторий приезжал и Н. С. Хрущев. Он любил играть в волейбол. И после обеда всем кто умел играть, говорил: «Нечего спать, пошли на волейбольную площадку». Игра проходила непринужденно и весело.
Запомнился также большой банкет, который Н. С. Хрущев устроил в Крыму. Детям был выделен отдельный столик. В разгар банкета к нашему столику подошел Н. С. Хрущев с отцом и сказал: «Пусть от молодежи произнесет тост Сережа» (мне тогда было шесть лет).
Естественно, для меня это было полной неожиданностью. Но когда он меня поставил на стул, я, взяв бокал с газированной водой, громко произнес: «За прекрасных дам!»
После того, как утих взрыв общего хохота, Хрущев сказал отцу: «Да-а… я вижу, что Вы очень прогрессивно воспитываете своего сына», на что отец ответил: «Это только начало его жизненного пути».
Вот так интересно, насыщенно и бурно, а порой, что бывало, правда очень редко, и неторопливо текла семейная жизнь Романа Андреевича Руденко. Именно в семье он отдыхал он государственных дел. Правда, отвлечься от них не удавалось и там…
Он любил свою работу. И мечтал окончить свою земную долю, находясь в строю, на государственной службе.
О том, что Руденко уже пережил 3 инфаркта никто в прокуратуре не знал. Первые два он заработал еще при Хрущеве, третий случился на даче в конце семидесятых. Тогда его спасли. «Скорая» примчалась из Кунцево за 20 минут. Как видим, не только большие звезды заработал за свою жизнь патриарх советской прокуратуры…
В январе 1981, сразу же после Нового года Роман Андреевич лег на очередное штатное медицинское обследование. Ничто не предвещало беды. Его посещали жена, дети. Чувствовал он себя нормально. Однако вскоре, перед выпиской, где-то на десятый день, на квартире Руденко раздался телефонный звонок. Звонили с «Мичуринки». Сообщили, что Роману Андреевичу плохо, что он теряет сознание. Это был четвертый инфаркт.
Периодически Руденко приходил в сознание. Узнавал окружающих. Последний раз, когда он пришел в себя, а было это 21 января, ему сообщили, что он избран делегатом очередного съезда КПСС. Спросили о его желаниях. Он улыбнулся и как всегда спокойно сказал: «Спасибо. Все нормально. Не беспокойтесь». Вскоре ему опять стало плохо – он потерял сознание и больше в него не приходил.
23 января 1981 года Руденко скончался. Шел ему 74-й год. Похоронили патриарха советской прокуратуры со всеми почестями на Новодевичьем кладбище.
И февраля 1981 года Совет министров СССР принял постановление «Об увековечении памяти Р. А. Руденко и обеспечении членов его семьи». Совет министров СССР присвоил имя Р. А. Руденко Свердловскому юридическому институту и утвердил две стипендии его имени в размере 75 рублей в месяц для лучших студентов этого института (по тем временам это была довольно большая для них сумма).
В мае 1982 года, накануне празднования 60-летия советской прокуратуры на доме № 15а по улице Пушкинской в Москве (ныне Большая Дмитровка), где долгие годы работал Роман Андреевич Руденко, в его память была установлена мемориальная доска.
Супруга Романа Андреевича, ласково называла мужа Рима, а он ее – Марийка. В феврале 1942 года, когда по просьбе Руденко, решался вопрос о направлении его на фронт и разлука была уже неизбежна, он, чтобы успокоить свою Марийку и дочерей, на обороте семейной фотографии написал:
«Фото от 12 октября 1941 г. г. Москва
Как здесь, на снимке, тесно прижавшись друг к другу, сплотилась семья, так и в жизни сплочены мы воедино и навечно. Пройдет время. Закончится война. Залечим раны, нанесенные нам кровавым зверем – фашизмом. Снова забурлит жизнь в советских городах. Зацветут колхозные села.
И собравшись семьей, мы будем вспоминать дни отечественной войны, октябрь 1941 г., когда нависла угроза над сердцем столицы – Москвой, когда маленькая Лора, надев противогаз, с серьезным видом говорила: «Я сегодня дежурная», а в убежище с гневом ребенка сказала: «проклятый фашист не дает деткам спать». Все это будет воспоминанием. А сейчас задача напрячь все силы для выполнения единой цели – разгромить и уничтожить врага! Мужественно перенесем все трудности, временную разлуку и любовь нашу и спаянность еще больше укрепим.
Любимым моим и родным – Марийке, Галочке и Лорочке от Римы и папы, г. Москва 19/II 1942 г.»
И они все перенесли. А разлука, которая продлилась почти до конца войны только еще больше испытала и укрепила их отношения, сплотила семью. Ведь не зря говорят, что разлука для любви – все равно, что ветер для костра. Маленький костер он легко загасит, большой же раздует еще сильней.
Их костер горел почти 50 лет!
Через 17 лет Мария Федоровна вновь встретилась с Романом Андреевичем – она умерла в 1998 году и захоронена рядом с ее дорогим Римой.
Примечания
1
До 1 марта 1918 года все даты указаны по старому стилю.
(обратно)


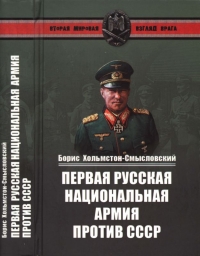




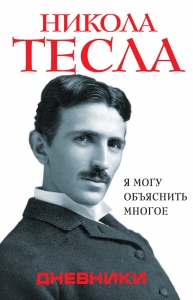

Комментарии к книге «Жизнь и деяния видных российских юристов. Взлеты и падения», Александр Григорьевич Звягинцев
Всего 0 комментариев