Раиса Орлова Поднявший меч Повесть о Джоне Брауне
По моему мнению, величайшие события в мире в настоящее время — это, с одной стороны, американское движение рабов, начавшееся со смерти Брауна, и, с другой стороны, — движение рабов в России.
К. Маркс — Ф. Энгельсу, 11 января 1860 годаГлава первая «Повесить публично в пятницу, второго декабря…»
1
Обитая железом дверь тяжело грохнула. Заскрежетал ключ.
Заперт.
В камере тепло. Начальник тюрьмы Эвис велел протопить пожарче, думал, наверно, что старика, приговоренного к виселице, будет знобить. Тюфяк набит свежей соломой. Он не плохой человек, этот Эвис, хоть и сражался против нас в Харперс-Ферри. Вот и сейчас опять не забыл, приковывая его, обернуть ногу куском фланели, чтобы железное кольцо не слишком натирало.
На соседней койке — Стивенс, укрытый до горла одеялом. Повернулся, безмолвно спрашивает…
— Все. Приговорили: повесить публично в пятницу, второго декабря.
— Вы думаете, что они осмелятся повесить вас, капитан?
— Несомненно. И меня, и вас, и, вероятно, всех наших. Юг вопит от ярости, рабовладельцы алчут казни.
Прокурор, достопочтенный Эндрью Хантер, — как он хотел быть вежливым и бесстрастным — ни разу не повысил голос: еще бы, южный джентльмен, блюститель закона. У него, должно быть, сотни рабов. И в каждом взгляде — ненависть, холодная, змеиная… Судья помягче, но и он: «Вы будете повешены за шею…» Слово за словом отсекал, как щепу от полена, и смотрел пристально, хотел увидеть, как вздрогнет, как побледнеет старый Джон Браун. Нет, не удалось им этого увидеть.
Стивенс понимает: Старик не сломлен. Говорит о собственной смерти, уже неотвратимой, близкой, но говорит все тем же обычным проповедническим тоном, тем же скрипучим голосом. Неужели он и вправду не знает страха, не ведает сомнений, ни о чем не жалеет?
— Мы погибнем не напрасно, друг Стивенс (Старик словно услышал его непроизнесенные слова), мы не напрасно сражались в Харперс-Ферри. Да, нас разбили. Да, десять наших товарищей погибли. Я принес на алтарь свободы двоих сыновей — Уотсона и Оливера. Да, семеро ввергнуты в оковы. Нас предадут казни. Но мы открыли путь, по которому пойдут другие. Пойдут воины свободы. Идущий за мною сильнее меня, сказал Иоанн Предтеча. И он же сказал: уже секиры у корней дерев лежат. Мы, это мы положили секиры у корней рабства, а те, кто идут за нами, сильнее нас…
— Вы, должно быть, правы, капитан… Хотелось бы мне знать, что сейчас за стенами тюрьмы, что говорят и делают наши друзья, наши враги, что делают на Юге, на Севере. Многие ли понимают, знают то, что знаете вы, сэр?
«Ричмонд Энквайрер», Виргиния, 25 октября 1859 года:
«…Если, освободить пять миллионов негров, что произойдет с нашим обществом? Это будет хуже, чем эпоха французского террора… Время компромиссов миновало… Мы не будем больше слушать северян, которые утверждают, будто нам ничего не грозило, которые издеваются над «этим делом в Харперс-Ферри». Каждый порыв ветра с Севера заносит к нам новые смертоносные семена…»
«Индепендент», Нью-Йорк, ноябрь 1859 года:
«Ни одно восстание рабов на Юге, ни даже объединенное восстание рабов во всех штатах от Потомака до Мексиканского залива и Рио Гранде не пробудило бы стольких, не стало бы таким потрясением, как рейд свободного белого Джона Брауна.
…Он и его сподвижники, люди, лично в этом не заинтересованные, объявили войну рабству, рискуя своими жизнями… Вот что привлекло внимание тысяч, которые едва заметили бы негритянское восстание. И разбуженные тысячи теперь задают вопрос: какова же система, вызвавшая этот рейд, в чем смысл того дела, за которое эти храбрые и честные люди готовы отдать жизни?
…Что казнят на виду у всех людей? Виргинцы казнят не Джона Брауна, а Рабство».
«Дейли Пикэйн», Новый Орлеан, 24 октября 1859 года:
«Харперс-Ферри — акция безумцев, несчастных фанатиков, завороженных какими-то дикими, сумасшедшими идеями, непрактичными, глупыми и позорными».
«Йомен», Кентукки, 29 октября 1859 года:
«Юг сильно выиграл бы в глазах всего мира, если бы продемонстрировал, что дух плантатора Легри, забившего насмерть дядю Тома, вовсе не характерен для нашего народа. Если мы уверены, что наши учреждения справедливы и гуманны, мы можем позволить себе проявить великодушие и к заклятому врагу, к самому Варраве!»
Да, ему не спасти своей жизни. Но ведь он шел Харперс-Ферри не для того, чтобы спасать жизнь. Зато он установил высокую, едва ли не самую высокую, цену свободы. Свободы других людей — людей черной расы.
Когда солдаты вели его из суда в тюрьму, толпа на улице была тише, чем в первые дни: знали, что он уже приговорен. Один только выкрик: «Иди в ад, проклятый!», но другие зашикали.
А в первые дни крики возмущения не умолкали, слышны были и женские визгливые голоса: «Линчевать!» Значит, настроение изменилось даже здесь, на Юге. Нет, жертвы были не напрасны.
Браун глядел на медленно оплывавшую свечу. Стивенс задремал и тихо постанывал. Лекарь удивлялся, как Стивенс, потеряв столько крови, мог выжить. Он ни разу не пожаловался, во сне иногда стонет. Настоящий мужчина, воин, верный товарищ. Опять они рядом. Вместе воевали в Канзасе, вместе готовили рейд в Харперс-Ферри. Только осудили пока его одного. Стивенса будут судить после. Жаль, конечно, что он не благочестив. Но такому должна проститься скудость веры за щедрость подвига.
«В пятницу, второго декабря», а сегодня — второе ноября. Жить еще ровно месяц. Всего только месяц. Нет, целый месяц. Тридцать дней, семьсот двадцать часов. Жить здесь, в камере, на этой земле.
Из дневника Бронсона Олькотта, литератора и педагога:
«Этот поступок Брауна, столь поразительный, столь противоречивый, который столь трудно понять многим и многим, даст толчок делу свободы и гуманности, что бы ни произошло с жертвами и как бы ни орали в южных штатах… Надо, чтобы на Севере хватило мужества и отчаянной предприимчивости спасти, просто украсть Брауна!»
«Вашингтон Рипаблик», Вашингтон, 26 октября 1859 года:
«…Браун… явно сумасшедший; но от безумия такого рода единственно верное лекарство — пристрелить или повесить… Его банда состоит, вероятно, из таких же безумцев, во всяком случае людей ущербных…»
«Джорнел оф коммерс», Нью-Йорк, 21 ноября 1859 года:
«Повесить фанатика — значит превратить его в мученика и воодушевить его последователей. Лучше заключить этих субъектов в тюрьму и сделать из них жалких уголовников. При настоящем положении дел в стране второй путь, разумеется, мудрее. Чудовища мятежа, как гидра, многоглавы, и если рубишь одну голову, то лишь способствуешь возникновению новых…»
Генри Торо, из речи в Конкорде:
«…Браун считал, что человек имеет право насильно отнять раба у рабовладельца. Я с ним согласен… Тысячу восемьсот лет тому назад распяли Христа. Теперь, быть может, повесят капитана Брауна. Это два конца одной цепи…
Я предвижу то время, когда не надо будет больше отправляться за сюжетами в Рим, когда американские художники воссоздадут его облик и поэты воспоют его, историки расскажут о его жизни; и вместе с высадкой первых поселенцев и с Декларацией независимости это станет украшением галереи в том будущем, когда по крайней мере нынешняя форма рабства перестанет существовать. Тогда мы будем свободно оплакивать капитана Брауна. Тогда, и только тогда, мы отомстим…»
Прошло уже полчаса. Но что это значит рядом с вечностью? Теперь он точно знает, когда представит отчет Великому Старому Джентльмену. Сколько близких уже там — мать, отец, дети… Как там, среди миллионов праведных, находят друг друга? Впрочем, в ином мире спешить некуда, забот нет — ни о себе, ни о других.
А здесь надо спешить. Как всегда. Здесь он еще в бою. Здесь он еще нужен. Мэри и дети будут сильно горевать. Как им жить дальше? На хлеб и то, должно быть, не хватит…
Прокурору Хантеру придется труднее: страшно умирать тем, кого ждут адские муки. Самые тяжкие земные беды — цепи, тюрьмы, даже рабство — все лучше, чем вечный огонь, стенания, скрежет зубовный и вой ликующих дьяволов. Им-то и достанется Эндрью Хантер в своей крахмальной рубашке с атласным галстуком. И тот краснорожий, который захлопал в ладоши сразу, как только судья прочитал приговор. Решили отнять у человека жизнь, а он радуется. Но его сразу одернули. В зале — ни звука. Мертвая тишина.
Померещилось или там действительно был Томас Рассел и кивнул ему? Жаль, что Рассел не успел стать его защитником.
Зал наполняли враги, сторонники рабства, они еще надеются когда-нибудь приобрести плантацию с неграми и просто не допускают мысли, что черные могут быть уравнены с белыми. Таких больше всего. Невежественные, неразумные люди. С ними он воевал в Канзасе, они стреляли в Харперс-Ферри. Они — солдаты вражеской армии, которая нанесла ему поражение.
«Де Бау ревью», Новый Орлеан, ноябрь, 1859 года:
«…Мира нет и быть не может!.. Харперс-Ферри — первый акт великой трагедии… отряд Брауна — авангард большой армии, которая уже перешла наши границы и намерена поработить нас…»
Джордж Чивер, из проповеди в церкви Нью-Йорка:
«Это событие должно открыть глаза людям… Либо рабство абсолютно правомерно, либо оно — абсолютное зло… Рабы либо священная собственность, либо дьявольский разбой. Если рабство безбожно, то основанное на нем правительство, издающее законы о защите рабства, — бесконечно жестокое зло, оно не только превращает свободных людей в рабов, но и своих собственных граждан в негодяев… И для такого греха не может быть оправдания… Если для поражения зла требуется свергнуть правительство… то, чем скорее это произойдет, тем лучше… Уничтожение трех тысяч рабовладельцев меньшее зло, чем невыносимые страдания трех миллионов человек под их ярмом…»
«Патриот», Джорджия, 28 октября 1859 года:
«Единый Юг говорит: пусть Брауна повесят».
«Кларк Джорнал», Виргиния, 29 октября 1859 года:
«Уже пролилась кровь за кровь, причем больше их крови, чем нашей… Что будет полезнее — продолжать кровопролитие, пока есть кого убивать, или сейчас лучше остановиться на пожизненном заключении? Мы стоим за второй путь и обязаны заявить об этом открыто, даже если рискуем тем, что все подписчики откажутся от нашей газеты, — а такие угрозы уже раздавались… Если эту нашу позицию расцепят как измену, ну что ж, мы также готовы к смерти за свои убеждения, как и старый Джон Браун. Однако… как все это будет выглядеть в глазах мира, не поддерживающего рабовладение?»
Из секретного доклада русского посланника в США Стекля князю Горчакову, министру иностранных дел:
«…Сенсация, которую вызвало это дело, усиливается с каждым днем… Во всяком случае, весьма сомнительно, что этот взрыв был акцией нескольких отдельных лиц, толкаемых фанатизмом, акцией тех беспокойных умов, которые столь характерны для американцев…»
«Виг», Виргиния, 27 октября 1859 года:
«Штат Виргиния, как и весь Юг, готов принять все последствия казни старого Брауна и его сообщников. Старый Браун должен быть повешен, даже если эта казнь превратит всех северян в яростную армию вторжения! Таков суровый и неопровержимый вердикт не только властей штата Виргиния, но и народа Виргинии — и никто, ни один человек против этого не протестует…»
«Йомен», Кентукки, 30 октября 1859 года:
«Если старый Джон Браун будет казнен, тысячи людей захотят омочить свои платки в его крови… реликвии мученика торжественно провезут по всем штатам Севера… Подумайте о позоре, который падет на Виргинию, раз ее безопасность может быть сохранена, если повесить только одного старого, храброго, дурного человека…»
Враги победили его пулями и штыками, потому что их было больше. И теперь удавят его веревкой, потому что у них власть, они сильнее. Но его слов им не удержать, как бы они ни старались. Слона его полетят дальше, чем снаряды, чем пули.
И виселица им не поможет. Ослепленные ненавистью, они думают, что петлей заставят его замолчать навсегда… А на самом деле эшафот — высочайшая трибуна, повыше сената. Слово, прозвучавшее с эшафота, слово мученика за правду становится бессмертным…
Прокурор думал, что Браун испугается, будет дрожать, хныкать. А он смеется над ними, жалкими слугами сатаны, мучителями черных рабов. И он еще их заставит пугаться, дрожать и выть от страха. Его слово, его правда лишь стиснуты стенами этой тюрьмы, сжаты, как пружины, но не задавлены, нет. Теперь он выпустит эти слова, и они будут разить…
Как звали того чудака в Огайо, который все мастерил вечный двигатель из проволоки, все жаловался, что не находит достаточно упругой стали? Ему возражали, что вечные машины может создать только всевышний инженер. Ну что ж, старый Джон Браун — его творение, его орудие, мыслящее и глаголящее на благо людям, во славу создателя, за свободу негров…
Фернандо Вуд, мэр Нью-Йорка, — губернатору Виргинии Генри Уайзу:
«…Вы вели себя до сих пор в деле заговорщиков из Харперс-Ферри так, что вызвали всеобщей одобрение… А теперь, друг мой, осмелитесь ли вы на то, чтобы уравновесить справедливость милосердием, хватит ли у вас нервов, чтобы отправить Брауна вместо виселицы на пожизненное заключение в тюрьму штата?
…Обстоятельства вызывают сочувствие к нему даже среди самых крайних приверженцев Юга. Я принадлежу к ним… Юг выиграет, если продемонстрирует, что может быть великодушным по отношению к фанатику, находящемуся в его власти. А мы, те, кто поддерживает дело Юга, мы значительно выгадаем, если у нас будет пример подобного рыцарства…»
Генри Уайз — Фернандо Вуду:
«…Если бы я прибыл в Харперс-Ферри до того, как эти люди были захвачены… я взял бы немедленно штурмом арсенал, объявил бы закон военного времени, судил бы их военно-полевым судом и казнил бы на месте. Но я опоздал. Они уже были пленниками, потому мне пришлось свою власть использовать для их защиты, я охранял их лично. Я сам проводил их в тюрьму и дал тюремщику достаточно вооруженных людей, чтобы противостоять сторонникам линча. Преступления, которые они совершили с заранее обдуманным намерением, относятся к числу самых тяжких и самых черных из всех возможных преступлений против нашего народа. Брауна, вождя этих людей, судили и осудили по закону и по справедливости; он сам признает, как гуманно к нему относятся в заключении, он признает, что обвинение соответствует фактам, и признает, что свидетели давали правдивые показания. Ему предоставили и защитников, и такую свободу слова, которая никому ранее не предоставлялась на наших судебных процессах… Он приговорен к виселице — это приговор мягкий, гуманный, и мой долг состоит лишь в том, чтобы этот приговор был приведен в исполнение. Я без колебаний поддерживаю приговор. У меня и мускул не дрогнет, несмотря на всеобщие крики о прощении ему. Разве это дурно — исполнять свои собственные законы, когда свершается величайшее преступление против этих законов?.. Неужели разумно помиловать убийцу, разбойника, предателя на том основании, что общественное мнение в других местах прославит мятежника как мученика? А если это и так, то тем более необходимо казнить его и всех ему подобных…»
«Ежемесячник Дугласа», Нью-Йорк, декабрь 1859 года:
«Нравственные доводы против рабовладельцев давно исчерпаны. Напрасно призывать их к разуму. С тем же успехом можно охотиться на медведей, вооружившись лишь этикой и политической экономией, или пытаться «отвести руку угнетателя» при помощи одного лишь нравственного закона. Капитан Браун по-новому выступил в крестовый поход за свободу, и его удар возбудил ужас в рядах всей пиратской армии рабовладельцев. За свои мужественные деяния ему, возможно, придется отдать жизнь, но, как бы ни была бесценна эта жизнь, удар, нанесенный им, стоит в конце концов этой высочайшей цены. Как Самсон, он возложил руки свои на столпы огромного национального храма жестокости и крови, и, когда Браун погибнет, сразу же разрушится этот храм и похоронит защитников своих под развалинами».
У него есть еще целый месяц. Есть друзья, родные, единомышленники, которые будут его слушать, которые должны запомнить его слова, переписать, передать другим. И тогда появятся новые последователи, на его место встанут новые бойцы. Сейчас его оружие — слово. Есть бумага. Чернильница полна до краев.
Нет, бой еще не кончен, совсем не кончен.
Из резолюции съезда противников рабства штата Массачусетс:
«…Если народ, правители, церковники в их слепоте и душевной узости откажутся принимать серьезные меры, откажутся внедрять радикальные идеи аболиционистов, то им придется столкнуться с трагедиями, еще более страшными, чем события в Харперс-Ферри».
Теодор Паркер, священник-аболиционист из Рима, — Френсису Джексону в Бостон:
«…Если бы на вас напал волк, я был бы не только вправе… я был бы обязан, в меру своих сил, прийти вам на помощь. Если бы на вас напал не волк, а убийца, дело обстояло бы точно так же. Теперь предположим, что это не убийца, а тот, кто собирается поработить вас, — разве мой долг не в том, чтобы вырвать вас из рук врага? А теперь предположите, что это рабовладелец, — разве я не обязан помочь вам?..
…Еще несколько лет тому назад казалось, что не трудно остановить распространение рабства, а потом и покончить с ним без кровопролития. Сейчас я считаю это невозможным, даже и в будущем. Все великие главы в истории человечества написаны кровью. Некогда я надеялся, что Американская Демократия найдет более дешевые чернила; сейчас, однако, ясно, что паломничество наше проходит через Красное море, в котором погибнет не один фараон!
…Говорят, что поход Брауна кончился крахом. Не думаю… Этот поход показал слабость великого рабовладельческого государства Америки, слабость его солдат и безмерный страх, который возбуждают рабы в сердцах хозяев…»
Салмон Чэйз, губернатор штата Огайо, — Джозефу Баррету, редактору «Газетт», Цинциннати:
«Несчастный Старик! Как грустно, что его собственное воображение увело его на ложный путь! Как смело, как безумно, как преступно разжигать мятеж; ведь если бы ему это удалось, то землю нашу залило бы кровью, и в этой крови захлебнулись бы самые высокие надежды человечества. И все же, как трудно осудить его, когда думаешь о мотивах его поступков, о его самоотверженном стремлении освободить угнетенных, когда думаешь о его мужестве, о его гуманном обращении с пленными, ведь именно это привело его к разгрому. Эта трагедия станет темой для поэтов и романистов на века…»
Из стихотворения Циприана Норвида, польского поэта-изгнанника, ноябрь 1859 года:
Гражданину Джону Брауну
…Все ж, прежде чем веревка палача Затянется вкруг шеи несклоненной, Пока стопой, опоры не ища, Не оттолкнешь планеты оскверненной, Пока земля от ног твоих, как гад, Не прянула, — пока не говорят: «Повешен!» — веря в то недоуменно, Пока не натянули капюшона, Боясь, чтоб сына лучшего узнав, Америка не возопила грозно: «Погасни, свет мой двенадцатизвездный!.. Ночь! Ночь идет — как негр, лишенный прав!..» Покуда тень Костюшки не прольет Свой гнев и Вашингтона тень не встанет, Прими начало песни, Ян! Она, как плод, — Покуда зреет, человек умрет, Покуда песнь умрет, Народ воспрянет![1]2
«…Повесить публично, в пятницу, второго декабря». Мэри Браун склонила голову. Вновь подняла. Глаза сухие. Томас Вентворт Хиггинсон читает газеты, заметки из зала суда, речи прокурора, защитников, самого Брауна: «Я пришел сюда совершить то, что считаю справедливым и оправданным. Я выступаю не на стороне поджигателей или головорезов, я выступаю, чтобы помочь тем, кто страдает от страшного зла. Я хочу далее сказать, что вы все, вы — южане — должны приготовиться к решению этого вопроса, это решение может наступить ранее, чем вы будете готовы, — я имею в виду негритянский вопрос; конца ему не видно…»
Мэри, сын Салмон, дочери Энни, Сара и Элен, невестки Марта и Белл слушают слова человека, чье место во главе этого стола пусто. На стене — портрет, и кажется, будто в комнате звучит голос, такой всем знакомый. В чтении Хиггинсона, да еще когда они уже знают приговор, слова звучат торжественно.
Хиггинсон дочитывает последнее слово Брауна на суде: «Я считаю, что был прав, когда выступал на стороне отверженных бедняков. Если же сочтено необходимым, чтобы я лишился жизни во имя дела справедливости, чтобы моя кровь смешалась с кровью моих сыновей и с кровью миллионов рабов, чьи права попираются злыми, жестокими, несправедливыми законами, — если это сочтено, я повинуюсь, да будет так!»
В этот дом горе входило часто, но и в горе здесь не привыкли сидеть сложа руки. Шестнадцатилетняя Марта, вдова Оливера, погибшего в Харперс-Ферри, накрывала на стол. Еда скудная, простая. Ни чая, ни кофе не пили. Белл кормила ребенка, внука Брауна, его отец, Уотсон, тоже погиб в Харперс-Ферри. У Хиггинсона не было детей, он смотрел на маленькое существо как на чудо. Энни шила, надо было быстро собрать мать в дорогу: она уезжала с Хиггинсоном на следующее утро.
Марта рассказывала, как они жили на ферме перед нападением на арсенал. Вместе с Энни они там хозяйничали. Показали гостю дагерротип Оливера — он не очень похож на отца. Лицо задумчивое, рот мягкий, мать надеялась, что он станет священником. Расставаясь с юной женой, Оливер сказал:
— Если мне удастся совершить хоть один хороший поступок, значит, жизнь моя прожита не зря.
Сколько юношей так говорят, никто и не вспомнил бы этих слов, если бы он не подтвердил их гибелью.
Белл тоже достала и прочитала последнее письмо Уотсона: «Я очень хочу видеть тебя и малыша, но я должен ждать. Возле нас жил раб, его жену продали на Юг, и на следующее утро он повесился. Я не могу вернуться домой, пока творится такое».
Младшая дочь Брауна — ей еще не исполнилось шести лет, — принесла семейную реликвию. Хиггинсон увидел надпись отца: «Эта Библия, подаренная моей нежно любимой дочери Элен Браун, предназначена только для особых торжеств, для того, чтобы Элен ее бережно хранила в память об отце (она была лишена в детстве его заботы и внимания), так как с лета 1855 года он был в Канзасе.
Пусть святой божий дух направит твое сердце с самого раннего детства так, чтобы оно воспринимало истину и любило ее; пусть ее мудрые и святые поучения определяют твои мысли, слова, дела, таково мое самое большое желание и самая важная молитва, обращенная к тому, чьей заботе я поручаю тебя. Аминь.
От твоего любящего отца Джона Брауна.
2 апреля 1857 года».
Пятьдесят седьмой год, а Хиггинсон познакомился с Брауном в пятьдесят восьмом.
Хиггинсону тридцать шесть лет. Коренной американец, его предки прибыли в Салем в семнадцатом веке. Знатные — английскую королеву Елизавету они называли «кузина Бетси». Родился Томас в доме, который построил его отец. Кончил богословский факультет Гарвардского университета, стал священником в маленьком городке.
Всю жизнь провел среди книг и литераторов. К ним в дом приходил Лонгфелло, на полках стояли произведения Уитьера с его автографами, в поэмы Байрона от руки вписывались строфы, изъятые цензурой. Книги заполняли жилье, но какой-то книги не хватало, доставал все новые и новые. Читать, читать, читать. Сидеть над книгами в библиотеке, дома, в колледже. И засыпать с книгой в руках. Томас любил Спенсера и Чосера.
Но, в отличие от многих друзей-книжников, он еще обязательно должен был действовать. Двигаться — плавать, бегать, фехтовать. Жизнь тела для него едва ли не так же важна, как и жизнь духа.
Настойчиво, неустанно готовился. Сначала сам не знал, к чему готовился. Оказалось, к борьбе. Но бег или плавание доставляли ему еще и просто радость. Мог бы Джон Браун испытать радость от бега? Никогда…
А ему, Хиггинсону, очень пригодилась тренировка, когда он, пытаясь спасти негра, которого отправляли в рабство на Юг, взламывал дверь в бостонском суде. Тогда же единомышленникам раздавал топоры.
Его влекли всякие авантюры. С восторгом слушал, как его дед и бабушка бежали из дому, тайно обвенчавшись против воли родителей.
Хиггинсон храбр, но в этот день он боялся переступить порог дома в Северной Эльбе. Медлил в сумерках. Как сказать жене о предстоящей казни мужа, как сказать детям, что отец погибнет?
Около дома — огромный камень. На нем высечена надпись: «Джон Браун погиб, — Хиггинсон отшатнулся, — в 1776 году». Дед.
И вторая надпись: «Фредерик Браун погиб в Осоватоми, сражаясь за свободу». Сын. Его убили в Канзасе в 1856 году. В его память Фредериком назвали племянника.
На камне много места. Нет, нельзя допустить, чтобы через месяц на нем появилась еще одна надпись. Надо уговорить Старика бежать. Только жена сможет это сделать.
Войти в дом было страшно. Но утешать никого не надо было. Преломил с ними горе, как хлеб.
Они не сразу поверили известиям из Харперс-Ферри, хотя и предчувствовали: что-то должно свершиться. Когда учительница географии в школе, где училась Сара Браун, скользя указкой по карте, остановилась у Харперс-Ферри: «Смотрите, дети, здесь соединяются реки Шенандоа и Потомак», — девочка зажмурила глаза.
Газеты шли в Северную Эльбу не меньше недели. Впрочем, первая телеграмма о боях была помещена с предостережением: «Нижеследующее сообщение, полученное из г. Фредерика, представляется крайне маловероятным, и его надо воспринимать весьма осторожно до подтверждения». Называлось и число повстанцев — семьсот…
Скорбели о своих, о противниках даже не спрашивали, не осуждали их. Совершенно не думали о мести.
Мэри Браун молчит. Она всегда молчит. Хиггинсон же привык к тому, чтобы все выговаривалось. Он пытается найти общий язык — нелегко. Одно общее — любовь к Брауну, страшная боль за него. И еще — его жену тоже зовут Мэри.
Перед сном Хиггинсон вышел на улицу с тем сыном, который не пошел с отцом. Сейчас Салмону очень совестно, Хиггинсон его успокаивает — семья уже принесла такие жертвы.
— Я думаю подчас, что мы, Брауны, для того и приходим в мир, чтобы приносить жертвы… Ради принципов.
Он часто слышал от Брауна слово «принцип». Теперь услышал это слово здесь — от Салмона и от Мэри.
Хиггинсон долго не мог заснуть. Все мерещился надгробный камень. Это ведь не кладбище — дом, здесь десять лет живет эта семья. Сеяли, собирали скудный урожай. Полгода здесь такие холода, что скоту нужен теплый загон. Только начало ноября, а земля плотно засыпана снегом. Снег проник и в дом, на рассвете — изморозь на одеяле. Здесь рожали, кормили, растили детей. И каждый, входя и выходя из дому, невольно читал: «Джон Браун погиб в 1776 году». Погиб в первой американской революции.
Может быть, Старик хотел, чтобы родные привыкли жить с этим, чтобы в их души врезалось: «Джон Браун погиб…»
В Канзасе Брауна тоже приговорили к смерти, но заочно. А сейчас он в тюрьме, за железными запорами. Надо спешить с побегом. Если бы в тюрьму попал он, Хиггинсон, или кто другой из единомышленников, Браун давно бы уже собирал людей, доставал оружие. Завтра на рассвете надо выезжать в Бостон, а оттуда — в Харперс-Ферри.
Мэри Браун и не пыталась спать. Остался месяц. Она так давно привыкла сдерживаться, что едва ли не разучилась плакать. Сейчас, когда совсем одна, можно. Двадцать шесть лет вместе. Родила тринадцать детей, семерых похоронила младенцами. Две недели тому назад погибли Оливер и Уотсон. «Пусть моя кровь сольется с кровью моих сыновей…»
Иногда она позволяла себе помечтать, как они с Джоном состарятся и будут нянчить внучат, вот ведь свекор дожил до восьмидесяти лет, а Джону шестидесяти еще нет, через полгода исполнится. Нет, не исполнится. Потому что «в пятницу, второго декабря…».
Уезжают. Дорога через узкое ущелье, горы нависают — коричневые, серые, зеленые, слева от котловины — одинокая светлая вершина со странным названием «Белое лицо».
Хиггинсон объясняет Мэри, как он собирается вызволять узника.
— Раньше я молилась только об одном: чтобы ему была дарована легкая смерть, чтобы пуля сразу убила его, чтобы он не попал в руки рабовладельцев. А теперь я даже не смею жаловаться, что произошло по-иному. Ведь ему выпала великая честь вслух сказать такие благородные слова о свободе. Я передам ему про побег, но ведь он все равно поступит по-своему.
— Миссис Браун, ваш муж должен жить не только для вас, для детей, он должен жить для свободы, для нашего дела, ведь он — главнокомандующий.
— Я все передам ему, но будет так, как он скажет. Он знает лучше. Только четверо моих детей остались в живых. Однако, если мне весь свой дом придется видеть в развалинах, я на одно хочу надеяться — это облегчит участь бедных рабов.
И опять надолго замолчала.
Ей был мил этот красивый человек, она знала о нем от мужа много хорошего. Он верный друг. Но сейчас она и с ним не могла говорить.
3
Судья Томас Рассел получил письмо от Джона Брауна из тюрьмы с просьбой найти защитника для него и его товарищей. И Рассел с женой поспешили в Чарлстон, где шел суд. Но успели они лишь к последнему дню процесса.
По дороге вспоминали, как Браун жил у них в апреле 1857 года. Рассел сочувствовал аболиционистам, но публично против рабовладения не выступал. Поэтому друзья решили дать убежище Брауну именно у него. Хотя Массачусетс и свободный штат, но рабовладельцы давно разыскивают старого капитана.
Их дом считался безопасным, однако Роз Рассел всю неделю сама открывала двери, не доверяла прислуге.
Браун резко отличался от тех людей, кого они знали, непривычно говорил — совсем не так, как окружающие их бостонские интеллигенты, смеялся беззвучно, однажды забаррикадировал дверь в свою комнату — ему показалось, что за ним пришли. «Живым я не дамся».
Тогда, в апреле пятьдесят седьмого года, с помощью Томаса он составил завещание.
Расселам было с ним нелегко. Не потому, что чужой человек жил в доме, — их щедростью пользовались широко. Томаса задели слова в письме из тюрьмы: «У меня здесь есть двадцать пять долларов и вещи, всего этого достаточно, чтобы хорошо заплатить Вам или кому-либо, кто возьмет на себя нашу защиту…» Что же делать, Браун такой, он у своего близкого друга Фредерика Дугласа соглашался жить только при условии, что будет платить ему по три доллара за неделю.
Расселам было нелегко потому, что считались они в своем кругу людьми передовыми, мужественными. Вот ведь сюда, на Юг, не побоялись приехать, когда многие уже бежали в Канаду. Но Браун тогда заставил их посмотреть на себя по-иному.
Однажды он вышел из комнаты и сказал, что хочет им прочитать отрывок из автобиографии. Они слушали втроем — в гостях была Мэри Стирнс. Слушали прощание с американскими святынями. Прощание или разрыв?
Так именно называлось: «Прощание старого Брауна с Плимут-Роками, с памятниками в Банкер-Хилле, с дубом Хартии, с Хижинами дяди Тома…»
Не очень грамотно, — Роз потом прочитала рукопись, — запятая после слова «хижина» и через два «ж»…
К чему уничижительное множественное число в заголовке? Ведь Банкер-Хилл — место одной из первых битв войны за независимость; Плимут-Рок — скала, к которой прибыли первые поселенцы; дуб Хартии — дуб в Хартфорде, в его дупле прятали от англичан «Хартию прав человека»… Все это и впрямь святыни, каждая по-своему — единственная. И они, Расселы и Стирнсы, их отцы и деды, друзья и знакомые с детства привыкли почитать святыни.
О себе Браун писал в третьем лице: «Он отправился в Канзас. С тех пор, как он вернулся оттуда, он пытался добыть снаряжение и обмундирование, он ведь должен вооружить, тщательно снарядить своих бойцов; и вот он покидает эти штаты с чувством глубокой горечи; исчерпав свои собственные малые средства, он, как и его семья, как и его храбрые бойцы, голодает, страдает от холода, все они раздеты, одни болеют, другие ранены в бою, их бросают в тюрьмы, заковывают в кандалы, к ним относятся очень жестоко, иные находят там гибель; месяцами они вынуждены валяться на земле в самых губительных, скверных местах; порою даже больные и раненые лишены какого бы то ни было крова; за ними охотятся, как за волками; их поддерживают разве что индейцы. И после всего этого, ради Дела, которому должен в равной степени служить каждый гражданин этой «славной республики»; Дела, за небрежение которым он, Джон Браун, отвечал бы перед богом; Дела, которое должно быть важно каждому мужчине, каждой женщине, каждому, кто принадлежит к роду человеческому; Дела, за участие в котором никому не платят жалованья, да никто и не рассчитывает на оплату, — ради этого Дела он, среди всего богатства, роскоши, излишеств у этого богом вознесенного народа, он не может собрать денег даже на обмундирование солдата.
Как пали сильные мира сего!»
В первый момент Роз показалось ужасно несправедливым, что он обращается к ним. Ведь в их доме он нашел приют, она так гордилась мужем, да и собою. Но это ощущение было мимолетным, прошло сразу.
Она виновато осмотрела свою гостиную — дорогая мебель, посуда.
Потом она прочитала роман Гюго «Отверженные». Священник даже заповедь нарушил, неправду сказал, будто подарил свои подсвечники неизвестному бродяге Жану Вальжану, хотя тот их просто украл. А она знала Брауна, уважала его, полюбила, а ведь не пожертвовала ему свои бронзовые наследственные подсвечники. Не ему, на то Дело, которое и ей кажется благородным.
Там, в Канзасе, голодают, мерзнут, терпят лишения молодые люди, там его сыновья, а здесь живут совсем по-другому. Считают себя аболиционистами, но даже деньги собрать очень трудно. Считают себя христианами, но «за други своя» жизнь и не думают отдавать. Да и рубашки свои им — нам — ближе к телу.
Прослушав, Мэри Стирнс решила: продам коляску и лошадей, деньги — на борьбу против рабовладения. Какая же это автобиография — листовка, проповедь.
С того вечера прошло всего два с половиной года, а кажется, бесконечно много. Не зря старый Браун прощался с Плимут-Роками. Оказалось, что он заботился не об одном обмундировании, он отдал Делу все — кровь сыновей, свою жизнь, свою смерть.
Здание суда. Все знакомо, привычно, сколько раз сам Рассел сидел на месте судьи Паркера, в такой же мантии, с таким же молоточком в руках. Зал переполнен, плывет табачный дым. Многие стоят. Он едва нашел себе место.
Непривычны только носилки. Сейчас они пустые, на них лежит шляпа, а высокий изможденный человек — как он похудел с тех пор — говорит стоя:
— …если бы я выступил на стороне богатых, власть имущих, образованных… если бы я ради них претерпел страдания и им принес бы жертвы, то каждый здесь, в зале суда, считал бы, что меня следует за это наградить, а не наказывать…
Мерные глухие фразы падают так, словно это не импровизация, словно эти фразы уже столетие учили в школах, дети знают наизусть, фразы неопровержимые, как таблица умножения, как катехизис.
И он еще просил найти «умелого и преданного» защитника! Да разве лучшему адвокату в Соединенных Штатах посильны эти мысли, эти доказательства, эти слова? Какой адвокат за него мог бы сказать: «Если же сочтено необходимым, чтобы я лишился жизни во имя дела справедливости, чтобы моя кровь смешалась с кровью моих сыновей и с кровью миллионов рабов, чьи права попираются злыми, жестокими, несправедливыми законами, — если это сочтено, я повинуюсь, да будет так!»
Рассел добился разрешения на свидание и вернулся в гостиницу. Роз уже знала о приговоре, в маленьком городке вести разносятся быстро.
Тюрьма — старое двухэтажное здание, два входа, галерейка с колоннами. Окна большие.
Между тюрьмой и судом — улочка и еще один дом — караульное помещение.
Томас Рассел не намеренно, но очень внимательно отмечал про себя: где расположены часовые, сколько солдат, где входы, какие запоры… Потом, уже в камере, он обрадовался, увидев широкую печную трубу, — двое дюжих янки легко могут вытащить отсюда узника.
Когда они вошли, Браун лежал на койке. Привстал, увидев Роз: «Вам, сударыня, здесь не место». Это он не сурово, губы чуть дрогнули. Извинился и снова лег.
— Вы боялись, что обстоятельства вашего дела не станут известны миру без преданных вам защитников. Хоть мне и не пришлось стать вашим защитником, но слова ваши я записал и от себя кое-что прибавил, вот я вам прочту: «Джон Браун говорил великолепно, спокойным голосом, мягко, он завоевал всеобщее уважение своей храбростью и твердостью. Его самообладание было поразительно потому, что приговор в этот момент был неожиданным и речь совершенно не подготовлена». Надеюсь все это напечатать, как только вернусь в Бостон.
К похвалам Браун отнесся так же невозмутимо, как и к приговору. А вот что речь станет известна — это важно. Это самое важное.
— Что делают друзья на Севере?
— Сейчас все заняты только вами.
— Напрасно. Мне уже не надо ничего. Надо продолжать дело. Ну еще, если возможно, помочь моей несчастной семье. Три дня тому назад я написал им большое письмо, а сегодня вот приписал: «…я приговорен к смертной казни. Меня повесят второго декабря. Не горюйте обо мне. Я все равно очень бодр. Да благословит вас Бог, ваш всегда Д. Б.».
Тут уж Роз не сдержаться, поспешно отвернулась. Увидела сквозь слезы: в углу висит пальто, испачканное, окровавленное, изорванное штыками, пуговицы болтаются. Это у него, такого аккуратного. После его отъезда из их дома, она много раз говорила детям: «Учитесь у храброго капитана Брауна следить за своей одеждой, за обувью и мыть руки».
Слава богу, сейчас есть чем занять себя.
— Неужели вы можете это привести в порядок? — Браун вопросительно, обрадованно, когда она взяла пальто.
Капитан Эвис очень любезен, разрешил ей входить и выходить. У галереи полно народу. Подозвала одного:
— Вычистите, я заплачу.
Латала вычищенное пальто уже в камере. Хорошо, что все захватила с собой — иголки, нитки, наперсток. Заикнулась и о стирке — ведь белье тоже грязное, — но от этого Браун наотрез отказался. Как и тогда, при первом знакомстве, возражать ему, спорить с ним — невозможно.
Обернулась к одежде Стивенса, по тот отрицательно покачал головой.
Томас спрашивал:
— Когда вы начали, Браун? Что привело вас в Харперс-Ферри?
Но Браун уже не успел ничего ответить, в дверях появился Эвис, свидание окончено, надо прощаться.
Выйдя на улицу, повторяли слова из его письма: «Не горюйте обо мне». Как это можно — не горевать, не только самым близким, но и им, Расселам, друзьям, единомышленникам и людям, вовсе его не знавшим…
Глава вторая Вначале был гнев
1
Когда он начал?
Он отвечал на этот вопрос и двенадцатилетнему мальчику Генри Стирнсу. Все той же весной пятьдесят седьмого года, когда он жил у Расселов, он познакомился с Джорджем Стирнсом, председателем комитета помощи Канзасу.
Стирнс — богатый джентльмен. Северянин. Владелец фабрики свинцовых труб. Его жену Браун увидел в церкви на проповеди Теодора Паркера, самого, пожалуй, знаменитого священника-аболициониста. Мэри Стирнс — это она слушала потом с Расселами его «Прощание» — пригласила Брауна в Медфорд. Там среди взрослых был и сын Генри. И о чем бы Браун ни говорил, перед ним — распахнутые мальчишечьи глаза. В них отражалось все — каждое колебание голоса, каждый оттенок разговора. И когда Браун рассказал, как по дороге в Канзас умер его маленький внук Остин, Генри заплакал, и не стыдился слез.
Пошептавшись с отцом, он подошел к Брауну:
— Сэр, возьмите, пожалуйста, вот два доллара, это из моей копилки. Папа разрешил. Это для детей Канзаса, чтобы они могли купить сладкой кукурузы…
— Спасибо, сынок, благослови тебя бог.
— Капитан Браун, можно мне вас попросить?.. Расскажите мне о том, каким вы были мальчиком.
— Хорошо. Но только не сейчас. Сейчас я занят. Но я тебе обязательно расскажу, если не увидимся, напишу.
Он выполнил обещание.
Он так дисциплинировал себя здесь, в тюрьме, он заставлял себя вспоминать — это была своеобразная форма гимнастики — механически вспоминать год за годом, день за днем, город за городом. Пятьдесят седьмой год — он был постоянно в дороге: Северная Эльба, дом после полуторалетнего отсутствия, маленькая Элен тогда заплакала, не узнала отца… Нет, нет, нельзя позволять себе отвлекаться на чувства, надо просто перечислять. Бостон, Рочестер, Истон, Пенсильвания. Опять Бостон. Тогда и жил у Расселов. Северная Эльба — больной. Канастота, Питерборо, Кливленд, Акрон. Гудзон. Мильвоки, Толмейдж (не дали выступить на пятидесятилетии этого города). Чикаго. Айова. Вот отсюда, из Айовы, из местечка Красная Скала он и написал пятнадцатого июля письмо Генри Стирнсу.
Едва ли не самое длинное из всех писем Джона Брауна — шесть страниц. И единственное письмо о детстве.
Трудно ему было найти время для того письма. Трудно вырвать из спешки, из сумятицы, выкроить из военного быта. Остановка среди чуть ли не ежедневных передвижений. Остановка — и дорога назад. В детство.
Чем старше он становился, тем ярче выплывало из памяти давнее прошлое.
Каким он был мальчиком? Когда же, как он начал? Нет, он, пожалуй, не будет говорить о предках, о родителях, о том, что он — ровесник девятнадцатого века. Генри надо рассказать, когда и как он, белый американец, решил посвятить себя борьбе за свободу черных рабов.
Он писал, как и «Прощание», в третьем лице — ему неловко было сказать «я», «мне», «мной».
«Во время войны с Англией произошел случай, который в конце концов сделал его решительным аболиционистом, заставил его объявить вечную войну рабству, дать клятву, что он станет верным воином. Он гостил одно время в доме джентльмена-плантатора… у которого был раб, мальчик его возраста, очень умный, живой, доброжелательный, и Джон был многим обязан ему. Хозяин без конца ласкал Джона, сажал за стол с самыми знатными гостями, повторял его умные фразы, удивлялся и умилялся тому, что вот он, мальчик, совершенно один пригнал партию скота за сто миль от родного дома. А его ровесник, негритенок, был в лохмотьях, полуголодный, он спал на улице, и его били прямо у него, Джона, на глазах железной лопатой или чем попало. И Джон начал тогда размышлять об ужасном, безнадежном положении детей рабов, отнятых у отцов и матерой, никто о них не заботится, никто их не защищает, и подчас он спрашивал себя: а сам-то бог — отец этим детям или нет?»
Гладко он все это написал, оно и понятно: взрослый человек, уже прославленный воин в борьбе за свободу Канзаса, объясняет ребенку. Пожалуй, не только ребенку; может, бессознательно и его родителям тоже. Но на самом деле не все так гладко было.
Ему было восемь лет, когда умерла мать. Первая могила в Гудзоне. Ему казалось, он понимал, что такое сиротство. А узнал черного паренька Питера — вот оно сиротство какое бывает, гораздо страшнее.
Они подружились. У него раньше мало друзей было. Он не умел играть с мальчишками, съеживался весь, игры их, так ему казалось, неприятные, грубые. И еще над ним смеялись, потому что он подолгу торчал у Пегги. Это девочка соседей. Отец ее, восьмилетнюю, на руках носил вечерами, когда возвращался с поля. Ноги-то у нее были, но не ходили. А матери некогда: четверо ребят и хозяйство.
Джон играл с Пегги, рассказывал ей сказки, читал книжки. Хотя сам еще не очень любил читать.
Пегги с утра кричала: «Джонни! Джонни!»
Родители его были недовольны, прямо ему не говорили, но он это чувствовал. Лучше бы он играл с мальчиками. Ему и самому не всегда хотелось идти к Пегги. Она часто надоедала ему. И не благодарила его нисколько, считала, что так и надо. Странная девочка. Вдруг задумается посреди игры — и нет ее, где-то она далеко-далеко.
Только жалко ее очень. Спросила его: «А может, у меня ноги отняли, а взамен дали крылья? Ты погляди за спину». Он поглядел — острые детские лопатки. Испугался, как бы она и вправду не вздумала летать: вдруг тогда решат, что она ведьма, и сожгут ее?
Прикрикнул на нее, а потом еще больше жалко стало.
Ему было двенадцать лет, когда отец, как обычно, выгнал вместе с ним стадо, но вдруг попрощался, сказав: «Дальше, сынок, пойдешь один. Ты гляди, чтобы овцы не отставали от барана и не отбегали в стороны. Все будет в порядке».
Крепко пожал руку.
Вначале гордость — поручили первое настоящее мужское дело — еще смешивалась со страхом. Нет, он не боялся ни темноты, ни зверей. Боялся, что вдруг не справится, не оправдает отцовской веры в него.
Тогда он впервые увидел горы вблизи. Сначала светлели вершины, а внизу еще было темно, сыро. Днем от солнца камни блестели, как битое стекло, — смотреть больно. Темнота наступала внезапно, горы становились выше. Он отгонял стадо с дороги в лощинку, разводил огонь и дремал на старой отцовской куртке.
Горы. Бредя за стадом, на редких привалах он глядел на них. Лесистые склоны будто в густой мягкой шерсти. Он уже тогда хорошо разбирался в шерсти, отец и его подмастерья научили с завязанными глазами, на ощупь узнавать, чья шкурка — заячья, лисья, волчья. И овечью шерсть различать — молодая, старая, давно ли стрижена.
За овцами надо было неотступно следить. Нога у маленького ягненка застряла между камнями, пришлось вытаскивать. Но овцы слушались, ничего, он справится.
В горах он впервые остался совсем один. Что хочешь, то делай, куда хочешь, иди. Нет над тобой хозяина. Один и свободен! Поднимайся туда, выше, выше, к самым облакам. Ты все можешь. Ты свободный человек, ты хозяин мира, вот кто ты, двенадцатилетний мальчик с посохом в руках.
Хозяин большой плантации Лэмберт встретил его необычайно приветливо. Позвал жену и дочерей, трех маленьких девочек.
— Смотрите, мальчик не выше своего посоха, а не боялся. Один, понимаете, совсем один гнал стадо через горы. Вот это настоящий американец. Счастливчик Оуэн Браун, что у него растет такой сын. Кружку пива для Джона Брауна! Сэр, окажите нам честь, будьте нашим гостем!
Слушать громогласные похвалы мистера Ламберта Джону было вроде лестно, дома его никогда не хвалили ни отец, ни мачеха. Но почему-то и неудобно.
А мистер Лэмберт находил новые и новые поводы для похвал.
— Как скромно Джон держится! Не наваливается локтями, не лезет раньше старших за хлебом, не глазеет по сторонам. Глядите, девочки, вот такого сына мы с вашей мамой хотели бы иметь. Ты сам вычистил башмаки?! Мог бы поручить и негритенку.
У Лэмберта Джон впервые спал в отдельной комнате, в отдельной кровати — дома всегда вместе с братьями — на льняной простыне. И был очень смущен, когда утром увидел: от ног на белом осталось темное пятно.
Впервые ему прислуживали, подносили блюда. У стола — старый негр в синей куртке, обшитой золотыми галунами. Негритенок Питер принес ему кувшин с водой и таз, пытался помочь раздеться. Джон сразу отстранился, оба засмеялись. И когда Питер промолвил:
— Масса Джон…
— Да не говори ты «масса», «масса», я же не говорю тебе «мистер Питер, сэр».
Тот расхохотался так, что опрокинулся навзничь, дрыгая босыми ногами.
— Ха-ха, мистер Питер, ха-ха.
Впервые он общался с негром. Он и раньше видел негров, слышал, что они рабы. Слышал, как отец кому-то возражал: «Нет, негры вовсе не созданы для того, чтобы служить белым, и черные, и белые — все мы люди, и не должен один человек быть рабом у другого».
Отец помогал индейцам. Не тогда ли в детское сознание вошло: различия между людьми вовсе не в том, что у одних кожа белая, у других — красная, у третьих — черная?
Джон не решился спросить у Питера: «Ты раб?»
Днем они вдвоем обегали владения Лэмбертов. Питер показывал ему свои заветные места, нору у ручья, где он прятал сокровища: цветные камешки, медные пуговицы, пряжку, несколько монет. Джон подарил ему мраморный шарик — в прошлом году сам получил его в подарок от индейского паренька.
Они бегали наперегонки по лугу, Питер обогнал его. И Питер не зазнавался, добрый парень и очень веселый.
Когда они вернулись, Питера ругал старый негр за то, что мальчик не убрал навоз и не сменил подстилку в коровнике.
Эти черные люди были бедно одеты, работали с утра до ночи в поле, в огородах, в овечьих загонах, коровниках, конюшнях. Но никогда раньше Джон не слышал так много смеха, такого громкого, чистосердечного.
За ужином мистер Лэмберт восхищенно восклицал:
— Ты, оказывается, и Библию уже знаешь! Ну как тебе правятся мои владения? Ты, я заметил, все на негров смотрел — ведь вам, северянам, черномазые в диковинку. Не очень противны?
— Нет, сэр, вовсе нет. Они такие же люди. И добрые, веселые.
— Веселые, это ты прав. Даже слишком. Иным только бы веселиться и бездельничать. Есть, конечно, и добрые, смирные негры. Если с ними правильно вести себя. Не как с людьми, нет. Северянам бывает это трудно понять. Вот и ты: «Такие же люди». Я негров знаю с детства, у меня кормилица-негритянка, ты видел ее, я очень хорошо к ней отношусь. Я по-христиански всех их люблю, как живых тварей, ну почти всех. Но они вовсе не такие, как мы, они и в старости как малые дети. Их нужно строго воспитывать, как щенков пли жеребят, чтобы знали порядок и страх. Если бы не мы, белые хозяева, они вырастали бы негодниками, бездельниками, ворами, а то и вовсе хищными зверями, как голодные волки. А воспитанные в беспрекословном послушании, они могут стать работящими слугами, как бывают ученые собаки или хорошо объезженные лошади. Понимаешь, Джонни?
— Нет, сэр, не совсем понимаю…
— Что же тут непонятного, юный янки? Спрашивай, никогда не надо скрывать сомнений.
— Когда были на земле только Адам и Ева и когда Ной сошел с ковчега на горе Арарат, кто же был белым и кто черным?
— Ха-ха-ха! Слушайте, миссис Лэмберт, как он рассуждает, как настоящий бостонский адвокат. Ставлю пять долларов против десяти центов, ты еще будешь сенатором, Джонни. Ты задал очень хитрый вопрос. Отвечаю: Адам и Ева были белыми. Ной и его старшие сыновья, Сим и Яфет, были белыми, а вот его младший непокорный и неучтивый сын Хам был наказан господом, и его потомки стали черными и уже не совсем людьми. И они обречены на веки вечные служить потомкам старших белых сыновей Ноя. Ты это забудь: «Такие же люди…»
На следующий день опять сытный завтрак — яйца, ветчина, молоко, дома он никогда не ел так много, так вкусно. Потом он бродил с Питером, тот рассказывал сказки о хитром братце Кролике, который ловко обманул и лису, и волка, и медведя. Рассказывал и о своей семье, о деде, который был сыном африканского царя, его захватили в плен белые разбойники и продали в рабство. Джону становилось то весело, то страшно, он чуть ли не дрожал, когда Питер говорил ему о неграх, замученных до смерти, забитых плетьми, растерзанных собаками. Но может, так только в сказках?
За обедом мистер Лэмберт несколько раз внимательно поглядывал на Джона. Когда кончили сладкий пудинг со сливками — раньше такой вкусности и не пробовал, — хозяин сказал:
— А этот черномазый бесенок Питер сегодня опять весь день бездельничал и опять надерзил старшим. Хитрый и наглый звереныш. Привязался к нашему гостю и надеется, что может безобразничать безнаказанно.
Он позвонил в колокольчик, явился старый негр.
— Приведи Питера.
Мальчик стоял съежившись.
— Ты опять не вычистил хлев?
— Да, сэр.
— Ты должен был наколоть дрова для кухни. Почему ты не сделал этого?
Быстрый взгляд на него, на Джона, умоляющий, — ведь они были вместе целый день.
— Как ты смел не исполнить того, что тебе было приказано?
— Я… я… забыл, сэр.
— Позвольте мне, сэр, это я увел Питера в лес.
— Дорогой гость, я впервые вынужден сделать вам замечание — джентльмены не должны вмешиваться, когда хозяин говорит с рабом.
И к Питеру:
— Ты опять надерзил Сэму, когда он отругал тебя?
— Да, сэр, я больше не буду… сэр… О, я клянусь богом, сэр…
— Не клянись, не богохульствуй, не усугубляй своей вины.
Лэмберт встал из-за стола, подошел к камину и неторопливо взял с полки хлыст.
— О, сэр, не надо, пожалуйста!
Питер опустился на колени, пытался схватить руку Лэмберта и поцеловать. Но тот ударил его кулаком в лицо. Мальчик хрипло вскрикнул и упал.
Лэмберт, багровый, потный, взмахнул хлыстом. Джон выскочил из-за стола и бросился на мистера Лэмберта.
— Не смейте бить! Не смейте бить!
Его оттащили, дальше он ничего не помнит. Он не спал, трясло как в лихорадке. В ту ночь ему впервые захотелось умереть.
Как странно, тогда он не мог уснуть, а после Харперс-Ферри он спал и после смертного приговора тоже.
Все остальные сидели за столом как ни в чем но бывало, он один вскочил и бросился на Лэмберта, он мало что понимал, но он слышал, как гости спорили между собой. И один особенно резко возражал против побоев. Но и тот не привстал.
Неужели остальным все равно? Неужели ему больше всех надо?
Сколько раз с тех пор он слышал: «Больше всех надо…»
Не для себя же… Да и сам Питер почему только глаза прикрывал и плакал? Ведь он был сильный мальчик, сильнее Джона. И никто из негров не помог. К нему в комнату одна только старая мэмми осмелилась прийти, принесла кусок пирога и стакан патоки.
Он вышел из дому мальчиком, мечтавшим стать взрослым, а вернулся юношей, убежденным, что главное в жизни — свобода.
Понял это позднее. Но именно тогда ощутил гордую уверенность в себе и стремление к свободе. Это чувство было непохоже ни на голод, ни на жажду, но не менее властное. Он ощутил его тогда в горах впервые. Оно было в груди, когда вдохнул прохладный ветер горного перевала, оно было в глазах, когда смотрел сверху на петлявшую дорогу, оно было в ногах, смело бравших крутой подъем. Но это же особенное чувство родило острую боль, когда били негритенка, боль и яростный гнев. Прекрасно быть свободным, но разве свободен тот, кто владеет рабами? Разве свободен тот, кто может равнодушно видеть страдающих рабов, униженных, беззащитных, как те овцы, которых он гнал через горы?
Позднее он читал в книгах, как швейцарские пастухи восстали против австрийского императора, разбили его закованных в железо рыцарей; читал об испанских и черногорских крестьянах, которые сражались против непобедимых армий Наполеона, дедовскими ружьями отбиваясь от пушек; еще позднее, в газетах — о кавказских племенах, упрямо сопротивлявшихся войскам русского царя. И прославленные русские генералы, разгромившие французов, десятилетиями не могли ни картечью, ни подкупом сломить свободолюбивых горцев…
Должно быть, еще когда создавалась земля, горы воздвигались, чтобы стать прибежищем свободы.
Республика вольных людей в его родных Аллеганских горах — это план Джона Брауна взрослого, по истоки — в детстве, подобно горным источникам, ручьям, которые потом, в долинах, превращаются в широкие, многоводные реки.
Острое ощущение несправедливости, жажда свободы — это запало с детства, но какой долгий, какой извилистый путь до Харперс-Ферри, сюда, в тюрьму, туда, к виселице. Ведь и он, как другие, как миллионы, невольно привыкал, невольно и в его глазах рабство становилось чем-то вроде первородного греха. Дурно, конечно, но что же поделаешь — так было и так будет.
Тогда, мальчишкой, взбунтовался, а потом гневное бунтарство надолго погрузилось в глубь души.
Но, раз возникнув, ощущение воли и гнева но умерло.
2
Джон Браун — первый почтмейстер городка Рэндольф. Это он придумал название — Рэндольф. Здесь прожито девять лет — с 1826-го по 1835-й. Едва ли не самые благополучные годы его жизни. Построен дом, большой сарай.
Преуспевающий торговец шерстью. Его красильня, его дубильня славится в округе. Он любит приводить слова Франклина о прилежании, о трудолюбии, о долге. Если в лавку Брауна в те годы заходил человек с ружьем, он отказывался продавать ему шерсть.
Катилась обычная жизнь.
Он редко вспоминал о том, как бросился защищать негритенка. Детский, нелепый поступок, маленького раба не вызволил, хозяина осилить не мог. И все же гордился этим воспоминанием: порыв безрассудный, но благородный. Теперь, взрослым, он все яснее понимает, что безрассудная сердечность бессильна противостоять злу. Однако человеку даны силы, которые сочетают сердце и разум, — знание истины и чувство справедливости.
Однажды он помог своему дяде, шерифу, поймать конокрада, молодого оборванца. Они его скрутили, притащили на суд, а потом Джон стал уговаривать судью и присяжных помиловать вора: милосердие еще может исправить его, тюрьма же, общество преступников окончательно погубит его душу. Шестнадцатилетний Джон говорил так убежденно, так страстно, что суд согласился с юным адвокатом и отпустил парня, тот стал честным фермером, а впоследствии его самого избрали судьей.
Двадцати лет Джон женился на тихой, работящей девушке Диане, через год родился первенец, по старому протестантскому обычаю его назвали Джон, потом прибавляли «младший», чтобы не путать с отцом.
Первая жена Диана родила ему семерых детей.
Самые почтенные горожане называли Джона Брауна образцом законопослушного гражданина, богопослушного прихожанина.
Часто повторялся рассказ о том, как он скакал верхом в город, чтобы привезти врача заболевшей жене, но, увидев, что двое бродяг обокрали чей-то сад, остановился, заставил их вернуть ворованные яблоки, сам привел их к шерифу и лишь после этого продолжил свой путь к врачу.
Требует неукоснительных наказаний нарушителям закона и порядка, но если их сажают в тюрьмы, то кормит их семьи.
Осенний вечер. За окнами хлещет дождь. В большой нижней комнате дома Браунов тепло и тихо. Детей уложили наверху. Двое работников у догорающего камина стругают колышки для растяжки кож. Диана шьет, примостившись у лестницы, чтобы сразу услышать, если заплачет ребенок. Молодой хозяин заправил в подсвечник новую сальную свечу, кончил подсчеты — в прошлый месяц был все же доход, сотню долларов можно отделить на выплату долгов.
Стук в дверь. На пороге стоял рослый парень, почтительно поклонился, не решаясь входить: сапоги в липучей грязи, с кожаного плаща — густая капель. Браун узнал молодого квакера из соседнего городка, служившего клерком у богатого скотовода.
— Входите, друг, входите к огню. Парни, подбросьте дров.
— Благодарю, сэр. Но, простите, прошу вас сюда на минуту. — Он говорил шепотом, оглядывался. Браун подошел к нему вплотную.
— Вы не один? Почему же вы смущаетесь, будто привели с собой толпу индейцев, вставшую на тропу войны?
— Сэр, я недостаточно знаю вас, хотя слышал только хорошее. И совсем не знаю людей, которые у вас. Со мной трое: две женщины и парень. Они с Юга, бежали из рабства. Одна женщина больна, лихорадка, идти нам еще далеко, а дождь холодный, промокли…
— Ясно. Ведите всех сюда. Диана, приготовь одежду — переодеть двух женщин — и согрей молоко. Парни, ставьте на очаг котел воды и в камин два вертела мяса.
Вошедшие сбросили у дверей мокрые мешки и платки, разули грязные ботинки.
Темнолицая, постарше, озиралась испуганно, тоскливо. Другая, юная, тоненькая, смуглая, похожая скорее на испанку, дрожала в ознобе.
Светлокожий парень в синем фраке и крахмальной сорочке. Промокшая, помятая его одежда все же выглядела нарядно. Диана увела женщин наверх.
— Сбрасывайте ваш парадный камзол, мистер, придвигайтесь к огню… Переодевайтесь. Моя куртки не так роскошна, зато сухая.
— Благодарю, сэр, благослови вас, бог, но я не «мистер», вы не замечаете при свече, я ведь цветной парень, зовут меня Гектор, ваш покорный слуга, сэр.
— Рад познакомиться, мой друг, но зрение у меня хорошее. Однако я христианин, свободный американец и различаю людей не по цвету кожи, а по тому, во что они веруют, что у них в сердце, на душе, как они ведут себя. Понятно, мистер Гектор?
— Да, сэр. Благодарю вас. Я тоже христианин. И мои спутницы добрые христианки, их зовут Кэт и Энни. Мы будем всю жизнь благодарить этого доброго человека за то, что он привел нас к вам, сэр, да будет ваш дом благословен…
К столу сели все. Гости ели мясо, зажаренное на открытом огне, пили горячее молоко.
Джон Браун, Диана и оба работника пили кипяток, заправленный имбирем, грызли поджаренный хлеб. Они ужинали раньше, но Браун хотел, чтобы все участвовали в трапезе.
Наверху заплакал мальчик. Диана встала сразу, и одновременно с ней поднялась старшая негритянка, Кэт, торопливо дожевывая.
— Мэм, можно мне с вами?
Браун заметил, что она беременна.
Обе ушли. Энни, закутанную в теплый платок, бережно уложили на широкую скамью, постелили попону, одеяло, накрыли потеплее. Она задремала.
Юноша стал рассказывать.
Они недавно поженились. Он был камердинером у молодого хозяина, а Энни — горничной у его сестры. Молодой хозяин учил его грамоте, дарил свою одежду, они вместе охотились, путешествовали, на Севере бывали. Потом молодой хозяин уехал в Европу, там женился на иностранке. Старый хозяин очень богатый джентльмен, у него большие плантации и фабрики по очистке хлопка, пароходы, рабов не меньше трех тысяч. Дочь он выдал замуж в Кентукки, в приданое отдал всех ее служанок и еще полевых рабочих. Моя Энни выплакала, чтобы и меня с ней отдали. А новые хозяева нас сразу разлучили — меня к лошадям приставили за пять миль от дома, где она жила. Я ходил к ней тайком, ночью. Поймали. Били. Подвешивали. Хозяин, свекор нашей мисс, старый, очень жестокий. Мулатов не терпит. Кричал, что не позволит плодить выродков, притворяющихся, будто они не черномазые. Приказал мне жениться на вдове другого конюха, у нее уже трое детей, пусть еще рожает крепких парней. А моей Энни велел выходить замуж за своего старшего егеря, здоровенного, черного как уголь… Он был главный палач у хозяина, как зверь. Избивал негров по его приказам, а то и сам, если ему не угодят. Наша молодая хозяйка просила, убеждала: грех — их с Энни венчали в церкви. А свекор только говорил: «Какая же у черномазых церковь? Балаган, цирк. Их нельзя считать за христиан, вообще нельзя считать за людей. Может, еще придумают моих лошадей венчать в своих молельнях, жеребцов с кобылами. Как я буду в табуне христианское единобрачие соблюдать?!»
Молодая хозяйка любила Энни, у нее есть друзья на Севере, которые жалеют негров, нам помогли бежать. А мы уж взяли с собой бедную Кэт, мальчик у нее двухлетний умер. Ей не позволяли брать с собой сынка в поле, чтобы работать не мешал. За всеми маленькими — там их десятка три — смотрела одна полуслепая старуха.
Да и ее в тот день надсмотрщик послал в поле позвать кого-то — твои, мол, щенки далеко не уползут…
А на очаге большой котелок с водой кипел, старуха маис варить собиралась.
Детишки всегда голодные. Кто побольше, полезли к огню. Опрокинули котелок, обожглись многие, а двое самых маленьких умерли. Отец ребенка, муж Кэт, чуть не задушил надсмотрщика. Его избили, заковали, рогатку на шею и продали на Юг. А она ведь опять беременна. Хотела утопиться, повеситься. Наши старики удержали. Мы ее взяли с собой… Мы не хотим больше жить рабами. Лучше умереть.
Юноша говорил тихо, чтобы не разбудить подругу. И замолчал, услышав шаги на лестнице. Диана, глухо всхлипывая, обнимала негритянку, Кэт к ней прижималась, шепча: «Такой хороший бэби был… такой маленький, такой хороший…»
Все мрачно молчали.
Брауну стало жарко от охватившей ярости, он оглядывался, словно в поисках: где этот старый негодяй?
— Будь прокляты нечестивцы, мужавшие вас, мучающие ваших братьев и сестер! Будь они прокляты многожды самыми гневными проклятьями самых гневных пророков! И пусть все больше негров идет по вашим следам к нам, на Север. А ваши страдания теперь позади. Благословенны будут те, кто помогли вам, пусть крепнут их души и мышцы и борении против гнусного рабовладельчества.
Молодой квакер, на которого глядел Браун, приподнялся.
— Я очень рад, что пришел сегодня в ваш дом. И очень рад, что могу теперь попросить: сложите у ваших ворот несколько белых кирпичей. Это будет значить, что ваши двери открыты для бегущих от рабства. Не надо оглашать этого широко, у дьявола везде есть пособники. Пусть знают лишь надежные друзья, лишь близкие люди. Гектор со своими спутницами первый, но далеко не последний, кто будет просить у вас убежища…
Где же Браун совсем недавно заметил кучу белых кирпичей? У дома своего отца. Спросил, для чего, а отец загадочно промолчал. Хотел, чтобы сын сам понял, сам дошел. Вот он и понял. Законопослушный гражданин стал хозяином станции тайной дороги.
«Underground Railroad» — буквально подпольная железная дорога. Никакой железной дороги, конечно, не было. Но для Америки тридцатых — сороковых годов «железная дорога» — это скорость и чудо. И эта — чудо. Прокладывалась она подобно тому, как прокладывались обычные. Сначала была целина; потом к реке или к соседнему поселку прошел один человек, примял траву. За ним — другой, третий, десятый. Индейская тропа, когда идут шаг в шаг. Тропа утрамбовывается, трава вытоптана, больше не растет. Тропу не перенесешь ни по приказу, ни по желанию, она непреложно возникает именно там, где нужно. Иногда по прихоти, по капризу люди пытаются изменить направление, но тропа возвращается на прежнее место… Прошли сотни людей, тропа становится дорогой. И по дороге уже стучат колеса — телег, повозок, карет.
Рабы бежали от рабовладельцев. Пути, по которым они бежали, места, где они останавливались, — тайные для погони, для собак, для плантаторов.
Тайные и для хозяина станции — проводников не полагалось расспрашивать о дальнейшем. Но тайные и для большинства рабов. Чернокожие люди трогались в опасный путь, не зная, куда придут завтра, не зная, что впереди. Кто впереди? Какая дверь откроется, когда голодный, усталый постучит ночью?
Из уст в уста сравнительно быстро передавалось: надо идти в такие-то дома. В эти дома шли вторые, десятые, сотые. Тропа становилась дорогой.
Тайна создавала немало затруднений. Как быть с детьми?
Своим детям Браун старался внушать ненависть к рабству с младенчества, внушать, что нет никаких различий между неграми и белыми.
Но не сразу получалось. Когда сына Джона впервые посадили к негру на колени — это было после Гектора, — мальчик испугался, заплакал и убежал. Ему показалось, что на руках и на лице этого незнакомого человека сажа, как на котелках у них на кухне, и он запачкается, если дотронется.
Разве можно что-либо удержать в тайне от собственных детей в собственном доме? И нужно ли, хорошо ли это — прятаться от своих детей, если творишь добро? Однако вдруг дети выдадут? Как объяснить ребенку, что не обо всем можно рассказывать: об этом молчи, если спросят, скажи неправду.
Кого воспитываешь — завтрашнего рабовладельца, завтрашнего надсмотрщика, завтрашнего борца?
Но трудно понять и объяснить не только детям как быть верующему человеку с заповедями «не укради», «не солги»? Квакеры успокаивали свою совесть и так: понятия «раб» не существует, люди рождаются людьми, а не рабами, будь то черные, будь то белые. А того, чего не существует, того нельзя украсть…
К Леви Коффину, квакеру и банкиру, стучали в любое время суток. Дверь открывалась, разводили огонь, грели ужин (или завтрак), успокаивали: все будет хорошо, вы не первый, много людей прошло, уж сколько миль осталось за плечами, доберетесь и до Канады.
Сначала хозяева сами не очень-то верили своим успокоительным словам — неужели эти загнанные, измученные, голодные, с израненными ногами, неужели они доберутся?
Каждый полученный пустой конверт — условный знак, как и белые кирпичи, — подтверждал: добрались. Не все, конечно, но многие добирались.
А в город Ньюпорт, в штат Индиана, стали приходить письма с причудливым адресом: «Леви Коффину, президенту тайной дороги».
Порою в доме Коффина дежурили его друзья с заряженными пистолетами — Кентукки рядом, оттуда не раз грозились явиться хозяева бежавших рабов. Именно в этом доме побывала молодая красавица, мулатка Элиза Гаррис, — та самая женщина, которая, прыгая со льдины на льдину, перебралась через реку Огайо с ребенком на руках.
Коффин, деловой янки, захотел спасение рабов соединить с бизнесом. Он попробовал противопоставить хлопку, добытому рабским трудом, хлопок, выращенный свободными людьми, установил связи с мелкими фермерами Юга, которые не держали рабов. Все делалось свободными людьми — сбор, обработка, перевозки. Этот хлопок доставлялся в северные штаты, а оттуда даже экспортировался в Англию. Некоторые английские фирмы — кто по убеждениям, а кто по соображениям выгоды — начали бойкотировать хлопок с рабовладельческих плантаций.
Коффин часто ездил на Юг но делам, в каждой поездке устанавливал связи с единомышленниками, создавал новые и новые станции. Был момент, когда спрос на «свободный» хлопок даже превысил предложение, но, чтобы продолжать, понадобились большие деньги, а их не оказалось. В этом бизнесе Коффин не преуспел.
После двадцати лет он устал. Решил: достаточно, он переедет в Цинциннати и положит конец опасной деятельности, но ничего не вышло. Станция — это ведь часть человека, часть дома да и часть укоренившейся легенды. Через несколько дней после переезда черные тени начали появляться в Цинциннати, как они появлялись в Ньюпорте. Закрыть дверь Коффин не смог.
Леви Коффин иногда сам сопровождал «поезд» — несколько крытых фургонов — до Канады. Встречался с теми, кого раньше видел изможденными, загнанными, эти самые люди в Канаде обретали уверенность, они работали, учились, строили дома. «Благослови вас бог, если бы не вы, я бы здесь не был!» Свободные люди на свободной земле. Когда же его Америка станет свободной?
…В ночь на первое января 1863 года Леви Коффин дежурил на берегу реки Огайо. Он ждал. Америка, большая, охваченная войной страна, ждала обещанную Линкольном Декларацию об освобождении рабов. В окнах негритянских домов не гасили свет. Новый год — всегда кажется, что начнется новая жизнь. Особенно молодым людям. В эту новогоднюю ночь так казалось многим и многим, независимо от возраста. Америка дождалась. Леви Коффину выпало на долю счастье: увидеть окончательные результаты дел своих.
А еще семь лет спустя в Цинциннати на торжественном собрании Тайная Дорога была объявлена закрытой за ненадобностью. Престарелый Леви Коффин слагал с себя обязанности Президента.
Но пока возникали лишь первые ручейки освобождения, действовала горсточка храбрых, благородных белых американцев.
Проводники дороги — разные люди: мужчины и женщины, белые и негры, ученые и коммерсанты, верующие и безбожники.
В отличие от благочестивого квакера Коффина, Джон Фэйрфилд был по натуре авантюрист. Он любил опасности, как иные любят виски. Его дважды предавали, сажали в тюрьмы, он оба раза бежал. Он ненавидел трусов, случалось, что грозил заряженным пистолетом и тем неграм, которых выводил из ада плантаций.
Впрочем, так поступал не он один.
Негритянку Гарриет Табмен называли «Моисеем»: как библейский Моисей, она вывела из рабства сотни соплеменников. И требовала от них такого же мужества, каким природа наделила ее. Тоже порою угрожала пистолетом колеблющимся — лучше смерть, чем неволя.
Первая аболиционистская газета «Дух эмансипации» возникла в 1818 году и начиналась с шести подписчиков. Шесть. Но и величественная Миссисипи начиналась с крохотного родника.
Свободное слово предшествовало, способствовало освобождению людей. Аболиционистская газета «Либерейтор» появилась в том самом восемьсот тридцать первом году, когда произошло негритянской восстание в Виргинии — восстание Ната Тернера.
Печать — дорога. Строка — шаг. Еще десять негров вышли на волю. Еще десять статей Уильям Ллойд Гаррисон напечатал в «Либерейторе». Его статьи, листовки, памфлеты — призывы покончить с рабством. Покончить сразу, рывком.
Эти статьи все без черновиков. Со стола — в печать. А порою он их и вовсе не писал, сразу типографский набор. Время не терпит. Угроза как беглым рабам, так и их проводникам — гибель. Фэйрфилда убили. Проводник — священник Чарльз Торей — умер в тюрьме.
Враги понимали связь освобождения людей со свободой мыслить и писать. Южная газета призывала: «Мы должны воспитывать ненависть ко всем понятиям, начинающимся на «free», — от свободных негров и свободной воли до свободомыслия, свободных детей и свободных школ, — все это ведет к тем же проклятым измам».
Томас Гаррет, квакер из Пенсильвании, за двадцать лет вывел из рабства две тысячи семьсот человек. Юношей он отбил у садиста-рабовладельца молодую негритянку — так началось. Он возненавидел этого одного негодяя, он спас эту одну хорошо знакомую женщину. Но потом втянулся, стал спасать и других. Ему грозили расправой, его, шестидесятилетнего, отдали под суд, описали все имущество.
Один из судей подошел к нему:
— Разрешите мне быть вашим другом.
— С удовольствием, если вы перестанете защищать рабство.
После того, как все вещи из дома Гаррета продали на аукционе, здравомыслящий приятель сказал:
— Теперь-то ты, надеюсь, прекратишь свои безумства.
— У меня нет и доллара, но, если ты знаешь беглеца, которому негде позавтракать, посылай его ко мне.
Александр Росс жил в Канаде. Известный врач, ученый-естествоиспытатель, занимался энтомологией, орнитологией, ихтиологией. Его знали и в Европе.
Науке революции он учился в маленьких кофей-лях Нью-Йорка у итальянцев, друзей и сподвижников Гарибальди, у немецких иммигрантов, которые рассказывали о баррикадных боях в Берлине, в Париже, о «Коммунистическом Манифесте».
Росс, решив действовать, отправился на Юг.
У него было с собой «хозяйство» ученого — рампетки для ловли бабочек, силки для птиц, спирт, пробирки. У него было и «хозяйство» революционера — пистолеты, ножи, явки.
Он знал о предстоящих опасностях, но пренебрегал ими. С рассеянным видом — таким народная молва повсюду наделяет ученых — он ходил по городкам, фермам, плантациям Юга. Днем он действительно занимался наукой. Научная экспедиция.
А по ночам собирал рабов, раздавал кинжалы, еду, адреса станций, явки к проводникам.
В южных газетах написали о «шайке аболиционистов», орудующей на Юге. Росс вернулся в Пенсильванию, переждал. Потом снова появился на Юге.
Наука для Росса была призванием, смыслом, страстью его жизни. Но он не мог оставаться только ученым, как не мог довольствоваться собственным благополучием. Он не чувствовал себя свободным, пока вокруг были рабы.
За научные заслуги он был награжден правительствами Италии, Португалии, России, Саксонии, Греции, Франции. Король Баварии предложил ему титул барона.
А у него на родине, в южных штатах, то, что он делал, считалось государственным преступлением. И грозило суровыми наказаниями. На руке одного капитана — он вывел на волю рабов — выжгли: «SS» — «Slave stealer» — рабокрад. Капитан простоял час у позорного столба, в него кидали тухлые яйца.
Белые, которые упрямо пробирались по глухим лесам, по болотам, по дорогам и селениям, шли и вели за собой черных, были убеждены, что законы государств несовершенны, изменчивы, а нравственный закон незыблем: люди рождаются равными.
Работал «подпольный» телеграф — молва. Из хижины в хижину, на хлопковом поле, у ручья, в церкви за молитвой передавалось:
— Собирайтесь ночью. Вещей берите столько, сколько можете унести на спине. Пришел проводник тайной дороги. Он выведет на свободу.
— Не пойду. Сорок уже, не хочу быть вам в тягость. Благословляю вас, дети, идите. Внуки пусть родятся на свободе.
— Всем можно? Я сам пойду и ребят приведу.
— А вдруг ловушка? Просто соседский хозяин с нашим поссорился, я на кухне слышал. Нас утащит, потом возвратит. Мистеру Паркинсону — выкуп, а нам — плети.
— Нет, не похоже на ловушку. Этот Росс, говорят, уже многих вывел.
Дик побежал к своей подружке. Нэнси уперлась:
— Никуда я не пойду. Я ночью из хижины боюсь высунуться, терплю до рассвета, а ты — подполье какое-то. Нас всегда пугают: «Дьяволы в ад утащат», а тут самой спускаться. Ни за что, не уговаривай. Если правда любишь меня, и ты останешься. Что ж из того, что другие идут? Ты за компанию и утопишься?
Коринна собрала большую семью:
— Мне сегодня было видение. Явился ангел и произнес: «Идите на Полярную звезду». Проводник — это и есть тот ангел. Я сама пойду и старика поведу. Умрем на свободе. А вы решайте, у каждого своя голова на плечах, неволить никого не буду. Это ведь мой ангел-хранитель приходил, а у вас у каждого свой. Что тут — нам известно. Так прадеды жили и деды, и отцы. А прыгаем неведомо куда. Может, схватят сразу. Может, убьют по дороге. Может, вернут с позором и в железах. И сейчас-то живется не сладко, а тогда еще хуже будет. Даже если доберемся, не ждите, что в Канаде все само в рот посыплется, нет. Но там мы перестанем быть рабами. Я сказала.
Слово Коринны — закон. Однако она никому не приказывает. Надо самим решать. Здесь есть крыша над головой. Три раза в день кормят. Плохо кормят, но заботиться не надо. И пока вместе. Выйдешь ночью из освещенной хижины, а там что?
— Если бы бог хотел, он сделал бы негров свободными людьми. На все его воля. Значит, бежать — грех.
Альфред без конца дурачился, всех смешил, всех передразнивал. Изображал рабов и рабынь в Канаде, даже Коринну осмелился изобразить — в накрахмаленном чепце восседает в кресле. А он, слуга, подает ей еду, вроде она хозяйка плантации.
Дженни влекло само слово «подполье». Тайна.
— Куда же спускаться?
Она была очень разочарована, когда ей сказали, что идти надо просто поверху, по земле.
Негритянские хижины гудели. Не спали все. Уйти хотели многие. Ушли десять человек. Много месяцев спустя получили пустой конверт, то есть узнали: все бежавшие добрались до Канады. Теперь к следующему приходу Росса решать будет легче. Есть время подумать. Малый, но все же опыт.
В негритянских хижинах южных плантаций зубрили, как молитвы, кодовые названия городов, где были станции: Кливленд — «Надежда», Сэндуски — «Восход солнца», Детройт — «Полночь», Виндзор — «Слава всевышнему», Порт Стенли — «Благодарение богу». Для одних они так и остались словами. По тысячи других облегченно вздыхали в Порт Стенли — благодарение богу!
Многие проводники — Леви Коффин, Александр Росс — стали известны. В те годы такая известность грозила тюрьмой, а то и смертью.
Это уже потом, во время и после Гражданской войны, после победы Севера, стали вспоминать, разыскивать тех, кто выводил из рабства, узнавать, где останавливались беглецы, начали составлять карты, описывать тайную дорогу. Но многие станции, многие проводники так и остались неизвестными.
Джон Браун, хозяин станции в Рэндольфе, открывал дверь в любое время суток, беглецов кормили, укладывали спать, переодевали, отправляли дальше. Когда ему говорили о трусости негров, он возражал: а те сотни храбрецов, что прошли по тайной дороге?
Браун обучает работника, самого молодого: их теперь уже пятнадцать. Боб ест, спит, живет вместе с семьей Брауна. Ему четырнадцать лет, он на четыре года старше сына Джона. Мальчики вместе играют, их вместе наказывают: однажды выпороли не за то, что выбили окно мячом, хотя стекло дорого, недавно появилось, а за то, что наврали, свалили на маленьких.
Браун посылает Боба к соседу отнести шерсть. Мальчик возвращается запыхавшись, еще с порога что-то возбужденно говорит, хозяин не сразу понимает, в чем дело.
— Восстание рабов!
— Где? Откуда ты знаешь?
— В Виргинии. Все говорят. Вожак — священник какой-то, негр.
— Как зовут?
— Не знаю. Не расслышал.
Руки продолжали привычное дело уже автоматически. Восстание рабов! Может, выдумки? Хотя в 1800 году, в год его рождения, было же восстание Габриеля, а бунт Денмарка Веси в год его свадьбы, в двадцать первом!
Восстание. Они не умеют воевать. Всех, кто восстал, повесят. Раздавят и других, тех, кто и не думал о восстании. Рабам будет только хуже. Как дети — не знают, что с огнем нельзя играть.
Вожака звали Нат Тернер. Ровесник, тоже родился в 1800 году. И теперь, чем бы Браун ни занимался, неотвязно сверлило — восстание рабов. Нат Тернер. Спартак. Совсем недавно перечитывал любимейшего своего Плутарха, в жизнеописании Красса есть и о Спартаке, о восстании гладиаторов.
— Отец, а что значит «повесили»?
Джон-младший редко вмешивается в разговоры взрослых. Но в тот день 1831 года в доме несколько раз повторяли: «Повесили. Ната Тернера повесили».
— Ставят такой большой столб, к нему прибивают перекладину, человека ведут на помост, накидывают ему на голову мешок, а на шею — веревку. Эта веревка перекинута через перекладину, палач тянет за один конец веревки, а другой сдавливает горло, человек задыхается и умирает в мучениях.
— Страшно…
— Да, мальчик, страшно.
Диана тихо спросила:
— Разве этот Нат Тернер не знал, на что шел, чем кончится? Подумать только — захватили плантацию. И убивали, и насиловали белых.
— Мы там не были, Диана. Мало ли что болтают люди. Теперь о них только плохое будут говорить. Храбрый человек Нат Тернер. Таких мало, очень мало, особенно среди негров. Их ведь с детства заставляют быть покорными.
А сам напряженно думал: как Нат Тернер мог на такое решиться? Или не решался вовсе — бросился против хозяев, как он сам мальчишкой бросился на плантатора, как муж Кат едва не убил надсмотрщика. Яростный, слепящий гнев, когда нельзя, не смеешь мириться со злом, тут но до разума, не до расчета… Он боялся себя в такие минуты, но выход какой? Что делать?
Потери рабовладельцев от побегов оценивались в пятнадцать миллионов долларов. Однако спасаем-то лишь малую часть негров, а остальные?
И дело не только в неграх. Спасать надо и белых. Америку надо спасать от чумы рабства.
Но не восстанием же! После восстания — виселицы и новые драконовские законы против негров, против аболиционистов.
3
Он возвращался в Рэндольф. Спешил. Сосед, фермер Уинклиф, просил его привезти бочонок виски; горьковатый, хмельной запах, еле слышное похлюпывание.
Лошадь тоже спешила — домой, в стойло.
Съездил он удачно, хорошо продал шерсть. Зашли в салун вместе с покупателем и его друзьями, пили джин. Как положено.
Но Брауну было не по себе. Его поддел сын Паттерсона, покупателя шерсти. Мальчишка, молокосос. Громко и насмешливо сказал: «А вы, мистер Браун, всех поучаете, чтобы помнили о священном писании, а сами пьете джин. Наш священник в воскресной школе каждый раз говорит, что истинные христиане должны воздерживаться от пьянства и ближних отговаривать». Паттерсон прикрикнул на сына: «Убирайся, не лезь в дела взрослых…» Парень ушел, огрызнувшись. А Брауну следующая стопка не пошла. Поперхнулся, побагровел, едва откашлялся. И больше пить не стал, как ни уговаривали. И смеялись, и подшучивали — не стал.
Упрек мальчишки саднил злее, чем спирт, попавший не в то горло.
Возвращался с успехом, с деньгами, а на душе тяжело. В самом деле, почему он пьет? За столом кричали: «Чего там, все мужчины пьют и сами священники пьют». Это правда, но разве это хорошо? Мало ли что делают все. В карты многие играют, а он и не пробовал ни разу.
Не случайно он поперхнулся. Это знак свыше.
Парень-то нестоящий, развязный. Но, может быть, его господь выбрал, чтобы высказать истину.
А может быть, он и вовсе несправедлив к мальчишке, ведь тот выставил его на посмешище перед всеми, вот теперь он и ищет, к чему бы придраться. С ним чаще всего так и бывает. Если его несправедливо обидят, это не больно, можно вытерпеть, а можно и осадить обидчика. А вот если справедливо…
Джон Браун не мог вынести справедливого укора. Он должен быть прав. Всегда и во всем.
А как же праздники без выпивки? А так. Иди в церковь, надевай воскресный сюртук. Жена пироги испечет… А торговые сделки как же без выпивки?.. Очень просто. Кто хочет пить, пусть пьет. Джон Браун не будет. Не перестанут же у него из-за этого покупать шерсть? Правда, джип помогает при простуде. Что сейчас загадывать про болезни? Слава богу, здоров как бык. Заболеет — липовый отвар жена сделает.
Не буду больше пить. Ни глотка.
Принимаю такое решение, а сам везу виски?
Браун резко останавливает лошадь, спрыгивает с телеги, стаскивает бочонок, рубит топором. Виски льется на землю. Лошадь лизнула языком, отпрянула… Правильно, Серый, гадость это. Мы с тобой больше не будем пить. И другим не посоветуем. А то и не дадим. За бочонок Уинклифу заплачу. Зато на душе спокойно. Джон Браун как думает, так и говорит, как говорит, так и поступает. Не придется ему больше краснеть перед мальчишкой.
Дома он вытащил из кладовки свой собственный бочонок и разбил.
Сыновья решили, что отец чудит, что это пройдет. Но с того ноябрьского дня прошло уже больше четверти века, а он не выпил ни глотка спиртного.
В 1834 году Джон Браун писал из Рэндольфа брату Фредерику: «В течение многих лет я пытался организовать здесь школу для негров. Напиши, не хочешь ли ты помочь мне в этом деле, не перетащишь ли сюда из Гудзона несколько семей настоящих аболиционистов… Я считаю, что неграм необходимо предоставить возможность учиться вне зависимости от того, освободят ли их сразу или нет. Быть может, именно просвещением мы больше сделаем для свержения ига рабства, чем любыми иными путями. Если негры в нашей стране получат образование, то для рабства это будет как динамит, заложенный в скалу. И все рабовладельцы прекрасно это знают. Ты посмотри только на их законы, запрещающие обучать рабов».
Страшные законы. Практика еще страшнее.
Учительница Прюденс Крендол приняла в свою частную школу девочку-негритянку. Колодец Крендол отравили. Здание школы сожгли, а учительницу посадили в тюрьму. И произошло это не на Юге, а в Кентербери, в штате Коннектикут. Вскоре законодательное собрание штата приняло закон, запрещающий обучение негров без письменного разрешения, которое должно быть получено, во-первых, от городских властей, а во-вторых, от именитых людей, от столпов общества.
В другой школе учительница прочитала на уроке из учебника библейское сказание о том, как братья Иосифа Прекрасного продали его в рабство. Девятилетняя белая девочка заплакала:
— Как жалко Иосифа, какие злые братья продали его в рабство. А весной мою мэмми и ее дочку папа продал вниз по реке, и я тогда тоже плакала. Значит, мой папа злой, да?
Об этом разговоре стало известно, учебник запретили во всех школах Юга.
В другом городке, в штате Мейн, где филантропы открыли негритянскую школу, здание опутали канатами, запрягли быков и стащили дом в болото.
Джон Браун ясно представил себе: дом ставили надолго, поколения на три. Но рванули быки, напряглись мышцы, натянулся канат, и до болота дотащили уже не дом, а груду бревен и досок. Неразумные негодяи! И молнией мелькнула мысль: а что, если и рабство так рвануть?
Они попытались рвануть в Харперс-Ферри.
Четверть века тому назад он думал и поступал по-иному. Какой там арсенал? Он лишь хотел взять в дом черного мальчика, воспитать его вместе со своими детьми. Хотел организовать школу… Написать брату было не трудно: Фредерик, когда гостил у Джона, раззадорил его своими рассказами про Оберлинский колледж — один из первых центров борьбы против рабства. Там учились, там спорили люди, которые потом прославились в борьбе против рабовладения. Там учились Джон Копленд и Льюис Лири — участники нападения на арсенал в Харперс-Ферри.
А пока только начинались сороковые. И здесь не Огайо, Рэндольф — городок маленький, тихий. Обычный. Никаких знаменитостей, никаких чрезвычайных происшествий. По главной улице цокают копыта лошадей. В семь утра в большинстве домов садятся завтракать. Дети бегут в школу — белые дети. Чтобы и черные дети могли учиться — о таком здесь и не слыхивал никто. Да и как это сделать без помощи?
Джон Браун обратился к брату и пробует найти помощь в самом Рэндольфе. У него уже большие долги, еще не катастрофа, она наступит позже, пока те долги, которые среди деловых людей считались вроде визитной карточки, — признак и залог богатства.
Идет к другим уважаемым гражданам Рэндольфа. Сначала — к соседям.
— Зачем это, Джон? Зачем их учить? Только лишить их покоя…
— Но почему же белые дети — мои, ваши, — почему они могут, даже должны учиться? И это не вредит их покою.
— Нет, вредит: неграмотные старики живут дольше, и они гораздо здоровее грамотных. Да и разве можно сравнивать белых с неграми?
— Джон, не торопи событий. Может, когда-нибудь и возникнет негритянская школа. Но пока — рано. Все движется вперед, ты посмотри, как растет наш Рэндольф, давно ли тут пустое место было.
(Как часто потом ему приходилось слышать то же самое от разных людей, разными словами. Одно и то же: не торопись, будь терпелив. А он твердил, что не может не торопиться, когда люди страдают…)
— Нет, нет, Джон, сам знаешь, я никогда не отказывал тебе в помощи, но в этом деле я не участник.
Идет к священнику:
— Преподобный отец, давайте вместе устроим школу для негритянских ребятишек.
— Что вы, мистер Браун, какие странные мысли приходят вам в голову. Всевышний распорядился делами земными, раз он установил, что неграм незачем учиться, не нам нарушать его законы.
— Где же это в Библии сказано, что господь против негритянских школ?
Священные книги писались на протяжении многих лет, разными людьми, там все можно найти, можно подтвердить любые взгляды, все зависит от того, кто и как толкует…
Две жительницы городка, бездетные сестры, занимаются благотворительностью.
— Нет, мистер Браун, нет. У нас обычные осенние заботы — вяжем, шьем, все отдадим беднякам-неграм. Видите, негритянка Эдвардс уже ждет, стоит у кухонного порога. Ее детям нужна одежда, а вовсе не учебники.
Наткнулся на каменную стену. Пожалуй, еще покрепче камня.
И все-таки он попытался собрать ребятишек у себя дома. Пришли шестеро.
Рассказывал малышам, зачем нужно учиться. Негритята слушали почтительно, но и безучастно. Один юркий мальчуган все вертелся: вот-вот голову отвертит… Ох, как хотелось дать ему хороший подзатыльник, но нельзя так начинать. За один этот час устал больше, чем за целый рабочий день в красильне. Он не знал, что учить маленьких детей надо уметь, что этому учат так же, как его в свое время учили красить шерсть. И это потруднее, чем красить шерсть.
На следующий день пришло только двое. Может, кому-то из родителей пригрозили, может, кто и сам испугался, а может, детям просто не понравилось сидеть навытяжку целый час, когда веселее болтаться на улице.
Надо бы, конечно, продолжать попытки. Однако дела, семья, растущие долги — обычная жизнь засасывала, как засосала многих и многих.
Он упрям. Но идти одному против враждебных обстоятельств, против большинства — этому высокому искусству он научился позже, гораздо позже.
Мечта о школе была у него еще и детской раной. Восемнадцатилетним готовился поступить в духовное училище, по во время экзаменов началось острое воспаление глаз. Грозила слепота. Первое поражение — пришлось возвращаться в отцовскую дубильню. А вскоре женился, отделился, началась жизнь торговца. Переезды, большая семья.
Так и не смог получить образования. Пусть же другим детям достанется то, чего он лишился. Пусть они сидят за партами, пусть их учат.
Он же поневоле стал самоучкой. Читал. Книг за длинную жизнь прочитал немного, но часто перечитывал, глубоко вникал в каждое слово, Библию знал едва ли не наизусть. Читал не только Библию, но и «Путь Паломника» Бениана, сочинения Франклина, любил басни Эзопа, изучал работы по древней истории, особенно Плутарха, историю Америки, Наполеона, Кромвеля. Именно эти книги поминал и в тюремных письмах, советовал читать «Путь Паломника», просил, чтобы дочери изучали франклиновского «Бедняка Ричарда». Чтение всегда неразрывно связывалось с поведением.
Лет с двадцати он, несостоявшийся ученик, несостоявшийся учитель, тем не менее учил уже до конца.
Не получилось с негритянской школой — учил своих детей. Их было двадцать — семеро от первой жены, тринадцать от второй.
Он верил, что отвечает за своих детей, особенно за сыновей. Человек не должен грешить, а согрешил — неси наказание. Каждый может и, значит, должен быть совершенным.
— Ты только и знаешь, что портить их своими нежностями, — сердито говорил он жене.
Диана неподвижно смотрела в одну точку. Смотрела мимо него, как бы его и в доме нет. От каменного ее несогласия он еще больше распалялся.
Он вел строгий бухгалтерский учет поступкам детей, записывал в большую амбарную книгу «хорошие» и «дурные» поступки. Сын соврал матери — восемь розог; не послушался — три; сам вызвался нарубить дров — четыре розги долой. Раз в неделю отец подводил итоги. Дебет, как и в его деловых операциях, почему-то всегда превышал кредит. Дурных поступков — особенно у старших сыновей — набиралось больше, чем хороших. По пятницам он порол всех, кого полагалось. Так поступали тогда повсеместно.
Брауна самого выпороли впервые, когда ему было четыре года, за то, что он утащил у соседской девочки булавки.
Пятилетний Джейсон рассказывает отцу, как он катался ночью на звезде.
— Это тебе приснилось, мальчик.
— Нет, на самом деле было, папа.
— Тебе это приснилось.
— Нет, папа, это правда было.
Отец снимает ремень.
— Если я говорю «приснилось», значит, приснилось.
Ударил маленького, а сам заплакал вместе с ним. Он всегда плакал, когда бил детей.
Он считал, что учит поркой. Но сыновья и дочери запомнили, как нежен, как почтителен был их отец с дедом, особенно когда Оуэн стал глубоким стариком. Никогда не позволял себе даже раздражения. Тщательно хранил все отцовские письма.
Когда дети болели, Джон целыми ночами не спал, носил их на руках, читал басни Эзопа, укачивал, пел им песни.
«Трубите, трубы» — старый гимн — любимая его песня. Все дети помнят, как отец пел, расхаживая по комнате. Вовсе и не колыбельная, слова не детские и не успокаивающие. «Трубите, трубы». «Зачем мы начинаем? Почему не боимся смерти?» В самом деле — почему? Это он себя спрашивал.
Глуховатый голос, размеренный ритм, ребенок, даже и больной, понемногу засыпал…
Учил старших сыновей выпиливать.
— Плохо. Никуда не годится. Снова.
Переделывают в третий раз. В этом улье нет трутней. Значит, если не вышло, придется и в четвертый, и в пятый. Жена уже давно, так ей кажется, пилит проклятым этим лобзиком, она бы сделала за детей, но в доме есть хозяин. Она не смеет перечить ему, только приласкает наказанного потом, попозже, тайком.
— Фред, ты опять не убрал куртку.
— Извините, отец, сейчас.
— Кому нужны твои извинения? Разве в этом дело? Ты сам обязан убирать, без напоминаний. Не видишь разве, сколько дел у матери.
— Да, сэр.
— Что «да»? Вот ты сейчас соглашаешься, а завтра опять забудешь и все раскидаешь.
— Нет.
Фредерик с трудом скрывает раздражение. Отец продолжает негромко, на одной ноте. Домашние спешат незаметно скрыться.
Наступает пятница, он уводит Джона-младшего в сарай. Читает по бухгалтерской книге, словно судебный приговор. А у мальчика одно: «Скорее бы. Скорее бы. Пусть больно, но хоть без длинных этих слов, от которых мутит».
Мальчик кричит. Десять розог. Отец бьет не торопясь. Десятая. Наконец-то! Мальчик спускает рубашку, хочет бежать подальше, как он ненавидит отца!
— Подожди.
(«Господи, что еще?»)
Джон Браун поднимает свою рубашку.
— А теперь ты бей меня. Нет, не так. Сильнее! Еще сильней. Я тебя выпорол потому, что ты заслужил. Грех требует наказания. Но моя душа болит за тебя, я хочу разделить твою боль.
Свистит розга, мальчик видит кровавые полосы на костлявой спине, не хочет, не может смотреть на них, но и ослушаться еще нет ни сил, ни смелости. А гнев постепенно почему-то утихает…
Браун воспитывал и жену. Диана боялась лошадей. Он подводил необъезженную лошадь и приказывал: «Садись!» Она бледнела, медлила, надеялась: вдруг его отвлекут и он забудет про нее.
Но он повторял неумолимо: «Садись!»
Она взбиралась на седло, лошадь рвалась. Диана падала, несколько раз сильно расшибалась. Она так и. не научилась ездить верхом.
Как это можно — бояться лошади? Самое благородное животное на свете. Мальчиком он едва дождался того дня, когда отец разрешил ему сесть в седло. Он и не помнит, чтобы его кто-то учил, вроде родился в седле. Сливался с седлом, с крупом лошадиным — шаг, рысь, галоп, препятствия, прыжок. Если на свете есть счастье, то вот оно — мчаться верхом, ветер в лицо, ты свободен…
Значит, все должны это испытать, прежде всего самые близкие. Ничего, не надо поддаваться умоляющему взгляду жены, еще одна попытка, пусть пока неудачная, в конце концов она научится.
Все должны быть счастливы, как он. Все должны быть свободны, как он. А если люди не понимают, как для них лучше, надо их твердой рукой вести к лучшему. Потом поймут.
В 1832 году Диана умерла при родах. Джон страшно горевал. Закаменел, сидел часами неподвижно, уставившись в одну точку. Из дому не выходил. Но детям нужна мать, в доме нужна хозяйка, и через год он женился вторично. Мэри-Энн было семнадцать лет. Она лошадей не боялась. Но когда детей пороли, и ей было больно. Не зажмуривалась от свиста розог. Тихо, но упрямо говорила мужу: «Не надо». Кроткая, безропотно послушная, тут она оказалась твердой: «Не надо бить детей». Он скорее удивился, чем рассердился. Понял — мачеха, ей сложнее со старшими. «Я хочу, чтобы твое лицо постоянно излучало свет, даже когда мое — темно, облачно», — писал он ей.
По большим религиозным праздникам детям запрещалось не только бегать по дому, но даже и разговаривать.
Джон Браун-младший сказал отцу, когда он жил уже отдельно:
— У нас в доме всегда так мрачно было, будто висело что-то.
— А кто тебе обещал, что будет по-иному? Кто сулил безоблачное счастье? Я, во всяком случае, никогда не обещал… Мир этот — юдоль скорби.
Но потом над словами сына с горечью задумался. И писал Мэри: «Я часто сожалею, что не умею вести себя более мягко, чаще проявлять мою любовь к близким…»
Когда его дочь Рут выросла, стала матерью, отец говорил ей, чтобы она была терпимее со своими детьми, не била бы их, лучше всего вообще не наказывала. «Если бы я мог снова прожить свою жизнь — это уже в одном из поздних писем, — я совсем по-другому обращался бы со своими детьми. Я и тогда хотел как лучше, теперь я понимаю, что все это было неправильно».
В те ранние годы весенними и зимними ночами волки выли почти у самых окон. Он с сыновьями зажигал факелы, заряжал ружья картечью — огнем и выстрелами отстаивали свой дом.
Летом дети подчас прибегали из лесу бледные от ужаса — медведь!
И в Северной Эльбе сразу за домом — дикая степь, дикие горы, дикие леса.
Все дети были еще крупнее отца и все были мягче. Он это понимал. В письме из тюрьмы, адресованном единомышленнице и другу, госпоже Спринг, он подробно рассказывал о сыне Джейсоне: «…он хороший садовник, винодел, умеет выращивать плодовые деревья, но никогда не хвастается делами рук своих, всегда недооценивает себя, очень застенчив и медлителен; отнюдь не склонен (подобно его отцу) командовать и диктовать. Он очень щепетилен в отношениях с людьми и бесконечно щадит чужие чувства, никогда поэтому не добивается того, чего он достоин…»
Вырастая, сыновья подчас бунтовали против «верховной» власти в семье.
А он — он воспитывал до последнего вздоха. В письме из тюрьмы — до казни оставалось шестнадцать дней — он писал жене: «Теперь несколько слов о воспитании наших дочерей. Я больше не в состоянии в этом участвовать и, таким образом, не мне диктовать. Я с благодарностью передоверяю это дело тем, чья щедрость приведет к желанной цели, но мне лишь хотелось еще раз выразить свою волю в надежде, что к ней будет проявлено должное уважение. Ты, моя жена, прекрасно знаешь, что я всегда был сторонником очень простого и вместе с тем практичного образования и для сыновей, и для дочерей. Я имею в виду, конечно, не то мизерное образование, которое получили мы с тобой, и не то, которое пришлось на долю некоторым нашим детям. Когда я говорю простое, но практичное, я имею в виду школу, которая поможет им в дальнейшем вести жизнь в достатке и уважении; я хочу, чтобы они получили деловые навыки, готовящие мужчин и женщин к тому, чтобы они могли противостоять жестокой реальности, оставаясь при этом мягкими, чтобы они всегда могли приносить пользу, хоть и в бедности. Ты хорошо знаешь: я всегда считал, что надо при всех обстоятельствах научиться музыке метлы, тряпки, иглы, прялки, корыта и т. д. прежде, чем музыке фортепиано. Так лучше и для тела, и для ума… Многолетний опыт и размышления привели меня к выводу, что простое и практичное образование в детстве и создает настоящих людей…»
Гнев, который пробудился у двенадцатилетнего мальчика, он, уже взрослый, хотел передать детям. Передать так, как передают сыну отцовскую одежду. Долго не понимал, что сыновья в решительный момент встали рядом с ним не потому, что он их порол, не потому, что он читал им многословные нравоучения, а потому, как он жил. Она, жизнь, и воспитывала.
Гроздья гнева созревали у Джона Брауна медленно. Медленно, но неотвратимо.
Глава третья Торжественно присягаю
1
В очередном письме из тюрьмы жене и детям он писал: «Ежедневно я стараюсь выбрать из развалин все то немногое, что можно: я намерен писать тебе настолько часто, насколько у меня хватит сил (и насколько мне будет позволено). Будьте бодры; несчастья в этом мире — удел людской. Многие нити из тех, что связывают тебя и меня с землей, уже порваны. Примем же с искренней благодарностью все то, что отец наш небесный может послать нам, ибо все, что он творит, — благо… Я хотел бы, чтобы Рут или Энни переписывали все мои письма (если они могут) и пересылали их своим горюющим братьям… Я не могу писать ни им, ни друзьям, у меня нет сил…»
Странные посетители приходят в тюрьму. Сегодня был Хью Крайфилд. Много лет тому назад они встречались как торговцы шерстью. Крайфилд с тех пор стал богачом.
Гладок, доброжелателен и все спрашивал:
— Почему вы бросили заниматься бизнесом? Ведь ваше имя уже вошло в поговорку: «Предприимчив и честен, как Джон Браун». Стадо Брауна лет десять подряд считалось лучшим в округе. Я знаю, вам очень не везло, но еще немного терпения, и вы добились бы успеха.
— А что такое «успех»?
Крайфилд крякнул.
— Вот моя жизнь — пример успеха.
— Видите ли, мы по-разному понимаем, что такое успех. По просьбе одного хорошего мальчика, сына моего друга («имени Стирнса сейчас называть не надо…»), я два года тому назад написал ему о себе. Я старался передать ребенку, как важно избрать путь жизни. Это и для ребенка, и для взрослого важно — знать, что наши планы верпы сами по себе. И я утверждал, что обычно я достигал поставленной мною цели, в своих начинаниях преуспевал.
А уже здесь, в тюрьме, пришлось на эту же тему писать моему двоюродному брату, преподобному Лютеру Хэмфри. Он мною недоволен, прислал мне длинное назидание. Как и многие другие, он хочет меня, уже далеко не мальчика, воспитывать. И торопится — у них действительно не так много времени осталось.
Я ответил Хэмфри: «Я радовался жизни, такой, какую прожил, я поразительно преуспел, очень рано научившись рассматривать успехи других людей как свои собственные».
Вот что такое успех по-моему, вот его секрет. Я тогда так думал, так думаю и сейчас.
Крайфилд закрыл и снова широко открыл глаза. Наяву? Во сне? Об успехе говорит человек старый, раненый, потерпевший разгром, обреченный на мучительную гибель, и дни его сочтены.
Крайфилд пришел в камеру утешать, решил даже денег послать семье Брауна, пришел, очень гордый своей храбростью. Жена отговаривала: ты не у себя дома, ты на Юге. А этот узник, кажется, вовсе не нуждается в утешении, нисколько не оценил его мужества, уверен в себе, продолжает поучать.
…Важно знать: «наши планы верны сами по себе». Браун, когда писал, когда говорил это, еще и не осознавал полностью, как именно важно. Раз планы верны сами по себе, то поражение и не так уж отличается от победы. Рабство — грех? Грех. Зло? Зло. Позор. Преступление. Значит, не он, так другой, после него, одержит победу над злом. А он — он начал.
— Я счастлив, что успел начать. Мог бы и не успеть, сколько месяцев, лет потратил зря! Вы упрекаете меня за то, что я бросил бизнес, я упрекаю себя за то, что слишком долго им занимался. То, что мне удалось начать Главное Дело, — это и есть мой успех. И не только мой.
Крайфилд теряет благодушие.
— Вы, Браун, стремились к тому, чтобы сокрушить рабовладение. Не буду говорить, какое это безумие — двадцать два человека против мощного государства, — об этом вам и без меня уже сказали, скажут еще много раз и вам, и про вас. А я — о другом. Жизнь-то изменяется не речами, не митингами, не переворотами и менее всего выстрелами. Если хотите, то истинные реформаторы, даже истинные революционеры — это мы, деловые люди. Не качайте головой, именно мы. Вспомните, какой была Америка в дни нашей с вами юности: дикие леса, индейцы, неосвоенные земли. А сейчас — города, фабрики, железные дороги, порты. Кто это все сделал? Мы.
Брауну в большом городе, как в сюртуке, тесно, душно.
Крайфилд продолжал.
— Что вы оставите после себя, Браун? Я оставлю хлопкопрядильные фабрики.
— Я оставлю память о Харперс-Ферри. Это первая настоящая битва против рабовладения, начатая революционерами. Причем белыми, свободными. Первая, но не последняя.
— Промышленное развитие — вот настоящая угроза рабовладению.
— Эта угроза еще лет на двести, а то и больше так и останется угрозой. Кому нужны города и фабрики, когда люди по-прежнему в цепях, в рабстве?
— Рабовладение обречено и погибнет не потому, что несколько сот рабов убегут в Канаду, не потому, что несколько сот аболиционистов, пытаясь замаливать общие грехи, будут созывать все новые митинги протеста, обращаться с петициями к конгрессу, выпустят еще газеты, не потому, что вы убьете несколько рабовладельцев. Оно погибнет, потому что оно невыгодно экономически. Когда погибнет, на этот вопрос не мне отвечать. Но и не вам. Жизнь изменяет тот, кто изобретает, кто торгует, кто строит.
Сейчас из-за вас, из-за Харперс-Ферри мы отброшены назад. Вы дали в руки южанам-экстремистам козыри — они уже путают на всех углах восстанием рабов, теснят нас, северян, нас, ни в чем не повинных бизнесменов.
— Вы что, хотите, чтобы я вас пожалел?
На мгновение Крайфилд смутился.
— Мне очень жаль вас, Браун, я ведь христианин, потому и пришел, но дело ваше вредное.
— То, что изначально зло, то не может стать добром, сколько бы ни прошло времени, сколько бы ни принималось законов, сколько бы ни было построено фабрик. Зло можно только уничтожить.
Наконец ушел.
Ох, как Браун устал от этого разговора. Легче объяснить тюремщику, судье, прокурору. Рабовладельцу какому-нибудь, и то было бы легче объяснить. А этот Крайфилд округлый, как шар, и слова стекают с него, нигде не задерживаясь. За деньги для Мэри спасибо. А разговоры такие ни к чему. Мало времени осталось. Надо успеть рассказать о главном и тем людям, которые поймут.
Но разговор с Крайфилдом застрял, невольно потянул за собой нить воспоминаний.
…Кончились многомесячные и бесплодные поездки того злосчастного тридцать девятого года. Большая семья — десять человек, а содержать ее как следует не может: долги, долги, горькое ощущение невыполненных обязательств. На душе тяжко. Мэри молчит. Она не упрекает его. Она еще очень молода — двадцать три года, не понимает, как это стыдно — постоянное безденежье.
Ему хочется наряжать свою Мэри. Вот он — торговец шерстью, а жене платка не привез.
Одну — и большую — часть жизни больно и совестно вспоминать. Иногда он пропускал десятилетия, и получалось: детство — скачок — клятва посвятить всю жизнь борьбе против рабства — скачок — Канзас и Харперс-Ферри. А на самом деле тянулись долгие годы, больше трех десятилетий. Тянулись бессмысленно, медленно. Это теперь, на тюремной койке, не успеешь на другой бок повернуться, а десятилетия уже прокрутились.
А тогда — одна коммерческая сделка за другой. Чем он только не занимался кроме шерсти — и сапоги тачал, и виноторговое дело завел, — чуть ли не все перепробовал. Начал очень рано — шестилетним: нарезал ремни для кнутов и продавал их. И словно кто предрешил, так одинаково все происходило. Вначале — бурный энтузиазм: вот оно, нашлось дело, теперь-то я наконец выберусь из долгов, сведем концы с концами, перестану просыпаться и засыпать с проклятой, унизительной мыслью — где достать денег? Он загорался, зажигал других, знакомых и незнакомых, профессиональных опытных бизнесменов и таких любителей, как он сам.
Он был не одинок, строилась молодая Америка, тогда еще не было произнесено магическое заклинание: «Каждый чистильщик сапог, каждый разносчик газет может стать миллионером». Но все для этого уже готовилось, зарождалось, возникало, казалось, стоило нагнуться — руда, нефть, а то и золото… Многие нагибались. Немногие находили. Еще меньше людей становились богатыми. Но кто-то же становился! Вот Крайфилд, например.
Энтузиазм у Брауна быстро остывал. Упрямый, ничьих советов никогда не слушал. В бизнесе неловкий. Прямолинейный. Совершенно не умеющий хитрить, хотя не всегда честный. Разорялся сам, тянул за собой других. Если можно представить себе сочетание черт, вместе составляющих «антибизнесмена», — это и будет он, Джон Браун.
Но он не умел посмотреть на себя со стороны и долго не знал, что идет по чужому пути, идет, бежит, тащится, что его волокут обстоятельства. Около двадцати коммерческих начинаний, в шести штатах, при участии разных людей. А конец один и тот же — крах. Уже не хватит жизни, чтобы отдать долги.
Едва, не выкарабкался в 1840 году. Оберлинский колледж — его отец был одним из его попечителей — послал Брауна в Виргинию, там у колледжа были неосвоенные земли, можно ли их обработать, пустить в дело? Но и тут последовал крах. Правда, в первый раз увидел Виргинию — ту землю, где ему предстояло совершить подвиг.
Биржевые паники, экономические кризисы — кто-то наживался, а Браун неизменно терял.
В 1842 году — банкротство. Несостоятельный должник. Имущество описали: две коровы, две лошади, семь овец, семь ягнят, девятнадцать кур, одиннадцать экземпляров Библии, три ножа. Посадили в долговую тюрьму. Совсем другая тюрьма. Решетки, они, конечно, везде решетки. Но сейчас, в Чарлстоне, в Виргинии, он — герой, сколько людей о нем думают, к нему пишут, приходят, спрашивают совета, едва ли не постоянно он ощущает поддержку. И современников, и предшественников.
Читает Гиббона, читает Карлейля о Французской революции, читает о Туссен-Лювертюре, о восстании негров на Гаити. Не просто читает книги, чувствует родство с людьми, давно умершими. Эстафета не прервалась, он принял ее из достойных рук.
А тогда ничего, кроме Библии, не читал, и святая книга не приносила утешения. Тогда — только стыд. Закрыть глаза. Но и смерть не смел звать — кто будет кормить детей, кто позаботится о семье, на которую он навлек позор? Иногда не выдерживал и все-таки звал смерть. Но она не приходила.
Неудачник. Пожалуй, и тогда, спрашивая себя, а что такое удача, он смутно ощущал, что, поменяйся он местами с теми, кто гребет золото лопатой, радости он бы вовсе не испытал. Хотел ли он когда-нибудь в жизни быть вроде Крайфилда? Нет.
…Болото. Несколько раз и теперь ему снилось болото — хлипкая трясина затягивает неумолимо. Тошнота, рвота, болото. Так — в прошлом.
Теперь — горы. Камера хоть и небольшая, а воздух словно чистый, знакомые строфы Библии читаются по-новому, приобщенно, с гордостью.
Но слабый луч светил и в том давнем болоте…
2
Воскресенье. Он проходит мимо негритянской церкви. Поют духовные гимны — спиричуелз. Он останавливается и невольно слушает. Голоса возносятся высоко, выше, еще выше, кажется, уже некуда, еще выше — к небу, к небу… В его церкви, в белой церкви, нет такого пения. Нет ярких платьев, все — в черном, нет россыпи звуков — монотонная, бесцветная, протестантская церковь.
Как они поют, черные, с какой тоской:
Let my people go… Отпусти мой народ…И тот негр, который недавно провел три ночи в его тайной комнате, его переправили в Канаду, и он тихонько, едва ли не про себя пел:
Let my people go…Вот его и отпустили. Отпустили из рабства с помощью проводников тайной дороги, с помощью Джона Брауна и других белых американцев. Отпустили? Скорее — вытащили.
Почему они просят? Почему только просят, умоляют, заклинают?
Let my people go…Горе, боль, сила, радость. Да, сила и радость тоже, как разлилась песня, какие мощные голоса, вот если бы всю эту силу да не в песню…
Почему они только просят? И к кому они обращаются? Разве наши властители добровольно отпустят? Они скорее удавятся, чем отпустят.
Горькая-горькая нота, дух захватывает от высоты, и все отходит, сердце переполняется милосердием, жалостью, радостью.
Аллилуйя! Славься, славься, господи.
Что они прославляют, чему могут радоваться? Почему в этих песнях мало гнева?
Аллилуйя! Отмахнуться от захватывающей этой музыки не может, она втягивает, связывает. Она против свободы, эта музыка… Что за чушь лезет ему в голову?
Отпусти мой народ…
Уже совсем тихо.
Он отошел, музыка доносится глуше и глуше. Нет, нельзя просить, нельзя стоять на коленях — бесполезно. Даже вредно.
Может, надо «мы уйдем!» или «мы будем сражаться», «мы одолеем»?
Для этого кто-то должен выйти вперед. Кто-то должен сказать: «Идите за мной». Какой негр это скажет? Или это скажет не черный?
Белый скажет! Белый должен взять на себя, белый должен отмолить грехи этих нечестивцев-рабовладельцев. Как некогда Христос взял на себя грехи тогдашних рабовладельцев.
Он уходил, а песня нагоняла его, мелодия не отпускала, пели опять громче, дуэт — сопрано и бас, а потом соло, потом хор, покрывающий все мощный хор, — песня тянет, тянет, нет, я вырвусь, я все равно вырвусь.
Белый человек должен сказать: «Идите за мной». Сказать и белым, и черным. Сказать с такой же силой и убежденностью, как эта колдовская песня.
Это я должен сказать. Я, Джон Браун Пятый, сын аболициониста Оуэна Брауна, внук воина американской революции Джона Брауна. Я скажу: «Идите за мной. Идите сражаться против рабства». И они пойдут.
Он занимался бизнесом, карабкался наверх, соскальзывал вниз, он содержал огромную свою семью, содержал, учил, наставлял, подобно древним патриархам. И он все еще был далек от мысли, что общественная система, в которой он существует, сама по себе — порочна. Но удары кнута надсмотрщика он, свободный белый американец, живущий на Севере, ощущал так, словно это его бьют, словно кровавые полосы появляются на его собственной спине. И это ощущение не притуплялось с годами, а, наоборот, постепенно обострялось.
Мальчиком он впервые спросил себя: разве негры не дети божьи? Вопрос остался без ответа.
Катилась обычная жизнь, скольких обкатала, а ему — все хуже, все нестерпимее.
Он с семьей каждое воскресенье ходит в церковь. Он член церковного совета. У Браунов — своя скамья. Лица в церкви только белые. Нет, так неправильно.
Обычное воскресенье. Браун надевает праздничный черный сюртук, углы белой сорочки топорщатся. Мэри в длинном черном платье, в нарядном чепце. И дети прибраны, одеты по-праздничному.
Взглянул на своих:
— Давайте-ка возьмем с собой негров.
Идет в мастерскую, приглашает работников. Неловкое молчание, мнутся: непривычно, боязно. Но хозяина не ослушаешься. А двоим, самым бойким, еще и очень хочется — черным да в белую церковь?!
Торжественно проходят к своей скамье. Браун — впереди, он еще не капитан, но идет, словно полководец, маленький отряд — за ним. Впрочем, какой же это отряд? Жена, дети, работники…
Вокруг — гул неодобрения, шелка женщин шелестят негодующе.
Пастор протирает глаза — действительно черные или это ему мерещится, перехватил вчера лишку? Сбивается, путает, торопливо кончает проповедь. Решительно подходит к Брауну:
— Что это вы придумали, сэр? У негров своя церковь, у нас — своя. Вот уж не ожидал от вас…
— И от Христа, наверно, не ожидали, что он выгонит менял из храма…
— Как вы осмеливаетесь сравнивать себя со спасителем?
— Ответьте мне, в чем суть христианства? Настоящего, то есть для всех? Неужели только в соблюдении обрядов, а не в том, чтобы стараться, насколько это доступно, подражать Христу? Вы упрекаете меня в гордыне, но если не делать, как он учил, не любить ближнего, как самого себя, то зачем же и молитвы, и церковь, и вот эта ваша проповедь?
— Мудреные вопросы вы задаете…
— Что же в них мудреного? В нашей Декларации независимости прямо сказано, что все люди сотворены равными. Все, значит, и черные тоже. В чем мой проступок? Я не солгал, не украл, не убил, даже, — глядя на красный нос пастора, — не выпил… Я привел в божий дом божьих детей.
— Мои прихожане не хотят видеть черных.
Браун круто повернулся. С того дня ни он, ни его семья в этой церкви больше не были.
В часовне колледжа шло собрание памяти Лавджоя. Илайя Лавджой — редактор аболиционистской газеты. Южане трижды выбрасывали в реку его типографские станки. А когда прибыл четвертый станок, напали снова. Осажденные сторонники редактора забаррикадировали дверь. Началась перестрелка. Дом подожгли. Лавджоя убили.
Президент колледжа — он сам объездил всю округу, созывал на это собрание — говорил первым:
— Настал момент кризиса. Теперь перед американскими гражданами не стоит вопрос: «Можем ли мы освободить рабов?» Теперь стоит другой вопрос: «Сами-то мы свободные люди или рабы — рабы южных законов?»
Хорошо говорит президент. Он не просит: «Отпусти мой народ». Он говорит о долге белого человека.
В часовне много людей. Они исполнены благородных намерений. Многие уже подписывали петиции аболиционистов. Многие читают гаррисоновский «Либерейтор».
Но вот кончится собрание, они разойдутся по домам, и каждый займется своими делами. Нельзя же перестать жить потому, что черные люди в рабстве. Нельзя перестать есть, спать, влюбляться, работать, рожать детей, ссориться, пить вино, танцевать, зарабатывать деньги.
Есть и такие, кто боится: ведь южане совсем рядом, рукой подать, Лавджоя-то убили. Боятся, но преодолевают страх — пришли. Есть такие, кто считает, что негры не равны белым. Конечно, и они думают, что никого нельзя бить, тем более нельзя убивать, христиане так не должны поступать.
Убили Лавджоя, прекрасного, мужественного человека. За что? Только за то, что он в газете призывал к отмене рабства.
Весть об убийстве пробудила гнев, тот давний, детский гнев. Он должен излиться, этот гнев. Излиться поступком.
Поступком может быть и слово.
Джон Браун поднялся:
— Здесь, перед богом, в присутствии свидетелей, я клянусь, что с этого момента посвящу всю мою жизнь уничтожению рабства! (Кто-то должен сказать: «Идите за мной!» Я скажу. И они пойдут.)
Вслед за сыном на кафедру взошел его отец, Оуэн Браун, и поддержал сына.
Джон Браун поклялся. Но ведь он связан по рукам и ногам. У него большая семья. Всех надо кормить. А денег нет, есть только долги. Хорошо, что отец сразу понял.
А жена и старшие дети, они поймут, поддержат?
В доме Браунов очень рано ложились и очень рано вставали.
Так было необходимо, коров доить надо рано.
И по вечерам никогда никого не будили. Но на этот раз Джон Браун нарушил все обычаи. Разбудил Мэри и трех старших сыновей, позвал в общую комнату, к столу. Рассказал им о том, что произошло в часовне.
— Я поклялся перед богом и людьми, что посвящаю свою жизнь, посвящаю целиком и полностью борьбе против рабства. Я прошу вашего сочувствия и вашей помощи. Если вы согласны со мной, пусть каждый присягнет.
На столе — семейная Библия.
Мэри подошла первая:
— Я, Мэри Браун, перед богом и людьми клянусь, что посвящу всю мою жизнь борьбе против рабства…
Лампа на столе, тени на стенах, руки странно увеличены, словно это не руки, а крылья большой птицы.
— Я, Джон Браун-младший, перед богом и людьми клянусь…
— Я, Оуэн Браун…
— Я, Фредерик Браун…
Их было пятеро. Они присягнули.
Много лет спустя в письме к Хиггинсону он написал о себе: «…одно неизменное правило — не предпринимать ничего, пока я не пойму, что именно надо делать».
Он мало знал себя, он казался себе очень практичным, но попять, что надо делать, — это ему всегда необходимо. В тот момент он почувствовал, что необходимо дать торжественную клятву. Сначала на людях, а потом дома, со своими, но тоже — торжественно.
Джон Браун с детства заучил: вначале было слово. Ему надо было понять и произнести слово. Вслух. Он присягнул, и на душу снизошел мир.
Впервые за долгие месяцы, засыпая, он не думал ни о шерсти, ни о долгах.
Он поклялся. И оставшиеся ему двадцать два года был верен клятве.
А жизнь в доме шла своим чередом.
Как бы рано Джон ни вставал, Мэри уже на ногах. В детстве, просыпаясь, первую видел мать. Засыпая, последнюю видел мать. Так теперь и с Мэри. Волосы гладко зачесаны, платье темное, скромное, но всегда чистое, выглаженное. И в доме, на плите все блестит. В хлеву так чисто, что и гостя, кажется, уложить не грех.
Какое это разумное, всегда необходимое дело — домашний женский труд. Он слышал за стеной, как соседка жаловалась Мэри:
— Готовишь, готовишь, орава моя набросится, и опять ни крошки нет, все сначала и так три раза в день. Стираешь, стираешь, а грязная одежда не переводится.
А его Мэри, умница, учила эту дуреху-распустеху. Вот и у них шаром покати, нет готовой еды. Мэри возится, быстро-быстро снуют руки, топочет, как ежиха, звякают кастрюльки, стучат горшки — глядь, полный стол еды.
Самому малому — восьмимесячному Уотсону — отгородила уголок какими-то чурками, вроде загончика для молодняка, хорошо придумала. Серьезный человечек, на игрушки внимания не обращает, впрочем, игрушек мало, это для них роскошь. Отец сам что-нибудь мастерит малышу. Уотсон ухватился за чурку, — качается, укрепить надо, это Мэри не сообразила, сейчас вбить пару гвоздей. Мальчуган смеется. Тянется, тянется, покраснел, нет, не буду помогать, сам сынок, сам. Встал. И упал. Не заплакал, лишь сморщился весь и снова ухватился за чурку. Кажется, только что родился, лежал, запеленатый как кокон, на деда, на старика Оуэна, похож. Восемь месяцев — и встал. Что он знает о свободе, о мире, о неграх? Что его ждет, какую судьбу ему готовит время, родители? Взял сынишку на руки, подкидывает к потолку. Мэри боится, а Уотсон смеется. Храбрый растет. Это всегда нужно — храбрость. Мужчине — тем более.
Так почему же тебе больше всех надо? У тебя такая славная семья — вот заботься о них. Сейчас ему радостно, и все вокруг — и жена и ребята — светятся.
Он писал как-то Мэри: «Когда долго пробудешь в отсутствии, только тогда можешь по-настоящему ощутить спокойствие дома. Только тогда услышишь ни с чем не сравнимую музыку своего дома, оценишь ее».
Мэри свое женское дело отлично делает, а ты свое мужское — не очень. Но если будешь думать только о своих, как выполнишь клятву?
Из Рэндольфа семья Браунов переехала в Гудзон, в штат Огайо.
Какая большая, какая еще пустынная страна. Осваивается целый континент — это мы все сообща делаем его своим. И предки ехали сюда из тесной уже Европы не только от нужды, не только от политических и религиозных преследований, ехали еще и потому, что жаждали простора. Это, наверно, всегда человеку нужно, чтобы вокруг тебя было хоть какое-то свободное пространство, свободное от домов, от других людей.
На месте Гудзона еще не так давно — у многих на памяти — было пустое место. Назвали город по имени его основателя. Гудзон строился, расширялся гораздо быстрее, чем Рэндольф. Это не тихая провинция — один из интеллектуальных центров, один из центров аболиционизма. Его отец Оуэн Браун — казначей гудзоновского общества противников рабства.
Это в Гудзоне, в Оберлинском колледже, был провозглашен высший нравственный закон. Ему должен следовать хороший человек, а не людским установлениям, часто несправедливым, часто меняющимся. В этот колледж принимали негров и женщин.
Попытки Брауна в Рэндольфе были попытками одиночки. Ни школу для негров, ни общие службы в церкви так никто и не поддержал. А здесь, сколько людей здесь на много лет раньше, чем он, поняли, что рабовладение — грех.
Конечно, и в Рэндольф изредка доходили вести — газеты, журналы, которые издавались противниками рабовладения; слышал он и о сборнике документов «Рабство, как оно есть», о митингах в Бостоне и в других городах. Но доходило мало, доносились отзвуки. При двойной, тройной передаче многое приглушалось, терялся накал страсти, подчас искажался смысл. В Гудзоне же известно почти все. Слова — умные, верные, добрые, высказанные не за тридевять земель, — рядом.
И в Гудзоне Браун читал не все. Подчас, быть может почти не сознавая, он отстранял кое-что от себя. Потому что, когда прочтет, ему сейчас же, сию минуту надо действовать.
Встречаясь с убежденными, деятельными аболиционистами, Браун вначале испытывал нечто вроде стыда. Недовольство собой. А потом, опять же медленно, стало накапливаться иное недовольство: где же, когда же дело, когда же та отмена рабства, ради которой все это словоговорение?
Впрочем, силу слов он признавал и тогда. Не полностью, но признавал.
В 1843 году он познакомился с негритянским лидером Генри Гарнетом, прочитал его выступление на негритянском съезде: «Лучше все вы погибайте — погибайте немедленно, чем жить в рабстве и передать свое проклятие потомству… Как бы мы все к этому ни стремились, мало надежды на то, что искупление грехов наступит без пролития крови. И если кровь должна пролиться, пусть это произойдет сразу — лучше умереть свободными, чем жить рабами».
Большинство участников съезда не поддержали такой позиции, и съезд решил не публиковать этот призыв.
Браун не разделял в то время взглядов Гарнета, но его сила, его убежденная страстность так захватили его, что он опубликовал брошюру Гарнета на свои собственные средства.
Брауну было необыкновенно трудно, почти невозможно думать одно, говорить одно, а жить продолжать по-прежнему, молча взирать на неизменность сложившихся порядков. Несмотря на слова. Вопреки словам.
От непонимания, что, как надо делать, от бессилия сделать не хотелось ни читать, ни говорить, ни участвовать в собраниях.
Он — делатель. А дела себе по росту еще не видел.
3
Сегодня вечером он не усидит дома. Сегодня все жители, все мужчины во всяком случае, будут смотреть сеанс гипноза.
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В НАШЕМ ГОРОДЕ!
МАГ И ЧАРОДЕЙ РОЙ САНДЕРЛЕНД!
ЧЕЛОВЕКА БУДУТ РЕЗАТЬ, А ЕМУ НЕ БУДЕТ БОЛЬНО! И ВАС ТОЖЕ МОГУТ УСЫПИТЬ!
Входная плата — пятьдесят центов.
Дети и негры — двадцать пять центов.
Ни одной минуты он не верил, что человеку можно внушить: «Тебе не больно». Все это вранье, шарлатанство. Что ж, надо посмотреть самому.
Народу в сарай набилось — не продохнуть. Широкий деревянный помост. На нем кровать. Молодой женщине — ее только что привезли — сейчас будут делать операцию аппендицита. Хирург будет резать, а маски с хлороформом не наденут. И она не закричит, ей не будет больно. Ее усыпят гипнозом.
Этот бородатый Сандерленд думает, что тут одни сельские простаки собрались, всему поверят. Объясняет, как школьный учитель ребятишкам.
— Это внушение, гипноз. Я сейчас буду на нее глядеть и говорить с ней, и я внушу ей, что она должна уснуть и что она не будет чувствовать боли.
Он повернулся к женщине.
Глазищи черные, страшные, взгляд сверлящий. Он не сразу начал объяснять, вышел на помост, выхватил взглядом одного, тот опустил глаза, потом перевел взгляд на девушку, она даже вскрикнула. Джон Браун начал внушать Сандерленду, едва ли не вслух: «Ты на меня посмотри, я-то не опущу глаз».
Но Сандерленд уже начал говорить с женщиной. Сначала так тихо, что в задних рядах не было слышно, народ загудел.
— Молчать! Выгоню!
Словно хлыстом. Сразу тишина мертвенная.
— Усни. Усни. Усни. Усни.
Одно и то же слово повторяет без конца, с разной интонацией. То нежно, то властно, то просительно, то приказывающе. Это продолжается очень долго. Рядом с Джоном Брауном люди начинают засыпать. Что же, за день все наработались. А тут еще душно.
Женщина на помосте закрыла глаза и перестала стонать. Подошли хирурги. В тазу на огне кипятятся скальпели. А Сандерленд продолжает:
— Тебе не больно. Тебе не будет больно. Сейчас тебе разрежут живот и вынут боль. Вынут, и не будет больно. Будут резать кожу, а тебе не будет больно. Пойдет кровь, а ты не бойся, тебе не будет больно.
И разрезали живот. И кровь стекала в таз. И женщина ни разу не вскрикнула. Зрители застыли. Этот Сандерленд, кажется, загипнотизировал чуть ли не весь зал. Нет, теперь они уже не спали, они смотрели широко открытыми глазами.
Скажи он, Сандерленд, им сейчас: «За мной!» — и все, все до одного, пойдут, побегут, не спрашивая куда. Скажи им: «Ату!» — и они бросятся на жертву. Разорвут кого угодно, хоть и эту несчастную на столе.
Нет, невозможно терпеть, смотреть на то, как удав завлекает этих кроликов. Браун расталкивал соседей, выбираясь из рядов, туда, к трибуне. Его не замечали. Словно прикованные, глядели на помост. Он поднялся по дощатым ступеням.
— Вы шарлатан, жулик! Я ничему не верю. Это сплошной обман. Попробуйте мне внушить что-нибудь, я не лягу и не встану по вашему приказу, И еще вопрос, кто кого переглядит.
В зале враждебно зашумели. А Сандерленд ничуть не растерялся.
— Проверим. Отойдите, ждите своей очереди. Вот больную унесут, попробуем на вас.
Потом усадил его на кровать и начал сверлить глазами.
— Спи. Спи. Спи. Спи.
Джон Браун не уснул.
— Вот видите, со мной ничего не выходит. А с той бедной женщиной вы, наверно, просто заранее сговорились и денег ей пообещали.
В зале шумели все более враждебно. Злились не на чужого Сандерленда, а на своего, Джона Брауна.
— Уходите! Не мешайте! Убирайся!
Толпа жаждала чуда. Толпе показали чудо. Толпа поверила в чудо. И вовсе не хотела крушения веры.
Он уходил с помоста чуть ли не под улюлюканье. Вот аптекарь — только вчера Браун покупал у него лекарство для Мэри, как дружелюбно они разговаривали. Вот шорник — сегодня они вместе перебирали сбрую. А с тетушкой Мэг они и шли сюда вместе, она ему приходится дальней родственницей. Сейчас всех не узнать, словно подменили, чужие люди, откуда они такие взялись? Неужели это заезжий фигляр такое с ними сотворил?
А я, я могу внушить людям: «Вставайте. Идите. Боритесь»? Могу?
Одному в тюрьме остаться почти не дают. Каждый день — посетители. Много враждебных взглядов. Полицейским, собранным со всей округи в Чарлстон, разрешалось посмотреть на узников, как на диковинных зверей. Подводили к дверям камеры по пять, по десять человек. Чаще всего — смотреть на него, на Брауна. Простые парни, если б остаться с ними наедине, поговорить — другое дело. А так…
Но Браун не сердится, почти радушен, спокоен. Кое-кому позволяют разговаривать с ним.
Одно из первых писем — от Марии Лидии Чайлд. Очень известная журналистка, писательница, общественный деятель.
Увидел бы Браун ее на улице или в церкви — леди — ни за что не принял бы за единомышленницу. А ведь она еще в 1844 году выпустила «Призыв в пользу той группы американцев, которую называют африканцами». И требовала полного, немедленного освобождения. Браун не знал тогда слов Хиггинсона: «…апостолы истины потому не оказывают воздействия на мир, что как только кто-нибудь начинает проповедовать некие «новые взгляды», начинает утверждать, будто не все обстоит так уж благополучно, то консерваторы, не теряя ни мгновения, указывают на такого пальцем, клеймят его как подстрекателя, фанатика, вольнодумца, как сумасшедшего и прочее, и прочее. Так происходит со всеми реформаторами… Мисс Чайлд давно уже числится в проскрипционных списках…»
Мария Чайлд предложила приехать в Чарлстон, ухаживать за Брауном. Он ответил:
«Мой дорогой друг,
Вы оказались именно другом, хотя мы вовсе незнакомы. Я получил Ваше доброе письмо с Вашим трогательным предложением приехать ко мне и ухаживать за мной. Позвольте мне принести Вам благодарность за сострадание: и в то же время предложить Вам нечто иное, что я постараюсь обосновать. Я оставил дома жену и трех маленьких дочерей, младшей — пять лет, старшей — шестнадцать, а также двух невесток, чьи мужья погибли, сражаясь рядом со мной… Все мои сыновья и зятья, все до единого так или иначе жестоко пострадали… Так вот, мой дорогой друг, могли бы Вы сейчас внести пятьдесят центов и давать примерно такую же сумму ежегодно в помощь этим очень бедным и очень несчастным людям, чтобы они могли обеспечить себя и детей хлебом, самой простой одеждой и чтобы дети могли получить начальное образование? И не могли бы Вы также приложить усилия, чтобы привлечь к сбору денег и других и основать небольшой фонд для указанных целей?.. Я вполне бодр во всех моих несчастьях, сущих и предстоящих, я смиренно верю: «Господь даровал моему сердцу мир, царящий в нем превыше всех разумений». Можете использовать это письмо по своему усмотрению.
Ваш в искренности и правде (да благословит Вас всевышний, да отблагодарит Вас тысячекратно)».
Глава четвертая Штат Виргиния против Джона Брауна
1
Он написал брату об отцовском наследстве — семья после его казни останется нищей, с долгами. Надо, чтобы брат без формальностей, по совести распорядился остатками. «Здоровье возвращается медленно, и я вполне бодро встречаю мой приближающийся конец, ибо глубоко убежден, что самую большую ценность я буду представлять повешенным…»
И приписал: «Скажи, чтобы мои бедные сыновья ни минуты не скорбели бы из-за меня; и, если кто из вас доживет до того момента, когда вам не придется краснеть за родство со старым Джоном Брауном, это будет ничуть не более удивительно, чем многое из того, что уже произошло. Я в тысячу раз больше печалюсь за моих дорогих друзей, чем за самого себя…»
Он заверял близких, что в душе его воцарился мир и покой, но как раз сегодня не было ни мира, ни покоя. Снова и снова он возвращался к суду.
Как шахматист, заново разыгрывающий партию, он пересматривал множество вариантов, решал за себя и за противника («Я хожу так», «он отвечает так…»).
Раньше, когда хоть на мгновение закрадывалась мысль о поражении, он не сомневался, что погибнет в бою или победившие враги сразу убьют его. До Харперс-Ферри ему и в голову не приходила сама возможность суда. Какой может быть суд на Юге над человеком, который осмелился бросить вызов рабству?
Потом, после приговора, ему объяснил Томас Рассел, что уж если Джона Брауна считать преступником, то его преступление совершено против правительства Соединенных Штатов. В самом деле: арсенал — собственность Соединенных Штатов, стражники, которых они обезоружили, — солдаты США, морская пехота, которую выслали против них, — часть американской федеральной армии. Значит, дело о нападении на арсенал подсудно именно федеральному правительству, а никак не правительству штата Виргиния.
Раненому старому человеку, чей отряд разгромили, человеку, только что потерявшему двоих сыновей, все это казалось ерундой, не имеющей отношения ни к делу, ни к нему, — возня пудреных париков, сцены из дореволюционных колониальных времен. И он весьма резко заявил: «Избавьте меня от этой комедии, от этого издевательства, бросьте вы игру в суд…»
Однако машину запустили, колеса вертелись. Двадцать пятого октября пятьдесят девятого года суд начался. Два дня обсуждали процессуальные вопросы. Судить будет штат Виргиния. Как раз в октябре шла очередная осенняя сессия конгресса.
Избирали присяжных — из двадцати четырех кандидатов надо двенадцать человек. По закону все они должны быть людьми беспристрастными, ведь подсудимый имел право отводить присяжных. Среди них — ни одного из тех, кто сражался в Харперс-Ферри. Может быть, и стоило воспользоваться правом отвода? И что было бы тогда? Все кандидаты в присяжные заявили, что у них еще нет сложившегося мнения — виновен ли Джон Браун или нет. Ну разве не комедия?
Его несли на суд под конвоем восьмидесяти солдат — мрачная толпа окружила здание. Выкрики, угрозы, брань.
Снаружи здание суда охранялось солдатами. Внутрь достопочтенный Паркер ввести солдат не разрешил. Не допустил нарушения статута. Независимый суд.
Независимый? От губернатора Уайза, например. От жаждущих мести плантаторов Виргинии и других южных штатов. Независимый от южной прессы!
И судья Паркер и прокурор Хантер тесно связаны семейными и дружескими узами с влиятельными семьями Виргинии.
В обвинительном заключении три пункта: 1) подстрекательство негров к мятежу, 2) убийство при отягчающих вину обстоятельствах, 3) измена штату Виргиния.
Закон, по которому его судили, был принят после восстания Ната Тернера в 1831 году.
— Кончайте всю эту комедию, да поскорее, — это он сказал в начале суда.
Но едва он заметил, как торопятся его заклятые враги, торопятся до неприличия, не скрывая этого, он перестал спешить. Тогда сам захотел выиграть время.
Он спрашивал себя в первый день суда: почему они так торопятся? Ведь он — в их руках, его можно убить немедленно, сейчас же, сию минуту. Безоружный, закованный, чем он им опасен?
Хотят скорее утолить жажду мести? Да, и это.
Но главное — в другом. Они боятся его слова. Смертельно боятся распространения его взглядов. Они хотят, чтобы люди считали рабовладение законным, а противников рабства — уголовными преступниками, нарушителями закона и порядка. Они должны судить его по закону и, значит, не могут вовсе лишить его трибуны. Но чтобы он успел сказать меньше, чтобы меньше людей узнали о нем, о его товарищах, об их целях, они и хотят ускорить суд.
А он хотел, чтобы его услышали. Чтобы его письма переписывали. Он не имеет права допустить, чтобы его последний бой в Харперс-Ферри был бы замолчан или оболган. В этом его долг перед живыми и перед мертвыми. Итак, суд — продолжение боя. Кто бы ни были судьи, прокурор, присяжные. Не ему выбирать обстоятельства. Ему — сражаться против обстоятельств.
Одни из репортеров писал в «Трибюн», что судьи торопятся, ибо «ходят слухи, будто Браун намерен сделать подробное заявление для прессы о своих мотивах и намерениях, но суд в страхе прекратил всякий дальнейший доступ корреспондентов к нему, он ведь может сказать такое, что отрицательно воздействует на общественное мнение и окажет дурное влияние на рабов…»
Первая схватка — вопрос о защитнике. Ему самому могут не дать говорить, а защитник вправе говорить много. Это он понял еще до суда. Потому двадцать первого октября он написал письмо из тюрьмы — оно было первым — и разослал по трем адресам: Томасу Расселу, судьям Дэниелю Тилдену в Кливленд и Ройбену Чэпману в Спрингфилд. В каждом письме один и тот же текст: «…я обращаюсь к Вам с просьбой — помочь найти умелого и преданного защитника для меня и моих сотоварищей, нас в тюрьме пятеро. Штат Виргиния устами губернатора и других именитых граждан уверяет, что нам обеспечат справедливый судебный процесс. Если у нас не будет такого защитника (не из рабовладельческих штатов), тогда обстоятельства нашего дела не станут известными миру, их нельзя будет использовать, чтобы воздействовать на взгляды людей во время самого процесса…
Можете ли Вы или еще кто-либо из хороших людей приехать сюда немедленно, хотя бы ради молодых заключенных? Мои раны постепенно заживают. Не присылайте аболициониста крайних убеждений».
Но уже двадцать пятого октября суд начался, никто из адресатов не успел даже ответить письмом, Тилден телеграфировал, что приедет, но позже прислал адвоката. Чэпман отказался. Рассел приехал в последний день.
Брауну назначили двух защитников-южан, один из них не захотел защищать того, кто сам его не хочет. Защитником стал Томас Грин, мэр города Чарлстона. Вот тогда Браун и попросил отложить суд на два-три дня, объяснил: его недаром несли в суд на носилках, он еще не может стоять, у него очень болит голова, он плохо слышит. Просто не слышит вопросов, обращенных к нему. И он надеется на приезд адвокатов, которым написал.
Чего он хотел от защитников? Он так определил свои пожелания: «Мы дали многим нашим пленникам полную свободу: надо добыть их имена. Мы разрешили другим пленникам навестить своих родственников, чтобы успокоить их: надо добыть все их имена. Мы разрешили машинисту провести свой поезд по мосту со всеми пассажирами. Я сам вместе с ними перешел мост и заверял пассажиров в их полной безопасности. Надо найти и этого машиниста, и, по возможности, пассажиров. Мы были добры и человечны ко всем нашим пленникам: надо, по возможности, найти их имена. Мы приказывали с первого и до последнего момента, чтобы ни одному безоружному не было бы нанесено никакого вреда, ни при каких обстоятельствах — эти факты надо подтвердить. Мы не нанесли никакого ущерба собственности, ничего не разрушили — это надо подтвердить…»
Защитник поддержал просьбу подсудимого об отсрочке. Но прокурор Эндрью Хантер возразил, — нельзя откладывать ни на день:
— Ему предоставили способного и умного адвоката… и нет оснований ожидать тех джентльменов с Севера, которые обещали приехать. Наш долг перед обществом — избегать всего, что может ослабить нашу нынешнюю позицию и усилить наших врагов за границей…
Хантер очень спешил. Но традиционная процедура предоставляла возможность адвокатам активно участвовать в процессе. Грин цеплялся за противоречия в словах прокурора — обвинение должно еще доказать, что Браун хотел сформировать особое правительство штата Виргиния, свергнув существующее. Статья сорок шестая написанной Брауном Временной конституции будущей свободной республики — текст был найден среди его бумаг — этому противостоит. Она утверждает именно верность государству и флагу, там нет призыва ни свергнуть федеральное правительство, ни даже правительство рабовладельческих штатов. Да и арсенал находится не на территории Виргинии, а на территории штата Мэриленд.
Защитник признавал, что Браун и его товарищи нарушили закон. Но суду предстояло точно выяснить, насколько нарушили, в какой степени.
За дверьми суда бушевала толпа.
— Вздернуть и все тут! Пристрелить, как бешеную собаку! Зачем терять время?!
Особенно усердствовала одна женщина:
— Он оставил мою соседку вдовой! Неужели в штате Виргиния больше нет мужчин?!
Пожилой школьный учитель в очках:
— Послушайте, мэм, но ведь и его сыновей убили, и зятя, и товарищей, и сам он тяжело ранен…
— Его сюда никто не звал! Защищаешь — значит, сам негролюб!
Она кричала неистово, и к учителю начали пробираться угрюмые вооруженные парни. Помогло только то, что внезапно кончилось заседание, из зала начали выходить, и ожидающие кинулись с вопросами:
— Что? Что он сказал? А защитник?
Корреспондент нью-йоркской «Гералд» — он пробрался в Чарлстон с огромным трудом, ибо на суд пускали только сторонников рабства, — потом писал: «Было нестерпимо смотреть на эту толпу, на эти лица, возбужденные лишь одним — ожиданием ужасающего. Только мгновениями можно было дать отдых глазам, остановившись на единственном спокойном лице; и подумать же, что именно он, один из всех, был обречен, что именно над его головой был уже занесен меч».
…Суд называется судом равных. Каждый белый гражданин в Америке имеет право на суд равных. Слова Торо: «Равных Брауну в Америке нет, потому над ним и не может быть никакого суда равных» — были произнесены позже.
На третий день с Севера приехал новый защитник, молодой Хойт. Ему не дали даже нескольких часов, чтобы познакомиться с делом.
Хойт удивленно заметил:
— Но ведь речь идет о жизни и смерти, значит, нельзя торопиться…
Хантер продолжал спешить. Именно потому, что речь шла о жизни и смерти одного человека, Джона Брауна. И всей рабовладельческой системы американского Юга.
Молодой защитник пытался доказать абсурдность обвинения: как же можно изменить штату Виргиния, если ты не являешься гражданином Виргинии?
Пытался, признав один пункт обвинения, но крайней мере отбить другой…
…Справедливый суд. Ему обещали справедливый суд.
Он — подсудимый. Подсудимый ниже суда? Он вовсе не чувствует себя ниже.
Все яснее Браун ощущал — он должен успеть сказать. Раньше он с недоверием относился к словам, презирал слова, которые заменяли дела. Один освобожденный раб значил для него больше, чем тысячи прекрасных слов о свободе. В Канзасе он предпочитал ружья, пистолеты, кинжалы самым красноречивым проповедям. Он и до Канзаса стремился действовать — школа ли, тайная ли дорога. А теперь самое важное, чтобы свершенное дело было выражено, закреплено, многократно усилено именно словом. Поэтому надо выиграть время.
На своей территории он исполнен сил. Его территория горная, воздух разрежен, существовать, дышать простым смертным трудно. Там царят абсолютные истины, там неприемлемы никакие компромиссы. Рабовладение — абсолютное зло, борьба против рабства — абсолютное добро, борцы за свободу черных рабов — единственно праведные люди. И нет никаких перемычек между царством тьмы и царством света. Нельзя быть частично там, частично здесь. А этот суд, эта защита хотят увлечь его к соглашению, к полумерам, к полуправдам. Здесь не его территория, здесь он слаб. С одной стороны, с другой стороны, отчасти так, отчасти этак…
Ну какая разница, был он гражданином Виргинии или нет? Мог и быть.
Да, он нарушил американские законы, об этом и спорить нечего. Но дело в том, что правда на его стороне, а не на стороне закона. Надо изменить законы. И они будут изменены, в этом он неколебимо уверен.
Лежа на носилках перед судьями, он погрузился в свои мысли и вдруг услышал слова помощника прокурора Гардинга. Гардинг возмущался абсурдностью притязаний подсудимого — с ним, видите ли, должны обращаться в соответствии с правилами честной войны. Он, видно, забыл, что возглавлял банду воров и разбойников…
Ну что же, Гардинг по-своему прав. Соблюдения правил честной войны он от них не ждет. Мои ребята не воры, не разбойники — они бросили вызов разбойничьим законам гардингов и хантеров.
Нет, юридическое крючкотворство не для него. Недаром он с юности не любил краснобаев в судейских мантиях. Даже лучшие из них, те, что называют себя его друзьями, подчас сердят больше, чем враги. Но что несет Хилтон, сменивший Хойта защитник?
— Как можно обвинять Джона Брауна в подстрекательстве негров к бунту, когда негры не взбунтовались? Значит, суд штата Виргиния хочет вынести приговор намерениям, а не действиям? Но это противоречит англо-саксонским традициям судопроизводства, противоречит и традициям Юга.
Хилтон движим наилучшими намерениями, а ранит больнее, чем враги. Негры не поддержали. Эта боль притаилась в глубине, он старается приглушить ее, но она есть, он ощущает ее все время, с тех дней, с восемнадцатого, с девятнадцатого октября. Негры не поддержали.
Временную конституцию Хилтон называет химерой, безумием. А Хантер, главный его враг прокурор Хантер, возражает защитнику. Конечно, у него свои цели, он хочет поскорее вздернуть старого Брауна, но именно Хантер говорит, что временное правительство — это не дискуссионный клуб, это реальная угроза. «Их поведение в Харперс-Ферри выглядело безумием, но в брауновском безумии отчетливо проявился определенный метод».
Враг говорит лучше, чем друг. Враг лучше понимает его. Надо запомнить эти слова Хантера. Надо, чтобы эти слова знали.
Ему предоставили возможность говорить неожиданно, он считал, что все его товарищи должны пройти предварительную судебную процедуру.
Он не готовился к последней своей публичной речи, не составлял плана, не сидел над бумагой, не правил. Но он и готовился к этой речи много лет. Она просто выражала его жизненные принципы. Он совершенно не касался юридических тонкостей, он шел прямо к сути.
Его слова на суде записал Рассел, записали корреспонденты, напечатали в некоторых газетах.
Браун говорил, слегка наклонившись, опершись руками о край стола:
— Этот суд, кажется, признает значение закона божьего. Я вижу, здесь клянутся на книге, это, видно, Библия или, во всяком случае, Новый завет. Меня эта книга учит: «Поступай по отношению к другим людям так, как хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе». Она учит меня далее: «Помни о тех, кто в цепях, как если бы ты сам был скован с ними». И я намеревался следовать этим предписаниям… Я считаю, что выступать, как выступал я, — и всегда открыто, — что выступать на стороне угнетенных, на стороне бедняков, что так делать — правильно… Я не испытываю чувства вины… Пусть мои беспристрастные судьи решат, стал ли мир лучше или хуже от того, что я в нем жил.
«Он говорил застенчиво, скромно, слова звучали с особой мягкостью… Невозможно дать вам представление о мягком, даже нежном тембре его голоса в сочетании со спокойствием и мужеством…»
До него долетали обрывки из обвинительного заключения:
— …совместно с другими злонамеренными изменниками, неизвестными судьям, не ведая страха божья, будучи движимы ложными, соблазнительными, дурными советами других злонамеренных измен-пиков и внушениями дьявольскими…
Присяжные совещались сорок пять минут и вошли в залу с вердиктом: «Виновен».
Услышав приговор, он только поправил одеяло.
2
Стивенс спрашивает: а какой у вас был самый страшный день в жизни?
Уж во всяком случае, не день приговора. Этого Браун ждал, был готов…
Самый страшный? Шестнадцать лет тому назад, сентябрь сорок третьего года, он опускает в могилу четвертый детский гробик. В сорок третьем году в семье Браунов было двенадцать детей: старшему — двадцать два года, младшему — год. Больше двенадцати одновременно уже не было.
Дизентерия. Сначала заболел шестилетний Чарльз, умер через неделю. Мэри заледенела, едва не лишилась речи, молилась вместе с ним, но как-то деревянно, повторяла движения, шептала слова.
Смерть и раньше входила в его дом. Умер маленький Фредерик. Умерла первая жена Диана. Он уже омывал покойников, ужо закрывал невидящие глаза, уже опускал гробы в землю. Но ему показалось, с Мэри началась совсем другая жизнь. А тут смерть опять на пороге.
Похоронив Чарльза, возвращались с кладбища, дорогу перебежала черная кошка. Мэри не успела отпрянуть. Она слушалась Джона, но суеверий не могла побороть. Как он ни уговаривал ее: «Значит, ты ангелу-хранителю не доверяешь», она соглашалась, обещала, но это было сильнее ее.
Дома — трое в жару: Остин, Питер, Сара. Остину только год, орет благим матом, ничего еще не понимает. А Саре уже девять, она понимает все. Большие грустные глаза. «Ничего, папочка. Мне ничего не надо. Вы сами отдохните».
Джон оглядывается, словно хочет запомнить их. Он их всех укачивал, пел песни, чаще не колыбельные, просто свои любимые. Даже военные марши.
Сейчас он выносит горшки и тазы. Понос и рвота. Понос и рвота. Он падает с ног от усталости, но взваливает на себя еще и еще. Понимает, что это не только из любви к детям, но и потому, что боится. Боится остаться наедине с Мэри, наедине со своими мыслями. И врача поблизости нет.
— Может, я съезжу за доктором?
— Поезжай, — роняет Мэри безучастно.
Как их одних оставить? Четырнадцатилетняя Рут возится по дому, но все-таки девочка. Остальных здоровых — Фредерика, Салмона, Оливера, Уотсона — надо кормить, да и оградить от болезни. И самим есть. И дом. А этим, заболевшим, видно, уже не поможешь.
Двадцать первого сентября — Остин. Утром на рассвете вздохнул, как взрослый, заплакать не успел — и нет его. Джон ладил гробик, поставил на стол, на следующий день хоронить. А назавтра — Питер. До трех лет не дожил. Какие характеры разные даже у маленьких, и умирали по-разному. Питер стал биться, на губах выступила черная пена. Мэри отерла пену чистой белой тряпочкой, затих. Так и остался скрюченный. Когда обмывали, распрямили ручки и ножки. Второй гробик. Сара все видит, умница, лучше бы не была она такой умницей. Соседские старушки давно вздыхали, глядя на нее: «Не жилица на этом свете». Смотрит большими глазами, похожа на его мать. Джон все время читает ей из Библии.
— Вы не устали, папочка?
Она очень стыдится поноса и рвоты. Стесняется, что за ней надо убирать. Только они отвернутся, пробует сама встать, идти сама, а ноги не держат.
Она давно уже помогала матери, ухаживала за малышами. Остина особенно любила. Когда гроб с его телом вынесли из комнаты, она ему помахала — вроде бы «до встречи!».
Умирала ясная, просветленная. Сама благословила родителей: «Будьте счастливы».
Острая боль и мгновенный приступ гнева, бешенства.
— За что? Не хочу, как Иов! Ты уже взял троих!
Нет, не вслух, он вслух не посмел бы: рядом Мэри, рядом другие дети. Да и сама Сара.
Так же просветленно умирала его мать — первое его детское горе. Ему было чуть меньше лет, чем сейчас Саре. Но он не смиренный, он и тогда бунтовал, выкрикивал что-то.
Три гробика в одну могилу. Засыпали землей. Он обнял Мэри за плечи. Она уже не плачет. Почерневшее лицо, сухие глаза, темные круги. Когда Чарльза хоронили, плакала. Казалось, все слезы выплакала двенадцать дней тому назад. Нет, век тому назад. А сейчас — нет слез. Он знает, что со слезами ей было бы легче, пытается заговаривать с ней, вызвать слезы.
— Помнишь ножки его толстые в перетяжках? Помнишь, как ты учила Сару говорить «дай», а она тебе протягивает пряник обратно и говорит: «На… тебе…»?
Мэри молчит отчужденно. Собирает на стол. Поминки. Двенадцать дней тому назад он сидел здесь же, на своем месте, были поминки по Чарльзу. И тогда было очень больно. Каждый ведь особенный. Но такого, как сейчас, не было. Моровая язва.
За что?
Мэри он говорит: «Бог дал, бог и взял». Она молчит.
Соседи разошлись, вымыла, как всегда, посуду. Сидит на кровати. Руки висят. Старая. Мэри старая? Десять лет они женаты. Ей двадцать семь. Она носила, рожала, кормила, теперь они — в могиле. Четверо.
Мэри так и не ложится. Просидела всю ночь. Он то засыпал тяжелым сном, то мгновенно просыпался, ему слышались зовы. Нет, теперь никто не зовет. Здоровые дети крепко спят. Джон-младший уехал, он помог бы. Из старших детей дома только Джейсон. Но он не женат, детей своих еще нет, не может до конца понять, что это такое — смерть ребенка.
Джон следит за взглядом Мэри. Она неотрывно смотрит на свой живот. Семимесячная беременность. Эти дни боялся: выкинет.
«Нет, нет, Мэри, — заклинает он ее, — нет, Мэри, не смей так думать. Надо рожать. Надо обязательно рожать. Ты умница, ты мужественная. Ведь четверых потеряли».
Они оба молчат. Это все он про себя говорит, молча внушает ей. Мэри научилась слышать его и без слов. Зачем же рожать, чтобы потом хоронить?
Сара мечтала о сестренке. Назвать новорожденную, если будет девочка, Сарой? Нет, страшно. Лучше — Энн, как давно хотели. Только бы доносила.
Доносила. Энн выросла и помогала на ферме Кеннеди, перед нападением на арсенал.
Как трудно было с ними со всеми. Как Мэра уставала. А потом стало легко. Опустелый дом. Утро, когда не хочется вставать.
Может, бог и впрямь такую черную весть нам послал, — не рожайте, мне ваши дети неугодны? Нет, быть того не должно, нельзя позволять себе так думать. А отсюда надо переезжать. Гиблое место. Это Мэри ему внушила.
Вот он, самый страшный день — двадцать третьего сентября восемьсот сорок третьего года.
Шестнадцать лет тому назад.
3
Ноябрь, восемьсот сорок седьмой год. Двое — белый и черный — нагнулись над картой Америки, разложенной на большом обеденном столе. Впрочем, одного не назовешь совсем белым: Джон Браун столько времени проводил на воздухе, что лицо его давно загорело, обветрилось, стало коричнево-красноватым. Другого не назовешь совсем черным: Фредерик Дуглас, тридцатилетний беглый раб, светлолицый мулат. Царственный гигант. В тридцать восьмом году он бежал с Юга.
Гаррисон получил письмо от одного аболициониста: «…наша публика страстно ждет, чтобы перед ней выступил негр, особенно раб. Толпы сбегутся, чтобы услышать такого человека. Будет очень разумно использовать для нашей пропаганды нескольких негров, если найдутся подходящие люди…» И автор письма рекомендовал Фредерика Дугласа, «недавнего выпускника школы рабства с дипломом об окончании, высеченном на его спине…».
Первая же речь Дугласа, произнесенная экспромтом, стала событием, принесла ему известность. Привлекала внешность — его называли «нумидийский лев» из-за гривы волос, привлекала судьба, проявленное мужество, ораторский талант. Вскоре на его выступления стали приходить, как на спектакли.
После его речи в Бостоне Уэнделл Филипс, президент общества противников рабства в штате Массачусетс, обратился к публике:
— Можно ли такого человека назвать вещью? Обращаться с ним, как с вещью?
Многоголосое:
— НЕТ!!!
Дуглас слышал о Брауне от негров. Рассказывали, как этот белый посадил негров на свою скамью в церкви, пытался организовать негритянскую школу. О нем говорили беглецы, которые останавливались на брауновской станции тайной дороги, с таким почтительным придыханием, что Дугласа это скорее настораживало, чем привлекало, — он не любил поклоняться. Но получив приглашение, Дуглас приехал к Брауну в Спрингфилд не специально, у него в этом городе выступление.
Те же качества, что одних к Дугласу притягивали, у других вызывали недоверие: так красив, так умен, образован, так прекрасно говорит, — полно, раб ли он? Может, обманщик, только выдает себя за раба?
Когда сомнения высказывались, Дуглас поворачивался, поднимал рубаху, показывал рубцы.
Брауна поразил голос Дугласа — низкий, густой, с переливами, — ему бы петь в церкви. Браун еще не знал, что Дуглас действительно часто поет посла собраний. «Миннезингер американской свободы» — так его называли.
Сначала Фредерик пришел в лавку. Когда они вместе отправились к Брауну домой, он очень удивился — спартанская простота, почти бедность. Он слышал о денежных затруднениях Брауна, но такого не представлял.
Большая семья. Прислуги нет. Дети — и мальчики тоже — помогают матери. Все приветливы к гостю. В том, что гость — негр, и для Мэри Браун, и для детей нет ничего необычного.
Хозяина слушаются беспрекословно. На вкус Дугласа — слишком все строго. Тишина. Молитва. Младшие и рта не раскрывают. Дугласу самому часто кажется, что негры чересчур болтливы и шумны, однако от такой тишины ему как-то не по себе.
Еда скромная, но сытная: суп, картошка, капуста.
Это не первый белый дом, куда Дуглас приходит. Не первый, но особенный.
Аболиционисты принимали Дугласа радостно, он очень скоро стал необходим. Личные же отношения, за редкими исключениями, складывались непросто. Одни не хотели сближаться с ним, не звали к себе, — может, замкнутые люди.
Откуда Дугласу знать, почему так часто близость на собраниях сменяется отчужденным холодком, как только митинг кончается? Может, и так думают: «Равенство равенством, но на расстоянии. Рабство — позор, с ним надо кончать, пусть неграм будет хорошо, я все для этого сделаю, но общаться с ними не хочу».
Другие белые, напротив, бросались ему в объятия, начинали говорить о том, как страстно они любят негров, именно негров. Фредерику становилось даже неприятно, когда пусть искренне, но назойливо хвалили, восхищались, говорили об особой одаренности негров, о том, как прекрасно они поют, танцуют, как вкусно негритянки готовят, подчас же, после выпивки, наедине, какие негритянки удивительные любовницы… И почти никто из тех белых, кто окружал Дугласа, не говорил о недостатках негров — вдруг он обидится.
Браун заговорил о знакомых неграх.
— Гарнета я люблю, а Томас мне не правится, хитрый, себе на уме.
Заспорили. Фредерик был противником Гарнета на негритянском съезде. В ответ на призыв Гарнета к восстанию (тот самый, что напечатал Браун) Дуглас возражал, утверждая, что стихийные мятежи неизбежно кончаются страшными разгромами. Большинство участников съезда тогда поддержали Дугласа.
Браун спорил с Дугласом, но при этом Дуглас с удовольствием, с удивлением чувствовал, что собеседник вовсе не думает, что разговаривает с негром о негре. Он говорит с товарищем, с равным, соглашается ли, возражает ли. Никакой стенки, заранее выстроенной.
Дуглас смотрит на Джона-младшего, и приходит ему в голову смешной вопрос: а если бы этот парень влюбился в мою дочку, согласился бы Браун на такой брак? И сам себе отвечает: Брауну все равно, какого цвета кожа, а что касается будущей невесты сына, ему важнее было бы, какая она и как она относится к рабству. (Именно об этом спросил Браун Генри Томпсона, который стал мужем его старшей дочери Рут.)
Браун показал Дугласу наброски своей статьи «Ошибки Самбо», написанной от первого лица, от имени негра. И Фредерика ничуть не задело слово «Самбо» — та презрительная кличка, с которой белые расисты обращались к неграм. Не задело потому, что Браун говорил то и так, что и как мог сказать сам Дуглас. Ведь это верно, что у его родного негритянского народа немало дурного. И от этого надо освобождаться, не только от плантаторского кнута. Да и само рабство не сбросишь, если не сбросишь приспособленчество, лень, равнодушие, трусость…
Браун спрашивает, гость рассказывает. Как хозяйка научила алфавиту. Как сам учился писать на заборах. Как били. Однажды впервые дал сдачи. Писал, уже на бумаге, украдкой, страшно было — прятать надо было эти листы, вдруг хозяин найдет.
— Даже вам, Браун, детям вашим я не могу объяснить, что это значило для меня, ведь вас просто научили писать и читать, никто этого не запрещал. А мне хотелось читать, меня тянуло к книге. Потому, едва сам научился, попытался в воскресной школе после проповеди учить других. Донесли. И к нашей хижине по приказу хозяина подошла толпа: «Не надо нам тут нового Пата Тернера!»
Браун рассказал о своей неудачной попытке устроить школу для негритянских детей, но, конечно, это не одно и то же, испытания Брауна не на своей шкуре, не на шкуре своих детей.
На те пятьдесят центов, которые Дуглас уже на свободе заработал чисткой ботинок, он купил первую собственную книгу — школьную хрестоматию «Колумбийский оратор», сборник стихов о борцах за свободу в разных странах.
Много позже Браун узнал, что и фамилию «Дуглас» Фредерик взял из поэмы Вальтера Скотта «Дева озера», сам-то он так и не прочитал ни этой, ни других книг прославленного шотландца.
— Грамотному мне, конечно, стало легче, но в чем-то и труднее. Только тогда до меня начало доходить: я — раб. Раньше как заведенный: работа, сон, еда, еда, сон, работа. А голову чуть поднял, тут-то боль настоящая и подступила. Тут я и спросил себя: какая разница между мною и лошадью?
— «Познание приумножает скорбь» — так сказано.
На каждый случай у Брауна цитата из Библии. А Дуглас не то что неверующий, но о боге думает мало, совсем мало.
Когда раньше к Браунам попадали беглые рабы, раздавались отрывистые слова, вздохи, восклицания. А чаще — угнетенное, затравленное молчание.
Сейчас — по иному. Сейчас он словно сам там, на плантации. И хозяина видит с занесенной плеткой, и девятнадцатилетнего юношу, который решил: «Нет. Больше не хочу, не могу». Он видит потому, что перед ним — талантливый рассказчик. Отбор слов, интонация, мимика, жесты — все точно.
Не в первый раз Дуглас рассказывает, но каждый раз — по-другому. Слушатели ведь разные.
Рассказывает о своей поездке в Англию, где он встречался с членами парламента, с известными деятелями литературы и искусства. Англичане и выкупили Фредерика из рабства.
— Молодцы. Хорошо, конечно, но остальные-то как? Три миллиона негров? Их никто не знает, их никто не выкупит. Их бьют и убивают втихомолку.
— Когда меня выкупили, я поклялся: никогда не забуду о плантации.
Дуглас хочет понравиться Брауну. Он говорит гораздо больше, чем хозяин, но ощущает, какой значительный перед ним человек. Быстро находят, что их объединяет, — оба рано потеряли матерей, оба не забыли детского горя, у обоих настолько оно живо, что вот при первом же знакомстве рождается братство — братство сирот.
Первое письмо Брауна о неграх — письмо брату о негритянской школе — написано в 1834 году. В том же году Дуглас впервые ответил ударами надсмотрщику, избивавшему его. В 1839 году Браун дал клятву — посвятить свою жизнь борьбе против рабства. В том же тридцать девятом Дуглас сблизился с аболиционистами. Знамения?
На следующий день Дуглас должен был ехать в другой город. Он переночевал у Браунов. Вечером остались наедине. И тогда заговорил хозяин.
— Я давно ищу такого человека, как вы. Потому хотел познакомиться с вами, потому и пригласил вас. Вот мой план освобождения негров. Смотрите.
Двое нагнулись над картой Америки. Аллеганские горы. Хребет тянется с Юга через всю страну.
Браун излагает Дугласу только что зародившийся план: создать в Аллеганах военную силу из беглых рабов.
Дугласу приходилось слышать множество планов освобождения, сам немало думал и придумывал, но такого дерзкого — никогда. Ни от кого. Стал прикидывать, перебирать знакомых.
— Сомневаюсь, Браун. Бежать, чтобы освободиться, сбросить оковы, — да. И на это решаются совсем немногие. Но бежать, чтобы сражаться за других, — я не представляю себе, кто на такое пойдет. Кто осмелится поднять руку против белых! Ведь негры с младенчества приучены: белый господин мудр и всесилен, надо бояться его голоса, его взгляда… Все-таки, видно, вы не знаете рабства…
— Я не с луны свалился и не из Европы приехал. Я знаю, что рабы — люди, а люди — разные. Это овцы кажутся одинаковыми, и то, когда я гнал отцовских овец еще в детстве, убедился: у каждой свой норов. У людей — тем более. Мне достаточно знакомства с вами. Да, вы правы, большинство стремится лишь к побегу. Ну что ж, те, кто только бегут, чтобы устроить свою жизнь, пусть бегут в Канаду. Но есть и другие, я уверен, что есть. Вот из них надо создать боевые группы. Неужели, по-вашему, в Америке не найдется нескольких сот настоящих храбрецов, настоящих борцов против рабства?
— Не знаю… А мирные пути, Браун? А политика? Существуют кулуары. Именно там на самом деле принимают решения. Можно влиять на конгрессменов, да, наконец, и на самих рабовладельцев — они ведь тоже люди разные…
Браун не мог не возражать Дугласу, только аргументов у него еще не хватало. Дуглас парировал сравнительно легко.
— Браун, рабовладельцы преследуют беглецов с овчарками. Вы когда-нибудь видели, как такой пес кидается на человека?
Этого Браун не видел.
— Плантаторы, чтобы сохранить собственность, будут продавать своих негров вниз по реке.
— Ну что же, и это неплохо, опять же мы окажемся нападающими, ведь мы насильственно отодвинем границы рабовладения.
Дуглас вздыхает. Он младше собеседника на семнадцать лет, но чувствует себя старшим, будто он скептик, поучающий юношу-энтузиаста. Может быть, старит двухвековой мучительный исторический опыт — опыт предков-рабов?
— На какие же реальные результаты вы рассчитываете? Добьемся ли мы успеха оттуда, из горных убежищ?
— А что такое «результат»? Что такое «успех», когда речь идет о свободе? Каковы результаты, каковы успехи аболиционистов?
— Вот посмотрите: «Бороться с рабством во всех его формах и проявлениях, выдвигать проекты раскрепощения негритянского народа, требовать единого мерила общественной морали для всех, способствовать нравственному и интеллектуальному прогрессу негритянского народа и ускорить день освобождения из неволи трех миллионов наших сограждан…»
Это из первого номера газеты «Северная звезда», которую Дуглас только что начал издавать.
Единое мерило общественной морали — у Брауна оно, видно, в крови — единое для всех. Но сколько таких белых в огромной Америке?
— Вот мое главное дело, вот во что я верю. Убеждать, разъяснять, воспитывать, готовить к освобождению от рабства умы и души. Чем больше мы сегодня потратим чернил, тем меньше прольется завтра крови. Я прихожу в редакцию на Буффало-стрит, а там уже очередь негров за моей газетой… Значит — нужна. Пожалуй, у меня в жизни еще не было большей радости… Во всяком случае, Браун, проект ваш очень серьезен, над ним — думать и думать.
— Для этого я и позвал вас.
Просидели до трех часов ночи, обсуждали план, спорили. Часто отвлекались.
После этой встречи Дуглас написал в своей газете, что у него было частное интервью с Брауном, это «белый джентльмен, однако он сочувствует чернокожим людям и так глубоко заинтересован в нашем деле, будто его собственная душа пронизана железными шинами рабства…».
Идея освобождения негров стала для Брауна единственной и выше жизни — своей и чужой. Браун необыкновенно привлекал Дугласа и немного пугал. С первой же встречи он почувствовал не только общность, но и различия. Хозяин пока различий не замечал. Ему важно только одно: его план Дугласу понравился. С оговорками, с возражениями, но понравился. Это Браун слышит хорошо: понравился. А оговорки, а возражения слышит, конечно, но глухо, стряхивает, не остаются.
Негр-единомышленник — как он искал, как он ждал такого. Не забитого. Не угнетенного. Без ошибок Самбо. Гордого. Готового сражаться. Нашел.
Дугласу слова Брауна очень приятны, тешат тщеславие. Но он не совсем убежден, тот ли он, кого ищет Браун?
«Хозяин дома — похоже, что он станет и моим хозяином» — это поздние дугласовские слова, но нечто подобное он испытал уже тогда. А видел он Брауна не на трибуне, не во главе войска — дома. Где обычно люди расслабляются. Но он и дома выглядел так же, как и везде. Главнокомандующий. Может, Браун и прав.
Уезжая, Дуглас напряженно спрашивал себя: что, Браун не ценит жизни? Не случайно он за Гарнета: «Лучше всем нам погибнуть!» Все или ничего.
Нет, не так. Ценит. Но по-другому. Я — негр, я готов посвятить свою жизнь освобождению негров, а он готов умереть ради этого. Да я и не могу сказать, что каждый мой час отдан только борьбе. Сидел на станции и глаз не мог оторвать от стройных этих ножек, из-под длинной юбки только щиколотки и видны, но прелесть какая! Браун не стал бы смотреть. И даже рассказать ему про это я не могу. Ну конечно, мне тридцать, а ему сорок семь лет, стар уже, но он и десять лет тому назад не стал бы. Уверен, что не стал бы.
Глава пятая Рабовладельцы наступают
1
Сегодня он не мог вспоминать о прошлом. Сегодня судят товарищей — Кука, Коппока, Копленда, Грина.
С горечью глядят друг на друга, Стивенс понимает без слов. Не выходя из камеры, не поднимаясь с койки, они слышат каждый звук: вот те собрались, вот их вывели из тюрьмы, солнышко — подняли они головы вверх или нет? Их ведут по улице, толпа зевак, теперь уже не доносятся крики: «Линчевать!» Устыдились или просто устали? Жаль, что путь так короток, так близко от тюрьмы до зала суда.
Вчера еще он уговаривал в письме родных: «…я вполне бодр, моя чистая совесть свидетельствует, что жил-то я все-таки не зря… Я верю, что… моя кровь, моя смерть подтвердят правду господню и правду человека и будут неизмеримо больше содействовать успеху того Дела, которому я посвятил себя, чем все, ранее сделанное мною в жизни. И я прошу вас всех спокойно и кротко с этим смириться и ни в коей мере не чувствовать себя униженными…»
А сегодня не может сесть за стол, трудно отвечать на письма. И часы тянутся сегодня медленнее, чем за все эти недели. Ждет. Чего он ждет? Нет ведь никаких сомнений в том, что всех тоже приговорят к виселице. А все-таки…
Дверь открылась. Вошел Эвис.
— Не помешаю, капитан?
— Вы не можете мне помешать. Вы только помогаете.
— Мне давно хотелось сказать… Я ведь тоже считал вас врагом, посланцем дьявола. Да, говоря по чести, я и суд считаю справедливым, и, вы уж простите, приговор. Мы, виргинцы, не можем допустить, чтобы на нас нападали, чтобы подстрекали рабов, чтобы порядки наши опрокидывали. На этом Юг стоял и стоять будет века.
— У вас же нет рабов.
— Ну и что же, я все равно южанин. Но я пришел совсем про другое говорить. Я сам был в Харперс-Ферри. Вы лежали раненый, какой бой приняли, рядом — трупы сыновей, друзей, а губернатор и те, кто с ним, вас допрашивали. И всю вину на себя брали, всех выгораживали — только истинные джентльмены так поступают.
Они требовали ответа на вопрос: кто вас посылал, кто снабжал деньгами. А вы: «Меня послал Джон Браун, направленный рукою господа». Сейчас повторяю — и то мурашки по спине. Вот тут я впервые и понял, что вы за человек.
Одно жаль: оказалось, не все ваши стоили, чтобы их так защищать, вот Джон Кук товарищей назвал, признался. Вы из-за них не должны так горевать. И ведь как глупо Кук поступил, а чего добился? Сидит в камере, как и вы, и конец будет такой же. Думаете, достопочтенный мистер Хантер к нему лучше, чем к вам, относится? Ничего подобного.
— Спасибо за добрые слова, Эвис. Но мне тем более обидно: как вы не можете понять, что рабство — зло, грех, самое большое зло, самый большой грех.
— А мне вас странно слушать: такой умный, такой религиозный человек, какие письма вы пишете! Я читаю и удивляюсь: вот только что дал вам чистый лист бумаги, а возвращается ко мне будто книга или проповедь. Вы Библию знаете лучше всех, а не видите, что бог нарочно сделал: одни черные, другие белые, чтобы и неграмотный, и малый ребенок сразу же поняли, кто должен быть хозяином, а кто слугой. Тут и рассуждать нечего. Я неграм зла не причинял, я и животных люблю. Наши виргинские негры хорошие.
Браун ощутил тоскливое бессилие. Он всегда бывал рад Эвису, сегодня тронут неуклюжими попытками поддержать его, но как трудно слышать эти навязшие доводы, как заставить себя продолжать спор… Даже тогда, в арсенале, после поражения, среди трупов, и то было легче.
— Друг мой, но ведь негров тоже создал бог, им так же больно, как нам с вами, когда их бьют, мучают или, — он выглянул в окно, — когда их повесят за шею…
— Не надо.
— Не буду, не буду. Я-то как раз знаю и плохих негров. Среди них есть хорошие и очень хорошие, а есть плохие, есть и подлецы. Я даже написал об этом статью «Ошибки Самбо».
— Я думал, аболиционисты никогда не говорят «Самбо».
— А я говорю. Раз белого могу обругать, значит, и негра могу.
— Чудной вы человек. Я вчера прочитал из вашего письма, что Христа ведь тоже судили как уголовника, а жена мне сразу: «Как же мы с тобой не догадались? Он ведь божий посланец…» Я ей ответил: «Глупая ты, глупая…» А сегодня утром проснулся, подумал: «Не такая уж глупая».
— Спасибо ей и вам за все. Она добрая женщина. Вкусно стряпает.
— Вот вы говорите «хорошие негры». Вы за них муки принимаете, жизнь отдаете. А они где были? Почему не помогли вам? Мистер Вашингтон, племянник великого президента, вовсе не такой уж добрый хозяин, ваши освободили его негров, а они все разбежались, на его плантацию вернулись. Потому что они-то знают, их место там, они же ленивые, им самим сроду семью не прокормить.
Браун и себе не может ответить: почему они разбежались? Он сердится на Кука, нельзя не сердиться. Но какая-то часть правды за ним есть, когда он говорит: «Нас обманули». Браун никого не хотел обманывать. Он был убежден, что негры придут, прибегут, поддержат. Не все, конечно, но человек пятьсот. Хоть двести.
Он вспомнил свой последний рейд в Миссури, одиннадцать рабов тогда довели до границы. Негры ушли в Канаду. Была в этой партии беременная негритянка, она в пути родила мальчика, назвали Джоном Брауном. Рожденный по пути к свободе. Какой он будет, этот черный Джон Браун, когда вырастет?
Сколько раз Дуглас ему говорил о том, как рабство калечит души. И люди должны долго дышать воздухом свободы, чтобы понять, какой это ценный дар. А выросшие на цепи, в конуре, что они знают о свободе? Потому Дуглас и все его единомышленники так надеются на книги, газеты, речи: воспитывать, воспитывать, готовить людей к свободе.
— Наверно, я плохой воспитатель, Эвис.
— Этих сам черт не воспитает.
Непонятно было, о ком, о неграх полковника Вашингтона или о Куке. Надо смириться с такими, как Кук, простить…
— Принести вам газеты, мистер Браун?
— Принесите, пожалуйста.
Да, сегодня бог решил испытывать меня, все валится, одно за другим. Геррета Смита отправили в сумасшедший дом.
И нахлынули воспоминания.
…Тогда, в 1846 году, Браун узнал, что богатый землевладелец, известный филантроп Геррет Смит выделил часть своего имения в северной части штата Нью-Йорк и роздал эту землю неграм.
Отправился к Смиту.
— Я хочу купить у вас участок. Я поселюсь среди негров, покажу им, как надо обращаться с землей. Я сам пионер, я привык к такому климату, к такой почве…
Стук топора — один из первых звуков, вошедших в жизнь. Любимый с детства.
Он купил участок — двести сорок четыре акра, по доллару за акр. Дом построил зять, Генри Томпсон. Семья переехала в Северную Эльбу. Ему не удалось тогда стать Добрым Белым Отцом — эта затея быстро прогорела. Негры — преимущественно беглецы из южных штатов. Они никак не могли привыкнуть к суровому климату, не умели обрабатывать такую землю, им не оказывали никакой помощи. Сам Браун в то время был зажат в тисках долговых обязательств и не мог сразу перебраться. Нанятый управляющий оказался обманщиком, разорил негров.
Дружба со Смитом — с тех пор. Без его щедрой помощи он не вооружил бы своих людей ни для войны в Канзасе, ни для Харперс-Ферри: двадцать долларов, двести долларов, наконец, перед самой атакой на арсенал, две тысячи долларов.
Сразу после Харперс-Ферри были обнаружены письма к Брауну, среди них и письма Геррета Смита. Его имя попало в газеты, сплетенное с именем Брауна.
Смит немедленно послал своего зятя в Огайо и в Бостон уничтожить все оставшиеся свидетельства его связей с Брауном. А сам перестал есть и спать. Посетивший его еще до приговора Брауну корреспондент «Гералд трибюн» отметил крайнюю нервозность и страх. Геррет Смит боялся. Ему казалось: вот сейчас за ним придут.
Не выдержал. Врач-психиатр сказал, что родные доставили пациента поздно, а дальнейшее промедление вообще могло привести к гибели. Состояние тягчайшее.
Геррет Смит в сумасшедшем доме.
Как часто за это время Браун слышал: «сумасшедший», «безумец».
На второй день заседаний суда адвокаты зачитали телеграмму редактора газеты «Саммит Бикон» в Акроне, он утверждал, что в семье Браунов — наследственное безумие, в Огайо это всем известно. Позже суд получил еще восемнадцать заверенных свидетельств о родных Брауна с материнской стороны: сестра матери умерла от психического расстройства, дочь этой тетки — два года в сумасшедшем доме, сын и дочь брата матери тоже. Родная сестра Брауна безумна, у ее дочери — тяжелая неврастения.
Браун пришел тогда в бешенство.
— Это жалкий искусственный предлог со стороны тех людей, которые должны были бы вести себя по-другому, если они вообще решили вмешаться в мое дело, я отношусь к этому просто с прозрением.
Кто же сумасшедший?
Тысячи раз этот вопрос задавали друзья и враги Брауна, да и он сам. Кто же сумасшедший — тот, кто мирится со злом, с безумным миром, или тот, кто решается выступить против зла, пусть и не рассчитав, пусть и в одиночку, не соразмерив силы.
Фредерик Дуглас возмущался: «Это ложная дружба, если люди пытаются исказить его характер, умерить славу его подвигов во имя спасения его жизни… Слабый и трусливый век, когда безумцем называют человека, который поднимается до высот самозабвенного героизма, человека, который считает, что его собственная жизнь не стоит ничего по сравнению со свободой миллионов его соотечественников… Неужели героизм и безумие стали синонимами в нашем американском словаре?»
Слова «безумец», «сумасшедший», «маньяк», «одержимый» не сходили с газетных страниц. Правда, в одной из бостонских газет было сказано, что «если Джон Браун безумец, то и четверть жителей штата Массачусетс — тоже безумцы».
Он понимал, что друзья и родные просто хотят спасти его от виселицы. Он и сам не хочет на виселицу. Но такую цену платить за спасение тоже не будет. Самому предать Дело жизни, выставить его на посмешище — нет, тогда и жить было незачем.
Он утверждал, что совершенно нормален. И союзниками опять стали его противники.
Губернатор Уайз отверг версию о безумии. Но счел своей обязанностью удостовериться лично.
Уайзу все это время хотелось пойти к Брауну. Вот и предлог. Без предлога пойти было неловко, ведь сам требовал от своих подчиненных создать вокруг камеры Брауна «санитарный кордон».
Уайз верил в санитарные кордоны. Не только для других, но и для себя. Недаром он никогда не ступал на землю штата Массачусетс. Если ты истинный южанин, то и не оскверняй себя, не дыши воздухом, где родилась, плодится и размножается аболиционистская зараза.
Собственно говоря, один раз он уже встречался с Брауном. Именно об этой встрече Брауну напомнил Эвис.
Девятнадцатое октября пятьдесят девятого года. Штурм пожарного сарая в Харперс-Ферри закончен. Двери взломаны. Мертвые мертвы, среди погибших — Оливер и Уотсон Брауны.
Джон Браун и Аарон Стивенс тяжело ранены, их перенесли в контору. Темнота, кто-то держит факел. Может, оттого сцена, запечатлевшаяся в памяти Уайза во всех подробностях, почти нереальна. Как во сне.
Браун, и Стивенс лежат на подстилке. Рядом — Библия. Шесть джентльменов в цилиндрах, в черных сюртуках — стоят. И один военный — лейтенант Стюарт из Вашингтона, участник штурма.
Люди сменялись, поразительный допрос продолжался более трех часов. Роберт Ли, полковник морской пехоты, вызванный из Вашингтона для подавления мятежа, в самом начале спросил, хочет ли, может ли Джон Браун сейчас отвечать на вопросы, если нет сил, тогда все уйдут.
Хочет. Значит, может. Хочет отвечать, хочет объяснить мотивы своих поступков, поступков своих товарищей. Хочет проповедовать.
Браун лежал, они стояли. Существует рисунок, один из репортеров сделал, да и свидетельств еще не надо, все помнят, прошло-то всего две недели! Но сегодня Уайз уже едва ли не готов присягнуть, что на самом деле было совсем не так, они не стояли, а сидели на скамьях. Браун не лежал, а стоял за кафедрой, и шла словесная дуэль.
Но все-таки он лежал, а они стояли. Неудобства он словно и не замечал. Ясные, быстрые, четкие ответы, мгновенная реакция не только на вопросы — на проходные реплики посторонних…
И этот янки, преступный мятежник, он давал нам, южным джентльменам, уроки благородства.
Сенатор Мэйсон:
— Если вы скажете, кто вас сюда послал, кто предоставил для этого средства, вы дадите очень ценную информацию.
Браун:
— Я буду отвечать свободно и правдиво на вопросы, касающиеся меня. Я скажу все, что могу, не роняя своей чести. Но я не буду отвечать ни на один вопрос, касающийся других людей.
— Кто задумал?
— Я.
— Кто снабжал деньгами?
— Я.
— Кто командовал?
— Я.
Не назвал ни одного имени, ни участников, ни помощников, ни сочувствующих — вне зависимости от того, известны уже эти имена или нет, — ни одного. Ни одного города. В его ответах самое конкретное: «Мои единомышленники в свободных штатах…»
Допрашивающие кругами возвращались и возвращались к тем же вопросам, но бесполезно.
Лейтенант Стюарт:
— Расплата за грех — смерть.
Браун:
— Если бы я захватил вас в плен, если бы вы были ранены, я воздержался бы от подобных замечаний.
…И опять он был прав. Не хотелось признавать, но ведь прав. Его, конечно, необходимо казнить: чем он умнее, тем хуже, чем благороднее, тем опаснее. Но Стюарт-то тогда не должен был угрожать — это же против кодекса южной чести. Чему их там учат, в Вашингтоне?
— Мы не разбойники, не грабители, мы хотели освободить негров, исправить то зло, которое вы, джентльмены, вершите каждодневно…
Это Браун повторял несколько раз.
Нет, обычаи Юга явно нарушались: какая ж дуэль, когда их много, а он один и ранен?
Он был невозмутим. Как ему, тяжелораненому, удавалось лежа поворачиваться то к одному, то к другому?
— Со мной вам очень легко покончить, я и так уже на краю гибели, но вопрос этот, негритянский вопрос, с ним вам придется еще всерьез столкнуться…
Однако Уайз вовсе не считал, что покончить с Брауном легко.
Теперь надо пойти к нему в камеру.
— Жизнь человека, губернатор, лишь краткий просвет между двумя пропастями. Все мы вышли из одной, все мы неудержимо несемся к другой. Я по вашей милости уйду немного раньше вас, но что значат эти мгновения рядом с вечностью?
Почему Уайз вздрогнул? Разве он не знал, что смерть — удел каждого?
«Каждого, но не мой же. Я-то молодой, здоровый, белый, я — губернатор…»
Именно здесь, в камере заключенного, он впервые явственно представил себе свои похороны, торжественный кортеж, пышную церковную церемонию…
«…потому думать надо не о смерти, а о жизни».
И Уайз втянулся в разговор о жизни. Они спорили о рабовладении, приводили друг другу исторические, юридические, теологические доводы.
— Знаете, Браун, я уже четыре года губернатор штата Виргиния. Плох тот губернатор, который не стремится в Белый дом. Да, я честолюбив, как и вы, впрочем. Но главная моя забота — вовсе не моя карьера, поверьте, вас-то мне незачем прельщать, мне ведь не надо добиваться вашей поддержки на выборах. Я люблю Америку, Браун, настоящую Америку, а вы гонялись за химерами — свобода, равенство… Я хочу видеть эту страну сильной, единой. У нас огромное будущее. Мы можем стать богаче Старого Света, богаче всех в мире. Для этого необходимы дельные, здравомыслящие люди. Вы считаете меня негрофобом. Это неверно, я стремлюсь к тому, чтобы наши негры жили хорошо. Просто я стою за порядок — каждый должен знать свое место. Кстати, я и весь белый сброд отдам вместе с неграми, только бы моя родина была первой в мире. Вот вы, Браун, — один из самых умных людей, с которыми мне пришлось столкнуться, но вы — и самый мой заклятый враг. Потому что никакие англичане не могут нам принести столько вреда, сколько инакомыслящие.
— А я, губернатор, не меньше вас люблю Америку. Начнись опять война хоть с Англией, я бы первый взял ружье, раньше ваших южан и сражался бы не хуже. Но я хочу видеть свою родину не страной рабов, а страной свободных людей. Да, я согласен с вами — самой сильной, по и самой свободной в мире. Почему люди с черной кожей считаются людьми второго сорта, а то и вовсе не людьми? Разве это по-христиански?
— А убивать — это по-христиански?
— Рабовладение — грех, рабовладельцы — грешники, потому под защитой нравственного закона они не находятся. Да мы и не убивали, наоборот, стремились охранять жизни, но на войне без жертв но бывает.
— Так можно оправдать любой мятеж.
— Наш, во всяком случае.
— Не будем говорить о христианстве, мы с вами не священники. Вы исходите из ложной посылки. Вам кажется, что люди наделены равными правами, ибо они равны от рождения. Сколько бед принесла эта ложная посылка, которую Джефферсону вздумалось вписать в Декларацию независимости. На самом деле люди вовсе не равны. Даже в таком маленьком отряде, как ваш, разве можно сравнить вас с другими?
Он бросил взгляд в сторону койки Стивенса, тот лежал, не поднимая головы, как он обычно делал при посетителях.
— И среди детей нет равенства, стоит только понаблюдать за ними внимательно. Прав не Джефферсон, а бывший вице-президент сенатор Кэлхун, вот поистине великий человек, на таких Юг стоял и стоять будет. Смотрел на мир зоркими, открытыми глазами. Поэтому и называл себя и своих сторонников «военными ястребами». Да, нам нужна Флорида. Да, нам нужны новые территории. Вы говорите о свободе. Для негров это будет свобода от труда, свобода для пьянства и разврата.
Каждый плантатор отвечает за всю свою землю, а я обязан отвечать за всю Виргинию, обязан работать, чтобы людям жилось хорошо, спокойно, надежно, чтобы царил порядок. Допустить, чтобы шайка негров бесчинствовала на улицах Ферри? До смертного часа не прощу себе того, что произошло. Джон Кэлхун, наверно, в гробу перевернулся от ужаса. Уже девять лет как нет его в живых, а как он, с его государственным умом, был бы необходим сейчас! Вам интересно было бы поговорить с ним. Он мечтал о том, что его Каролина, что весь Юг станет новой Элладой, где будут процветать науки и искусства. Ведь и в Греции тоже было рабовладение.
Браун вспомнил библиотеку Теодора Паркера в Бостоне, несколько шкафов на втором этаже и крупную надпись наверху: «Греция» — по-английски и по-гречески, так ему сказали. И белые мраморные бюсты у каждого шкафа. Вспомнил и одного из своих покровителей, врача Сэмюэля Хау, который в молодости сражался за свободу Греции.
— Вы, губернатор, считаете себя американским патриотом, но если бы наши деды придерживались таких взглядов, как вы, то и Соединенных Штатов не было бы. Наша страна родилась восстанием, революцией, войной против Англии. И тех, кто не хотел, чтобы Америка была колонией, тех, кто пошел за Пейном, Джефферсоном, Вашингтоном, тех вы судили бы как преступников.
Уайз замялся, Браун загонял его в угол. И губернатор обрадовался приходу Эвиса. Принесли обед, а он, приподняв цилиндр, спросил, нет ли у заключенного жалоб.
— Нет.
Браун, прощаясь, благословил губернатора.
Уходя из тюрьмы, Уайз у Эвиса спросил, как он полагает, нормален ли Джон Браун.
Эвис ответил, что он, пожалуй, самый нормальный изо всех людей, которых он знает.
Потом и Уайз сделал официальное заявление: «Я знаю, что он нормален, поразительно нормален, если быстрая и ясная способность восприятия, если умение взвешивать разумные предпосылки и делать из них разумные выводы, если осторожный такт, позволяющий избежать самораскрытия… если память и ум и здравый смысл, если спокойствие и самообладание, если все это — свидетельства нормы».
А Браун тревожился за Геррета Смита. Вот кто сломался под тяжестью непосильного груза.
Кук говорил, что я его вовлекал, что он возражал против нападения на Харперс-Ферри. Что ж, он — слаб, ему кажется, что, продавая других, он, быть может, вымолит жизнь. У Иуды на земле, пожалуй, больше последователей, чем у Христа.
Не надо было брать Кука с собой. Но как узнаешь заранее? Перед атакой на арсенал мы читали Пейна: «И наступил час испытания душ…» Как узнать наперед, чья душа способна выдержать испытание, а чья нет?
Он, Браун, не очень-то хорошо разбирается в людях. И подчас требует от людей больше, чем они могут вынести.
Хотя вот негра Шилдза Грина он нисколько не уговаривал, просто спросил, как он поступит, пойдет ли за ним. Грин пошел. И во время боя в Харперс-Ферри еще мог уйти, спастись. Но остался во второй раз. В спорах с Уайзом, с Эвисом он забыл о Грине. А такой негр стоит десятка белых храбрецов, недаром его прозвали «Император». Впрочем, и Кук мог бежать, но вернулся, принял огонь на себя. Если бы его тогда убили, осталась бы слава героя. Умаляет ли его прежнюю доблесть то, что он потом струсил?
А к Геррету Смиту возвращаться мыслями горько. Хоть он давно сказал себе, что северные либералы, даже самые лучшие, — люди слабые, горожане, книжники. Надо было с этим считаться. А он забывал. Тащил силком в рай. Он верил, что можно заставить человека стать праведником, героем. Никого нельзя тащить. Человек сам должен решить. И рассчитывать свои силы.
Заколдованный круг — заранее не рассчитаешь. Разве он о себе знал, хватит ли у него сил или нет?
Как этот француз, азартный такой, он познакомился с ним в Англии, он повторял, и Браун заучил незнакомые слова: «Вступай в бой, а там уж будет видно». Ему это больше по душе, чем рассчитывать.
Смит — государственный человек, Смит был депутатом конгресса, вот Смиту и рассчитывать.
Нет, это тоже твоя вина, твоя ноша. Раз уж стал во главе, раз тебе назначено, значит, ты и отвечаешь за всех, за каждого, кого вовлек, и за тех, кто сам пришел.
Смит — хороший человек, хороший друг. Что они там с ним делают? Смирительную рубашку надели, что ли? Или холодной водой обливают под напором? Как мою сестру, которую поминали на суде, она и впрямь сумасшедшая. Мне лучше, чем Смиту.
В коридоре послышался шум. Возвращались из суда. «Повесить за шею в пятницу, шестнадцатого декабря…» Шестнадцатого декабря. После.
2
Палили из ружей — сто залпов. Бостон приветствовал закон о беглых рабах, утвержденный конгрессом США в сентябре 1850 года. Горожане высыпали на улицы, ребятишки тащили отцов и матерей, такие салюты — редкость.
— Почему стреляют?
— А теперь и белых будут сажать в тюрьмы, если они укроют беглого негра.
— Безжалостные…
— А что ты всех жалеешь? Уж не завела ли ты себе дружка-негра? Или белых парией в Бостоне не хватает?
— Бесстыдник! Мне правда жалко негров.
— А мне так ничуть не жалко. Пусть знают свое место.
Хмельные солдаты пели: «О, вези меня обратно домой, в старую Виргинию…»
По Бикон-стрит навстречу праздничной толпе двигалась странная процессия — на телеге стоял черный гроб, надписи крупными буквами с обеих сторон: «Свобода».
— Это что такое?
— Хороним свободу.
За гробом шли люди, известные в городе, — священник Теодор Паркер, редактор газеты «Либерейтор» Уильям Ллойд Гаррисон, президент общества противников рабства в штате Массачусетс Уэнделл Филипс. Несколько юношей, несколько пожилых женщин.
— Немного плакальщиков собрали…
Идущие за гробом не оглядывались по сторонам, не отругивались, не отвечали на выкрики.
Шли, высоко подняв головы, глядя прямо перед собой. Шли, потерпевшие поражение, несокрушимо уверенные в своей правоте, в будущей победе.
Закон о беглых рабах был впервые принят США в 1793 году, в том самом революционном девяносто третьем. Власти и отдельные граждане свободных штатов обязаны были возвращать беглых рабов хозяевам.
Однако на Севере закон не выполнялся.
В начале столетия и на Юге находились еще такие государственные деятели, которые считали рабство злом.
Они доказывали, что рабство нужно устранить, пусть не сразу, постепенно, разумеется возмещая рабовладельцам убытки, но все же устранить. «Общение между хозяином и рабом, — писал Джефферсон, — сводится к постоянному проявлению неистовых страстей, к постоянному деспотизму, с одной стороны, и унизительному подчинению — с другой… Человек, привыкший к тирании, впитавший ее в себя и сам ежедневно прибегающий к тирании, носит клеймо тирании…»
Но к середине века не осталось ни одного южанина, занимающего хоть сколько-нибудь значительное место в политической или общественной жизни, который позволил бы себе даже усомниться в необходимости рабства. Ни одного политического деятеля, связанного с системой, который был бы одновременно ее критиком. Любая попытка реформ воспринималась как измена «правам Юга», как предательство или безумие. И на Севере стало больше сторонников «примирения с Югом», благоразумные коммерсанты, осторожные священники, адвокаты и журналисты призывали во имя сохранения единства государства любой ценой идти на компромисс.
Сенатор от Южной Каролины Джон Кэлхун говорил: «Хорошо, что аболиционисты заставили нас вновь вернуться к проблеме рабства. Ведь и на Юге многие полагали раньше, будто рабство — это нравственное и политическое зло. Теперь эти безумные заблуждения рассеялись. Теперь мы видим рабство в его истинном свете и считаем, что это самая крепкая, самая устойчивая в мире основа для развития свободных учреждений».
Спорить о рабстве просто запретили. Юг превращался в закрытую от внешних влияний территорию, усиливалась почтовая цензура — опасные идеи с Севера не должны заражать Юг.
Все общества противников рабства — а в южных штатах их были сотни — распались или были закрыты.
Из высших учебных заведений выгоняли людей, позволивших себе хоть в чем-либо отойти от общепринятой системы взглядов. Профессор университета в Северной Каролине, заступившийся за своего уволенного коллегу, писал: «Вы можете удалить всех подозрительных людей из своих университетов, вы можете создать множество новых колледжей, которые избавят вас от необходимости отправлять сыновей в те учебные заведения, где царят свободы. Однако, покуда люди учатся и читают, и думают, абсурдность вашей системы будет обнаруживаться и всегда будут находиться мужественные интеллектуалы, которые будут протестовать против ненавистной тирании. Закрывайте школы, подавляйте знания и мысль, что же вам еще остается делать…»
Редактор южного журнала утверждал, что без рабства «корабли сгнили бы в гавани Нью-Йорка, Уолл-стрит и Бродвей заросли бы травой, и слава Нью-Йорка, подобно славе Вавилона и Рима, отошла бы в прошлое…».
Защита рабства вменялась в обязанности законодателям, так же как защита ортодоксальной религии. В Северной Каролине «подрывными» элементами считались атеисты и люди, исповедующие различные «ереси»: деисты, унитарианцы, фундаменталисты. В 1835 году национальное собрание штата приняло закон, по которому атеисты, евреи, скептики не имели права занимать государственные посты. В 1841 году в судах штата Джорджия не допускались показания свидетелей, если они сомневались в реальности адского пламени.
Преследования рабов и аболиционистов усиливались, негры бежали.
Однако негры никуда не могли бы убежать, даже за пределы плантации, если бы им не помогали особые проводники, если бы не тайные убежища, по попустительство северных властей, если бы не общественное мнение Севера.
Необходимы были какие-то меры.
В начале 1850 года сенатор от Виргинии Джеймс Мэйсон внес предложение — обновить, подтвердить, укрепить закон о беглых рабах. Мэйсон приводил доводы, цифры: в округе Колумбия, например, было четыре тысячи шестьсот девяносто четыре негра, а осталось шестьсот пятьдесят. Тайная дорога работала почти беспрепятственно. В газетах печатались такие объявления: «Усовершенствованные прекрасные локомотивы совершают и в нынешнем сезоне регулярные рейсы между Патриархальной Областью и Городом Свободным… Места бесплатные для всех, независимо от цвета кожи».
Имеющие глаза видели.
Считалось, что потери рабовладельцев от побегов не менее пятнадцати миллионов долларов.
Хлопковая империя стала перед угрозой. Цены на хлопок росли. И потому росли цены на негров. Больше половины рабов Юга — миллион восемьсот тысяч — трудились на хлопковых плантациях.
Практика настолько противоречила предлагаемому закону, что его необходимо было подготовить.
«Король-хлопок» и царедворцы короля-хлопка диктовали свои требования идеологам и политическим деятелям, а те подбирали доводы — исторические, теологические, философские, доводы «здравого смысла» и провозглашали их с трибун, в газетах и в книгах.
Они ссылались на библейские заповеди, на десятую заключительную: «Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его…»
Они доказывали, что побеги рабов разоряют не только Юг, но и Север, вызывают вздорожание хлопка, нарушают снабжение северных фабрик сырьем.
Они угрожали развалом государства, разъединением Соединенных Штатов. Южане дольше не могут терпеть преступного самоуправления аболиционистов.
Южане уверяли, что неграм по самой их природе лучше жить в рабстве и потому, что они просто не способны к самостоятельности, они, как дети или как домашние животные, беспечны, легкомысленны, быстро дичают и развращаются. Оказавшись без надзора, лучшие из них погибнут от сурового климата, от нищеты, а большинство превратится в хищных преступников.
Они напоминали, что рабство было основой великих древних цивилизаций Египта, Эллады и Рима, пытались доказать, что рабство негров — одна из главных основ американской цивилизации и даже американской свободы, ведь вождями американской революции, создателями США были джентльмены Юга, виргинские плантаторы Вашингтон, Джефферсон, Адамс…
Предписание возвращать беглых рабов хозяевам было только одним из параграфов большого законодательного акта, со множеством пунктов и подпунктов, который был принят конгрессом. Мало кого касалась судьба Калифорнии — тем более что в краю золотоискателей вообще не было рабства — или судьба территории Техас. Но судьба беглых негров касалась едва ли не всех. Потому длинный закон 1850 года и вошел в историю и в сердца человеческие именно под этим названием: «Закон о беглых рабах».
Теперь достаточно было простого заявления рабовладельца, он должен был лишь засвидетельствовать перед магистратом, что бежавший раб принадлежит ему. А негр не имел права жаловаться, не мог подавать в суд. Федеральный чиновник, который препятствовал возвращению бежавшего раба, облагался штрафом в тысячу долларов. Если раба возвращали хозяевам, судебный заседатель получал десять долларов, если освобождали — пять долларов. Многих охватила тоскливая безнадежность. Этот закон накинул петлю не только на рабов, но и на свободных граждан Севера. Они не могли уже утешаться тем, что сами не продают и не покупают рабов, на улицах Нью-Йорка, Чикаго, Бостона началась охота за неграми.
А ведь большинство американцев — в том числе и хорошие, и порядочные — привыкли повиноваться установлениям свыше: закон есть закон.
Возмущались про себя, в письмах, в кругу семьи. Эмерсон записывал в дневник: «…подумать только, что этот грязный закон принят в девятнадцатом веко людьми, умеющими читать и писать. Клянусь богом, я не стану исполнять его…»
Самые мужественные сопротивлялись открыто и звали к сопротивлению других.
Поэты Джон Уитьер и Уолт Уитмен заклеймили закон в гневных стихах. Генри Торо еще в брошюре «Гражданское неповиновение» писал: «Я не считаю наше правительство моим, так как оно одновременно и правительство рабовладельцев… Надо свою жизнь превратить в тот песок, который помешает колесам машины двигаться».
В Бостоне штабом сопротивления стала церковь Теодора Паркера.
Паркер был книжником, ученым, священником, больше всего он хотел заниматься историей религии, теологией. Закон о беглых рабах ворвался в его жизнь, разрушил все прежние планы. В одной из проповедей о законе он сказал: «Человек, который нападает на меня, чтобы вернуть меня в рабство, в момент нападения теряет свое право на жизнь; если бы я был беглым и такой человек стал бы препятствием на моем пути к побегу, я убил бы его, не испытывая ни малейших угрызений совести, так, словно я убиваю комара…»
Пять лет спустя эта мысль легла в основу письма Паркера в защиту Джона Брауна.
Паркер выступал с проповедями и речами, составлял листовки, обращенные прямо к неграм, укрывал бежавших у себя дома.
В Бостоне уже в октябре появились первые охотники за рабами. Два виргинца искали беглых рабов — мужа и жену; Элен Крафт, квартеронка, не была похожа на негритянку. Она бежала с Юга, переодевшись молодым джентльменом, а ее муж изображал черного слугу. Так они добрались до Бостона. Оба получили работу, и Уильям Крафт даже отправил выкуп за себя. Однако рабовладельцу мало было денег, он хотел вернуть раба. Его наемники попытались выманить Крафтов хитростью: сообщили, что привезли им письмо от матери, потом обратились в суд. Судья отказался рассматривать их иск.
Паркер обвенчал Элен и Уильяма, вручил им традиционный подарок — Библию и нетрадиционный — пистолеты. Молодожены уехали через Канаду в Англию. Паркер записал в дневник: «Я все же призывал к мягкости, к христианским чувствам, но прежде всего — к свободе… Мне приходится отправлять своих прихожан за свободой в ту страну, из которой наши предки некогда прибыли в поисках свободы сюда…»
В сопротивлении иногда участвовали и представители власти. Капитан полиции Бостона обратился с официальным заявлением к мэру: «За все это время, когда по приказу правительства США проходили аресты и суды над бежавшими, я ни разу не получал приказа, который считал бы несовместимым со своим представлением о долге офицера полиции, А сегодня я получил такой приказ: если я исполню его, то я стану соучастником позорного закона о беглых рабах.
Потому я отказываюсь от своей службы…»
Немолодая учительница, мать большой семьи Гарриет Бичер-Стоу получила письмо от своей невестки из Бостона: «…если бы я владела пером, как ты, я написала бы нечто такое, что заставило бы всю страну увидеть проклятие рабства!»
Гарриет ответила: «Пока я кормлю ребенка, я по ночам ничего не могу делать, но ручаюсь жизнью, что я напишу такую книгу. Что говорят у вас о рабском законе и о той позиции, которую заняли, кажется, чуть ли не все бостонские священники…
По-моему, это невероятно, потрясающе, кошмарно. Мне просто хочется уйти под воду, погрузиться в море ото всех этих мерзостных грехов… Я хотела бы, чтобы отец поехал в Бостон и прочел бы проповедь, осуждающую закон о беглых рабах».
Джон Браун писал жене: «Закон о беглых рабах, кажется, породит больше аболиционистов, чем все речи и лекции за многие годы… Я, разумеется, поднимаю дух моих друзей, советую им «верить богу и держать порох сухим». Так я и заявил публично на собрании в честь Дня Благодарения».
Осенью 1850 года Браун читал газеты внимательней, чем когда-либо раньше. И прежде всего отчеты о прениях в конгрессе, радовался, когда противники рабства находили все новые убедительные, благородные доводы. Сенатор Джошуа Гиддингс говорил, что возвращение беглых рабов на Юг равносильно их убийству. Сенатор Вильям Сюард утверждал, что закон о беглых рабах — самая большая угроза Союзу Штатов.
Почти все ораторы призывали к миру. Но в речах все чаще звучали слова «отделение», «раскол», «война». Репортеры писали, что многие сенаторы и члены палаты представителей, даже приходя в конгресс, были вооружены пистолетами и ножами. Член палаты представителей от Северной Каролины заявил, что если северяне не поддержат закон о беглых рабах, то «прольется кровь и просто уже не останется в живых конгрессменов для кворума…».
Браун часто узнавал в речах свои мысли, свои ощущения. Он сердился, когда аргументы противников закона казались ему недостаточно убедительными или высказывались слишком осторожно, с оговорками. Читая речи представителей Юга или северян, готовых любой ценой достичь соглашения, с трудом сдерживал ярость.
Рабовладельцы наступали. Закон о беглых рабах пес удушье и на Север.
Вернулись мысли, и раньше настойчиво стучавшие: надо что-то делать.
Очередное известие из Бостона: схвачен негр Энтони Бернс, его должны отправить обратно на Юг. Погоня за Бернсом уже обошлась в сорок тысяч долларов, но рабовладельцы не жалеют денег, им важен прецедент: они хотят утвердить свои права на Севере. У здания бостонского суда идет настоящая битва, в ней участвуют литераторы, священники, в том числе и будущие помощники Брауна. Он совсем было собрался в Бостон — принять участие в этой битве за Бернса. Но тут обнаружилось, что можно действовать и здесь, в Спрингфилде.
Сырое зимнее утро. Браун проснулся мрачный. Накануне принесли неприятное письмо овцевода, у которого он брал шерсть в долг. Тот настаивал: немедленно оплатить, сроки давно прошли. А сын, Джон-младший, писал, что тоже хочет попытаться торговать шерстью, — должно быть, считает себя умней отца, старик прогорел, а он уж будет удачливей. Но более всего рассердило замечание сына: так, между прочим, он упомянул об одном из приятелей — тот, мол, обходится без Библии, ибо древние сказания не помогают в новых делах. Привел это как чуждое суждение, но никак не оценил, словно бы сам согласен с кощунственной дерзостью.
От этих писем, от воспоминаний о долгах, от мыслей о сыновьях, все более отдаляющихся, нарастало раздражение.
Пришел старый негр. Необычно было, что пришел в начале дня — Браун знал, что он работал мельником.
— Большая беда, сэр! Большая беда всем черным людям. Джентльмены Юга добились наконец своего. И в Бостоне, и в Нью-Йорке уже ловят беглых рабов. Мои братья и сестры в большом смятении, мистер Браун, сэр. Плач и стоны, и воздыхания. Они послали меня к вам просить совета. Ведь у нас тут несколько человек совсем недавно с плантаций. Ну и те, кто давно, кто родился здесь уже свободным, очень тревожатся. Приедут охотники с Юга. Приедут, увидят на улице — крепкий черный парень, красивая черная девушка. Эй ты, черномазое рыло, откуда бежишь? Не убежишь! И на цепь, и вниз но старой реке на Юг. Там для хлопка руки нужны. Кто продает черных рабов, хороший бизнес имеет.
— Что же ваши люди собираются делать, мистер Говард?
Старик сверкнул быстрым благодарно-радостным взглядом. Браун любил подмечать эти взгляды негров, когда он называл их «мистер» или «миссис». Удивленные, иногда настороженно недоверчивые или смешливые — как странно шутит, — а потом уже радостные, восхищенные, гордые…
— Некоторые хотят уезжать дальше на Север, в Канаду. Многие в отчаянии, никто не знает, что можно, что нужно делать… А если это божья кара за грехи паши?
— Нет, это происки дьявола и его приспешников. А с ними надо бороться. И медлить нельзя. Соберите всех цветных братьев и сестер сегодня же вечером в церкви. Там и обсудим, как быть, что делать.
В негритянской церкви беленные известкой стены, скамьи, окрашенные охрой… Полумрак. Десяток свечей на дощатой трибуне и на амвоне, чадный факел у входа скупо освещают сотни две прихожан, курчавые головы и едва различимые темные лица мужчин в темных куртках, женщин в пестрых чепцах, в платках, некоторые молодые даже в шляпках.
Все глядят на белого джентльмена на кафедре. У него худое, бледное, угловатое лицо, маленькие пронзительные глаза, блестящие отражением свечей, большой тонкогубый рот, от глубины складки к челюстям… Он говорит медленно и резко, вколачивает слово за словом.
— Новый закон о беглых рабах не закон, а беззаконие. Он принят жалкими людьми, чьи души развращены злобой, корыстью или страхом. Мы не можем признать это гнусное установление, — он высоко поднял измятую газету, зажатую в костлявом кулаке. — Это надругательство над законами небесными и земными. В пятой книге моисеевой сказано точно: «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего». Таков незыблемый закон всевышнего. А в Декларации независимости сказано: «Все люди сотворены равными…» Таков незыблемый закон нашей свободной страны. И во имя этих истинных законов мы должны отвергнуть ложные узаконения, и мы отвергаем их с гневом и презрением.
Он швырнул газету на пол и наступил на нее тяжелым башмаком. Мужчины загудели: «Слушайте… слушайте». Женщины кричали: «Благослови вас бог, мистер Браун», зычный бас перекрыл все шумы: «Вот слова пророка свободы… внемлите им, братья и сестры…»
Браун нагнулся вперед, нависая над кафедрой, глядел в полутьму, еще клокотавшую рукоплесканиями, криками. Он поднял руку, зашикали: «Слушайте, слушайте…» Шум стих, только несколько женщин всхлипывали.
— Братья и сестры, сегодня уже недостаточно слов… недостаточно просто убегать от зла, необходимы дела, необходимо сопротивление крепкой мышцей.
У черных людей среди белых в десять раз больше друзей, чем вам кажется. Это стыдно, что вы не помните, не чтите хотя бы имена белых мучеников, погибших за свободу негров, имена Лавджоя и Торея! Но у вас друзей будет еще больше, когда вы, черные люди, сами по-настоящему начнете защищать свои права…
Вспомните книгу судей: храбрый Гедеон повел народ, восставший на поработителей, и привел его на гору Галаад, и там было сказано: «Пусть тот, кто боязлив и робок, возвратится и пойдет назад с горы Галаад». И остались с Гедеоном только триста отважных воинов свободы, но господь дал им сил, и они разбили врагов, которых было множество, как саранчи, как песка на берегу моря. Так создадим же сегодня здесь боевое содружество — союз горы Галаад, пусть в нем соединятся только самые смелые, самые крепкие духом и мышцей…
— Слушайте… Слушайте…
— Я с вами, мистер Браун.
— И я…
— И я…
— Мы с братом хотим вместе идти на Галаад…
Слышались, потише, и другие голоса:
— Осторожно, не забывайте, что он все-таки белый…
— Белый-то белый, но он уже доказал, что стоит за нас…
— Не хочу я ни в какие галаадиты, никуда не хочу, только чтобы жену с ребятишками не трогали…
— Не убежали бы тогда с Юга, может, еще бы перетерпели, а сейчас, если вернут, лучше смерть.
— Придется идти в галаадиты.
— Братья, сопротивление напрасно, в божьей книге предсказан конец света, это божья кара нам, грешным…
Многие колебались, но сорок четыре негра стали галаадитами.
Браун написал «Слово совета» и прочитал его членам боевого содружества в январе 1851 года, начав с эпиграфа: «В единении сила».
«Стойте друг за друга, защищайте своих друзей до последней капли крови, если придется, уходите в изгнание, но не говорите врагам ни слова!»
И все сорок четыре галаадита поставили свои подписи под текстом «Слова». Это было их присягой.
Браун крепко пожал каждому руку.
— Главное, братья, не падать духом, не допускать уныния и страха. Днем и ночью следить за вокзалом, за гостиницами, за домом шерифа. Мы договоримся со всеми белыми друзьями, чтоб помогали наблюдать, и, едва появятся охотники за беглыми, будем противостоять им сообща, дружно.
Два дня спустя он писал жене: «…с тех пор как негра Лонга из Нью-Йорка вернули в рабство, мои свободные часы заняты здешними неграми, я даю им советы, как поступать, я подбадриваю их, насколько это в моих силах. Они очень нуждаются и в совете, и в одобрении, некоторые из них даже спать не могут, так они боятся за жен, за детей, за самих себя. Могу сказать, что мне удалось кое-что сделать, чтобы восстановить их надломленный дух. Я хочу, чтобы все члены моей семьи поставили бы себя на их место, представили бы себе, что это значит — быть в таком ужасном положении…»
Ничем не приметный дом в негритянском квартале Спрингфилда. Только дым из трубы валит но переставая, хотя на улице не так уж холодно. Мимо дома прохаживаются черные парни — можно подумать, что гуляют… Но никого из чужих они в этот дом не пустят. Там тайник, сюда по первой тревоге соберутся те, кому будут грозить охотники с Юга.
Для защиты есть «горячая» комната. В ней нестерпимо жарко. В густом тумане сначала ничего не разобрать. Постепенно глаза не так щиплет, видишь — огромная плита, на плите черные котлы под крышками. Вода в котлах кипит круглосуточно. Плита — дело женское. И стоят у стен и у плиты высокие, сильные негритянки. У каждой в руках — черпак.
Пикет на вокзале увидит охотников, сразу по цепочке сюда дадут знать. И на головы охотников — только подойдите к дому! — польется кипяток.
Женщины осваивают невиданное «оружие». Поначалу трудно. Надо ведь плеснуть прицельно. Надо так, чтобы на охотников попало, а на соседку — ни капли, а на случайных прохожих — ни капли…
По ночам — репетиции. Воительницам страшно. Но и смешно. Подтрунивают друг над другом. Перекидываются шутками.
— Вот научусь, мой Питер у меня попрыгает. Чуть он к бутылке или, не дай бог, к какой-нибудь шлюхе, а у меня кипяточек готов.
— Неужели на своего плеснешь?
— Разозлит — плесну!
— А я — так ни за что. Пусть лучше пьет. А к другой потянет, насильно не держу.
Все неграмотные. Для каждой нарисовано, куда бежать, вроде плана.
На одной репетиции присутствовали мужчины а сам Джон Браун. Смотрели возбужденные. Здорово придумали, не дадут своих в обиду. Браун вытирает глаза, от пара так щиплет?
Нисколько не смущаются — тут они хозяйки. Пусть их мало. Пусть ждет и поражение. Но в битве. Сама битва, даже приготовление к ней, уже победа. Только не как овцы. Только не как покорные овцы под нож мясника.
Написано на роду умирать, что ж, умрут. Но сопротивляясь. Пистолетом. Ножом. Кипятком.
3
«Либерейтор» Браун читает от корки до корки, дугласовскую «Северную звезду» тоже. А еженедельник «Нейшнл эра» — редко, от случая к случаю. Он знал, конечно, о том, как редактора Бейли едва не линчевали. Но газета-то умеренная, компромиссная, немного похожа на новый закон. Не по Браунову нраву, не по его темпераменту.
А этот июньский помер пятьдесят первого года он прочитал. На первой полосе — Гарриет Бичер-Стоу. Он слышал про священников Генри и Эдварда Бичеров, они оба друзья аболиционистов. А имя Гарриет Бичер-Стоу узнал впервые. Литография — строгое, без улыбки лицо, чепец с лентами. Сколько раз в церквах, на улицах, в городках Новой Англии и Огайо встречал он таких женщин.
Что может знать она о рабстве негров? Что она может написать?
Не его это книга. Он воспитан на Ветхом завете, на «Жизнеописаниях» Плутарха, на Кромвеле. А тут умильная госпожа Шелби, ангелочек Ева, чертенок Топси, распутный Сент Клер. И дядя Том, у которого Браун обнаружил многие «ошибки Самбо». Может, быть, миссис Стоу читала его статью? Не по душе ему эти люди, не о таких надо писать.
Но он почему-то покупает газету номер за номером, трудно дождаться продолжения. Читает сам, читает семье вслух. Мэри и девочки вскрикнули, когда Элиза с ребенком вступила на льдину. Да я старших сыновей проняло. Стало вдруг трудно читать. Рабство как оно есть. Дядя Том отказывается покориться плантатору Легри:
«— Нет, масса, от Библии я не откажусь».
Не очень-то податливый. Стоит на своем. Твердо стоит.
— Джон, Джейсон, вы пытались мне доказать, что Библия устарела. Вот пример в мою пользу — старый неграмотный негр, а вооруженного мерзавца не боится. Потому что верит.
Каждую неделю — новый номер «Нейшнл эра». Ужин раньше обычного, семья усаживалась за стол.
— Читайте, отец, читайте, сэр!
Квакер Симеон Холидей помогает бежать Элизе с мужем и ребенком. Как в нем не узнать Леви Коффина, прославленного «президента» тайной дороги! И о самой Элизе Браун слышал. Не совсем так было, как у Бичер-Стоу. На самом деле Элиза возвращалась за своими пятью детьми.
Сколько женской сентиментальности… Почему же он покупает каждый номер? Почему ему так важно, что будет с Томом?
Тому приказывают выпороть старую негритянку, — она не справилась с дневной нормой.
«— Нет, бить не буду, масса».
Кэсси, любовница Легри, уговаривает Тома убить Легри.
«— Нет, Кэсси, убийство — грех.
— Но он же убивает. И тебя убьет, и других. Помоги другим.
— Нет, Кэсси, убийство — грех, зло нельзя лечить злом».
Джон Браун в сердцах отбросил газету.
— Она ничего не понимает, эта Бичер-Стоу! Курица! Лежит пьяный негодяй, руки у него но локоть в крови, его можно уничтожить, а он… а она…
Дочитывает сердито. У Мэри на глазах слезы. Девочки в голос плачут.
Умрет… Умрет…
Конечно, молодой Шелби не успел. Куда ему… Умер дядя Том. Плетьми его забили.
Теперь все знают Бичер-Стоу: едва ли не самая знаменитая женщина в Америке. Оказывается, она потеряла сына в той же эпидемии сорок третьего года, когда и они потеряли четверых.
Как ее ненавидят на Юге!
Сам он не может забыть бесхитростный рассказ. Но для его дела дядя Том не годится. Он поищет других, таких, как Джордж Гаррис. Только времени мало прошло, а Гарриса он почему-то совсем не помнит.
Брауну прислали «Жизнь Веллингтона» в двух томах. С ней Браун уже не расставался, часто перечитывал. Вот книга, где можно найти необходимые ответы. Он делал выписки, особенно подробно конспектировал раздел о борьбе испанских партизан против Англии. Триста человек в Пиренеях могут задержать армию, но и в Аллеганских горах тоже! Рядом с названиями испанских городов его рукой написаны названия американских. Исторические параллели? Стратегические планы партизанских сражений? Проекты революционера?
Глава шестая Пожары в прериях тушат огнем
1
Утром принесли письма и газеты. Накануне почта прибыла поздно, и в тюрьму уже никого не впускали.
Он неторопливо разложил конверты. Эти от родных, от друзей, те от незнакомых.
Конверт со штемпелем Канзаса. Опрятный писарский почерк.
«Джон Браун, сэр, хотя мстительность мне и не свойственна, но должна сознаться, что испытала удовлетворение, услышав, что ваша злостная карьера приостановлена в Харперс-Ферри. Потеряв двух сыновей, вы теперь можете понять, какое отчаяние я испытала в Канзасе, когда вы вошли в мой дом в полночь и забрали моего мужа и двух мальчиков, вывели их со двора и хладнокровно застрелили их, я слышала выстрелы. Вы не можете сказать, что сделали так, чтобы освободить рабов, у нас рабов не было, мы и не мечтали о рабах, а меня вы оставили несчастной, безутешной вдовой с беспомощными детьми. Хотя я и знаю, что вы безумны, я надеюсь и верю, что вас ожидает справедливая расплата. О, как сжималось мое сердце, когда я слышала предсмертные стоны мужа и детей, если это даст вам успокоение, ну что ж, пожалуйста.
Махалия Дойль.
P. S. Мой сын, Джон Дойль, чью жизнь я тогда выпросила у вас, теперь вырос и очень хочет быть в Чарлстоне в день вашей казни. Он, конечно, там будет, и, если только возможно, он накинет вам петлю на шею, если разрешит губернатор Уайз.
М. Дойль».
Дойль! Бледная плачущая старуха. Ночной сонный дом. Тусклая свеча. Бормотанье полуодетого старика: «Я ничего не сделал дурного, джентльмены…» Угрюмые взгляды его сыновей. Ночное небо над лесом Поттавотоми. Светлые клинки, потемневшие от крови.
Прошло три года. Даже немного больше. Ледяные ветры, секущие мелким жестким снегом… В Канзасе, да, именно в Канзасе, обрел он силы и умение наводить страх на врагов, разить их, обращать в бегство.
Бедная старуха, ослепленная горем. Впрочем, это не она писала. Она вряд ли вообще умеет писать, да еще так искусно, и слов таких не знает. Сочинил грамотей из тех, кто за рабство. Но горе ее настоящее: муж, сыновья… Двойное горе — ведь те были злодеями, слугами дьявола.
Канзас!.. Когда же это было? Когда впервые вошел он в пашу жизнь, в наши судьбы?
— Мы хотим отправиться в Канзас, отец.
— Кто это «мы», Оуэн?
— Салмон, Фредерик и я хотим выехать сейчас, до снега. Дядя Эйдауэр писал, что сначала можно будет остановиться у него. Джон и Джейсон с семьями поедут весной. Мы их встретим уже на своей земле. Будем сеять.
— Вы уверены, что здесь, в старых штатах, уже не хватает земли для вас?
— За здешнюю землю приходится дорого платить. А в нашем огороде не растут доллары. В Канзасе же пока еще землю отдают почти задаром и в кредит. Нужны только руки. Здесь мы в каждую борозду вкладываем не только пот и воду, но и звонкую монету. А что получаем? В прошлом году хорошо где по десять центов на доллар набежало. А ведь кое-где и вовсе ничего не уродилось. Мы, как в притче, доброе семя на камень бросали, однако только новые долги взошли. А в Канзасе и без навоза из одного зерна дюжина колосьев растет. В лесах дичь еще напугана, в реках рыбы, хоть шляпой лови. И можно получить кредит на плуги, на скот…
— Мало тебе, что мы у друзей в долгу, ты еще хочешь одалживать у государства, у банков.
— Мы расплатимся. У нас ведь будет земля, скот. А сил нам не занимать. Вот увидите, отец, не пройдет и двух-трех лет, как мы разбогатеем.
— Возможно, ты прав, Оуэн, но ведь не единым хлебом жив человек. Неужели вы можете быть счастливы, устроив свои крепкие богатые дома и забыв о миллионах рабов?
— Нет, отец, ведь мы ваши сыновья. Мы думаем не только о себе. Там девственный край, он только должен стать новым штатом. Нужно, чтобы это был свободный штат. В Канзасе можно еще все начать совсем по-новому, строить новые дома, новые селения и чтоб в них — по-настоящему новая праведная жизнь.
— Значит, меня вы покидаете с младшими. А ведь я взял на себя великое и трудное дело помогать черным.
— Мы это помним, отец, и хотим быть вместе с вами, но именно там, в Канзасе, там вы тем более нужны. Ведь по соседству рабовладельцы Миссури, и оттуда бегут рабы, а в Канзасе им еще некому помогать, нет станций тайной дороги, нет настоящих аболиционистов. Наши новые жилища станут форпостами свободы. Отец, мы все надеемся, когда мы там поставим дома, расчистим первое поле, начнем сеять, сажать… надеемся, что вы тоже приедете, вы наш глава, вы должны стать лидером Канзаса.
— Нет, сын, мое дело здесь. Я не должен удаляться от Аллеганских гор. Мое поле боя в горах, вместе с черными воинами. Но вас я не держу. Вы правы. Пусть новый штат заселяют противники рабства. Пусть господь благословит ваши пути, ваши новые очаги и пашни.
Прохладным октябрьским утром двинулся обоз: большой фургон, запряженный парой крепких сытых лошадей, в нем женщины, малыши. Два фургона поменьше со скарбом тянули коровы. Один верховой погонял маленькое стадо, полдюжины овец.
Скрипели колеса, мычали коровы, не привыкшие к упряжке. Плакал мальчик в фургоне.
Джон и Мэри смотрели вслед сыновьям. Она стиснула побелевшими от напряжения пальцами шарф, перекрещенный на груди.
Через два месяца пришли письма. Сыновья остались зимовать на левом берегу Миссури в обжитом поселке; весной, едва прошел лед, они двинулись дальше. А в мае их нагнали старшие братья Джон и Джейсон, они везли с собой саженцы яблонь, груш, слив, виноградные лозы, плуги и бороны.
На пароходе умер четырехлетний сын Джейсона, Остин. Капитан-южанин и пассажиры-южане с отвращением смотрели на северян, которые прямо говорили: они едут в Канзас, уверенные, что там но будет рабства. Когда братья с женами и детьми сошли на берег, чтоб схоронить маленький гроб, капитан дал приказ отчаливать. Браунам пришлось чуть ли не бегом догонять пароход, который вез их имущество.
Капитан, матросы-миссурийцы встретили их злыми ухмылками.
— А мы обрадовались, думали, что янки уже совсем убрались. Ну что ж, забирайте вашу рухлядь. Надеемся, что в Канзасе вы все найдете могилы.
Джон в письме рассказал о том, что происходит в Канзасе, как защитники рабства встречают новых поселенцев: «…тысячи самых подлых и отчаянных головорезов вооружены до зубов револьверами, кинжалами, ружьями и пушкой, но едва ли четверть друзей свободы вооружена, да и то кое-как.
Негодяи из Миссури, готовые по первому зову ринуться на них, похваляются, что могут без выстрела завладеть избирательными урнами. Теперь ужо не только миссурийцы собираются превратить этот край в рабовладельческий штат. Все их единомышленники от Виргинии до Техаса посылают сюда людей и деньги, чтобы любыми средствами, не останавливаясь перед самыми гнусными, распространить рабство на этот славный край.
Во избежание этого мы предлагаем, чтобы все противники рабства, местные жители немедленно вооружились и организовались в военные отряды… Кому-то необходимо руководить».
Первые выборы в законодательное собрание территории Канзас прошли в марте 1855 года. Тысячи миссурийцев приехали «помочь» голосовать. Адвокаты, плантаторы, коммерсанты катили в ландо и каретах, рысили на породистых конях. Фермерские сыновья, горожане заполняли фургоны и дилижансы.
Целые отряды вооруженных конников в широкополых шляпах — приказчики, работорговцы, бродяги, надсмотрщики с плантаций — гарцевали по улицам новых поселков, орали: «Смерть негрокрадам! Смерть безбожникам, осквернителям белой расы!»
Они с гоготом врывались на избирательные участки и набивали урны своими бюллетенями с именами сторонников рабства. Во многих поселках число поданных бюллетеней вдвое и втрое превышало число всех жителей вместе с грудными детьми.
В июле открылось вновь избранное законодательное собрание. В первый же день едва не началось побоище. Сторонники рабства оказались в большинстве, они объявили всех несогласных с ними исключенными и перенесли заседания в городок Шоуни, где среди жителей преобладали их единомышленники. Там были изданы так называемые «законы Шоуни»: только сторонникам рабства разрешалось занимать административные и общественные должности. За хранение или распространение литературы, которая «развращала» рабов, устанавливалось наказание — пять лет каторжных работ. За публичное высказывание мысли, будто рабство в Канзасе противозаконно, — не менее пяти лет каторжных работ, за подстрекательство рабов к мятежам — смертная казнь.
Те, кто считал, что Канзас должен быть свободным штатом (их называли «freestaters» — свободноштатцы или вольноземельцы), созвали свое собрание месяц спустя в городке Лоуренс.
Джон Браун-младший, делегат от поселка Осоватоми, был избран вице-президентом. Он сказал с трибуны, что законы Шоуни — грубое нарушение законов США. «Никто не имеет права владеть рабами в Канзасе, и если какой-нибудь чиновник попытается прикоснуться ко мне и осмелится арестовать меня за то, что я это утверждаю, то я, конечно, с божьей помощью убью его».
Сыновья писали отцу, что сеяли они поздно, дожди выпали только в мае, ветры были очень сильные, но пшеница взошла хорошо и кукуруза будет отличной. Канзас им все больше нравится, они уверены, что скоро он станет благодатным краем. Джон подробно сообщал: кроме пшеницы и кукурузы сеяли и сажали еще бобы, картофель, тыкву, капусту, турнепс. Джейсон разбил сад — яблони и груши почти все прижились и виноградные лозы тоже. Старший сын писал обстоятельно об условиях торговли, о ценах.
Соседи хорошие, в окрестности на пять-шесть миль живут двадцать семей — все северяне из Огайо, Иллинойса, из Новой Англии. Сторонников рабства среди постоянных жителей Канзаса немного, и мало кто из них сам имеет рабов, большинство бедняки. Есть среди них честные труженики, но многие выросли на Юге, мозги и сердца у них отравлены предрассудками. Опаснее всего банды миссурийцев, которые постоянно рыщут по Канзасу, они сами называют себя «головорезами с границы». Они врываются в поселки, пьянствуют в трактирах, ругаются, горланят непристойные песни, играют в карты, в кости и хвастаются, что скоро выгонят из Канзаса всех янки-аболиционистов, перебьют тех, кто осмелится сопротивляться.
А свободной земли много, и в лесах есть участки для порубки. Нельзя медлить с заявками. Братья уже наметили хорошую делянку строевого леса на берегу речки, можно будет легко сплавлять. На глаз там хватит леса, чтобы построить дома не меньше чем двадцати семьям. Года три-четыре можно рубить, а потом купить новую делянку. Джон нарисовал подробный план «поселения Браунов» и прилегающих свободных земель. «В здешней прерии земля самая лучшая из всех, какие я видел. Высокая густая трава, когда ветер ее колышет — красота неописуемая. И тут же много хорошего камня. Если даже мы приобретем больше земли и леса, чем сможем обработать, то всегда найдем покупателей».
Салмон писал менее подробно, чем старший брат, но так же настойчиво упрашивал отца поскорее приехать, просил привезти ему шляпу и пару летних штанов, хорошо бы башмаки или сапоги. И, словно бы невзначай, замечал: «Здесь есть рабы в трех милях от нас».
Джон Браун читал письма сыновей друзьям, читал на митингах аболиционистов. Он показывал им газетку канзасских сторонников рабовладения «Независимый поселенец».
— Она издана в городе, жители которого называют себя христианами, и в ней черным по белому напечатано: «Джентльмен, которому дороги права свободного Юга, должен быть беспощаден к врагам, должен быть готов убить даже младенца, если знает, что тот вырастет аболиционистом».
Браун рассказывал и читал ровным голосом, старался не запинаться, не менять интонации, но чувствовал, как перехватывает дыхание и все тело напрягается, словно в лихорадке, и руку с гнусным листком сводит мучительной судорогой. Чтоб унять эту боль, необходимо взять ружье, револьвер или кинжал. Это священный гнев клокочет в его душе, в его теле. Сыновья зовут его на помощь.
Фургон запряжен одной лошадью, тощей — все ребра торчат, — но крепкой. В длинных деревянных ящиках — сверху лопаты, мотыги, топоры, грабли, под ними — ружья, кинжалы, тесаки. В мешках — мука, кукуруза, лук, в бочонках — солонина и порох. Фургон тяжело нагружен. Поэтому Джон Браун, его сын Оливер и зять Генри Томпсон идут рядом. Они забираются в кузов только спать, даже если ночуют возле фермы: драгоценный груз нельзя оставлять без присмотра.
За сутки они проходили лишь восемь — десять миль, иначе переутомишь лошадь. Через Миссури переправились на большом дощатом пароме с высокими бортами. Паромщик хмуро смотрел на них, слушая говор северян, далеко сплевывал в серую воду бурую табачную жвачку. Наконец спросил Брауна:
— Джентльмены собираются долго погостить на территории Канзаса?
— Мы там будем жить.
— А вы не боитесь, что здешний климат окажется для вас вредным?
— Мы привычны к любой погоде и непогоде.
— А вот такая погода вас не смущает?
Он достал из-за голенища газетный лист, развернул его и ткнул большим темным ногтем в статью. Браун прочел вслух, внятно произнося каждое слово:
— «Мы будем и впредь обливать дегтем, вываливать в перьях, топить, вешать каждого подлого труса-аболициониста, который осмелится осквернить нашу землю».
Оливер и Генри засмеялись. Паромщик зло ухмыльнулся:
— Смейтесь, смейтесь, джентльмены, только не упустите весло, а то течение понесет к югу… Там смеющихся янки любят еще меньше, чем горюющих.
Браун просмотрел газету.
— «Миссурийский Гералд»… Они хвастаются тем, что похитили честного адвоката, который обличал их насилия и мошенничество на выборах, его избили, вымазали дегтем, вываляли в перьях…
Оливер, отжимая весло, смотрел в упор на паромщика, лениво привалившегося к борту.
— Эти миссурийцы, видно, из тех, кто смелы, когда их сотня против одного. Только так южные джентльмены способны побеждать «трусливых аболиционистов». Хотел бы я посмотреть на морду такого отважного защитника рабства поверх мушки моего ружья…
Паромщик молча жевал табак, отошел к другому концу длинного парома.
Генри запел:
Мы идем через прерии, как в старину Наши деды прошли через хляби морей.Оливер подхватил, и Браун вторил молодым голосам сипло и чуть гнусаво, как привык петь псалмы:
У них был Восток, Станет Запад у нас отчизной свободных людей.На крутом берегу Миссури нашли могилу внука. Выкопали маленький гроб, обшили досками, обернули мешками, обвязали и погрузили на ящики с инструментами и оружием.
Вошли в прерии. В иных местах дорога едва угадывалась даже днем. Сентябрь был дождливый, по ночам дули холодные ветры. Сперва начали кашлять, сморкаться молодые, потом и сам Браун; днем, на ходу, болезнь, казалось, ослабевала. Но с темнотой, на привале, начинался озноб. Они заходили на фермы. Как назло, им все попадались дома южан. Мальчишки передразнивали их речь, старшие встречали угрюмо или насмешливо.
— У нас нет воды. Нет для вас ни глотка. Ваши колодцы на севере. Там и просите.
— Мы не подаем милостыни. Никому, а уж янки и подавно.
— У вас на Севере что — на кладбищах места нет? Ну что ж, для могил мы вам место предоставим!
— Вы откуда едете? Из Коннектикута? У вас там, наверно, большая конкуренция среди нищих, если вы так далеко забрались попрошайничать. Советуем вернуться, чем дальше на запад, тем хуже для вашего брата. Там отчаянные белые парни, которые с удовольствием скальпируют янки.
Только в начале октября добрались они до Канзаса, до реки, за которой была их земля — «поселок Браунов» — так гордо называл ее в письмах Джон. По этим письмам Браун узнавал местность и объяснял спутникам.
— Это река Осэйдж, а французы называют ее Лебяжьим болотом. Французы любят красивые названия. Не знаю, есть ли здесь лебеди, берега, правда, топкие, но все же это река, а не болото. Дальше к югу в нее впадает река Поттавотоми. У самого нашего владения — город Осоватоми, столица округи, а поселок Браунов выше по течению, там, где лес граничит с прерией.
Дождливым октябрьским вечером они вышли к поселку: три больших бревенчатых барака — нет, домами их нельзя было назвать — без окон, зато с дверями-воротами во всю четвертую стену. Перед бараками горели костры, высокие навесы защищали огонь от дождя.
Браун не видел своих сыновей такими возбужденными с тех пор, как они были мальчиками, ликовавшими после удачной охоты или победной драки.
Жена Джейсона тихо плакала над гробом ребенка. Муж осторожно гладил ее плечи. Дождь утих. Стемнело. Выбрали место для могилы. Хоронили при свете смолистых факелов. Браун сказал:
— Могила невинного ребенка освящает землю, на которой его родным, его будущим братьям и сестрам и их потомкам предстоит жить и трудиться.
Помолились.
Потом при свете костра сидели долго за полночь. Сыновья рассказывали. Все кутались в одеяла, плащи, кашляли, сморкались, в дальнем углу на лежанке, всхлипывая, бредил внук, его мать сменяла примочки на горячем лбу.
Сыновья рассказали о выборах в законодательное собрание, которое проводили сторонники рабства… Теперь вольноземельцы проведут свои выборы. Отец и Оливер с Генри прибыли как раз вовремя, ружья и револьверы очень кстати.
На следующий день мужчины готовили боеприпасы. В котелках с длинными рукоятками плавили свинец, потом ложками лили в глиняные и деревянные формы или просто на сковороды, скатывали круглые пули. Порох отсыпали в бумажные кулечки, туго перевязывали. Наполняли пулями и кульками пороха кожаные патронташи. Несколько десятков фабричных патронов Браун разделил между самыми меткими стрелками.
Выборы прошли спокойно. Почти все вольноземельцы были вооружены, и никто не решился им помешать.
В «поселок Браунов» пришли гости. Высокий человек, очень смуглый, горбоносый, в широкополой шляпе, темной куртке с бахромой по швам, приветливо и крепко пожал руку Брауна, сыновья представили:
— Наш друг Джон Джонс, христианин и фермер, вождь мирного племени Осэва.
Его спутник, тоже высокий, тоже горбоносый, казалось, еще более смуглый, кутался в просторный кожаный плащ, отделанный иглами дикобраза. Над убегающим назад широким лбом черные с проседью волосы собраны в пучок, из которого торчат несколько орлиных перьев. Джонс сказал:
— Это Черный Лис, вождь моих сородичей. Он хотел повидать белых людей, о которых говорят, что они честны, не лгут и не пьют огненной воды.
Брауны и гости ели кукурузные лепешки, жаренные на сале, пили ячменный кофе с имбирем и медом. Джонс рассказал о миссурийцах, заходивших в его лесной поселок. Они грозили: «Если ты, краснокожая бестия, будешь путаться с янки, с негрокрадами, убьем и тебя, и всех твоих».
Браун говорил о том, каким будет, каким должен стать Канзас: в прериях раскинутся возделанные поля, вырастут красивые благоустроенные дома, церкви и школы. Все люди Канзаса — индейцы, белые, черные — будут жить дружно, благоденствовать, растить здоровых, добрых детей.
— Уверяю вас, сэр, — сказал он Черному Лису, — ваши и мои внуки будут гневно изумляться, читая в книгах о том, что их предки когда-то враждовали между собой, оскверняли землю рабством, кровавыми боями.
Старший индеец отвечал так же спокойно, негромко и неторопливо:
— Черный Лис верит, что белый вождь говорит так, как думает. Глаз вождя Осэва видит далеко, видит, что скрыто за улыбками. Ухо вождя слышит, что молчит за красиво говорящим языком. Сейчас он видит ясный свет в голове белого вождя. Сейчас он слышит его сильное честное сердце. Но этот белый вождь и его сыновья не знают всех белых людей. Как Черный Лис и его брат, которого белые называют Джонс, не знают всех красных людей. Бог белых людей велик и могуч, но даже он не мог защитить своего сына, когда злые белые люди убивали его у столба пленников. Те, кто убил сына своего бога, могут произносить слова сладкие как мед, но дела их горше, чем желчь змеи. Мы уже знаем белых людей. Мы знаем, что таких, как этот белый вождь, мало — меньше, чем солнечных дней зимой. А тех, кто обманывает, грабит, убивает, много, как дождевых капель осенью. Поэтому мы не хотим новых домов, не хотим возделанных полей, не хотим церквей и школ, не хотим проповедников и учителей. Нам и теперь уже плохо, станет еще хуже.
Старый индеец говорил медленно. Каждое слово с усилием вылезало из гортани, а тонкие темные губы едва двигались. Он сидел точно окаменевший, в тяжелых складках плаща, глядел прямо перед собой, чуть выше плеча Брауна.
— Речь моего друга Черного Лиса — мудрая, правдивая, скорбная речь. Он видел много зла от белых людей и немного добра. Но ведь он видел только малую часть белых людей. И мудрость Черного Лиса еще не достигла правды бога; лгут те, кто говорит, что есть бог, отдельный для белых. Нет! Он создал землю и все, что растет и живет на ней. Люди с лицами цвета меди называют его Гитчи-Манито, но они еще не знают или, увы, не хотят знать о жертвенной смерти на кресте сына божьего. Он умер и за вас, за ваших отцов, братьев, за детей и внуков ваших, сэр Черный Лис.
Браун достал из кармана темную книгу, стал читать псалмы. И заключил:
— Мы смиренные пахари и скотоводы, но мы верно служим богу, и поэтому все добрые люди — белые, черные и меднокожие — нам братья. И напротив, все злодеи, откуда бы они ни шли — с Севера или с Юга, кто порабощает, обманывает себе подобных, кто грабит и убивает невинных, наши враги. Из-за этого они нам вдвойне мерзки, хуже диких зверей и жестоких язычников, ибо те не ведают, что творят; мы смертельные враги учителей лжи и проповедников рабства, мы не пойдем в их церкви и в их школы. Вместе с вами, вместе to всеми добрыми, честными американцами — северянами и южанами, индейцами и неграми — мы будем возделывать свободные нивы Канзаса, пасти стада в свободных прериях, охотиться в свободных лесах.
— Рель белого вождя мне приятней, чем теплый весенний ветер после холодной зимы. Пусть белый вождь всегда знает: Черный Лис его друг, хотя мысли у нас разные. Но разные птицы мирно живут в одном лесу, и ястребы угрожают им всем…
В октябре стало еще холоднее, дожди лили ежедневно, дули яростные ветры, потоки воды захлестывали дома. То и дело приходилось заново забивать землей и мохом щели в недавно срубленных стенах, чинить крыши, навесы, отводить ручьи, затекавшие под очаги и в жилье.
Ненастным утром пришел фермер, живший в нескольких милях, и с ним приезжий — оба взволнованные. В Канзасе пролита кровь. Сторонники рабства напали на лесопилку Коллинза, который собирал единомышленников, чтоб создать тайный отряд «Легион Канзаса». В перестрелке Коллинз был убит, а убийца ранен, и его уволокли через границу в Миссури.
Брауны устраивали жизнь. К ноябрю в домах сложили печи, полов настелить не успели, но стены подвели под крышу. Люди стали лучше защищены от дождя и ветра, под навесами желтели штабеля дров. Из труб с железными колпаками от дождя — их научились прилаживать так, чтоб не срывало никаким вихрем, — серыми прядями то густо клубился, то стелился дым. Было тепло и домовито. Теперь были теплые углы для детей, для больных. Болели почти все.
Браун утверждал, пока жар не валит с ног, лучшее лекарство — работа: кормить скот, пилить, рубить дрова, заготовлять хворост, достраивать дома.
По вечерам, после ужина и молитвы, на очаг ставили котелки с кусками свинца, плавили их в деревянных и глиняных формах, отливали пули для ружей и пистолетов. Женщины шили патронташи.
Но снова тревожное известие: убит молодой парень Чарльз Доу, переселенец из Огайо. Убийца-виргинец, житель того же поселка, сторонник рабства, он рубил лес на делянке Доу.
Митинг вольноземельцев принял решение требовать немедленного суда над убийцей. Сосед убитого, Бронсон, был очевидцем, его рассказ стал основой обвинения. В ту же ночь Бронсона вытащил из дому отряд миссурийцев, почтмейстер Джонс из миссурийского городка Уэстпорт, ставший шерифом с помощью своих приятелей, арестовал Бронсона по обвинению в «угрозе общественному миру и жизни граждан».
В городе Лоуренс собрался отряд в полтора десятка всадников с ружьями, они перехватили на дороге шерифа с арестованным. И хотя миссурийских головорезов было больше и вооружены они были лучше, но никто из них даже не пытался противиться, когда на них навели ружья и пистолеты.
— Хэлло, мистер Бронсон, мы приехали за вами, добро пожаловать в Лоуренс.
Джонс орал, что он шериф и везет арестованного по законному ордеру. Но ему ответили:
— Мы не знаем никакого шерифа Джонса, мы знаем почтмейстера Джонса из Уэстпорта, и ему нечего распоряжаться на территории Канзаса.
Бронсона увезли в Лоуренс, а Джонс помчался к губернатору территории, толстому пьянчуге Шэннону, с жалобой — аболиционисты подняли мятеж, отбили силой арестованного бандита. Гонцы разъяренного шерифа поскакали в Миссури за подмогой. Губернатор колебался, не зная, как быть, но тем временем несколько вольноземельцев сожгли дома убийцы Коллинза и двух его приятелей. Теперь уже все газеты сторонников рабства кричали о мятеже, об измене, о смертельной опасности. Губернатор назначил Ричардсона, офицера из рабовладельцев, генерал-майором «гражданской милиции», которую тот начал формировать в Лекомптоне — городе, населенном главным образом сторонниками рабства. Одновременно губернатор телеграфировал президенту, просил выслать федеральные войска, он боялся, что жители Лоуренса будут сопротивляться милиции и дело дойдет до гражданской войны.
В городке Уэйкарьюза на реке Канзас недалеко от «мятежного» Лоуренса к началу декабря собралось больше полутора тысяч всадников, пехотинцев и даже артиллеристы с несколькими пушками — милиция территории. Настоящих канзасцев среди них было меньше сотни, все остальные из южных штатов, главным образом миссурийцы.
Жители Лоуренса избрали комитет общественной безопасности, который разослал письма и гонцов с просьбами о помощи в другие города Канзаса и в северные штаты. Из Блумингтона, из Пальмиры, из Топики и Оттауэй-крик двинулись на выручку отряды конных и пеших.
Браун приказал сыновьям готовиться к бою. Собирались в доме Джона-младшего, его жену и детей отправили к Джейсону за две мили.
— Джон, Генри и Оливер останутся охранять семьи. Джейсон, Оуэн, Уотсон, Салмон и Фредерик поедут со мной. Нам достаточно одного фургона.
Сходились добровольцы с других ферм, многие, жившие в этой округе, знали Браунов, хотели идти вместе с ними. Шестнадцать человек двинулись в двух фургонах, трое верхом. Ночевали в лесу. Снег был еще неглубоким, рыхлым, легко расчистили просторное лежбище, устлали сосновыми и еловыми ветками, а поверх мешками, легли вповалку, укрылись одеялами и куртками. Утром у костра пили горячий кофе, ели обжаренную солонину. Лес утром стал приветливо-тихим, а ночью казался угрожающе притаившимся.
Пахуче-смолистый дым над костром. Как благовонное курение, подумал Браун, раскрывая Библию и откашливаясь, пока кто-то еще торопливо дожевывал.
— А теперь зарядите ружья и револьверы. Проверьте пистоны. И понесем оружие открыто. Револьверы и кинжалы поверх курток, ружья в руках, а не за спиной.
Маленький отряд подошел к мосту через реку, еще не замерзшую. Полосы серой ледяной каши медленно застывали у берегов.
На той стороне виднелся дом с красно-бело-синим флагом, на полотнище — крупными буквами: «Права Юга». У ограды — оседланные лошади, несколько всадников и пеших с ружьями стояли у моста.
— Их там десятка четыре, не меньше. Не пропустят. Лучше свернем, в шести милях западнее есть переправа.
— Нет, мы проедем, — Браун говорил спокойным голосом, только медленней, внятней. — Распахните верх фургонов, высуньте ружья. Оуэн и Фредерик, пойдемте рядом, револьверы сдвиньте на живот. Над передним фургоном поднимите флаг на пике. Пусть видят звезды и полосы Соединенных Штатов. На секунды колебаний и задержек. Верховые едут последними. Вперед!
Колеса первого фургона гулко зарокотали по мосту. Из дома на той стороне выбегали вооруженные. Но те, кто стоял у самой дороги у моста, отошли, отодвинулись к дому.
Браун шел впереди, ружье на весу в правой руке, левой опирался на рукоятку пистолета на поясе. Он шел, глядя прямо перед собой. Он видел: миссурийцы у дороги стоят кучками, таращатся — одни угрюмо, зло, другие просто с любопытством. Переговариваются вполголоса:
— Это янки из Осоватоми… Нацепили на себя целый арсенал. А старик-то, сразу видно, аболиционист, глаза как у рыси.
Когда проехали через мост конные, Браун кивнул сыновьям и забрался в передний фургон. Лошади побежали резвее. Сзади кричали:
— Скажите там в Лоуренсе, чтобы выдали преступников. А не то всех аболиционистов перебьем, как зайцев. Янки, убирайтесь к себе на Север…
— А ты был прав, отец, хвастуны трусливы.
— Помни это всегда. Иди прямо на врага. Если ты веришь в справедливость своего дела, если ты веришь в себя, смело вперед — и даже сильный враг отступит.
В Лоуренс въехали днем. На улицах много вооруженных, в одиночку и группами, толпами у гостиниц, у трактиров.
Оуэн заметил, что иных противников рабства не отличить от поборников — так же одеты, так же ругаются и клянутся, есть и хмельные.
— Ты прав, сын, и это печально. Очень печально, что среди нас есть слабые духом, нетвердые в правах, легко поддающиеся соблазнам. Они губят свои души и вредят общему делу. От таких подальше. Лучше идти в одиночку против сотни врагов, чем вместе с такими.
— Но они ведь тоже пришли защищать Лоренс, защищать правое дело.
— Это хорошо. Это зачтется им в той великой приходно-расходной книге, которую ведет всевышний. Я готов поделиться с ними патронами и буду перевязывать их раненых так же бережно, как любого из вас.
— А разве вы не станете перевязывать раненого противника, отец?
— Конечно, стану. Ибо сказано: «…любите ненавидящих вас». Но, вспомнив о противниках, ты возвращаешься к тому, с чего мы начали. Среди наших единомышленников есть люди, подобные нашим противникам, мы вынуждены сражаться бок о бок, в одном ряду, но сами не должны уподобляться им. К тому же погляди вокруг: большинство добровольных защитников Лоуренса — порядочные люди, трезвые и благоразумные. Это фермеры, работники, клерки, они оставили свои дома, свои дела, чтобы дать отпор беззаконию и злодейству.
Лоуренская газета «Гералд» сообщила: «Вчера, шестого декабря, в город прибыл отряд гвардейцев свободы во главе с капитаном Джоном Брауном. Это почтенный джентльмен родом из Коннектикута, известный своей набожностью и безупречным образом жизни, настоящий патриарх, глава целого рода, счастливый отец и дед, вместе с сыновьями и зятьями владеет обширными участками на среднем течении реки Осэйдж; он привел на помощь Лоренсу дисциплинированный отряд, отлично вооруженный ружьями и револьверами; в отряд входят четыре сына мистера Брауна, в том числе Джон Браун-младший — вице-президент законодательного собрания территории».
Впервые Джон Браун был назван капитаном, впервые о нем так писали в газете. Лист, пахнувший типографской краской, принесли Салмон и Фредерик. Сыновья были очень довольны. Салмон читая вслух, патетически жестикулируя: «Капитан Джон Браун».
— Ты радуешься пустой суете, сын. Такие похвальные слова как ветерок — дунул и нет его. И даже тот, кому это мгновенное дуновение принесло усладу в зной, через час, через день уже забудет о нем. Не надо прельщаться соблазнами известности, славы, похвал. Важны дела, поступки.
Отряд Брауна — «Гвардейцев свободы» — включили в пятый полк «Добровольцев Канзаса», командиром которого был полковник Смит.
Лоуренс готовился к боям. Вокруг городка строились укрепления — бревенчатые, земляные и снежные валы.
Командиры других отрядов готовы были решительно сопротивляться миссурийским налетчикам, пусть убираются к себе, в Канзасе им делать нечего, не позволим им наводить у нас свои порядки, не позволим разбойничать, но они не желали помогать и аболиционистам, которые добивались освобождения всех негров, по всей Америке. На Юге негры — законная частная собственность, нельзя помогать им убегать от хозяев, беглых рабов надо возвращать владельцам. Закон есть закон.
Браун спорил с умеренными. На митингах, на совещаниях командиров он упрямо доказывал: зло нельзя одолеть наполовину, нельзя успешно сопротивляться рабовладельцам и их наемникам, если при этом отказываешься помогать рабам, признаешь законность рабства у соседей.
Ему возражали: на территории Канзаса противоборствуют две силы, два законодательства — мошенническая конституция Шоуни, законы рабовладельцев, и конституция свободы. Третьего не дано. Однако и законы свободы запрещают пребывание негров на территории, запрещают борьбу против рабства у соседей.
— Мы не хотим войны с Миссури и со всем Югом, они называют нас «негролюбами» и «негрокрадами». Это ложь, и наши законы доказывают это.
В законодательном собрании Топики заседали уважаемые, достойные люди. Из тридцати четырех депутатов — тринадцать фермеров, двенадцать юристов, четыре врача, два торговца, два священника и один шорник. Они единогласно приняли законодательство. Мало того, закон, запрещающий неграм пребывать на земле Канзаса, был принят после широкого опроса избирателей. Тысяча двести восемьдесят семь одобрили его, и только четыреста пятьдесят три голосовали против.
— Мы все хотим, чтобы южане знали: нам не нужны их рабы, у себя дома пусть владеют ими, а наша земля свободна.
— Вы думаете, что возможно соседство свободы и рабства. Но тысячи головорезов уже сейчас грабят, убивают, угрожают полям, жилищам и жизни свободных канзасцев. Они-то отлично знают, чего хотят. Рабство нельзя остановить границами штата, оно распространяется, как плесень.
Брауна упрекали в фанатизме, в нетерпимости, по его советы по военным делам — как строить укрепления, как обращаться с оружием — слушали внимательно.
— Надо спросить у старика Брауна. Послушаем, что скажет капитан Браун, он не адвокат-говорун, не фермер-домосед, не клерк-белоручка. Браун все умеет — и землю пахать, и лес валить. Он проповедует лучше самого ученого священника и в лошадях, и в мулах, и волах толк знает, стреляет, как индеец, любого офицера может поучить военному искусству и может рассказать, как воевали Фридрих и Наполеон.
Комитет граждан Лоуренса пригласил губернатора Канзаса Шэннона прибыть в город для переговоров. Он приехал в карете с эскортом. Увидел укрепления, баррикады и толпы вооруженных граждан, которые встречали его приветливо.
— Хэлло, губернатор… Гип-гип ура нашему губернатору!.. Прогоните миссурийцев, сэр, мы поддержим вашу власть лучше, чем они… Будем друзьями, губернатор, Лоуренс хочет мира и порядка!..
Почтенные горожане щедро угощали обжорливого губернатора, не поскупились ни на виски, ни на шампанское. А ему говорили, что вольноземельцы — угрюмые ханжи, трезвенники и злобные аболиционисты — хотят вызвать восстание негров, перерезать всех белых на Юге. Оказывается, все это нелепые выдумки. И кукурузное виски в Лоуренсе отличное. И принимают его здесь настоящие джентльмены: генералы, полковники, бывший губернатор, адвокаты, коммерсанты. Порядочным людям незачем враждовать между собой.
— Откуда вы добываете здесь французское шампанское? Через Нью-Йорк? Но, должно быть, очень дорого обходится такой дивный напиток. Молодцы все-таки французы… Разумеется, надо заключить соглашение. Я верю, что жители Лоуренса будут соблюдать законы. Я вижу, это мирный порядочный город. И все россказни о диких аболиционистах — пустая болтовня… Неужели это местное вино? А я думал, тоже из Европы, — отличный букет и вкус. Оказывается, и в Канзасе возможно виноградарство. Очень любопытно и многое обещает… Да-да, миссурийцам нечего делать на нашей территории, мы им ничем не угрожаем, мы уважаем их права на негров, наши законы запрещают подрывную деятельность аболиционистов. И значит, миссурийцам нечего лезть сюда, самоуправствовать. Я им прикажу убираться. Но вы тоже распустите ополчение, как вы называете его? «Добровольцы Канзаса»? Ну вот пусть все возвращаются к своим мирным очагам… Ваше здоровье, джентльмены! Очень рад был познакомиться…
Соглашение было подписано. Миссурийцы, уходя, по пути грабили фермы вольноземельцев. Жители Лоуренса обязались соблюдать законы территории — законы Шоуни, запрещавшие борьбу и пропаганду против рабства. А губернатор обещал не настаивать на выдаче Бронсона и тех, кто его освободил, напав на шерифа Джонса, и впредь не звать на помощь миссурийцев, полагаться только на собственную канзасскую милицию. Газеты славили миротворцев, благополучно закончивших бескровную войну, — две недели митингов, строительство баррикад, напряженное ожидание в Лоуренсе и хмельное безделье на биваках.
Браун и его отряд уходили из Лоуренса недовольными. Соглашение было уступкой рабовладельцам, трусливой и опасной уступкой. Вольноземельцы согласились признавать законы, подавляющие свободу. Это ободряло сторонников рабства, они могли считать себя победителями.
Зима наступила жестокая. Браун писал жене: «…у нас теперь сибирские морозы». Утром, выбравшись из-под груды одеял и попон, он спешил растопить печь, вода в кувшинах и ведрах замерзала часто до самого дна. Хлеб надо было оттаивать на огне и рубить топором. Еды не хватало. Пришлось продать лошадь и один фургон.
В январе Браун поехал в Миссури купить муки, бобов, солонины и поглядеть, что происходит там, на земле рабовладельцев.
Холодные ветры несли тучи мелкого снега, жесткого, как песок. Дороги и улицы миссурийских городов были пустынны. В придорожных трактирах толпились промерзшие путники, спрос на виски, джин и горячее пиво резко повысился.
Браун, попивая кофе, молча слушал хмельные беседы. В этих местах нельзя было спорить с приверженцами рабства — здесь они возражали пулей или ударом ножа. Он слышал, как хвастались головорезы, вернувшиеся из похода в Канзас, слышал, как сговаривались участники будущих налетов: «…как только потеплеет, идем за скальпами аболиционистов».
На обратном пути в пограничном канзасском городке Кикэйпу он купил газету «Пионер Кикэйпу» от пятнадцатого января 1856 года. Во всю первую страницу огромные буквы: «Тревога, тревога!» И дальше немногим мельче: «Бейте в набаты войны! Не оставьте ни единого аболициониста на территории, положим конец их коварным и подлым преступлениям. Пусть ваши меткие пули, пусть сверкающая сталь ваших клинков пронзает их ядовитые сердца».
Он аккуратно сложил газету, сунул в карман и, вернувшись в поселок Браунов, прочитал сыновьям.
— Пятнадцатого января… В этот самый день вблизи Ливенворта головорезы убили нашего тезку — капитана Риза Брауна. Схватили его на дороге, изрубили кинжалами, топтали ногами, плевали в лицо, а потом умирающего привезли к дому, бросили у дверей под ноги жене и сказали: «Так будет со всеми аболиционистами, если не уберутся из Канзаса».
После ужина Браун раскрыл Библию. Он читал, как всегда, монотонно, негромко, но в этот раз его голос звучал хрипло и словно бы надсадно. Он чувствовал это и не понимал от чего, от простуды или ох ярости, сжимавшей горло: «Вот я кричу «обида» — и никто не слушает, воплю — и нет суда… Когда я чаял добра, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма… Доколе не умру, не уступлю…»
В конце января президент США Пирс утвердил законы рабовладельцев, составленные самозванным собранием в Шоуни, как временно действующее законодательство территории Канзас, а все решения вольноземельцев в Топике объявил «изменническими».
Военный министр Джефферсон Дэвис приказал офицерам в Канзасе «использовать военную силу США против вольноземельцев», подавлять мятеж и «революционные, беззаконные действия».
Брауны и их друзья посылали тревожные письма на Север, просили помощи, людей, оружия, писали членам конгресса — северянам, призывая воздействовать на правительство, и объясняли, что утверждение варварских законов — вызов вольноземельцам. Они никогда не признают этих законов.
Конгрессмены отвечали, что не надо беспокоиться. Президент сделал ошибку, подписал неправильную бумагу, но он не решится направить федеральные войска против вольноземельцев Канзаса, это означало бы гражданскую войну, и весь Север восстал бы против Вашингтона.
В Канзас ехали и ехали добровольцы — сражаться за свободу. Капитану партии, отъезжающей из Йельского университета, подарили ружье с надписью: «Ultima Ratio Liberarurn» — «Последний аргумент освободителей».
Брауны срубили новый дом для родни. К весне готовились прилежно. Точили плуги и мотыги, проветривали семена.
В марте началась новая сессия законодательного собрания. Депутаты после бурных споров решили не считаться с указаниями президента.
Джон Браун-младший был среди самых непримиримых. С трибуны он говорил так же, как обычно говорил его отец, — однотонно, сурово, без улыбки.
— Лучше будем воевать, лучше оросим кровью эту злополучную страну, но не признаем власти мошенников из Шоуни.
В марте выбирали сенаторов от Канзаса. Отряды головорезов врывались в поселки, в нескольких местах захватывали избирательные урны. Однако сенаторами стали умеренные. В Топике праздновали победу. Говорили: успех достигнут без выстрелов, без насилия… Нужно удерживать фанатиков-аболиционистов. Миссурийские головорезы должны будут отступить перед сплоченной волей жителей Канзаса. Мы избрали нашего сенатора, изберем в конце концов и наше новое законодательное собрание, которое отменит дикие рабовладельческие законы. А пока нужно считаться с решением федеральных властей.
Но миссурийцы продолжали нападать на фермы: грабили, грозили, требовали, чтоб янки убирались из Канзаса.
Священник Уайт, южанин и яростный защитник рабства, произносил проповеди, в которых призывал беспощадно расправляться со всеми негролюбами, проклинал семью Браунов, называя их наглыми аболиционистами. Ночью в дом Уайта ворвались рослые парни, их лица до глаз были укутаны платками и шарфами.
Уайт был в отъезде. Перепуганная жена плакала и просила:
— Не убивайте детей, джентльмены, ради бога, не убивайте детей.
— Мы не южные бандиты и не убиваем ни детей, ни женщин. Но вашему достопочтенному крикуну скажите, что если он не перестанет подстрекать болванов и негодяев, защищающих рабство, к разбоям и убийствам, то ему заткнут глотку горячим свинцом.
Ночные гости забрали ружье, бочонок пороха, седла и четырех лошадей священника.
— Он хочет воевать, и это паши военные трофеи.
Уайт бежал в Миссури и там на митингах кричал, что на него напали сыновья Брауна со своими приятелями янки.
В городок Поттавотоми, в десяти милях от поселка Браунов, приехал судья Кэйто. Он был известен как сторонник рабства. В городке он разбирал местные тяжбы, судил за кражи, потравы, драки. Он объявил на судебном заседании, что принял решение арестовать семейство Браунов за дерзкие надругательства над законами территории, запрещавшие посягать на священное право белого человека владеть черными рабами, и также за грубые нарушения мира и порядка.
Джон Браун, узнав про заявление судьи, сказал:
— Салмон и Генри, собирайтесь. Вы завтра отправитесь в Поттавотоми, придете на заседание суда и будете спокойно сидеть, слушать. Не задевайте никого. Если вас осмелятся арестовать, мы вас отобьем. Но я уверен, что этот злодей не осмелится.
Салмон шагал рядом с молчаливым свояком по дороге, размягченной первыми весенними дождями.
— Отец, пожалуй, все-таки слишком доверяет провидению. А что, если этот судья дьявола арестует нас, а его пьяные головорезы захотят поиграть в палачей — двух пуль или двух намыленных веревок они уж не пожалеют. Потом, вероятно, провидение воздаст им за наши муки. Но мне что-то не очень хочется вкусить мученическую смерть. Я мог бы и подождать.
— Не робей, Салмон, старик знает, что делает. Он не стал бы нас посылать на гибель. И доверяет он не только провидению. Братья, Джон, Фредерик и Оуэн, сегодня взяли ружья и выехали по этой же дороге, я слышал, как Джон говорил отцу, что к вечеру соберет не меньше десятка стрелков.
Судья Кэйто, глядя через бумаги в зал, увидел сына и зятя Брауна, они чинно сидели на задней скамье. Безоружные. Но судье сказали, что еще один Браун с отрядом вольноземельцев пришел в соседний поселок, и передавали его слова на митинге: судья Кэйто — наемник рабовладельцев, и если он осмелится применить мошеннические законы и арестует хоть одного из нас, то его пристрелят.
Судья не тронул Салмона и Генри и к вечеру того же дня уехал из Поттавотоми.
На территорию Канзаса вошли федеральные войска — два полка драгун и бригада пехоты.
Сторонники рабства ободряли друг друга — это президент прислал солдат, чтоб поддержать законы, принятые в Шоуни, чтобы утвердить на территории права Юга.
Умеренные говорили, что федеральные войска прогонят миссурийские банды, обеспечат мир и порядок, тогда усилится приток переселенцев с Севера, и Канзас со временем станет свободным штатом.
Им возражали, что солдат прислал президент — ставленник рабовладельцев, потому что убедился в недостаточной силе миссурийцев. Драгуны будут не столько прогонять, сколько заменять головорезов о границы.
В середине мая поля были вспаханы. Брауны сеяли кукурузу, бобы, яровую пшеницу. Озимые ужо взошли. И в полях, и в огородах оставалось еще много работы, вставали до рассвета, ели наспех. Сократили молитвы.
Вечерами строили новые дома. Бревна из лесу приходилось катить вручную, лошадей и волов было мало.
Браун работал вместе с сыновьями. Если кто-нибудь пытался заменить его:
— Отдохните, отец, я вспашу эту борозду…
— Позвольте и мне, сэр, на такое бревно нужно побольше рук… — он сердился и резко отстранял:
— Иди и делай свое дело. У меня самого еще есть силы.
Но они не успели ничего закончить — ни посевов, ни огородных работ, ни построек. Прискакал паренек из соседнего поселка.
— Две сотни миссурийцев перешли границу, идут на Лоуренс.
Проехал почтовый фургон. В «Гералде Свободы» огромными буквами: «К оружию, граждане!»
Лавочник, ездивший за товаром в Осоватоми, вернулся испуганный:
— Еще несколько отрядов миссурийцев, алабамцев и техасцев наступают на Лоуренс, к ним примкнули местные сторонники рабства.
Браун собрал всех в доме Джона.
— Пусть женщины и дети храпят дома и сами заканчивают весенние работы. А мы все должны взять оружие и спешить на помощь братьям в Лоуренсе; Джон — капитан «стрелков Поттавотоми», за ним уже присылали его соратники, и мы все присоединимся к его отряду. Повозки, лошадей и скот оставим женщинам, возьмем только оружие, боеприпасы и столько еды, сколько надо, чтобы не ослабеть. И пусть там будут хоть тысячи головорезов, не надо бояться…
В лесу пахло дымом костров, жареной свининой. Палатки и шалаши были едва заметны, они жались к ветвистым старым дубам и соснам, втискивались в густые кустарники — майское солнце припекало уже и по утрам.
Отряд стрелков Поттавотоми готовился к завтраку. Командир отряда Джон Браун-младший был в толпе молившихся. Хором руководил его отец. Старик Браун в рубашке из неотбеленного холста и таких же штанах с темными заплатами стоял, словно на нем воскресный пасторский сюртук. Он держал маленькую потрепанную книгу — псалтырь, но пел наизусть, и все вокруг повторяли за ним…
Внезапно он замолк. И все замолкли, увидев, что он поглядел в сторону. Из-за деревьев вышли двое — парень с ружьем, их часовой с дальней опушки, рядом с ним незнакомый усталый человек с лошадью на поводу, мокрой от пота.
Старик Браун сказал:
— Господь простит нам перерыв в молитве. Прибыл вестник с поля боя. Вы из Лоуренса?..
— Я мог бы и подождать, сэр. Теперь уже некуда спешить, Лоуренс разгромлен.
Его окружили, тревожно расспрашивали о знакомых, о родственниках.
Браун протянул ему кружку воды, заправленной имбирем.
— Погодите, джентльмены, пусть наш друг расскажет сначала все, что он хотел нам сообщить, потом будем спрашивать каждый о своем.
— Они пришли третьего дня. Да-да, в понедельник, девятнадцатого. Их было не меньше тысячи… Из Миссури генерал Дэвид Ачесон привел свой отряд «стрелков графства Плэт», у них две пушки. Потом весь «эскадрон Кикэйпу» — те самые, что изрубили капитана Риза Брауна, и еще отряды головорезов и ополченцы… Они убили молодого парня у Блэнтонского моста… Ему было двадцать лет. Честный, мирный парень. Он только сказал, что он против рабства, потому что Иисус не хотел такого, чтоб человек владел человеком, как скотом. И они тут же застрелили его… И в тот же день убили еще одного молодого человека, он и два его друга услыхали про убийство, оседлали лошадей, поехали туда к мосту. Миссурийцы встретили их пулями.
— А войска Штатов, где были регулярные войска?
— Не знаю. Не было видно ни одного мундира. Наш комитет хотел соглашения, как тогда зимой. Шериф требовал, чтобы ему не мешали арестовать обвиненных в измене, комитет согласился. Вечером во вторник арестовали двоих, а потом еще троих — всех по обвинению в измене. Комитет общественной безопасности тогда же передал ему письмо, что жители Лоуренса не будут сопротивляться федеральным властям при исполнении законов территории.
— Трусы!.. Жалкие трусы!.. Они покорились лжезаконам Шоуни.
— И это не помогло. Но что было делать? В городе осталось не больше двухсот ружей и едва ли десяток бочонков пороха. И командовать некому. Комитет сначала согласился, чтобы все жители Лоуренса сдали оружие только федеральным войскам. Но потом, к вечеру в среду, уже сдавали оружие шерифу Джонсу и его отряду.
— Трусливые самоубийцы. Бараны сами подарили рога волку…
— Он обещал, что будет соблюдать закон и порядок. Они ждали, пока наши сложат оружие, и тогда ринулись в город. Верховые, пешие, в фургонах, в повозках, с флагами, горланили новую песню… дикая такая плясовая мелодия:
Всем янки на страх Истребим негролюбов! Хотим во всех краях Вершить законы Юга!— Неужели никто не сопротивлялся?
— Нет. Ни единого выстрела. Это было бы безумием. Многие женщины и дети бежали в леса к северу. Нападающие выкатили пушки на площадь против Дома свободного штата. Шериф Джонс махал бумагой и кричал: «Решение федерального суда — уничтожить эту крепость беззакония». Генерал Ачесон, да-да, это он, вице-президент из Вашингтона, навел и дал первый выстрел, потом выпустили еще ядер тридцать со ста шагов… Когда рухнула стена и дом загорелся, Джонс заорал: «Это самый счастливый день в моей жизни… Клянусь богом, это я добился такой победы… Это я!» Потом они разбивали печатные машины и жгли все, что могло гореть в редакциях газет «Гералд Свободы» и «Канзас — штат Свободы». А другие шатались по улицам, разбивали окна, вламывались в дома: «Где тут вольноземельцы?.. Где они, желающие свободной земли?..» Они сожгли дом Робинсона и еще дома в городе и за городом…
— Кого убили?
— Не знаю. Об убитых не слыхал. А избитых видел, много избитых, оплеванных, ограбленных. Мой брат сам слышал, как Ачесон на площади поучал своих миссурийцев: «Мы, — говорил он, — должны помочь навести здесь порядок и утвердить закон. Будьте мужественны и ведите себя достойно. Помните, что джентльмен Юга всегда почтительно вежлив с леди. Но женщина, которая нарушает законы да еще осмеливается взять в руки оружие, разумеется, уже не может считаться леди. И поэтому, — тут уж он совсем распалился, — кто бы ни попытался мешать вам, будь то мужчина или женщина, никаких колебаний, и пусть холодный свинец спровадит в жаркий ад любого врага!»
— Господи! Неужели эти негодяи останутся безнаказанными!
— Капитан! Идем на Лоуренс, мстить. Немедля мстить.
— Ты обезумел, парень. Нас меньше полусотни. И не у каждого ружье. А там несколько сотен вооруженных до зубов…
— Что же делать? Неужели будем прятаться, как зайцы, как мыши?
— Нужно выждать, собрать подкрепление… Разведать дороги…
— Нужно жаловаться в Вашингтон.
— Кому? Президенту Пирсу на его заместителя? Или, может быть, вице-президенту Дэвиду Ачесону на Дэвида Ачесона — генерала головорезов?
— А наши дома пока беззащитны… Мы тут в лесу молимся и митингуем, а наших жен и детей могут убить.
Джон Браун слушал взволнованную разноголосицу. Слушал гневные, тревожные слова, голоса, хриплые, звонкие, срывающиеся от ужаса, от горя, от ярости. Он смотрел на сына, окруженного толпой стрелков. Нет, тот не растерян, сосредоточенно думает, но все поглядывает на отца, ждет помощи…
Негромкий твердый голос старика врезался в перепалку.
— Джентльмены! Мы все здесь едины в праведном гневе против подлых и трусливых негодяев. Мы все согласны с тем, что надо им дать отпор, суровый, беспощадный отпор. Мы пока не согласны лишь в том, как и когда нам действовать. Но без такого согласия не может быть успешных действий. Если же мы достигнем полного единства и полного взаимного доверия, то будем сильнее самых многочисленных врагов… и тогда побегут от нас орды нечестивых поборников рабства. Для этого надо нам быть мудрыми, отважными и ловкими. Нужно разведать силы, намерения и пути врагов. Нужно собрать друзей, ободрить устрашенных, укрепить ослабевших. Он сказал: «Мне отмщение и аз воздам». Но сегодня даже слепому видно, каким может быть отмщение преступным убийцам наших братьев, разрушителям наших домов, осквернителям наших прав… Это мы, воины свободы, избраны быть оружием его карающей десницы.
Он высоко поднял над головой книгу и говорил, глядя прямо перед собой в пространство:
— Слово божье гласит — око за око, зуб за зуб… Поднявший меч от меча и погибнет.
Все вокруг стояли молча.
— Пусть капитан Джон Браун-младший отправит разведчиков и гонцов, чтобы известить друзей. А мы все проверим оружие, будем готовы сразиться в любое мгновение, и не только обороняться, но и нападать. Враги пролили кровь. Их не минует отмщение…
На следующее утро Джон Браун-младший отобрал несколько верховых, и они отправились в сторону Лоуренса разведывать.
— Отец, ты оставайся капитаном.
— Нет, Джон, я не останусь, я тоже буду действовать, но по-другому.
— Нельзя нам разделяться, нас и без того мало, и оружия не хватает.
— Я вернусь еще до того, как вернешься ты.
Он отозвал сыновей — Оуэна, Оливера, Салмона и Фредерика, зятя Генри Томпсона.
— Вы пойдете со мной, надо позаботиться о наших домах и помочь женщинам и соседям, если головорезы уже там побывали и все разрушили. С нами пойдет еще мистер Винер.
— Мой дом уже разрушен, сэр, и лавка разграблена. Семью приютили соседи. Надеюсь, хоть до них не доберутся эти проклятые кровопийцы. Они ведь там неподалеку засели. — Винер разжег короткую трубку, пыхнул несколько раз едким дымом. — Ладно, мистер Браун. Только пешком добираться будет нелегко.
— У Тоунсли хороший фургон и крепкие лошади. Мистер Тоунсли, одолжите мне ваш фургон и лошадей дня на два.
— Охотно, сэр, но только вместе со мной. Куда вы собираетесь в паломничество?
— Если вы хотите присоединиться к нам, я буду рад. Но куда и зачем мы едем, скажу позднее.
— Ваш покорный слуга, сэр. Когда собираться?
— Сейчас. Оливер, Генри, возьмите в шалаше у Джейсона семь тесаков, осмотрите клинки, очистите от ржавчины. Сколько у нас револьверов? Нужно, чтоб у каждого было хотя бы по одному. Пусть Джейсон отдаст свой, он остается. Трех ружей достаточно. С богом, в путь!
Браун, его сыновья, зять и Джеймс Тоунсли уселись в фургон. Винер ехал верхом на невысокой крепкой лошади. Выехали на дорогу, ведущую в Поттавотоми.
Встречные попадались редко, одинокие всадники или повозки. Браун сказал:
— Глядите внимательно, если увидим большой отряд головорезов, свернем в прерию. Если малый — будем сражаться.
К концу дня встретили почтовую карету.
— Какие новости, мистер почтмейстер? Есть ли свежие газеты?
— Новости разные, уж не знаю, как кому понравятся. Я служащий правительства, в борьбе партий на территории не участвую.
— Не опасайтесь, сэр, мы вольноземельцы, мирные люди, уважаем законы.
— Сожалею, но вынужден вас огорчить, джентльмены, город Лоуренс горит, разграблен головорезами с границы.
— Это мы уже знаем.
— И произошла драка в конгрессе…
Сенатор Чарльз Самнер писал своему другу Сэмюэлю Хау, что атмосфера в конгрессе сгущается, что отношения между сторонниками противоположных взглядов все хуже. На нас нападают. Надо бы сделать что-либо серьезное.
Другой сенатор, отправляясь в конгресс, приводил все свои дела в порядок, собирался так, словно уже не вернется.
Девятнадцатого и двадцатого мая Самнер произнес речь «Преступления против Канзаса». Говорил восемь часов: «То, что не могло быть достигнуто мирным путем, того достигли силой. Сейчас рабство пытаются навязать свободной территории.
Рабство навязывается Канзасу силой, и оно — под эгидой так называемого закона… Рабство стоит на обеих ногах и звенит цепями по территории Канзаса, его окружает смерть, оно грозит всем свободам…»
Оратор не скупился на резкие выражения. О миссурийцах он говорил: «Наемные разбойники, подобранные из канав, полных блевотины».
Он прямо назвал двух южных сенаторов — Дугласа и Батлера — ответственными за резню в Лоуренсе. Батлер «прочитал много книг о рыцарстве, он и себя считает рыцарем без страха и упрека. Как и положено рыцарю, он избрал даму сердца, которой поклялся в верности, и, хотя эта дама в глазах других людей ужасающе уродлива, в его глазах она чиста и прекрасна. Я имею в виду эту шлюху — рабство…».
Двадцать второго мая Самнер сидел в своей рабочей комнате в сенате, к нему сзади подкрался Престон Брукс, член палаты представителей от Южной Каролины, родственник Батлера, и ударил Самнера тяжелой палкой по голове. Самнер упал, обливаясь кровью. Он остался в живых, но увечья оказались столь тяжелыми, что почти четыре года он был инвалидом.
Отец Самнера, начальник тюрьмы в Бостоне, спасший Гаррисона, редактора «Либерейтора», от суда Линча, еще в 1834 году произнес вещие слова: «Нашим детям будут разбивать головы из-за рабства».
Брукса не выгнали из конгресса, его лишь слегка пожурили, наложили штраф. А в глазах южан он оказался героем, ему присылали палки с золотыми набалдашниками, и в сопроводительных письмах — рекомендация: «Применяйте и впредь именно эта сокрушительные аргументы!»
«Я не могу найти слов, — писал Хау своему раненому другу, — да и с какими словами можно сейчас к вам обращаться?!
Но из этого зла вырастет добро, и кровь ваша пролилась не напрасно».
К вечеру Браун велел свернуть с дороги, стали на привал в лесистом овраге, в нескольких милях от Поттавотоми. Разожгли костер. Съели по куску мяса. Джеймс Тоунсли рассказывал о своей жизни. Слушая его тягучий южный говор, младшие Брауны иногда удивленно переглядывались. Это было наречие рабовладельцев, но Тоунсли еще на родине, в Мериленде, стал противником рабства. Он долго служил в армии, в кавалерии, воевал с индейцами во Флориде.
— Храбрые вояки эти краснокожие, ничего не боятся — ни ран, ни смерти, ни пули, ни сабли. И гордые. Любой мальчишка первый год носит воинский убор, а глядит генералом. В бою они коварны, как черти, как змеи, нападают из засад, в темноте, не щадят никого, с живых скальпы сдирают… Но станете говорить с ними, никогда не солгут, просто не умеют. Индеец, если хочет скрыть, будет молчать, хоть его жги на углях, но врать — никогда.
Тоунсли жаловался, что не успел закончить посевы. Жена и четверо малышей здорово намерзлись за зиму в домишке, который он срубил осенью, — не знал, что здесь такие холода бывают и такие ветры. Все переболели. Сеять и сажать начали поздно, картошку успели, а кукурузы еще не меньше половины осталось, как поднялась тревога, миссурийцы снова прут на Лоуренс. И вот он уже больше недели опять вроде как солдат, а что дома — не знает. Хорошо, если соседи помогли. Но теперь он оказался совсем близко от своих, тут и шести миль не будет, на юго-запад к верховьям Поттавотоми.
Браун спрашивал его и Винера, кто в этих местах самый опасный из сторонников рабства.
— Конечно, Дойли — и отец, и сыновья. Они на Юге охотились на беглых рабов, разводили и натаскивали собак-людоедов. И здесь уже поймали несколько сбежавших черных парней. Они и братья Шерман ежедневно пьянствуют с головорезами.
Оливер и Фредерик тоже знали про Дойлей.
— Отец, помнишь, когда мы изображали землемеров в лагере алабамцев, помнишь, как тот усатый индюк в шляпе и в блестящих сапогах хвастал, что они скоро очистят берега Поттавотоми от всех аболиционистов: «Мы их выкурим, как ос, перестреляем, как кроликов». Ты спросил: «А разве туг есть аболиционисты?» И я чуть не засмеялся, ты прогнусавил совсем по-виргински. А он и выложил, не запинаясь: «Как же, как же, целый выводок янки Браунов, немцы Бонди, Беньямин…» — никого не забыл. Мы удивились, откуда он знает, они же только-только из Алабамы заявились. Но потом, на следующий день, я видел, они встречали старика Дойля и Билла Шермана: «го-го» и «га-га», встречали как дружков-приятелей. И понял, откуда они все знают.
Винер сердито выколачивал трубку о ствол.
— Дойли отпетые негодяи, но Билл и Генри Шерманы тоже не лучше. Сколько на их совести грехов, они и сами уже, наверное, не помнят. Они вместе с Дойлями ловят беглых негров, истязают страшно, у них руки в крови. В трактире Шерманов всегда собираются миссурийские головорезы. Мой сосед Бонди, когда приехал прошлым летом, пошел к Биллу как к земляку, он ведь родом тоже из Германии, хотел познакомиться по-соседски. А тот ему: «Мы с братом, правда, родились в Ольденбурге, но теперь мы — американцы, южане и не признаем никаких других земляков. Все подлые негрокрады, все аболиционисты проклятые, вольноземельцы, откуда бы они ни приехали, наши смертельные враги. Мы знаем, что и ты, и твои приятели дружили с янки, скажи всем — здесь вам не жить, убирайтесь, пока еще кости у вас целы».
Мы думали, это просто угрозы, но именно Шерман и Дойли привели шайку головорезов в мою лавку, все разграбили дочиста, не меньше чем на семь тысяч долларов. И они же разгромили лавку тихого старика Морзе, избили его, накинули петлю, повели вешать. Поиздевались, а потом отпустили еле живого, грозили, что убьют его и сына, если они не уедут, и то же самое будет со всеми другими.
Браун слушал, изредка спрашивал:
— А еще кого помните из таких негодяев?.. Надо всех знать. Надо помнить, у кого мы в долгу.
Тоунсли, Винер, сыновья Брауна и Генри вспоминали имена, рассказывали об угрозах, нападениях. Разговор у костра не умолкал до ночи. Все согласились, что хуже всех, пожалуй, Дойль с тремя сыновьями, братья Билл и Генри Шерманы, пьянчуга Уилкинсон — северянин, который стал хуже любого южанина. Наконец Браун сказал:
— Пора отдохнуть. Завтра будет трудный день. Прочтем вечернюю молитву.
Улеглись, кто в фургоне, кто под ним. Браун еще долго сидел один, подкладывал хворост в костер, читал Библию или глядел на звезды, безмолвно шевелил губами.
Когда начало светать, он разбудил Тоунсли и отвел его в сторону.
— Вы проводите нас к реке, покажете дома Шерманов, Дойлей, Уилкинсона… Вы ведь знаете их.
— Знаю. Но что вы собираетесь с ними делать?
— Раздавить ядовитых змей, грозящих добрым людям… Очистить берега Поттавотоми от убийц и поджигателей, воздать око за око, зуб за зуб.
— Вы хотите убивать их сейчас в их домах, сонных, безоружных, при женах и детях? Нет, сэр, в этом я вам не помощник. Я солдат, я готов сражаться. Моя рука не дрогнет в бою, когда передо мной будет враг, вооруженный, который целится в меня, в моих товарищей…
— На троне войны бывают и засады, и нападения с тыла.
— Бывают. Но и тогда солдат разит солдата, и оба знают, что идет война. А вы хотите, чтобы мы, как палачи, как ночные убийцы…
— Нет, как орудия господней кары за кровь праведных… И сейчас уже идет война: разгром Лоуренса, гибель честных людей. Вы же слышали вчера, как головорезы пируют на пепелищах, они считают нас трусами, растерянными, бессильными трусами. Поймите, нас еще слишком мало, чтобы выступить в открытый бой, но мы можем нанести нежданный и жестокий удар. Пусть все узнают, что преступления не остаются безнаказанными, что мы и наши единомышленники не овцы, безропотно бредущие под нож мясника, а воины, разящие внезапно и беспощадно…
— Нет, мистер Браун, я так воевать не буду. Может быть, вы и правы, но мне уже поздно переучиваться. Моя жена пила кофе с их женами. Наши дети учатся в одной школе. Охотно пойду с вами в бой в открытую… Но сейчас я уеду немедля. Покормлю лошадей — и прощайте…
— Вы никуда не уедете, мистер Тоунсли, я не хочу и не могу принуждать вас вместе с нами выполнять грозную волю, я уверен в том, что нами движет его карающая десница, уверен так же, как уверен в том, что вон этот мутно-красный диск в тумане есть благодатное солнце, что оно будет подыматься все выше и будет двигаться именно туда, а не сюда. Я не хочу вас принуждать следовать за мною. Однако я не могу вам позволить нас покинуть. Оставайтесь и ждите, пока мы исполним то, что нам предначертано. Вы не желаете помогать нам, но вы же не хотите помогать нашим врагам.
— Ладно, мистер Браун, сэр, я буду ждать.
Проснулись все. Браун прочитал утреннюю молитву, потом каждому дал по куску жареной рыбы, кусок вяленой говядины и кукурузную лепешку, подогретую на углях. Опять помолились. И тогда он сказал:
— Сегодня мы уничтожим самых гнусных из вражеских вожаков — Дойля, его сыновей, Уилкинсона, братьев Шерман.
Сыновья глядели испуганно, недоуменно. Винер молчал, то раскуривая трубку, то ковыряя в ней щепкой.
Генри спросил осторожно: — Но сказано ведь: «Не убий». Сказано: «И поднявший меч от меча погибнет».
— Да, именно так. Но первыми подняли меч те, кто убил Барбери, Доу, Риза Брауна, двух юношей на этой неделе, кто разрушил пушечными ядрами Дом свободного штата, сжег город Лоуренс, пролил кровь сенатора Самнера — защитника правды… Вы помните, как южная газетка хвасталась девизом головорезов: «Война до ножа, а нож до рукоятки!» Они уже вонзают ножи. Если мы не отомстим сегодня, завтра будут новые жертвы.
Трубка Винера потрескивала и булькала. Он сплюнул в кусты — длинная желтая слюна.
— А вы надеетесь, что если мы сегодня прирежем Билла Шермана и дюжину других подлецов, то остальные сложат оружие или удерут в Миссури?
— Нет, мистер Винер, только безумец мог бы питать такие надежды. Но я уверен, что мы напугаем их. До сих пор убивали они, убивали безнаказанно, упиваясь жестокостью. Теперь они узнают, что и мы умеем убивать. Самые трусливые из них, — а ведь трусы всегда и самые жестокие, — возможно, вовсе уберутся из Канзаса. Но и все другие станут осторожнее, и, значит, меньше будет жертв среди наших друзей. Мы с вами научились противоборствовать пожарам в прерии. Роем Канавы и зажигаем встречный огонь. Злодеи разжигают пожар войны во имя рабства — погасить его можно только огнем. Свобода Америки завоевана в кровопролитных боях, и свобода Канзаса требует жертв. Нам предстоит совершить жестокое дело. Я указываю вам, против кого обратить оружие, и приказываю разить беспощадно. Приказываю и требую беспрекословного повиновения. Ибо я сам буду в ответе за все и перед небом, и перед адом. Да, это я приговорил к смерти негодяев, во имя свободы, в отмщение за мертвых друзей и ради безопасности живых. И на мне будет кровь, которую вы прольете, я принимаю на себя грехи моих кровных, моих сыновей и ваши грехи, Винер и Тоунсли… И я приказываю поднять меч сегодня в ночь. Днем мы не можем застать их врасплох, днем наша малочисленность обернется против нас.
Винер ухмыльнулся.
— К тому же сегодня суббота. Надо чтить…
Браун посмотрел пристально и гневно.
— Стыдитесь, Винер, ваша глупая шутка вдвойне кощунственна. Мы готовимся обагрить руки кровью. Пусть это кровь злодеев. Пусть мы вершим святую месть. Но ведь мы прольем человеческую кровь. Нужно молиться, а не зубоскалить.
Он снова и снова открывал Библию.
Браун напомнил сыновьям, чтоб почистили тесаки и наточили брусками. Сам проверил обоюдоострые клинки, как проверял косы перед жатвой. Тщательно осмотрел ружья, револьверы, пороховницы и патронташи.
Вечером молились дольше обычного. Когда стемнело совсем, он еще долго смотрел на запад, пока не дотлела последняя красная полоска над почерневшими верхушками леса. Потом встал:
— С богом!
Первым был дом Дойлей. Огромные псы не лаяли, а хрипели яростно, ревели, рвались с цепей. Под ударами тесаков рев срывался на визг.
На стук в дверь отозвался тревожный голос:
— Кто вы? Что нужно?
— Мы ищем дом Генри Шермана, мы из армии северян. Мистер Дойль, вы наш пленник. Сдавайтесь и идемте с нами, покажите, как туда пройти.
Открыл дверь сутулый старик в длинной ночной рубашке. Они оттолкнули его и вошли.
Старик начал торопливо одеваться. Он пошатывался с похмелья и бормотал:
— Я сейчас, джентльмены, пожалуйста, джентльмены, я мирный человек, я никому зла не делал…
Браун стоял, не снимая низко надвинутой широкой соломенной шляпы. Сальный огарок тускло освещал большую комнату и постели на полу — здесь спали трое сыновей Дойля.
— Одевайтесь и вы — вы все наши пленники.
— Пощадите, о пощадите, сэр! — старуха в мятом чепце молитвенно сложила худые бледные руки. По впалым щекам текли слезы. — Умоляю вас, полковник, простите, может быть, вы генерал, умоляю, я мать. Хотя бы младшего не уводите — Джонни еще нет шестнадцати… Мои мальчики ничего дурного не делали. Клянусь вам, сэр. Мы мирные люди. Клянусь богом…
— Не клянитесь, мэм, не употребляйте имени божья всуе. Ладно, младший пусть остается.
В темноте вели пленников, каждого двое, держа за руки. Браун шел впереди и сразу свернул к лесу. Сзади испуганно бормотал старик Дойль:
— Куда вы нас ведете, джентльмены? Там нет дороги… Там болото… Что вы с нами хотите делать? Сэр, капитан… Сэр, полковник… Там болото.
Браун слышал тяжелое прерывистое дыхание сыновей. Никто из них еще ни разу не убивал человека. Теперь им придется рубить, колоть. Стрелять нельзя. Выстрелы слышны далеко. Один из младших Дойлей крикнул:
— Они хотят убить нас… Проклятые янки… трусливые убийцы.
Глухой удар. Хрип. Снова удар — удар — хруст, Браун обернулся:
— Кровь за кровь! Да совершится правосудие.
Старик Дойль закричал:
— Пощадите… Ради бога… Пощадите мальчика!
Выстрел. Стон.
— Не стрелять!
Хрустящий удар. Клинок тесака на фоне звездного неба — блестящей полоской.
Удары снова и снова. Сзади вскрик — удар — захлебывающийся хрип. Бормотанье.
Срывающийся голос Фредерика, кричит, словно плача:
— Это мы сами убийцы, убийцы, злодеи… злодеи…
Голос Винера:
— Хватит, парни, они уже мертвы… Не рубите трупы.
Письмо в сером конверте. Прямые строчки, круглые писарские буквы.
Теперь старуха и ее сын будут довольны: умрет он, уже погибли его сыновья. Око за око… Поднявший меч… но не от меча, а в петле. Нет, все это не так. Он и его сыновья погибают в битве за правое дело. На их крови, из их могил взойдет посев свободы. А все те… Той душной ночью их необходимо было уничтожить, как змей, как ядовитые сорняки на поле, куда пришел пахарь. И не будет от них доброго семени.
Старуха Дойль злорадствует, пусть. Но борозды очищены, и теперь в них прольется праведная кровь…
…Все пошли обратно к дороге. Молча, не сближаясь друг с другом. Браун слышал прерывистое дыхание. Как после долгой тяжелой работы. Кто-то всхлипнул. Кажется, Фредерик. Кто-то отошел в кусты, мочился. Кого-то рвало.
— Очистить клинки землей.
Браун почувствовал, что ему трудно говорить обычным голосом. Гортань перехватывало тошнотой. Но он не смел ослабеть и сказал еще спокойнее:
— Очистить клинки. Здесь мягкая трава. Рукоятки оботрите травой.
Шли редкой цепочкой. Тоунсли встретили у дороги, он зашептал:
— Не знаю, кто вас научил, сэр, бог или дьявол. Но чтоб так прикончить безоружных, нужны именно послушные молодые люди, неопытные, неискушенные. Солдату это было бы не под силу. Я бывал и в боях, и в перестрелках, слышал, как воют команчи, нападая на засады… Но это… Не надо продолжать, сэр.
— Мечи обнажены. Мальчикам трудно потому, что у них добрые сердца… И вы добрый человек, Тоунсли, и я хочу быть таким, и в моем сердце теперь боль. Но мы должны исполнить долг.
Братьев Шерман в доме не было, — Генри уехал в прерии искать коров, отбившихся от стада, Билл заночевал у соседей. Его нашли у фермера неподалеку, где он с двумя собутыльниками уже спал. Дом не был заперт. Браун и сыновья вошли с обнаженными тесаками. Всех мужчин выводили но одному и во дворе допрашивали: кто, откуда, зачем приехал, участвовал ли в разгроме Лоуренса. Хозяину велели оседлать лошадь Билла Шермана, забрали три ружья, револьверы, кинжалы, порох…
Громоздкий, грузный Билл Шерман угрюмо и растерянно глядел на окружавших его врагов.
— Я вас узнаю, вы — старик Браун. И это ваши парни. Не вздумайте увести моего коня, я его найду и на Севере. Не махайте так грозно саблями, Билла Шермана нелегко испугать. И знайте, что память у нас с братом хорошая. Мы не забываем добра, но еще лучше помним обиды… Куда вы идете, джентльмены, там речка и нет переправы… А-а-ах…
Его тело столкнули в реку.
Уже светало.
Браун сказал:
— Вернемся на привал. Днем двинемся обратно…
Он видел, что сыновья суют в ножны окровавленные тесаки, не очистив. Хотел напомнить приказ, но не стал. Им трудно, пусть так.
В понедельник к вечеру вернулись, нашли Джона и Джейсона и нескольких стрелков из тех, кто возражал против уступок рабовладельцам, в другом лесу.
Джейсон вышел из дому болезненно возбужденный, глядя в лица отца и братьев, торопливо заговорил:
— Сегодня прискакал парень с Поттавотоми… Лошадь в мыле… Сам дрожит от страха. Он сказал: там в субботу убили пятерых из тех, кто за рабство… Убили порознь… среди ночи. Он сказал, все говорят, что их убил старик Браун… все очень напуганы и возмущены. Отец, это правда? Это сделал ты?
Джейсон с детства не мог видеть крови, бледнел, его тошнило. Когда резали курицу, он убегал. Неужели он теперь будет испытывать отвращение к отцу?
— Я никого не убивал. Но я одобрил это…
— Отец, это… Это страшно. Это бессмысленное злодеяние… Мне очень больно, что оно свершилось.
— Бог мне судья. Это было необходимо. Понимаешь, необходимо. Чтоб защитить нас, чтоб защитить всех.
Джон сказал, что отец, должно быть, прав. Но и он был подавлен, глядел тоскливо, исподлобья, на вопросы отвечал односложно.
Джон и Джейсон отказались идти с отцом. Семьи их, наверное, уже давно бежали к родственникам. Они решили пробираться на ферму дяди Эйдауэра.
Через несколько дней Браун узнал, что Джон и Джейсон в плену, их захватил отряд федеральных войск, их будут судить. Но это еще ничего, потому что сначала их едва не линчевали. Отряд драгун, которым командовал офицер-южанин, конвоировал Джона. Его избивали, связали так, что руки почернели и кожа сходила. Его заставили бежать за лошадьми восемнадцать миль до Лекомптона, где его посадили в тюрьму. Оттуда сообщают, что Джон сошел с ума, бредит, зовет отца. И Джейсон тоже заболел в тюрьме, его трясет жестокая лихорадка, он впал в меланхолию…
Миссурийские головорезы и местные ополченцы рыскали по всем дорогам, искали виновников убийств. Но федеральные войска, драгуны и пехота получили приказ — разгонять вооруженные скопления, под каким бы флагом они ни собирались, не допускать стычек между враждующими группами.
Браун вел свой отряд ночами, они шли по дорогам, днем забирались поглубже в лес. Они продвигались к северу, оставляя южнее свои дома. Разведчики узнали, что отряд миссурийцев рыщет вдоль реки Осэйдж, ищет Брауна и его сообщников, судья Кэйто уже отдал распоряжение об их аресте.
На привале Браун читал газеты, — принес один из разведчиков. Не только защитники рабства, но и умеренные проклинали «ночных убийц», требовали найти их и сурово покарать. Из Осоватоми сообщали, что там состоялось объединенное собрание сторонников и противников рабства, они приняли решение — отказаться от междоусобных распрей, объединить силы всех мирных жителей Канзаса для борьбы против всех самочинных вооруженных отрядов, чтобы не допускать повторения подобных кровавых трагедий. Они требовали наказать преступников.
— Теперь все против нас. И враги, и друзья. Вот чего мы добились.
— Вы заблуждаетесь. Испуганы все — и те, и другие. В испуге они хотят объединиться. Это единство будет недолгим. Но сегодня оно направлено и против миссурийских головорезов, и против их местных пособников. Их больше, чем нас, они разбойничают среди бела дня, им не приходится прятаться. Против них-то в первую очередь должны действовать все, кто хочет защищать порядок: федеральные войска, судьи и шерифы.
— Но везде говорят, кричат, что старик Браун и его сыновья — ночные убийцы, Джон и Джейсон уже схвачены… Дядя Эйдауэр боится открывать нам двери… Теперь вольноземельцы будут нас бояться, ненавидеть.
— Однако за три дня наш отряд утроился. Сегодня нас уже двадцать пять воинов свободы. Разве вы из страха пришли к нам, друзья?
— Нет, сэр. Мы искали именно вас, капитана Брауна, потому что и в Лоуренсе, и в Топике все говорят, что только старик Браун по-настоящему сражается… Если бы вы подоспели вовремя, то и Лоуренс уцелел бы.
— Молва всегда преувеличивает… И худая, и добрая молва далеко обгоняют истину, а то и вовсе убегают от нее. Сражаться мы еще только будем, но уж действительно по-настоящему.
Всадник, неторопливо рысивший по лесной опушке, выглядел необычно для этих мест. Светлая войлочная шляпа, темный сюртук и клетчатые брюки, молодой, розовощекий, нет следов загара, явно безоружный — городской франт в седле…
— Алло, сэр, откуда и куда вы едете?
Из-за кустов вышел молодой парень с длинным ружьем, в куртке, обшитой по швам бахромой — на индейский лад.
— Еду из Осоватоми. Хочу кратчайшим путем добраться до Пальмиры.
— Кто вы такой?
— Джеймс Редпат, корреспондент двух газет — «Демократа» и «Трибуны» — из Сент-Луиса.
— Газетенки рабовладельцев. Вы забрались сюда прославлять миссурийских головорезов?
— Я приехал, чтоб узнать правду о жизни в Канзасе, и буду писать только правду. Я не принадлежу ни к каким партиям, я просто честный журналист.
— Ну что ж, если вы ищете правду, то вам здорово повезло. Идемте, я отведу вас к нашему капитану. Кто-кто, а старик Браун знает, где правда.
Редпат присвистнул от веселого удивления.
— Будь я проклят, если это не великолепная удача. Ко всем чертям Пальмиру, ведите меня к вашему капитану, сэр. Клянусь, я в восторге от встречи!
— Рад вам служить. Но только не смейте клясться и чертыхаться. У нас это строжайше запрещено…
— Разве капитан Браун квакер?
— Не похоже. Но он богобоязненный и строгий джентльмен. Весь отряд молится утром и вечером и за каждой едой. За скверные слова, за клятву, за карты или за виски — выгоняет из отряда. Но так он старик серьезный, вежливый и очень справедливый. В нашем отряде его сыновья Оливер, Оуэн, Уотсон, Фредерик и его зять Генри. Он никому никакой поблажки не делает. С них еще больше спрашивает, чем с других. И себя не жалеет. Он у нас и капитан, и пастор, и повар, вот видите огонь, это он уже готовит ланч.
Между сосен, сквозь густую зелень кустарника — красно-оранжевые полыхания большого костра. Редпат спешился, вышел вслед за проводником на небольшую прогалину. В тени у коновязи — двенадцать оседланных лошадей. К молодым деревьям аккуратно прислонены ружья, сабли. Несколько человек лежали в тени на красных и синих одеялах. Молодая загорелая женщина собирала ягоды.
У костра — высокий человек в холщовой рубашке с закатанными рукавами. Рыжевато-седые жесткие волосы щеткой над широким светлым лбом, а лицо загорелое, костистое, глаза в глубоких впадинах, серо-голубые, пристальные, нос большой, орлиным изгибом, рот тонкогубый, крепко стиснут, подбородок твердый, круто вперед. Обветренная кожа на скулах, щеках иссечена мелкими морщинами, в подглазьях большие темные складки и еще темнее и резче борозды вниз от крыльев носа. Худые жилистые руки. В одной — большая сковородка, на которой шипят куски свинины, в другой — длинный сук, заканчивающийся рогаткой. Он тщательно перевернул все куски мяса, бережно поставил сковородку на огонь, потом обернулся.
Редпат заметил, что на нем дырявые сапоги, подошвы подвязаны бечевками и брюки в заплатах.
— Здравствуйте, капитан Браун, я журналист из Сент-Луиса, случайно попал в ваше расположение, но очень рад, что могу познакомиться с вами, сэр. Я хочу знать правду о Канзасе.
— Добро пожаловать в наш лагерь, сэр. Мы расскажем вам правду о себе и о других, то, что знаем. Поживите с нами, сами увидите.
Браун неторопливо и неутомимо растолковывал молодому журналисту, зачем он с сыновьями приехал в Канзас, почему они взялись за оружие, почему он убежден, что Канзас должен быть свободным штатом, почему уверен, что рабство — величайшее зло.
— А что вы думаете об этих страшных убийствах на прошлой неделе в Поттавотоми, сэр? Неужели вы одобряете такие расправы?
— Думаю, что это было необходимо, очень прискорбно, но необходимо. Правительство штатов не помогает Канзасу, по сути, даже поддерживает разбой и произвол сторонников рабства. Поэтому людям, отстаивающим свободу, пока они в меньшинстве, приходится действовать решительно и по необходимости беспощадно… Убивать грешно, однако еще более грешно не препятствовать убийцам, которые ополчились на праведных, на невинных. Воин, взявший оружие, вынужден наносить раны и разить насмерть. Тот, кто воюет за правое дело, должен быть воином с чистой душой и высокими принципами. Я предпочел бы, чтоб в нашем отряде появились оспа, или желтая лихорадка, или холера, и даже все вместе, чем хоть один боец без нравственных устоев, без принципов. Многие люди ошибаются, полагая, что задиры, драчуны — лучшие воины и что нам нужны именно такие лихие парни. Это не так.
Редпат слушал внимательно — до чего же любопытный старик; слушал увлеченно — этот воин-оборванец — отличный оратор, нет, пожалуй, скорее, проповедник, опытный и страстный.
Прошло немного дней. Молодой журналист неотступно ходил за Брауном, слушал его жадно, истово, спешил записывать, чтобы не упустить ни слова. Слушал, убеждаясь: вот она, правда, за которую необходимо бороться вопреки сомнениям, даже вопреки собственной милосердной совести…
Ради этой правды нужно жить и стоит умереть.
В лагерь Брауна ежедневно приходили гонцы или друзья. Капитан Шоур, командир отряда «стрелки из Прери-Сити», принес тревожные вести: большой отряд миссурийцев разбил лагерь в дубовом лесу Блэк-Джек.
Новобранец из Поттавотоми рассказывал подробно, как миссурийцы громили и жгли дома, угоняли скот, вытаптывали посевы. И все это на виду у федеральных войск, наблюдавших за погромами со своих биваков.
Браун слушал, нахмурившись.
— На федеральные войска надеяться не приходится. Мы можем надеяться только на себя самих. В нескольких милях от нас — враг, хищный зверь готовится к прыжку. Мы должны предупредить прыжок.
— Но там не меньше сотни головорезов, сэр, почти все верхом, провизия и боеприпасы на фургонах. У вас — дюжина конников, а пеших и того меньше, повозок нет, у капитана Шоура хорошо если десятка три наберется и всего два фургона… Враг вдвое сильнее нас.
— Значит, мы должны действовать вдвое решительней и, главное, внезапно. Застичь врасплох. Ударим завтра же.
На следующий день утром отряд Брауна, как условились, прибыл в Прери-Сити. Их ждали стрелки Шоура, все вместе отправились молиться, маленькая деревянная церковь не вмещала воскресных посетителей. Часть гвардейцев осталась снаружи, через открытые двери слушали проповедь и подпевали псалмам, заглушая лай собак в ближних дворах.
Они с капитаном Шоуром сидели на передних скамьях и громко вторили хору девушек в белых чепцах.
Сзади кто-то тронул Брауна за плечо. Не оборачиваясь, он отклонился назад… Шепот в ухо:
— Капитан, ваши парни взяли пленных.
Он допел стих псалма. И вместе с Шоуром осторожно вышел из церкви. В дальнем конце площади — толпа, мальчики вели в сторону трех оседланных лошадей.
Двое из пленников были миссурийцы из того отряда, который зашел в рощу Блэк-Джек, третий — их случайным попутчиком.
Миссурийцы рассказали, что в их отряде пятьдесят всадников и шесть фургонов. Ими командует капитан Генри Клей Пейт, он — корреспондент «Миссурийского Республиканца», но отряд подчинен также помощнику федерального шерифа. Они пришли наводить порядок и уже участвовали в облавах на противников рабства. Там захватили в плен двух сыновей старика Брауна, их передали федеральным войскам. Есть приказ об аресте самого Брауна, других его сыновей и еще нескольких аболиционистов. Пока захватили только одного священника Мура…
В толпе зашумели. Мур был местным жителем. Его сыновья, бойцы отряда требовали немедленно выступать. Браун сказал, что необходимо дождаться темноты, двигаться ночью и атаковать на рассвете.
Хотя отряд Шоура стал многочисленнее — к вечеру набралось уже сорок стрелков, — но он сам предложил, чтоб объединенными силами командовал Браун.
— Прошу вас, сэр, вы старше, опытнее…
Ночевали в лесу по пути к лагерю противника, костров не разводили. Когда начало светать, оказалось, что отряд заметно сократился. Шоур смущенно признался, что несколько человек вернулись еще с пути — вспомнили, что у них дома неотложные дела.
Двинулись дальше, ведя лошадей на поводу. Браун и Шоур вышли вперед. Лагерь миссурийцев был на пологом холме, поросшем редкими, мощными дубами, недаром называлось это место «Блэк-Джек» — дубина.
Кругом стояли фургоны, за ними виднелись палатки, а выше, почти у гребня холма, — коновязи — не меньше полусотни лошадей и мулов.
Браун распорядился:
— Лошадей привязать к деревьям здесь, в овраге. Ты, Фредерик, и ты, — он указал на одного из молодых стрелков Прери-Сити, — остаетесь с лошадьми. Вы, капитан Шоур, ведите ваших людей налево, это будет подальше, но зато у ваших у всех винтовки Шарпа, они бьют издалека, а у нас гладкоствольные, мы зайдем справа. Сколько у вас зарядов?
— Винтовочных по дюжине есть у всех, кое у кого больше.
— Мало, капитан. Ведь не на куропаток охота. Внимание, джентльмены. Вы будете наступать с севера, мы с юга. Враги на холме, когда солнце начнет всходить, они будут хорошо освещены, а мы внизу, в тени. Нужно разбить их, пока не наступит день. Помните, целиться пониже, в ноги, тогда вернее попадете. Стреляйте только наверняка. Берегите заряды. Вперед!
Отряды разошлись. Браун вел своих цепочкой по кустам. Испуганно вспархивали птицы. Лес просыпался до времени, птичий гомон то взрывался, то затихал.
— Если бы там были индейцы или охотники, они б уже давно заметили опасность.
С холма ударил выстрел.
— Заметили. Но нам еще далеко. Без команды не стрелять.
Слева захлопали резкие выстрелы винтовок Шарпа… Один за другим.
— Торопятся. Издалека начали. Вперед, быстрее.
С холма отвечали залпами. Вспышки дальних выстрелов — багровые, оранжевые длинные пучки огня, поближе — клубы черно-белого дыма. Над ними темные кузова фургонов, еще выше четкие силуэты конских голов и спины, испуганно дергающиеся на красновато-зеленом фоне рассвета.
Пальба на севере стала затихать. Сзади окликали. Голос Шоура.
— Капитан Браун, у нас один тяжело ранен… Его унесли четверо. Другие расстреляли уже все заряды. Что делать?
— Те, у кого еще остались… Нет, те, кто еще может сражаться, пусть возьмут у нас, из наших запасов. Возвращайтесь туда, стреляйте пореже, постарайтесь метко. После каждого выстрела переходите на другое место. Сейчас начнем и мы. Не падайте духом… Вот поглядите, там уже несколько миссурийских героев седлают коней — удирают… Оуэн, передай всем — стрелять по лошадям и мулам, вернее попадете и вызовете смятение… Вы четверо идите влево, а вы отправляйтесь за подкреплением, постарайтесь вернуть тех, кто просто испугался… Объясните им, что покидать товарищей в бою стыдно… Ага, вот заговорили и наши карабины… Вперед, джентльмены!
Они подошли к лагерю шагов на сто — сто пятьдесят. Бойцы Брауна перебегали между кустами и деревьями, стреляли неторопливо… На холме испуганно ржали, метались кони и мулы… Из-за фургонов крик:
— Помогите, я истекаю кровью…
Браун с колена, тщательно прицелясь, выстрелил в ушастого мула, тот взбрыкнул, стал рваться, лягать привязанных рядом коней. Оторвалась одна лошадь, потом другая, и обе поскакали к лесу.
Миссурийцы разноголосо шумели, слов не было слышно, но шум звучал тревожно.
Внезапно на склоне холма показался всадник. Фредерик Браун скакал, размахивая тесаком, и громко кричал:
— Отец, мы их окружили… Джентльмены, вперед в атаку… Бейте рабовладельческую сволочь!
По нему стреляли, но он проскакал еще раз, крича: «Мы их окружили… Вперед, в атаку».
Браун стиснул челюсти так, что заболели зубы. У парня приступ безумия… Последние дни он был мрачен. Вчера все время бормотал: «Это было неделю назад… Как раз неделю… В прошлое воскресенье… Кровь пролита в день воскресения…» Поэтому отец не взял его в бой. А теперь Фредерик сам рвется под пули…
— Стреляйте, стреляйте!
Браун прицелился в спину плечистого миссурийца, который выстрелил в Фредерика, но не попал, тот уже скакал по лесу за холмом.
Белый платок над кустами и фургонами. Выстрелы прекратились. Из лагеря вышли двое.
— Не стреляйте… Перемирие.
Браун отложил ружье, проверил револьвер у пояса. Пошел навстречу.
— Я проповедник из Прери-Сити, пленник этих джентльменов. Капитан Пейт просил меня договориться с вами о перемирии. Нужно прекратить кровопролитие. Предотвратить братоубийство.
— А кто вы?
— Я лейтенант Джеймс Тернер, заместитель капитана.
— Вы останетесь со мной, лейтенант, а вы, достопочтенный сэр, идите и скажите капитану, чтобы он сам пришел сюда, я — капитан Браун, командир отряда свободных стрелков, я приму капитуляцию только от него.
Оставшись вдвоем, они молча разглядывали друг друга. Молодой щеголеватый южанин в коричневой шляпе с лихо заломленными полями, в красной куртке и высоких сапогах с большими зубчатыми шпорами опирался на длинную саблю, поглаживая рукоятки двух револьверов, торчащие из-под широкого кожаного пояса, и с презрительным любопытством смотрел на рваные сапоги старого тощего янки, на его застиранную посеревшую рубашку и револьверы, просто засунутые за кушак.
— Вы не боитесь, что наши парни подстрелят вас, капитан?
— Вы стоите на виду у наших стрелков, лейтенант. Они стреляют, пожалуй, лучше, а расстояние такое же. Мы с вами одинаково рискуем… А вот, должно быть, и ваш капитан.
Такой же молодой франт, в шляпе, сапогах, с длинной саблей. Бледный, черные усики как приклеены, глаза снуют во все стороны.
— Я капитан Пейт, я предупреждаю вас: мой отряд исполняет распоряжение правительства Соединенных Штатов, ваше нападение есть не что иное, как мятеж, государственная измена…
— Ваш отряд вторгся на территорию Канзаса из Миссури и разбойничает. Если вы не сложите оружие, мы уничтожим вас беспощадно.
— Я не могу ответить сразу. Мы должны обсудить. Прошу вас, сэр, два часа перемирия. Мы посоветуемся и договоримся об условиях.
— Никаких условий. Никаких отсрочек. Либо вы сдаетесь, либо вас не станет…
— Но как же так, сэр? Я должен иметь время объяснить моим людям.
— Идемте, я сам им объясню…
Они пошли к лагерю. Из-за фургонов, из-за кустов выглядывали миссурийцы. Браун, обернувшись к своим, крикнул:
— Всем оставаться на местах. Не стрелять. Готовьтесь принимать военнопленных.
Пейт снял шляпу, вытер лоб чистым платком и откашлялся.
— Джентльмены, это капитан Браун, он предлагает нам капитулировать…
Браун достал из-за пояса револьвер и направил его на Пейта.
— Прикажите вашим людям немедленно сложить оружие и стать строем в два ряда…
— Джентльмены!.. Прошу… Приказываю… Исполняйте распоряжение капитана, вы же не хотите моей смерти.
— Ладно… Черт с ними, с ружьями. Забирайте наши трещотки. Пусть ими играют маленькие янки.
— Эй, капитан Пейт, может быть, вы все-таки согласитесь погибнуть смертью героя… А потом мы отомстим за вас проклятым аболиционистам…
— Надеюсь, капитан Браун, вы не снимете с нас скальпов и не заставите целоваться с неграми?
— Кладите ваши ружья в одно место, джентльмены, там же складывайте револьверы и кинжалы… Идите вниз, к тому дубу… Салмон! Оливер! Составьте список пленных… Позовите капитана Шоура, мы вчетвером должны еще написать договор о капитуляции. Идемте в тень. Солнце уже высоко… скоро будет еще жарче!
То же бледное влажное лицо с усиками в осенних сумерках на фоне серой стены еще бледней, чем тогда, почти три года тому назад на солнце, в утренней зелени. И рядом с ним не пестрые куртки и шляпы головорезов, а темные сюртуки и цилиндры — многие посетители, входя в тюрьму, не снимают цилиндра.
— Наконец-то вы даете отчет в своих грехах и преступлениях, мистер Браун… скоро вы предстанете перед всевышним судьей… Я пришел, чтобы напомнить вам еще об одном вашем преступлении… Вы не забыли лес Блэк-Джек в Канзасе… второе июня пятьдесят шестого года.
— Это вам хотелось бы забыть те места и тот день, мистер Пейт, а я отлично помню. Тогда мы впервые победили, хотя вас было втрое больше. Вы были моим пленником, но потом в газетах вы пытались оправдаться. Помню-помню: вы очень красноречиво писали, сэр, но воображения у вас не хватает.
— Одумайтесь, Браун… Только раскаяние, только честное раскаяние может облегчить вашу душу, вашу совесть. Вы так часто поминаете имя божье, вы обязаны признать правду — тогда в Блэк-Джек вы действовали коварно, предательски. Я тогда же сказал, что это подлость, а вы направили на меня револьвер. Мои люди сложили оружие, чтобы спасти меня. Я требую, чтобы вы подтвердили здесь в присутствии этих джентльменов-свидетелей, что вы захватили нас в плен с помощью хитрой уловки, что вы злоупотребили белым флагом… что мы сражались мужественно…
— Если бы тогда у Блэк-Джека вы были так же настойчивы, капитан Пейт, как сейчас в тюремной камере, вам бы не пришлось потом добиваться оправданий… Эти джентльмены и сами видят, как вы мужественны сейчас, тесня противника, закованного в кандалы.
Я все хорошо помню. Когда мы атаковали вас, Пейт, у вас было больше полусотни миссурийских разбойников, а нас было двадцать шесть — слева шестнадцать, вместе с капитаном Шоуром, справа десять, вместе со мной. Когда вы сдались, вас было двадцать три, в том числе двое раненых. А нас осталось всего девять, из них один тяжелораненый, заряды кончились…
Белый флаг подняли вы. И я пошел с вами, с двумя молодыми людьми, вооруженными до зубов. Я, старик, на виду у вашего отряда грозил вам револьвером, и вы исполнили мое требование — приказали вашим людям сложить оружие. Но никаких уловок и хитростей я не применял. Я действовал так, как мне велел мой здравый смысл, чего же вы хотите теперь? Чтобы я помог вам приобрести славу храбреца, только по доверчивости оказавшегося пленником? Вы писали в газетах, что к нам шли подкрепления, что вы были окружены. Да, подкрепления пришли к нам, но только к вечеру… Вы поразительно зорки, сэр, если могли увидеть их с утра. И окружил вас только один юноша, мой сын Фредерик, безоружный, в приступе умопомешательства проскакавший по лесу. Вы хотите моего свидетельства о вашей храбрости, сэр? Мне предстоит скоро умереть, и я не хочу никого обижать в последние дни моей жизни. Но я не способен лгать. И могу сказать только, что большинство мужчин, которых я встречал в жизни, были храбрее, чем вы, сэр…
То июньское утро было первой победой в открытом бою. Три десятка головорезов шли под конвоем девяти стрелков свободы.
Уже к вечеру вся округа знала — старик Браун разбил целый полк миссурийцев, взял множество пленных, освободил захваченных единомышленников. На следующий день в лагере было шумно, приходили все новые добровольцы. Капитан Эббот привел сотню всадников и дюжину фургонов. Костры горели по всему лесу. Браун отправил письмо в Лекомптон судье Кэйто — предлагал обменять пленных: он освободит капитана Пейта и двадцать два миссурийца в обмен на восемь заключенных в Лекомптоне, среди них — сыновья, Джон и Джейсон.
Но через пять дней на лугу в нескольких милях от лесного лагеря Брауна расположился эскадрон федеральных драгун — белые палатки, синие мундиры, у коновязей лошади все одна в одну, гнедые.
Полковник Самнер с одним лишь адъютантом пришел в лес.
— Вы храбро воевали, капитан Браун, однако распоряжение федерального правительства гласит: прекратить все военные действия в Канзасе и распустить самочинные вооруженные отряды. Я предлагаю вам освободить всех захваченных вами в плен людей, вернуть их имущество и распустить ваш отряд.
— Вы назвали себя Самнер, полковник? Вы родственник сенатора?
— Он мой старший брат.
— Негодяй, предательски напавший в сенате на вашего брата, сэр, и головорезы, которых разоружили мы, из одной и той же шайки. Мы не хотим сопротивляться федеральному правительству, сэр. Мы готовы отпустить военнопленных, но мы настаиваем, чтобы рабовладельцы отпустили наших друзей. Помогите нам в этом. Помогите заключить соглашение.
— Я высоко чту ваше мужество, капитан Браун, более того, я сердечно сочувствую вам и вашим друзьям — единомышленникам моего брата. Но мой долг офицера Соединенных Штатов запрещает мне вступать в переговоры с мятежниками. Ваши сыновья в руках закона. Они в тюрьме по решению суда. А вы захватили пленных на свой страх и риск. Я считаю вас храбрым и благородным джентльменом, а ваших пленных — трусливыми проходимцами. Но я вынужден требовать — освободите их немедленно.
— А если мы не согласимся?
— Я получил точное предписание президента — сломить любое сопротивление силой. Если вы будете упорствовать, я прикажу стрелять. Вероятно, мои солдаты будут стрелять поверх ваших голов, я сам посоветую им это. Но все же это будет значить открытый мятеж, гражданскую войну. Я взываю к вашему благоразумию, капитан Браун.
— Пленные будут освобождены через час. Отряд начнет расходиться с наступлением темноты.
— Благодарю вас, сэр.
На следующий день стало известно, что головорезы Пейта по пути в Миссури грабили и поджигали фермы.
Отряд Брауна стал меньше, но не распался.
В Лоуренсе, в Канзас-Сити, в Осоватоми, в Топике — повсюду имя Брауна теперь называли, чтобы ободрить, успокоить, обнадежить.
— Старик Браун и его стрелки не дадут спуску южным бандитам. Они выкурят из Канзаса всех сторонников рабства.
А в Лекомптоне, в Шоуни, в поселках, где большинство жителей были за рабство, пугали и старых и малых:
— Браун и его конокрады опять сожгли ферму и угнали скот. Проклятый аболиционист старик Браун убивает всех южан беспощадно, младенцев бросает в реку, женщин отдает неграм…
Судья Кэйто не решался осудить сыновей Брауна. Все, кому он предлагал быть присяжными, испуганно отмахивались.
— Что вы, что вы, сэр, да ведь у старика Брауна в отряде уже несколько сот отпетых бандитов, и он поклялся на Библии, что страшно отомстит за своих сыновей, не пощадит никого.
С Севера прибывали все новые переселенцы. Тянулись обозы. Миссурийцы не пускали на пароходы «проклятых янки», путь по реке был закрыт для северян. Они ехали поездами до Табора в Айове, а оттуда уже двигались в фургонах.
Умеренные говорили — наших друзей с каждым днем все больше. Теперь уже никаким головорезам не удастся разбойничать на избирательных участках, подделывать итоги выборов… Теперь все решат бюллетени, а не пули, не кинжалы.
Но шайки миссурийцев продолжали нападать на фермы, на обозы. Угрожали, — если янки сами не уберутся из Канзаса, их всех вываляют в дегте, в перьях и вышвырнут, а то и перестреляют или перевешают.
В начале июля в Топике собралось законодательное собрание вольноземельцев, его вице-президент, Джон Браун-младший, все еще оставался в тюрьме. Открытие наметили на четвертое июля — на день национального праздника. Но к самому началу заседания пришел полковник Самнер. Несколько драгун, сопровождавших его, ждали на улице, не спешиваясь. Полковник заговорил угрюмо, глядя вниз.
— Джентльмены, сегодня я выполняю приказ, самый неприятный в моей жизни… мне приказано распустить это собрание. Бог свидетель, я не сочувствую ни одной из враждующих на территории партий. Я только что вернулся с границы. Мы разогнали банды миссурийцев. Но прошу вас, джентльмены, разойдитесь.
Когда Брауну рассказали об этом, он молча встал и ушел в лес, вернулся в свой лагерь через час.
— Правительство разогнало наших депутатов. Они были избраны законно, только они представляют честных граждан территории. Федеральные власти признали мошенническое сборище в Шоуни и хотят, чтобы все подчинялись варварским законам рабовладельцев… Нет, не избирательные бюллетени помогут праведным, а порох и свинец, железо и огонь.
Отряд Брауна оставался в лесу. Трудно было выхаживать больных и раненых. Генри Томпсон медленно поправлялся — в Блэк-Джек ему нулей пробило ногу. Салмона ушиб конь, Оуэна трясла лихорадка, он позеленел, отощал, едва ходил. Почти все члены отряда переболели.
Браун, когда яростная боль впивалась куда-то там внутрь впалого живота, когда череп гудел и глаза мутились от озноба, старался не показывать слабости, забирался в шалаш с Библией, делал вид, что читает. Он заваривал кипятком сушеный мятовый цвет или сушеную ромашку, разводил дикий мед в ячменном кофе — поил больных и сам пил.
И каждый вечер он вместе со всем отрядом благодарил всевышнего творца за милосердие, за исцеление, за хлеб насущный. И каждое утро посылал разведчиков и сам отправлялся с несколькими стрелками. Они приходили на фермы сторонников рабства, забирали оружие, угоняли скот, напоминали: Канзас должен стать свободным штатом, и те, кто хочет южных прав, могут уезжать на Юг. И горе тому, кто поднимет руку на сторонников свободы. Ни одна смерть, ни одна рана не останутся неотмщенными…
Хиггинсон много лет спустя вспоминал о Канзасе: «Всю мою жизнь я наблюдал, как мои сограждане отступали и отступали перед Властью Рабовладельцев. И вдруг я услышал, что за тысячи миль от меня, на Востоке, существует город, где люди поднялись и заявили рабству: «Ни шагу дальше».
И я отправился в эти места, чтобы убедиться самому. Я увидел живую Американскую Революцию. К тому времени мне надоело читать о Лафайете. Я хотел встретить его. В Канзасе я увидел историю, облаченную в живую плоть современности…»
Стивенс поднял голову с измятой подушки. Браун сидел у стола. Фитиль свалился набок, едва потрескивал, чадил. Браун зябко сгорбился, на тускло освещенной стене застыла огромная нахохленная тень.
— Капитан Браун, не надо грустить. Вы этому учили меня. Я помню, как впервые увидел вас тогда в Канзасе. Всего три года прошло, а кажется — я всегда знал вас. И очень рад, слышите, очень рад, что и конец моей жизни рядом с вами…
Браун обернулся к нему, продолжал глядеть сосредоточенно, задумчиво, насупившись, но приязненно, так же как в то утро на границе Канзаса и Небраски.
…Стивенс ехал верхом рядом с командиром отряда ополченцев свободного Канзаса, и внезапно в голове колонны послышались громкие возгласы:
— Гип-гип ура!!!
Они поскакали вперед. Там кричали:
— Ура-а-а капитану Брауну!!!
На дороге стоял фургон, а рядом всадник на понурой лошади с запавшими боками. Он легко держался в седле — такой худой, что, должно быть, не отягощал свою усталую клячу.
Стивенс удивился: менее всего он похож на воина, этот старый фермер в потрепанной одежде. Не вооружен; правда, из фургона выглядывали парни, перепоясанные патронташами. Он смотрел на ополченцев, не отвечая им, не улыбаясь, но с явно доброжелательным любопытством.
Отряд проходил мимо него как на параде.
А месяц спустя, уже в Лоуренсе, — городу снова угрожали миссурийские головорезы — тоже кричали:
— Ура старому Брауну! Ура Брауну из Осоватоми!
Его уже тогда так называли.
— Хотя бой у Осоватоми и был поражением, — Стивенс опять «услышал» мысли сокамерника, — именно с него началась наша большая слава.
Накануне боя был убит сын, Фредерик. А на следующий день четыре сотни конных миссурийцев с пушкой двигались к поселку Осоватоми, где жили Сторонники свободного Канзаса, туда отряд Брауна пригнал скот и лошадей, отбитых у противника.
У Брауна было меньше бойцов, преимущественно пешие. Он послал гонца в Осоватоми предупредить жителей: пусть уходят в леса, в прерии.
— Действовать будем двумя группами. Когда передовым придется отступать, задние должны стрелять чаще. Подпускайте на двадцать — двадцать пять ярдов, напоминаю: цельтесь пониже. Противники но ждут нашего сопротивления, позиции на этом берегу считаются невыгодными… Прибрежные кусты, ивняк — хорошие укрытия. Когда нас потеснят, то первыми будут перебираться на тот берег те, кто первыми начнут бой. Я буду с ними, однако на тот берег уйду последним. Наше оружие благословенно, ибо мы сражаемся за свободу. Пока я не выстрелю, приказываю терпеливо ждать и всем выбирать себе мишени.
Миссурийцы выслали вперед разведку. Один с гиком и плеском перебрался на ту сторону, погарцевал и так же шумно вернулся: «Янки либо еще не ждут нас, либо уже убрались…»
Вся миссурийская колонна двинулась к реке мимо кустов, где засели бойцы Брауна. Он прицелился в плечистого верзилу, сидевшего на отличном иноходце под нарядным седлом. Когда отнесло дым, увидел: иноходец скакал без всадника. Гулкие выстрелы. Колонна смешалась в кучу. Шарахнулись назад… Крики… Проклятья. Одинокие ответные выстрелы.
Несколько часов шел бой у реки Осэйдж по дороге в Осоватоми, миссурийцы потеряли больше тридцати человек убитыми, много раненых. Один ополченец Брауна был убит в перестрелке.
Браун сказал несколько слов над наспех вырытой могилой;
— Он был нашим верным товарищем, Чарльз Кайзер. Сначала он воевал за свободу у себя на родине — на баррикадах в Берлине, в Дрездене, в Вене, сидел в тюрьме у прусского короля… И здесь, на новой родине, взял оружие, чтобы защищать свободу. Никакие океаны, никакие государственные границы не разделят силы добрых людей. Друзья свободы — одна семья во всем мире…
Браун был ранен в ногу, переходя через реку, оступился, уронил плащ, который унесло течением. Начальнику миссурийцев доложили, что старик Браун убит.
А он стоял на холме, опираясь на плечо Джейсона, не отрываясь глядел на густые клубы дыма над лесом. Сын испугался: он еще никогда не видел отца плачущим.
— Там жгут дома… припасы на зиму. Там убивают беззащитных. Мне осталось недолго жить. И смерть у всех только одна. Но пусть будет свидетелем всевышний — не наступит мир в этой стране, пока не уничтожат рабство, и каждый мой день будет посвящен только борьбе против рабства.
Отряд Брауна ушел в Лоуренс. Три тысячи миссурийцев подступили к городу. Браун трое суток не спал, распоряжался строительством фортов и баррикад, снова и снова наставлял ополченцев. Днем он говорил на площади, где собрались горожане:
— Будем тверды и неустрашимы… Сегодня нужно заботиться не о том, чтобы подольше жить, а о том, чтобы достойно умереть. Тем, кто всегда готов предстать перед богом, тем не страшны пули, клинки, раны, а смерть — это просто выдох. Рождаясь, каждый впервые, вдыхает чистый воздух, вдыхает, выдыхает, наконец наступает последний выдох. И благо тому, чей последний выдох уносит чистую душу. А что может лучше очистить ваши души, чем бой за правое дело?!
Миссурийцы жгли дома, фермы. Генги Шерман, брат убитого в Поттавотоми Билла, грозился, что ни одному дружку старого Брауна не будет пощады.
А в Канзас двигались все новые переселенцы. Ехали коренные янки — фермеры, скотоводы, ремесленники, покидали ставшие тесными старые города, ехали бродяги, искатели заработков и приключений.
Больше всего было эмигрантов: немцы, шведы, ирландцы, итальянцы, чехи, поляки… Бедняки, изгнанные голодом, безземельем, нуждой из Европы, мятежные патриоты и революционеры, участники боев 1848–1849 годов… Ехали банкроты, беглые арестанты, романтики, мечтавшие о Новом Свете, о девственно нетронутой природе, ехали просто незадачливые парни, случайно захваченные потоком эмигрантов.
Канзас стал репетицией и полигоном Гражданской войны. Там впервые встретились американцы, выросшие в южных, в северных, в восточных штатах. И новые американцы, выросшие в Европе.
Обозы и пешие двигались по дорогам, через Небраску, небольшими группами на пароходах по реке Миссури.
Все новые поселенцы были, как правило, радикально настроенные противники рабства, поэтому умеренные либералы в Топике и Лоуренсе все убежденнее доказывали, что Канзас станет свободным штатом без кровопролитий, тысячи, десятки тысяч избирательных бюллетеней осилят ружья миссурийцев. Благонамеренные джентльмены уговаривали Брауна распустить отряд, перестать собирать оружие, вернуться к мирному труду, а лучше всего вообще уехать из Канзаса, подальше от тех, кто хотел бы мстить ему лично, подальше от кровавых распрей, которые угаснут сами собой…
Но миссурийцы, сторонники прав Юга, вопреки этим утопическим мечтаниям, снова и снова нападали на обозы и лагеря переселенцев, постоянно угрожали аболиционистам, пытались преградить поток янки и эмигрантов.
А федеральные войска и милиция, которой командовали умеренные, прибывали обычно тогда, когда развалины домов уже догорали, убитых уже похоронили, а убийцы уже ускакали…
Воины отряда Брауна двигались быстрее, нападали решительнее, Браун запрещал жечь жилые дома, загоны для скота, но у сторонников рабства отнимали оружие, уводили лошадей, боеприпасы и все, что могло понадобиться боевому отряду на привалах.
Джона Брауна-младшего и его брата отпустили из плена под залог. В Лоуренсе их встретили толпы друзей. Кандалы, которые только накануне сняли с Джона, были тут же на площади, на торжественном митинге подарены гостю — пастору Генри Уорду Бичеру. Брат писательницы Гарриет Бичер-Стоу привез в Лоуренс сотню новых ружей, их прозвали «библии Бичера». Приняв кандалы, он высоко поднял их:
— Братья и сестры, леди и джентльмены! Этот подарок — прекрасный символ. Пусть повсюду в Америке кандалы рабства будут заменены ружьями свободы. Трижды ура сыновьям капитана Брауна, достойным своего замечательного отца!
…Стивенс глядел в потолок и говорил словно про себя:
— Нет, битва за арсенал не была безумием. Три года назад в Миссури и в Канзасе нас было не больше, чем в Харперс-Ферри… Пожалуй, даже меньше. А ведь мы победили. Помните зимнюю «битву шпор», капитан? Как они удирали…
На том берегу, против брода, на бревенчатом блокгаузе флаг Миссури, из бойниц торчали ружья… А на этом берегу, в кустах, у костра сидели четверо дозорных.
Стивенс подошел, вооруженный одним пистолетом, приказал: «Руки вверх!» Трое бежали, оставив ружья, одного он привел к Брауну. Испуганный пленник сказал, что в их отряде восемьдесят конных и три повозки с оружием.
Наутро Браун и Стивенс вдвоем пошли вперед, а их маленький отряд — несколько верховых и повозка — на сто шагов позади. Они перешли реку вброд, по колено в холодной воде. На том берегу крик:
— Это старик Браун!
Началась паника. Из блокгауза выбегали полуодетые, бросались на неоседланных лошадей. Всадники, гарцевавшие вдоль берега, пустились в разные стороны. На одной лошади скакали двое. Несколько пеших бежали вслед за повозкой… Не раздалось ни единого выстрела.
В газете «Миссурийский демократ» все это потом назвали «битвой шпор». То был последний бой Брауна. Через два дня они добрались до Небраски. И больше он уже не возвращался в Канзас, окончательно решил: теперь надо не обороняться, надо наступать. Наступать на территории противника.
Глава седьмая Никто не может уйти от выбора
1
Оказывается, Генри Торо выступил в его защиту еще тридцатого октября, до приговора. Первый американец, который выступил публично. Созвал набатом жителей Конкорда и говорил: «Браун не признавал несправедливых людских законов, он им сопротивлялся… Хоть на миг всех нас подняли из пыли, из мелочной политики и вознесли в царство истины и мужества. Нет никого в Америке, кто бы так твердо и действенно защищал достоинство человека, уверенный, что как личность он равен любым правителям. И в этом смысле он — в большей мере американец, чем все мы. Когда я думаю о нем, о его шести сыновьях, и о его зяте, не говоря уже об остальных участниках атаки, о людях, которые сосредоточенно, одержимые любовью и верой в победу, готовились к битве месяцы, а то и годы, с мыслью о ней засыпали и просыпались, зимой и летом думали только об этом, не ждали для себя награды, кроме чистой совести, а вся остальная Америка была против них, и я повторяю: на меня это производит впечатление зрелища величественного».
Высокие слова. Радостно, даже боль вроде отходит. А все-таки странно, он, наверно, так и не научится верить, что это сам Торо говорит именно про него, про Джона Брауна.
Браун помнит их встречу. В тюрьме все хорошо вспоминается. Он приехал в Конкорд двенадцатого марта пятьдесят седьмого года. Он выступал. Рассказывал о Канзасе. О нем знали, теперь увидели, услышали.
Он знал, здесь, в Конкорде, живут люди, книги которых читают все образованные американцы. Как только ему случалось попасть в компанию книжников, только и слышны эти имена: Торо, Эмерсон, Чаннинг, Паркер, Олькотт. О них ему говорил Фредерик Дуглас, о них спорили в лесах Канзаса его молодые товарищи — Каги, Рилф, Кук.
Эти образованные люди — противники рабства, значит, они союзники Брауна. Он должен им понравиться. Он должен заручиться их помощью. Их слово дорого стоит.
Сэнборн ведет Брауна обедать к сестре Торо. Там уже ждет Эмерсон. Каждый по-своему застенчив, каждый по-своему самолюбив. И каждый, в сущности, не испытывает необходимости в других. Неловкое молчание. Эмерсон вспомнил, как они с Торо пришли в гости к Готорну. И они промолчали тогда три часа. Неужели так будет и сейчас?
Выручил Сэнборн. Молодой, не знаменитый, очень общительный, он стал расспрашивать Брауна, как они воевали в Канзасе, тот увлекся рассказом о битве при Блэк-Джек, и все пошло хорошо.
Браун умел перенести слушателей на поле боя, да и пафос его ветхозаветный был им сродни.
Эмерсон все же несколько смущал Брауна. А на Торо ему даже смотреть было радостно. Или это теперь ему кажется? Нет, он и тогда увидел глаза — ярко-синие; он обычно не различал цвета глаз — какие у Мэри глаза, и то не мог бы ответить, — а тут видел. Голоса у Эмерсона и Торо очень похожи, можно спутать. Кто-то из них спросил тогда:
— А все же почему вы одержали победу в Канзасе? Ведь противников было гораздо больше и вооружены они были лучше?
— У них не было высокой цели. А у нас была.
Браун почувствовал, что Торо, как и ему самому, хочется поскорее встать из-за стола. Скорее выйти из дому.
Торо предложил идти в лес. От него пахло лесом, сосной. Тут он заговорил. Будто раньше степы его стесняли.
Идут вдвоем по лесу, оба шагают широко, даже несколько похожи друг на друга. Рослые, худые, у обоих большие носы-клювы. Обветренные, не городские лица. Почти два года Браун тоже провел в лесу. Только у Брауна походка тяжелее. Торо изящнее, он недаром хорошо катается на коньках.
— Вы знаете, какие птицы прилетают в марте?
Нет, Джон не знал этого. Птиц он и в детстве не различал.
— А наверное, каждый день ловите, кто что сказал в конгрессе, что написали в газетах, что в последнем номере «Либерейтора». А по-моему, прилет птиц — гораздо более важное событие.
Браун не спорит. Он осторожно переводит разговор.
— Мне с Эмерсоном неловко. Слишком он учен для меня. А я ведь в грамматике смыслю не больше теленка.
— Не скромничайте. Если бы вы записали то, что нам сегодня рассказывали, получилось бы прекрасно.
Но Торо понимал Брауна. Он и сам порою так чувствовал. Это относилось не к Эмерсону — старший друг, старший брат, к нему он давно привык. Однако читая изящные эссе Рескина, Торо иронизировал: «Слишком много искусства для меня и готтентотов. Мы ведь все еще живем в хижинах».
Брауну не терпелось заговорить о главном. Торо, будто услышав его мысли, заметил:
— Не торопитесь, друг мой. Лес учит никуда не торопиться. Если бы люди подражали ритмам природы… Цветок не может распуститься раньше срока, дерево не сбросит листвы до осени, снег не растает до поры.
Браун вспомнил рассказы о том, что Торо и прогулки свои приноравливает к движению планет. Надо бы промолчать. Но он все-таки возразил:
— В природе нет зла. А среди людей есть. И зло нельзя терпеть. Вы сами не потерпели, когда началась война с Мексикой, даже в тюрьму пошли. Я тогда впервые услышал про вас от Фредерика Дугласа. Вы же не ждете, пока рабовладение само собой отпадет, как листья осенью. Да и не отпадет оно.
— Эту историю потом приукрасили. Я просто шел отдавать сапоги в починку, встретил шерифа. Опять он с меня потребовал уплатить налог, пригрозил тюрьмой. «Что ж, вот сапоги отдам и приду к тебе в тюрьму». Так и сделал.
— Теперь вы скромничаете, Торо. Вы отважились выступать против большинства («А сейчас? Сейчас он, Торо, опять выступает против большинства. Против тех, кто хочет отправить меня поскорее на виселицу…»). Вы не только другим советовали сделать свою жизнь песчинкой, которая затрудняет ход государственной машины, вы сами так поступали.
Собеседник смотрел на деревья, слушал лес. Засвистел, подражая птице. Браун невольно отвлекся от своего. Редко ему приходилось встретить человека, способного отвести его от намеченного, от главного. А тут он, вслед за Торо, присматривается, прислушивается к деревьям, к птицам и не испытывает при этом раздражения. Наоборот, успокаивается.
Торо говорит:
— Я счастлив, когда посажу растение. Когда чувствую, что умножаю красоту мира. Еще я радуюсь всему дикому, естественному, неукрощенному, и не только в природе, в человеке.
И смотрит на Брауна. Поднялась куропатка.
— Вы не охотитесь?
— Что вы, конечно, нет. Ружье принесет мертвое тело, а не птицу.
— Вы их голоса понимаете…
— Гораздо хуже, чем индейцы, те наизусть читают книгу природы.
— Я не часто встречался с индейцами, только в детстве. Впрочем, у одного мы жили в Канзасе. И приходил там ко мне вождь, Черный Лис.
— Индейцы совершенно лишены юмора. Не то, что негры. Вот послушайте: белый убеждал одного негра, что на небесах рабы не обязаны будут трудиться. «Да бросьте вы, масса. Я-то уж лучше знаю. Если даже там наверху совсем не будет работы для цветных, то белые что-нибудь все равно придумают. На крайний случай, если ничего лучшего не будет, негров заставят перетирать облака и расставлять по росту, одно к одному…»
Браун хохочет раскатисто, лес отвечает множеством звуков.
У Брауна великолепное зрение, слух, обоняние, в Канзасе шутили, что он за пять миль чувствует запах жареных каштанов, но он редко смотрит на деревья, редко прислушивается к звукам леса. А Торо говорит:
— Вот за этот лес я несу ответственность перед богом и людьми. За Уолденский пруд, за зверей, за птиц.
— А за людей? За бесправных, за угнетенных?
Торо молчит.
Еще в доме за обедом Браун показал хозяевам свои «Установления. Правила поведения бойцов в армии противников рабства». Торо там промолчал, а в лесу заговорил осторожно, по твердо.
— Со злом надо бороться, это верно. А к добру я хочу идти один. Не под командой и не командиром. Я никому не буду навязывать правил, даже самых разумных. Но и чужих правил, тоже самых разумных, не приму.
— Вы не правы. Вы не воевали, потому так говорите. Когда у людей есть общая цель, когда эти люди молоды и этой цели они могут добиться только вместе, непременно должны быть какие-то правила, уставы, организующие силы.
— Вот этого-то я и боюсь. Мне себя бы организовать, остаться самим собой.
И Браун подумал, что напрасно он понадеялся на Торо. Такие люди не помощники общему делу. Все о себе да о себе.
Эмерсон в тот же вечер записал в дневник: «Браун считает, исходя из своего опыта, что один страстно убежденный, хороший, сильный умом человек стоит сотни, нет, двадцати тысяч людей без характера; именно такие одиночки всегда необходимы для освоения новых стран».
Торо и Эмерсон, философы и художники. Смысл их философии — трансцендентализма — поиски наиболее человечного образа жизни, «искусства жить хорошо». Каждый из них по-своему искал Человека, в котором воплотился идеал. Того, у кого неразделимы слово и дело. Они оба поклонялись выдающемуся, одна из любимых книг — Карлейль «О героях и о поклонении героям». Капитан Браун предстал перед ними именно таким Человеком, героем.
Брауну же казалось, что он зря потерял двое суток. Вот разве что Каги и Рилфу расскажет о том, что видел самого Торо, самого Эмерсона. Так для этого не стоило ехать.
Месяц спустя в доме у Расселов он написал горькое «Прощание с Плимут-Роками, с памятниками в Банкер-Хилле, с дубом Хартии, с Хижинами дяди Тома». В этом прощании таился упрек Новой Англии, упрек и лучшим ее сыновьям — Ральфу Эмерсону и Генри Торо, упрек за то, что их жизни не целиком и полностью отданы борьбе против рабства…
Читая теперь выступление Торо, он понял, что предъявлял тогда к ним неисполнимые требования, хотел, чтобы они были такими, как он. А они были совсем иными.
Он выглянул из окна камеры. И он опять увидел перед собой глаза хозяина Уолденского пруда, поднявшего голову к небу и подражающего птицам.
«Оказывается, Торо учил тогда меня и кое чему научил. Два с половиной года прошло с тех пор — и какие годы, — а эту встречу я помню».
Речь Торо в защиту Брауна слушал молодой литератор Вильям Гоуэлс, впоследствии известный американский писатель. «Когда Торо начал говорить о Брауне, то передо мною оказался вовсе не тот, кто рисовался мне в воображении: мягкий, нежный, любящий, старый, робкий, — а человек типа Джона Брауна, принципов Джона Брауна, и такого человека мы должны были кап-то полюбить… как-то принять в свои души».
Сам Гоуэлс принял. Когда подошел его час, он выступил в защиту рабочих лидеров, которых ложно обвинили во взрыве бомбы на Хеймаркетской площади в Чикаго.
А Торо десять дней спустя после приговора в дневниковой записи, изобразив, как обычно, закат солнца, признался: «Мне было тяжело смотреть на эту красоту, ибо душа моя переполнена капитаном Брауном. Столетия требуются, чтоб выковать такого человека, как Браун, и столетия, чтобы его понять.
Я радуюсь тому, что был его современником».
2
Брауну было важно, что происходит в политике, что пишут в книгах, газетах, что говорят ораторы.
Он принял решение. Он знал, чего он хочет, он уже действовал, он готов к новым действиям. И ни за что не отступится от своего плана, даже если останется в одиночестве. Но с каждым прожитым годом ему виднее и виднее, как важны обстоятельства, хотя он все меньше и меньше им подчиняется.
В то время не надо было даже прикладывать ухо к земле, чтобы услышать подземные толчки. Почва сотрясалась.
Были оптимисты — Новый Свет их воспроизводил с завидным постоянством, — которые утверждали, что все проблемы будут решены чудесами техники: паровоз, телеграф, машины, фабрики, железные дороги. В 1853 году «Юнайтед Стейтс Ревью» предсказывал, что благодаря электричеству через полвека всю работу будут исполнять машины, управляемые автоматически. А людям только и останется, что любить друг друга, познавать мир и быть счастливыми.
И хлопкоочистительная машина действительно позволила за день собрать в пятьдесят раз больше хлопка, чем собирали руками. Она убыстрила и неизмеримо облегчила труд. Но эта же машина — парадоксальным образом — способствовала укреплению рабства: цены на хлопок повысились, южный хлопок успешно соперничал с английским на мировых рынках, соответственно поднялась цепа на рабов.
Внедрение машины, несомненно революционизирующее, вовсе не привело людей к долгожданному счастью. Более того, в главном — социальном, экономическом, политическом и нравственном — конфликте эпохи техника не была на стороне морали.
Шел год восемьсот пятьдесят седьмой.
Уэнделл Филипс повел Брауна с собой на диспут. Филипсу предстоял поединок с Джорджем Фитцхью. После смерти Кэлхуна Фитцхью остался главным идеологом Юга. Он — богатый плантатор, образованный юрист, автор книги «Социология для Юга: крах свободного общества». Именно он ввел в английский язык это слово «социология».
На одном из аболиционистских собраний Филипс сказал, что крах потерпело, терпит не свободное, а рабовладельческое общество. Если Фитцхью с этим не согласен, приехал бы сюда, сразились бы открыто.
Джордж Фитцхью принял вызов.
Друзья и родные убеждали не ехать. — С кем вы собираетесь разговаривать? Вот губернатор Уайз полагает, что ни один порядочный южанин вообще не должен бывать на Севере, очень осуждает тех, кто посылает своих детей туда учиться…
— Высоко уважаю нашего губернатора, но считаю, что он неправ. С ложными идеями нельзя сражаться ни запретами, ни арестами, ни казнями. Только другими идеями. Более сильными, более верными, более привлекательными.
Вот вы все, ваши друзья, родные — вас никого не надо убеждать, что наш Юг прекрасен. Здесь хвалят мою книгу. Льщу себя надеждой, что верно выразил ваши мысли. Но знали все вы и без меня.
На Севере же думают иначе. Они забыли или делают вид, что забыли историю: не было великих цивилизаций без рабства. Северян надо переубедить. Их можно переубедить. Не всех, конечно, но многих. Они не знают Юга, никогда не видели ни хлопкового поля, ни цветущих магнолий. Многие не видели южанина, уверенного в себе, с колыбели привыкшего командовать, умеющего командовать. Не ездить туда — это просто страх, неверие в наши идеи. А я в них верю и противников не боюсь.
…Диспут в актовом зале Гарвардского университета идет пятый час. Все места заняты, многие стоят. Джон Браун сел сзади. Зрение у него отличное — ораторов увидит, а ему хотелось видеть публику. Светлые и темные головы — будущие богословы, юристы, историки. Пока еще юнцы. Такие же молодые парни были с ним в Канзасе. Но эти все — грамотеи, у многих — стопки книг в руках, на стульях. Шумят. Звучат неизвестные Брауну слова. Будто и не по-английски разговаривают. Называют друг друга не по именам, а как-то странно, по кличкам. Чужой. Он здесь чужой. В той семинарии, куда он так и не поступил восемнадцатилетним, были похожие ребята. И он, деревенщина, тоже был чужим.
На трибуне — две кафедры. За одной — Филипс. Спокоен, тверд, его, видно, здесь знают, любят. За другой — Фитцхью. Когда же Браун в последний раз видел крупного плантатора? Неужели с тех детских лет, после Лэмберта, не слышал, не видел? Пожалуй, только мельком. По внешности — обыкновенный американец. Говорит по-южному, растягивает слова. Он начал, а в зале не сразу утихли, потому Браун схватил середину фразы:
— …я был в Европе, там голод, настоящий голод. Трудно и сравнивать, но на фоне Европы Юг поражает отсутствием преступлений, главной свободой — свободой от нужды. Приехал я сегодня утром в ваш город, ходил по Бостону — нищие на улицах… Ни в одном южном городе вы этого не увидите. Заговорил с одним, с другим — с фабрики выгнали, уволили, остался без хлеба. Что же они, по-вашему, не рабы?
— Нет, не рабы. Их нельзя заковать в цепи, нельзя разлучить мужа с женой, мать с детьми, их нельзя продать, их нельзя убить…
«…Молодец, Филипс! А я бы, пожалуй, не сразу нашел ответ».
— Вы просто не знаете, что такое плантация. Я не меньше вашего возмущен плантаторами — негодяями, садистами. Но таких — единицы. Надеюсь, вы госпожу Бичер-Стоу не причислите к защитникам Юга, однако Саймон Легри, он ведь не южанин, а янки, и это не случайно. Проживи я в Бостоне неделю, я здесь тоже обнаружу и негодяев, и садистов. Печально, но такие есть в каждом сообществе, это присуще природе человеческой.
— Согласен с вами. Только здесь они не наделены такой абсолютной и, значит, развращающей властью, как ваши плантаторы.
— Но и хозяин фабрики не безвластен.
— Не безвластен, но с плантатором не сравнить.
Об этом Брауну вовсе не приходилось думать. Что-то Филипс не ахти как убедительно отвечает.
— Уважаемый оппонент, вернемся к тому, что такое плантация. На самом деле, а не по вашим лживым книжкам. Плантация — это большая патриархальная семья. В семье не без урода, в семье не без разлада, но глава семьи обо всех заботится: о стариках, о женщинах, о детях, о больных. А кто о них заботится на Севере?
Господа филантропы, ваши единомышленники, которые пекутся о рабах, не зная и не любя их, они так заняты, что у них, видно, не остается времени заметить то, что под носом. Опять же сегодня на улице — женщина с четырьмя маленькими детьми стоит и просит милостыню. Я, конечно, открыл свой кошелек. Хотелось мне ее привести на это собрание, да жаль стало бедняжку.
Выкрик с места:
— У вас на Юге беззаконие!
— Юный джентльмен напрасно спешит на выручку господину Филипсу, он оказывает ему медвежью услугу. У нас в Америке законов слишком много. Между тем опыт истории свидетельствует, что общества управляются не законами, а деспотами. Именно деспотами, не шумите. И стремиться можно лишь к тому, чтобы деспотизм был просвещенным, а эта задача не из легких.
— Просвещенным? Ваш великий компатриот, виргинец Томас Джефферсон, сформулировал в Декларации независимости главный тезис просвещения: «Все люди сотворены равными и наделены создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, среди которых — Жизнь, Свобода, Стремление к Счастью».
— Я — южанин, я — американец, я не могу не чтить Джефферсона, но я уверен в том, что люди вовсе не сотворены равными. Обернитесь вокруг себя: умные и глупые, благородные и мерзавцы, красивые и уродливые, хитрые и простодушные, — где же равенство?
Браун невольно обернулся, почти все оборачиваются, сравнивают. Сейчас же резко одернул себя…
— Не подменяйте тезиса! Речь идет о равных правах! — это он крикнул, не сразу осознал, что он.
На него недоумевающе оглядывались. Он неловко заерзал на стуле. Это ведь не гипнотизер в Спрингфилде…
Фитцхью ничуть не смутился:
— И права не равные. Именно потому не равные, что люди разные. Из каждых, скажем, двадцати человек девятнадцати вовсе не нужно ваше равенство. Им нужно, чтобы о них кто-то заботился, — кто-то более сильный, то есть не равный, — начальник, опекун, муж, хозяин. Другими словами — эти девятнадцать наделены естественными и неотчуждаемыми правами: быть рабами. И в этом нет ничего дурного, ничего обидного…
— Позор!
— Ложь!!
— Долой! Вон!!!
Браун побледнел от волнения, но присоединяться к юнцам ему было неудобно. Они орали, вскакивали, бежали в проходы между рядами стульев. С трудом восстановили порядок.
Фитцхью невозмутимо продолжал:
— Сказанное относится и к личностям, и к расам. Освобождение крепостных в Европе было крахом, жестоким крахом. Я уже писал о том, что белые тоже были и будут рабами. Но негры к этому состоянию более приспособлены.
Пусть аболиционисты честно признают: ведь они просто спекулируют положением негров, ведь они стремятся на самом деле к другому — к социализму, коммунизму. Они стремятся к такому обществу, в котором вообще не будет ни частной собственности, ни церкви, ни законов, зато в изобилии — свободные земли, свободные женщины, свободная любовь… Да, в таком обществе мы, южане, жить не хотим и не допустим этого. Мы не забыли уроков Французской революции.
Браун ощущал — впервые за весь вечер, — что эти слова были встречены многими сочувственно. Кивки, вопросительные, недоумевающие взгляды.
Его молодой сосед сдерживался, сдерживался, да вдруг как выкрикнет:
— Ваши южные плантаторы — каннибалы!
— А у вас здесь всех хотят превратить в каннибалов!
Фитцхью почти кончил новую книгу, но никак не мог решить, как назвать, вот в споре неожиданно и пришло название…
Кто же победил в этой словесной дуэли? Что за гулом, за молчанием, за криками?
Большинство уходит вместе с Филипсом. Около кафедры Фитцхью всего человек пятнадцать — двадцать.
Не сразу до него доходят вопросы. Он не остыл, в голове вертятся те доводы, которые он забыл привести, французы это называют «ответами на лестнице».
Смущенный юноша:
— А я не думал, что можно так об этом говорить. Я был на стороне аболиционистов, а вы заставили меня кое о чем еще почитать и спросить себя и других. Ведь действительно и в Греции, и в Риме были рабы, а это самые великие известные цивилизации…
— Это очень важно, самое важное. Я убежден, что законы Юга станут примером не только для других штатов Америки, но и для Европы.
С ним остались преимущественно южане. Тот красивый молодой человек, который сидел в первом ряду, каждое слово ловил, руки двигались только, чтобы взять еще лист бумаги, он сын плантатора священника Эдвардса Джонса. Того самого, который у себя на плантации устроил воскресную школу для негров. Учил, конечно, не грамоте, это неграм но нужно, толковал евангельские тексты, духовной пищей одарял. Опыт рискованный, а направление верное.
Фитцхью и сам считал: надо искать, надо проводить реформы, но в разумных пределах, чтобы укрепить рабовладельческую систему.
— Я вам бесконечно благодарен, сэр. Я спорю и спорю, но не умею так логически, так блистательно разить противников. Они же здесь совершенно ослеплены. Юга не знают. Мне они не верят, а вам поверят многие.
Высказаться хотелось каждому:
— Сегодня говорили — Юг — Север, а на самом-то деле линия раздела не совпадает с географической границей. Тут вражда к неграм часто гораздо сильнее, чем у нас, на Юге. Наверно, и у нас есть противники рабства, только я их не знаю.
— Конечно, не знаешь, у вас же за выступление против рабства могут избить, посадить, убить! Ведь вам по закону запрещено получать северные книги, газеты, журналы, — значит, вы боитесь.
— Вот, мистер Фитцхью ведь не побоялся приехать сюда.
Фитцхью раздавал автографы окружающим молодым людям, надписывал свою книгу. И попросил Джонса помочь, ему будут необходимы те записи, которые Джонс делал на диспуте, — надо быстро кончать новую работу. Так ее и назову: «Каннибалы все: рабы без хозяев».
…Я был прав: или — или. «Две противостоящие конфликтующие силы в цивилизованном обществе не могут сосуществовать, они взаимно исключают одна другую. Одна должна уступить, исчезнуть, а другая — восторжествовать повсеместно».
Эта мысль в Америке конца пятидесятых годов звучала на все лады в книгах и статьях, в залах конгресса и с церковных амвонов, на митингах и в гостиных, среди белых и черных, аболиционистов и плантаторов.
Или — или…
Вскоре после этого диспута Браун прочитал книгу Хинтона Хелпера «Катастрофа, нависшая над Югом, и как ее встретить». Автор — сын фермера, белый, уроженец Северной Каролины. Не аболиционист, более того — он не любил негров, считал, что всех их надо выселить в Африку.
И Хелпер приводил множество цифр и фактов, сопоставлял, убеждал в отсталости своего родного края. Особому южному чванству («только у нас…») он противопоставлял беспощадную правду: «Южанин поднимается утром с кровати, сделанной на Севере, надевает одежду, сшитую на Севере, ступает на ковер, привезенный с Севера, моется в умывальнике с Севера. Он чистит зубы северной щеткой, смотрится в северное зеркало, расчесывает волосы северным гребешком. Он принимает северные лекарства и душится северными духами. Он узнает сколько времени по часам с Севера, узнает, что произошло в мире, из северных газет… Он едет к соседу в северной коляске, землю его обрабатывает северный плуг. Сигару он зажигает северной спичкой, негров бьет северной плеткой. Письма он пишет на северной бумаге, северным пером, закладывает в северные конверты, заклеивает северной маркой… Труд южанина, его талант, его влияние — все это приносит плоды не Югу, а Северу.
Ради неизменности существования рабства, ради своего возвеличения южанин готов пожертвовать самыми священными интересами собственного края».
Автор заклинал: с рабством надо покончить не из-за «бедных негров», а ради своих интересов, оно невыгодно, оно уже принесло и несет беды всем нам, белым южанам.
…Вот Фитцхью кричал, будто высокая культура возможна только на основе рабства. Как убедительно Хелпер опровергал эти утверждения: в штате Коннектикут — один неграмотный на пятьсот шестьдесят восемь грамотных, а в хелперовской Северной Каролине — один на семь. «Там, где свободная мысль приравнена к измене, там очень скоро массы людей вообще перестают думать. И «не смею» быстро превращается в «не умею»». Шаль, что Филипс не знал этой книги, не мог процитировать этих слов…
Хелпер полагал, что негры готовы к восстанию, готовы перерезать глотки своим хозяевам. В отличие от крайних аболиционистов, он этого не хотел, боялся, призывал к немедленной отмене рабства сверху и ради того, чтобы избежать восстания рабов, чтобы избежать его отмены «снизу».
Южане сначала опровергали южное происхождение Хелпера, затем стали именовать его не иначе, как «презренным ренегатом». Книга была необыкновенно популярной. «Нависшую катастрофу» сравнивали с «Хижиной дяди Тома».
Тем, кто поддержал «клеветническое сочинение», в конгрессе не дали выступать. На Юге чтение и распространение книги Хелпера сразу приравняли к уголовному преступлению. Фермера из Виргинии, у которого обнаружили четыре экземпляра, посадили в тюрьму. В Северной Каролине десять экземпляров были сожжены публично. Трех священников, читавших эту книгу, отлучили от церкви. В Арканзасе трех читателей Хелпера повесили.
Брауну не суждено было знать, что Хелпер проживет еще много лет, выпустит антинегритянскую книгу, вложит все состояние в строительство железной дороги от Берингова до Магелланова пролива, разорится и в девяностолетнем возрасте в 1909 году повесится в гостинице, оставив записку: «В этом мире нет справедливости». К тому времени уже пройдет полвека, наступит тот самый момент, когда, по предсказаниям оптимиста из «Юнайтед Стейтс Ревью», все будут делать машины, а людям останется любить друг друга, познавать мир и быть счастливыми…
Торговец шерстью, почтмейстер из Рэндольфа Джон Браун еще в середине тридцатых годов спрашивал: что такое «подстрекательская литература»? Книгу Хелпера на Юге кое-кто считал ответственной за Харперс-Ферри.
Но до Харперс-Ферри оставалось еще два года.
Фитцхью был в своей правоте так же фанатически убежден, как Хелпер, Филипс — в своей. Каждый считал, что ему, и только ему открыта абсолютная истина, открыта целиком и полностью, и не хотел признавать ни грана правоты у противника.
На каждом из полюсов накапливались статьи, лекции, книги, накапливались идеи, доводы. Идейная взрывчатка. На каждом полюсе кристаллизовался определенный психологический тип, характер, вызванный к жизни исторической ситуацией. Характер, по необходимости тяготеющий к крайностям. Такие характеры лепились и на Севере, и на Юге. Все неотвратимо шло к войне.
Одни говорили, писали, убеждали, другие действовали. Наступали сторонники рабовладения.
Негра Дреда Скотта купил врач, живший в Сент-Луисе. Вместе со своим рабом он уехал на Север, там служил в армии, а Скотт работал, накопил денег. Оба вернулись в Миссури. Хозяин умер. Скотт обратился к хозяйке с просьбой о выкупе. Она отказала, негр подал в суд.
Пока медленно вертелись колеса судейской машины, хозяйка вторично вышла замуж, часть наследства — и Дред Скотт в этой части — по завещанию отошла к брату покойного хозяина. Дело тем временем перешло в Верховный суд США. Не просто «дело», не отвлеченность, а живая судьба, окруженная ужасом и болью.
Судья Тэйни произнес длинную речь, доказывая, что Декларация независимости никакого отношения к неграм не имеет. «…Столетие тому назад негров рассматривали как существа низшего порядка, как не способных к соединению с белой расой, не способных к участию в общественных или в политических делах, они настолько ниже белых, что не существует таких прав, которые белый человек обязан был бы уважать; и совершенно справедливо и законно, чтобы негр — ради его собственного блага — оставался бы рабом…»
Тэйпи настаивал на том, что раб — собственность, и призывал к защите священной собственности, обращаясь к конституции США: «…почему этот вид собственности меньше нуждается в охране, чем все другие виды?»
Его слушали собственники. Его слушали рабовладельцы. Его слушали те, кто не хотел никаких реформ, кто боялся любых «измов».
Слушали и слушались.
В деле Дреда Скотта закулисно участвовал даже президент Бьюкенен; два члена Верховного суда внушали некоторые опасения; чтобы они не проявили инакомыслия, им дали крупные взятки.
Шестого марта пятьдесят седьмого года Верховный суд постановил: в иске Дреду Скотту отказать. Нет, в США не существует таких негритянских прав, которые белый человек обязан был бы уважать. Решение по делу Дреда Скотта наглядно продемонстрировало: Верховный суд, как и другие звенья правительственного аппарата, — целиком и полностью в руках рабовладельцев. Рабовладение одержало очередную победу.
Слово «аболиционист» происходит от английского «to abolish» — отменить, запретить. Что же будет отменено: рабство или свобода?
На съезде новой партии — республиканской (она возникла в 1854 году) выступил Авраам Линкольн, молодой, но быстро приобретавший популярность адвокат. Он был противником решения по делу Дреда Скотта, хотя в то время — в пятьдесят восьмом году — он вовсе еще не считал, что неграм надо предоставить какие-либо права. Линкольн сказал: «Разделенный дом долго стоять не может. Я считаю, что правительство разделенной страны — наполовину свободной, наполовину рабовладельческой — долго не продержится…»
Тогда, в пятьдесят восьмом году, еще более известны были слова сенатора Вильяма Сюарда, перекликающиеся с линкольновскими. Сюард произнес речь двадцать пятого октября 1858 года в Рочестере. Уже действовала техника американской паблисити: он заранее роздал эту речь корреспондентам крупнейших газет. Говорил полтора часа. «…Россия до сих пор сохраняет рабство, и там царит деспотизм. Большинство других европейских государств уничтожило рабство и приняло систему свободного труда… Рабство или свободный труд? Те, кто полагает, что эта коллизия случайна, беспричинна, что она — создание каких-то заинтересованных лиц или каких-то фанатичных агитаторов, что таким образом эта коллизия поверхностна, привнесена извне, глубоко заблуждаются. Это неустранимый конфликт между силами противоположными, глубинными, и это означает, что Соединенные Штаты должны — так оно и произойдет рано или поздно — должны превратиться либо в единую рабовладельческую нацию, либо в единую свободную. Либо хлопковые плантации и рисовые поля Южной Каролины и сахарные плантации Луизианы будут обрабатываться свободными людьми, Чарлстон и Новый Орлеан станут рынками, на которых будут продаваться только вещи, товары, либо рисовые и пшеничные поля штатов Массачусетс и Нью-Йорк будут оставлены фермерами, туда привезут рабов, и рабский труд заменит свободный, а рынки в Бостоне и Нью-Йорке тоже станут местами, где торгуют человеческими телами и душами».
«Неустранимый конфликт» — Сюард нашел емкую формулу, в двух словах воплотил то, что до него говорили Хелпер и Фитцхью, Кэлхун и Браун, Филипс и Линкольн.
Браун в октябре был в Осоватоми, в Канзасе, он не мог слышать этой речи Сюарда. Но, конечно, прочитал ее. Среди слушателей было немало его знакомых, единомышленников, был житель Рочестера Дуглас, и они передали, насколько могли, и то, чего нельзя прочитать, а можно лишь почувствовать самому, то особое, неповторимое, как хороший спектакль, сочетание момента, оратора, публики, которая ждет, поддерживает, заранее негодует, заранее приветствует. Публика и оратор взаимно разогревают друг друга, оратор говорит резче, чем намеревался, слушатели слышат гораздо больше, чем сказано…
Нью-йоркская «Гералд» назвал эту речь «жестоким и кровавым манифестом», после Харперс-Ферри некоторые газеты напечатали разворот: слева — цитаты из речи Сюарда, справа — известия о нападении на арсенал.
Сюард поспешил заявить, что Джон Браун заслужил виселицу. Может быть, это заявление продиктовано страхом — не привлекли бы за соучастие, — а может быть, и не только страхом. Люди редко предвидят последствия слов, немногие ощущают, как короток подчас путь от типографского набора к пулям, баррикадам, виселицам.
Оставался год до Харперс-Ферри, два года до того момента, когда Линкольн вошел в Белый дом, три года до начала Гражданской войны, семь лет до убийства Линкольна.
3
Браун писал Хиггинсону из тюрьмы двадцать второго ноября: «Вы оказались истинным другом в беде… было бы это в моей власти, я бы отблагодарил всех моих друзей чем-либо иным, а не только нежными словами… Мои раны сейчас гораздо лучше, но я все еще сильно хромаю. Я очень бодр, надеюсь, что так будет и дальше, «до конца».
Передайте любовь всем дорогим друзьям.
Ваш во имя Бога и истины».
Теперь он как бы поменялся местами со своими единомышленниками и друзьями. Теперь он говорил, он писал, он убеждал. Некоторые из них пытались действовать.
Хиггинсон лихорадочно разрабатывал один план за другим — планы спасения. В этих планах были то яхта, море, то партизанские отряды, подошедшие к границе Виргинии, переодетые, в масках, смельчаки, нападение на тюрьму; Хиггинсон предлагал даже похитить губернатора Уайза. Хиггинсону представлялось, что выкрасть губернатора Виргинии это, пожалуй, не менее лихо, чем налет на Харперс-Ферри. Спрятать Уайза, держать его как заложника и требовать обмена: «Мы вам — Уайза, а вы нам — Брауна…» Нашелся и человек, готовый осуществить этот замысел, Лисандр Спунер. Но в последний момент пришлось отказаться от этого, как и от других планов. Не хватало денег, не хватало решимости, не было второго Джона Брауна, который действовал бы, не думая о препятствиях и последствиях.
Сам узник упрямо твердил: я не хочу побега. Даже если двери тюрьмы откроются настежь, я не убегу. Я не могу обманывать Эвиса, не хочу, чтобы он пострадал из-за меня, он хороший человек. И самое главное — моя гибель принесет больше пользы Великому Делу, чем моя жизнь.
Будь на месте Хиггинсона Браун, он, конечно, и слушать не стал бы никаких резонов…
Узник понимал, что Хиггинсон и другие предпринимают все эти попытки не только ради него. Ради себя.
Они обменялись ролями.
Это уже потом, после суда над Брауном, сообщники, друзья, покровители были названы «тайной шестеркой».
Они были связаны и раньше, один круг. Жили поблизости. Встречались чаще всего в Бостоне. Встречались в церкви Паркера и на его музыкальных четвергах. Встречались на лекциях Эмерсона. Встречались в клубах и просто в домах, их жены были приятельницами, дети играли вместе.
Четверо из них — выпускники Гарварда разных лет, но все же юность, проведенная в одном и том же месте, общие воспоминания, объединяющий и отделяющий от других язык, слова, окрашенные особым смыслом, понятным только посвященным.
Двадцать второго февраля 1858 года Геррет Смит записал в дневник: «Наш старый, благородный друг Джон Браун из Канзаса приезжает сегодня вечером». Смит и Браун были знакомы уже четырнадцать лет, их многое связывало — общее дело, общие друзья, Канзас, Фредерик Дуглас. Смит и Дуглас дружили, Дуглас посвятил Смиту свою книгу «В рабстве и на свободе».
После Канзаса, после непрерывных скитальчеств, опасностей, голода, холода Браун в Питерборо у Смита, как на другой планете.
Большой трехэтажный дом построен еще в 1799 году отцом-рабовладельцем. На стенах — семейные портреты. Шесть колонн перед входом.
Подстриженный парк на манер английского. Огромные старые деревья. По сравнению с особняками плантаторов он был скромно обставлен, роскоши нет — ни больших зеркал, ни дорогих ковров, но для Брауна — дом богатый.
В гостиной — горящий камин. Тепло, уютно.
Дом — убежище. И не только для его хозяев. В Питерборо — станция тайной дороги. Через нее прошли тысячи беглецов-негров.
Накрытый стол. Перед едой — молитва. Смит не уступит Брауну в строгом соблюдении обрядов, он обратился в конгресс с петицией, чтобы запретили доставлять по субботам почту. В Питерборо — несколько церквей.
За прошедший год Браун в письмах часто жаловался на лишения, писал, что живет на одном хлебе и селедке, вареное яйцо — редкость.
Когда Смиту было тридцать два года, он отказался от кофе и от чая, несколько позже — от мяса и от рыбы. Но ведь это по собственной воле, по убеждениям, а не по нужде. Ему неловко смотреть на свой обильный стол — он глядит глазами Брауна.
Смит, Сэнборн, Браун присматривались друг к другу, разговаривали, радовались общности взглядов, огорчались разногласиям. Они ели, пили, гуляли, просто болтали. Мортон, университетский товарищ Сэнборна, учитель детей Смита, по просьбе Брауна играл серенаду Шуберта. Тихая музыка. Браун плакал.
Хозяин дома очень любил огромную свою семью. Каждый семейный праздник отмечался торжественно — церемония, пир, подарки, — но и шутливо — писали смешные стишки, разыгрывались целые спектакли. Смит пел старинные шотландские баллады.
Сэнборн только год как знаком с Брауном, по молодости не скрывает влюбленного восхищения. Он ученик Эмерсона. По совету Эмерсона стал школьным учителем в Конкорде.
В 1857 году он на год взял отпуск, чтобы все своё время и силы отдать работе в комитете помощи Канзасу. Он переживет Брауна на полвека, напишет одну из первых его биографий.
Нежное удлиненное лицо, кожа словно девичья, длинные волосы, шелковый галстук бабочкой. Двенадцати лет он уже хорошо знал Библию и Плутарха, изучил греческий язык. В библиотеке деда-кальвиниста он зачитывался историей Реформации в Шотландии. Своим ученикам читал стихи Байрона. Персонажи из романов Вальтера Скотта были ему ближе, чем знакомые бостонцы. Еще студентом он влюбился в тяжелобольную девушку Ариану — она была старше Фрэнка, — преданно за ней ухаживал и женился за восемь дней до ее смерти.
Романтизм был для Сэнборна не литературным течением, романтизм был исповеданием веры, стилем жизни. Он искал, ждал романтического героя. И вот появился такой человек, уже овеянный легендой. Ему хочется, чтобы Браун сразу же почувствовал себя своим, отогрелся, да и понял бы, какой это удивительный дом.
Сэнборн дарил их друг другу: Смиту — Брауна, а Брауну — Смита.
— Геррет, пожалуйста, прочитайте стихи, которые вы написали сыну.
Геррет нехотя достает из ящика листки, читает домашний юмор. Сэнборн хохочет до слез, в который бы раз ни слушал. А Браун ни разу не улыбнулся, он просто не понимает всех этих намеков. Автор почувствовал, быстро оборвал чтение.
Дети потянулись к Брауну, внучка сразу же полезла на колени. Он не умеет нежничать, не подражает лопотанию маленьких, с чужими детьми, как и со своими, разговаривает серьезно, но зато уж если говорит с этой девочкой, то говорит именно с ней, отдается разговору целиком, не замечая никого из окружающих.
Над дверью Смита висел кусок холстины, вышито: «Бог — это любовь».
Не пустые слова. Со всей Америки в этот дом стекались письма от знакомых и незнакомых: одинокая девушка просила купить ей пианино, мальчик — часы, мать большой семьи просила денег на хлеб… В ответ из Питерборо шли чеки: десятки, сотни, тысячи долларов. На основание публичной библиотеки в Освего — тридцать тысяч долларов, колледжу в Гамильтоне, в котором когда-то учился, — двадцать тысяч. Чтобы Канзас был свободным, а не рабовладельческим штатом, — в общей сложности шестнадцать тысяч долларов.
Несмотря на щедрые даяния, Смит испытывал чувство постоянной вины за свое богатство.
Дом открытый — идут и идут. Хозяин начинал кричать: «К столу! К столу!», когда гость едва показывался на пороге. Но сам порою уходил, запирался в кабинете, оставляя гостей на жену, на взрослых детей. Уходил, когда ждала работа, когда хотелось побыть одному, когда подступала ипохондрия.
Он помогал не только деньгами; трудно было обнаружить в Америке тех лет хоть одну петицию, воззвание, протест без подписи Смита, о чем бы ни шла речь — помощь грекам, полякам, голодающим, погорельцам и чаще всего — против рабства, в защиту рабов…
Он заступался не только за близких, за единомышленников: уже во время Гражданской войны он подписал поручительство за главного врага, за Джефферсона Дэвиса, президента конфедерации отколовшихся южных штатов, чтобы того выпустили из тюрьмы под залог.
Геррет Смит, Фрэнк Сэнборн, Сэмюэль Хау, Томас Хиггинсон, Теодор Паркер, Джордж Стирнс — шестерка. Познакомились, когда Браун впервые приехал в Бостон. Единомышленники. Покровители. Будут ли они и действовать заодно с ним?
У них много общего между собой и с ним, с Брауном.
Все ненавидели рабство. Все чтили традиции. Как бостонским друзьям Брауна понравилось, что он переправил из Кэнтона в Северную Эльбу камень с могилы деда.
Браун пришел к ним в мирные дома прямо из лесов и степей Канзаса. Эти пристальные глаза еще несколько дней тому назад смотрели в упор на врагов. Эти широкие, темные руки с узловатыми пальцами закладывали патрон, сжимали кинжал, несли смерть.
Он не растворялся в окружающей среде, не вписывался в нее, оставался везде равным себе.
Смит и Сэнборн, перебивая друг друга, рассказывали ему о Хиггинсоне, Хау, Паркере, о Стирнсе. Сэнборну казалось, что Смит хвалит недостаточно, они соревновались, подзадоривая друг друга.
У Паркера Браун уже побывал в прошлый приезд, сначала в церкви, а потом в четырехэтажном доме на Экстер-плейс на музыкальном четверге. И. совершенно не знал, куда себя девать. Он этого ничуть не стеснялся, не делал вид, что любит музыку. Всем другим было очень неловко. А он едва не сбежал к Уэнделлу Филипсу — его дом рядом.
— Паркер знает пятнадцать иностранных языков. Такие редкие, как арабский, исландский. Он прямо сладострастно тянется к языкам. У него самая большая библиотека в Бостоне, да, пожалуй, и во всей Америке. Шестнадцать тысяч томов. Затеряться легко в этих книжных дебрях, а он знает, помнит, любую книгу за минуту найдет. За столом сидит по двенадцать, а то и по семнадцать часов в сутки. Изучал также естественные науки: астрономию, химию, изучал право. Когда Теккерей приехал в Соединенные Штаты, он, едва сойдя с парохода, сказал, что хочет видеть Паркера.
— А кто такой Теккерей?
Сэнборн запнулся.
— Самый знаменитый писатель Англии. Только Диккенс более знаменит, чем он.
Смит перебил:
— Понимаете, Браун, не в том дело, что у Паркера так много книг. И даже не в том, что он, вероятно, самый образованный американец, ходячая пятидесятитомная энциклопедия. Его называют пашей совестью — это важнее всего. Ведь это он спас негров Крафтов, не дал их отправить обратно на Юг. Да разве только Крафтов?
Знаниями своими Паркер делится щедро, иногда даже становится обидно — сидишь у него в кабинете, приходит мальчишка, ему бы еще в начальной школе учиться, а Паркер с ним разговаривает как с равным, отдает ему книги, мысли и самое дорогое — свое время, раздаривает себя. А ведь он болен, так его ненадолго хватит.
— Кто знает на что человека хватит, а на что нет? Может, такие разговоры с мальчишками, как вы их называете, прибавляет ему силы.
Они все — книжники, по отношение к книгам разное. Паркеру доставляет удовольствие трогать переплеты, гладить обложки, книга для него — предмет ничуть не менее святой, чем церковная утварь.
А Сэнборн может поставить «галочку» на полях, подчеркнуть какие-либо важные фразы или даже поспорить с автором. Ему главное знать, кто, когда, что написал. И он мучительно краснеет, если оказывается, что он чего-либо не знает.
— Вот веселиться, жить, что называется, в свое удовольствие Паркер не умеет, хотя и часто произносит слово «наслаждение».
Браун подумал: «И я не умею в свое удовольствие. И учиться не хочу».
— Паркер любит смотреть на красивых женщин. Очень скорбит, что у него нет детей.
Восхваляя Паркера, Сэнборн процитировал Брауну одну из его проповедей: «Разрушьте индивидуальность атомов… и все пропало. Зачеркнуть личность — значит зачеркнуть и массу. Следовательно, для того чтобы сохранить себя, общество должно сохранить особенности индивида».
— Да ведь к неграм это же не относится! Там плети и цепи, а не «особенности индивида»! — это словосочетание Браун выговорил явно презрительно.
Они хвалили друзей, мельком поминали их недостатки, но так, что и недостатки выглядели, скорее, как милые чудачества и достоинства.
Браун сначала слушал, лишь мысленно прикидывал, что годится в дело, какие особенности этих людей могут быть полезны. Что ему паркеровская библиотека?
Ему прежде всего нужны деньги. Не для себя — для Дела. Хотя его-то жизнь принадлежит борьбе, он многое делает за других, значит, он вполне заслуживает нечто вроде жалованья. Он брал из общественных средств небольшие суммы так, чтобы хватило на самое скудное пропитание. К началу пятьдесят восьмого года собрали двадцать три тысячи долларов. Далеко не все эти деньги попали Брауну, ведь собирались они для Канзаса. Между Брауном и Стирнсом, президентом комитета помощи Канзасу, возникла длительная, неприятная переписка о размерах сумм и об их предназначении. Однажды у Брауна вырвалось даже раздраженно: «Не позволю я никаким комитетам меня контролировать!»
Но больше, чем деньги, нужны были деятельные люди, такие, кто поведет за собой других, кто сам пойдет в бой.
Вот Браун и вглядывался пристально в собеседников, внимательно слушал, осторожно взвешивал.
Несколько раз потом Браун повторял в письмах фразу: «Не знаю, хороший ли он аболиционист…» Сэнборну — о Стирнсе, Хиггинсону — о Хау. И каждому хотелось от Брауна заслужить оценку «хороший аболиционист».
Хиггинсону Браун писал, что Стирнс и Паркер «преувеличивают препятствия… им недостает храбрости, они — не люди дел». Паркеру же писал: «Никто из них не понимает мои взгляды так глубоко, как Вы…» Вряд ли он хотел, как полагали некоторые поздние историки, стравить своих покровителей между собой. Скорее, хотел разными средствами, в том числе и такими, пробудить в каждом высший потенциал мужества, стремление действовать. Еще в инструкции Лиги галаадитов Браун советовал неграм в случае опасности прятаться вместе с женами в домах «влиятельных белых друзей; таким образом, на этих белых неизбежно падет подозрение в связях с вами и вынудит их стать участниками вашего дела… Им просто не останется выбора».
Он воспитывал взрослых, подчас весьма неумело, как раньше воспитывал своих детей.
Но постепенно он невольно начал проникаться бескорыстным энтузиазмом своих собеседников. Они напоминали друг другу:
— Знаете, как однажды Гаррисон сказал на собрании? «Я имею честь представить вам превосходного фанатика, замечательного неверующего, первоклассного изменника — Теодора Паркера из Бостона!»
— Хиггинсон знает шесть языков и собирается учить все новые, принялся за такие трудные, как русский, венгерский. Он молчалив, больше слушает. Его не сразу раскусишь. Он спортсмен.
— Это что такое?
Ни Смит, ни Сэнборн не могли сами понять, зачем нужно Хиггинсону гонять мяч ногами по большому полю, или подтягиваться на каких-то железных палках, или драться в тяжелых перчатках не с врагами, не с рабовладельцами, а с другими хорошими людьми, просто так. Но мало ли какие странности, какие причуды бывают у людей…
— А знаете ли вы, что в пятьдесят четвертом году, когда негра Энтони Бернса хотели вернуть в рабство, именно Хиггинсон с друзьями возглавил возмущенную толпу, они ворвались в зал суда, даже дверь выломали. Но в тот раз полиция взяла верх.
— Вот это молодец. Он ведь побывал и в Канзасе?
— Да.
— Ваш Хиггинсон, хоть и ученый, а настоящий мужчина.
— А скольким людям помогает Джордж Стирнс? Вы же были в Медфорде, знаете, что это за дом.
Занятый своими фабриками, своей широкой благотворительностью, Стирнс сказал им однажды:
— Какие вы счастливые, вы можете читать книги в будни, днем. Я не огорчаюсь, когда заболеваю только потому, что могу вольготно почитать.
Им приятно говорить о друзьях, они почти забыли о цели — заразить Брауна своим восхищением.
— Хиггинсон так застенчив, что когда однажды влюбился, то заранее на бумажке написал, что он должен ей сказать, иначе забыл бы. Он непременно что-нибудь забывает — зонтик или галоши. У себя в Уорчестере устроил церковь по образцу паркеровской, к нему даже фабричные девушки ходят за книгами.
О Хау рассказывают почтительно. Он медик, просветитель, пытался организовать сельскохозяйственную коммуну «Вашингтония». Он старше всех их, почти ровесник Брауну. Шесть лет сражался за независимость Греции.
В 1830 году во время июльской революции был в Париже, сопровождал Лафайета.
В 1848 году у него родился сын, он записал в семейную библию: «Дарован богом» — и тут же добавил: «Свобода! Равенство! Братство!» Был врачом в отряде Гарибальди.
Брауну это не совсем понятно:
— Зачем, собственно, воевать в Греции против турок, в Италии против австрийцев, когда здесь, у тебя на родине, есть поле сражения, когда здесь свобода — в цепях?
Сэнборн и Смит недоуменно переглядываются, для них это так ясно, так само собою разумеется: свобода неделима. Ее надо защищать везде. И у себя, и у других. Тем более что Хау, как они все, — аболиционист. Он побывал на Юге, как он потрясенно рассказывал о страшных сценах в негритянских камерах тюрьмы в Новом Орлеане.
Из чужих краев он вернулся с военным опытом, со славой — король Греции наградил его орденом Святого Спасителя. «Кавалер ордена» — отсюда дружеское прозвище «кав».
Из Греции Хау привез купленный на аукционе голубой шлем, его носил сам Байрон. Шлем висел на вешалке для шляп.
Сэнборн каждый раз глядел на шлем, сначала не решался прикоснуться к святыне, а потом все же померил — шлем оказался мал. Его возмущали дети, которые посмеивались над «культом шлема». Он испытывал страх и восторг. Сам Байрон. Хау знал его, разговаривал с ним, лечить, правда, не пришлось. А Сэнборн хорошо знает Хау. Всего только одно промежуточное звено.
Браун выслушал о шлеме равнодушно, Байрона он не читал, смутно помнил: какой-то храбрый, но беспутный англичанин.
Они продолжали:
— Хиггинсон защищает права католиков.
— Хау основал приют для слепых, для слабоумных, школу для дефективных детей. Даже король Пруссии вынужден был наградить его за научные заслуги.
— Это хорошо, что он занимается добрыми делами. Конечно, это не так уж трудно, когда есть деньги. О, если бы у меня были хотя бы те деньги, которые в Бостоне прокуривают за один день, которые улетучиваются в трубу с табачным дымом, я уж давно бы нанес сокрушительный удар по рабству.
Сэнборн смущенно посмотрел на свою трубку.
— Что вы, я не про вас, я про тех, кто и пальцем не шевельнет для других.
Сэнборн боготворил Брауна. И все же, когда Браун на третьем этаже в спальне Смита прочитал им Временную конституцию будущей республики беглых негров, открыл им часть Великого Плана, сказал им, на что он решился…
Оглушены.
Школы и церкви для негров — да. Тайная дорога — да. Оружие противникам рабства в Канзасе — да. Но нападать самим?
И они начали возражать, приводя доводы разума.
В правительстве южане: президент Бьюкенен, военный министр Флойд, Джефферсон Дэвис. Военная мощь в их руках. И против этой силы «бедный, мало кому известный человек, трудно сказать — осталось ли ему еще десяток лет жить на свете, а он спокойно излагает свой проект, который, чтобы его успешно провести в жизнь, потребовал бы усилий едва ли не целого поколения» — так вспоминал потом Сэнборн.
На все возражения Браун отвечал одно: «Если с нами бог, то кто может быть против нас?»
Он глядел на горы, окружавшие Питерборо, и говорил о создании боевых групп из беглых негров в Аллеганских горах.
— А не помешают ли такие крайние акции готовящимся реформам, не оттолкнут ли?
— Смит, мы с вами не в кулуарах конгресса. Политикой я не занимаюсь.
— Нет, занимаетесь. Любая форма борьбы с рабовладением — это политика. Война в Канзасе — это политика. Само слово это происходит от греческого «полис» — общественные дела, важные для всего полиса.
— Позвольте мне поправить вас, Смит. Не для всего полиса, а только для свободных граждан Афин или Спарты. Рабы исключались, как и у нас. Хотя я не так учен, как вы, джентльмены, но это я знаю.
— Принимаю поправку, пусть для свободных. Но для многих, для большинства — вот о чем я веду речь. Сейчас необходимо, чтобы возможно больше белых американцев поддерживало такую политику, которая приведет к освобождению рабов. Этого надо добиваться сообща, гласно, открыто. А вы хотите — маленькой кучкой.
Что отличает американцев от европейцев? Зачем паши предки — и мои, и ваши — сюда приехали? Ради чего воевали в семьдесят шестом году, ради чего отделились от метрополии? Ради независимости. Ради демократии.
Сэнборн вступил:
— «Демократия» тоже греческое слово — народоправство. Власть парода осуществляется теми, кто знает и выражает его волю, — конгрессами штатов и федеральным конгрессом, избранными в соответствии с конституцией; волю народа выражают и другие демократические учреждения. Мы должны стремиться к тому, чтобы завоевать в них большинство, направить их деятельность на путь добра и справедливости. Паркер так определил демократическое правительство: из парода, для народа, именем народа.
— А я кто — не народ? Я вместе с ним голодал, мерз, воевал. Все эти ваши учреждения — они-то и чужды народу. Всегда — над ним. И часто — против него. Большинству народа безразличны самые красноречивые словопрения в конгрессах. Но зато смелые действия смелых людей, которые возьмутся за ружья, а потом и за пушки, никому не будут безразличны. Тогда мы узнаем истинную волю парода — ее пробудят те, кто пойдет сражаться за великое дело.
— Вы не правы, Браун. В американской демократии, как ее задумали Отцы-Основатели, как ее строили камень за камнем, заложены гарантии против узурпации, против того, чтобы один человек, вроде Наполеона, противопоставлял свое «я», да еще подкрепленное мощью государства, большинству. Гарантии эти, в частности, в разумной системе разделения властей. Исполнительная власть отделена от законодательной, обе они — от судебной. И все три силы находятся в известном равновесии.
Браун сидел неподвижно в большом кожаном кресле. Он крепко держал подлокотники, полуприкрыв глаза, видел долгоносые лакированные штиблеты собеседников перед своими порыжевшими, пыльными сапогами.
— Еще раз повторяю: все, связанное с рабовладением, для меня неприемлемо, все — церковь, государство, бизнес.
— Если все учреждения никуда не годятся, тогда, конечно, их надо разрушать, а не улучшать. Это проще, понятнее, чище и сильнее захватывает воображение. Но приведет ли это к добру? Да, у нас очень много недостатков. Ведь те самые плодотворные свойства нашей демократии, которые препятствуют воцарению властолюбцев, в то же время делают наше государство инертным. Демократии труднее мобилизоваться, чем деспотии, мы туго поддаемся и добрым изменениям, у нас прочно удерживаются дурные законы, в том числе и ненавистные всем нам законы, охраняющие рабовладение.
Браун невозмутимо прокомментировал:
— Устойчивость нашей демократии, джентльмены, подобна упорству того мула, который злобно лягается, когда его хотят запрячь в плуг или в повозку, груженную камнем для его конюшни, но он резво побежит за живодером, протянувшим ему пучок маисовых початков.
Смит, Сэнборн и Мортон расхохотались.
Браун наступал:
— Вы говорили о воле народа, о разделении властей. Закон о беглых рабах — это что, по-вашему, народное волеизъявление? Или вы считаете, что суд на Юге независим от рабовладельцев, не исполняет их волю? Да что Юг, если губернатор северного штата Массачусетс может внести законопроект о запрете аболиционистской пропаганды? Или дело Дреда Скотта — кто от кого отделен? Все они заодно — и президент, и конгресс, и Верховный суд.
— И все же демократия лучше монархии.
— С этим я не спорю. Но то, что вы называете «недостатками», для меня — кровь, гибель, преступление. Великий грех. А насчет учреждений я вот еще что добавлю: я с детства привык «сам» — главное мое слово было, родители смеялись надо мной.
— Ваш план — оружие отчаянных.
— Страшная болезнь требует страшных лекарств.
Было поздно, давно пора ложиться. Смит попытался закончить спор:
— Мы все стремимся к общей цели, спор идет о средствах. Мы ищем благотворных бальзамов, мы полагаемся на оздоровляющие силы природы, мы хотим им содействовать постепенным нажимом, как действуют компрессы на язвы, как действуют массажисты на переломы. Бывает, надо прижечь ядовитый укус, бывает, надо рвануть резко, чтобы вправить вывих, отрезать отмороженный палец, а то и руку. Но огонь и железо — это последние, крайние средства лечения. Очень опасные, тем более если болезнь таится внутри, если поражены мозг, сердце, тогда можно убить, а не исцелить…
— Вы все повторяете — вопросы, вопросы… А по-моему, никаких вопросов не существует. А есть только ответ. Его я вам и предлагаю.
Собеседникам продолжало казаться, что существуют и вопросы, что предлагаемый ответ не единственный. Но иного они не знали, а сомнений своих начинали стыдиться, заталкивали их вглубь.
Они пробовали отговаривать Брауна. Сэнборну было неприятно слушать себя и своего друга. В школе и вечерами, когда его ученики собирались у него дома, Сэнборн рассказывал им о героях. Рассказывал о победе Леонида при Фермопилах. У детей загорались глаза — триста греков против тысяч персов. Сэнборн оживлял и героев молодой отечественной истории, героев революционной войны против англичан. В нем самом тогда просыпался мальчишка, оживало недоигранное в детстве. Разве те герои старого и нового времени, разве они рассчитывали свои силы?
И вот рядом с ним, в соседнем кресле, сидит герой. И ему нужна помощь Сэнборна.
Если он сейчас откажется, если поверит в собственные разумные доводы, он не только себя предаст. Он не сможет глядеть в глаза ученикам. Он не посмеет вспомнить Ариану. Ему будет нестерпимо стыдно жить на свете.
Ну и пусть Юг силен. Браун прав: разве Англия не была сильнее, много сильнее колоний?
Позже Сэнборн вспоминал, что на протяжении трех лет видел Брауна в общей сложности не больше месяца. И тем не менее «знал его лучше, видел его чаще, чем тех, кто шел рядом со мной по жизненному пути все шесть десятков лет…».
К концу пятидесятых годов те, Кто посвятил себя борьбе против рабства, устали от несоответствия слов и дел. Американская система на Севере сравнительно легко переваривала критику, протест. Ничего существенно не менялось, и это давало возможность многим и многим оправдывать свою бездеятельность, оправдывать равнодушие и малодушие перед родными, перед друзьями, перед молодыми, перед самими собой. К чему собрания, речи, петиции? Ведь это не только не помогает — рабы по-прежнему в цепях, — а, пожалуй, и вредит. Не будь этого, рабство скорее отмерло бы само собой или было бы отменено путем постепенных перемен в законодательстве.
Так невольно компрометировалось и то, чего аболиционисты реально достигли, — изменений в умах.
Возникал замкнутый порочный круг.
Браун предлагал вырваться из этого круга.
У него с ними не было разногласий в теории, как, например, с Гаррисоном, тот ведь при всей своей непримиримости твердо стоял на своем: ни капли крови. Непротивление злу насилием. А члены тайной шестерки — кроме Хау — пришли постепенно к мысли, что рабов в Америке без кровопролития не освободить.
Смит писал своему другу: «Рабы будут освобождены, и будет пролита кровь, и все больше знамений, что произойдет это скоро». И в августе пятьдесят девятого года, за полтора месяца до Харперс-Ферри, в другом письме: «В течение долгих лет я боялся — и не скрывал своих страхов, — что рабство должно погибнуть в крови… Теперь эти страхи превратились и уверенность».
Хиггинсон от своих дедов — моряка и солдата — унаследовал страсть к необычному. Когда он в 1856 году вернулся из Канзаса, он прежде всего почувствовал, что ему очень скучно в той обыденной жизни, где если что и случается, то зовут полицейского…
Он говорил на собрании общества противников рабства: «Дайте нам власть, и мы создадим новую конституцию или соответствующим образом изменим старую. Как взять эту власть? При помощи политики? Никогда. Революцией и только революцией». Год спустя он утверждал, что рабство в крови зародилось, в крови и погибнет.
И Паркер воспринял воинственность по наследству. В его кабинете на стене — два ружья. С одним дед вышел в 1775 году на битву при Лексингтоне — одну из первых битв американской революции. В бою тогда же добыл второе.
Паркер считал: борьбу против рабства, чтобы она была успешной, должны возглавить солдаты, как возглавили солдаты борьбу против англичан. Он приветствовал то время, когда прольется кровь. Он ждал такого человека, как Браун.
Торо объяснял: «Я не хочу убивать и не хочу быть убитым, но я могу представить себе обстоятельства, при которых мне нельзя будет избежать ни первого, ни второго».
И все же у каждого из них между разговорами, письмами, речами о насилии и реальной борьбой, в которой неизбежно льется реальная кровь, существовал некоторый зазор. Здесь между ними и Брауном пролегала черта.
Заставлял ли Браун других, насиловал ли он их волю? Он нарушал спокойствие. Он заставлял рисковать. Он ускорял решения, порою незрелые. Кристаллики мужества сбегались, соединялись, сочетались, и человек вдруг, скачком, изменялся. Надолго ли? Прочно ли?
В первый же свой бостонский вечер у госпожи Стирнс Браун сказал: «Пусть лучше будет сметено с лица земли целое поколение — мужчины, женщины, дети, — чем чтобы рабство, это страшное преступление, просуществовало бы еще хоть один день». Слушатели восприняли это не буквально, а как метафору, как риторическую фигуру, характерную для ораторского искусства того времени.
Кто из них мог бы повторить эти слова — не как слова, а как завтрашнюю реальность?
Да и сам Браун стремился избежать крови. Генри Торо с полным основанием записал в дневник, едва узнав о Харперс-Ферри: «Что же это за странный вид насилия, который поддерживают не столько солдаты, сколько штатские, не столько миряне, сколько священнослужители, не столько воинствующие секты, сколько квакеры, и не столько мужчины, сколько женщины?..»
…Браун пошел навстречу друзьям:
— Я убежден в том, что мы можем идти вместе. Не думайте, что я опрометчив, что я рвусь в бой в любой миг, в любом месте. Нет, я хочу, чтобы мы выступили в наиболее благоприятное время, при наибольших шансах на победу. А сейчас необходимо готовиться, вооружаться, исполниться решимости. Ибо благоприятный час может наступить внезапно и не должен застичь нас врасплох.
У каждого из них было свое любимое дело: теология или литература, медицина или преподавание. Борьба против рабства вторгалась в сложившуюся жизнь, мешала ей, испытывала ее — иной жизни — сопротивление. А Браун стал революционером по призванию, в этом была его жизнь.
Различия ощущали обе стороны.
Уже из тюрьмы он писал прокурору Хантеру: «…моя цель заключалась в том, чтобы предоставить рабам возможности защиты своих жизней безо всякого кровопролития…» И в другом письме три дня спустя, говоря о Харперс-Ферри: «…я уступил чувству гуманности, бросил свое место и пришел к тем, кого мы взяли в плен, чтобы успокоить их страхи, — только потому нас и могли захватить…»
…На исходе вторых суток Браун убедил Смита и Сэнборна. Не потому, что его план стал им казаться разумнее или выполнимее, а потому, что это был его план. Его личность была главным аргументом.
Наедине Смит сказал Сэнборну:
— Наш друг принял решение, и его не свернешь с пути. Мы не можем допустить, чтобы он погиб один. Мы обязаны поддержать его.
Браун писал Сэнборну вдогонку: «Дело, безусловно, достойно того, чтобы ради него жить, а если необходимо, то и… Мне предоставлена эта единственная возможность — впервые за шесть десятков лет. Да проживи я еще вдесятеро больше, может, и не будет подобной возможности, радующей душу. Бог мало кому из людей предоставил шанс для такой великой награды.
Но, дорогой друг, если вы решитесь пойти по тому же пути, то это, как я верю, должно быть результатом вашего собственного решения; и вы обязаны серьезно взвесить цену такого решения. Я не жду ничего, кроме трудностей и лишений, но я рассчитываю и на могучую победу, пусть это будет последняя победа Самсона. В давно ушедшей прежней жизни я нередко и подолгу испытывал сильное желание умереть. Однако, едва мой план сформировался, едва лишь я осознал себя «сеятелем» — а результатом будет великая жатва, — я почувствовал не только желание жить, я стал радоваться жизни, и теперь я хочу прожить еще хоть несколько лет…»
Сэнборн показал письмо друзьям, но, пожалуй, в нем и не было необходимости. Когда они собрались вновь в Бостоне через две недели — уже все шестеро, — они были целиком готовы поддержать Джона Брауна. Его приход был предсказан. Он должен был появиться, и он появился на самом деле.
Он должен был найти одобрение среди интеллектуалов Новой Англии еще и потому, что лишь их умы, но не души, были освобождены от кальвинизма.
Они становились шестеркой, у них возникла тайна.
Теперь прежние отношения укреплялись общей целью, гордостью, сознанием собственного превосходства над другими, сознанием собственной значительности.
Они ощущали превосходство даже над единомышленниками, над теми же гаррисоновцами, — то тридцать лет говорили, писали, а они участвуют в том, чтобы призывы становились делом. А они причастились.
Однако недаром Хиггинсон в мемуарах написал: «Трудно представить себе группу людей, где каждый по-своему замечателен, менее способную на какое-либо общее дело, менее способную сопротивляться властям с оружием в руках».
Браун не открывался им до конца. А они сами не хотели знать всего. Не хотели, чтобы их совесть была бы перегружена подробностями.
Тайная шестерка, застывшая словно на групповом портрете. Вначале, в момент взлета, они хотели забыть об отличиях, о препятствиях — общее было выше частного. У каждого продолжалась потом своя, особенная жизнь. Но остались они в истории прежде всего как современники, Сподвижники Джона Брауна.
Глава восьмая Время точить клинки
1
В камеру пришел священник, отец Майкл Костелло.
— Мистер Браун, вы очень часто поминаете бога, почему же вы отказываетесь принять его смиренного слугу?
— Потому что вас я не могу признать слугою бога: вы терпите, вы даже оправдываете самый большой грех на нашей земле — рабство. Значит, вы ничего не смыслите в христианстве. Главное в христианстве не обряды. Если даже человек не ходил в церковь, хотя это и дурно, — быстрый взгляд на Стивенса, — но вызволил раба, он уже настоящий христианин. А вам еще учиться и учиться азбуке Евангелия. Мне вы не нужны. Уходите.
— Вы не имеете права так разговаривать.
— Нет, имею. Вы уйдете отсюда домой, к своим близким. А моя семья далеко, я уже никогда ее не увижу. Вы можете пойти в лес, в поле, слушать птиц, а я вижу только этот маленький кусочек неба и слышу только скрип ключей. Вы будете продолжать свои проповеди в церкви и считать себя, как вы говорите, «служителем бога», а меня вздернут потому, что я делал то, к чему вы еженедельно призываете своих прихожан.
Так разговаривал и так писал из тюрьмы.
Пастору-единомышленнику двадцать третьего ноября: «Священников Христа здесь нет. Тех здешних священников, которые называют себя христианами, но владеют рабами и отстаивают рабовладение, я не могу выносить. Мои колени не склоняются в общей молитве с теми, чьи руки обагрены кровью душ».
Старой приятельнице, госпоже Стирнс, двадцать девятого ноября:
«Я просил, чтобы меня избавили от издевательских или лицемерных молитв в день, когда меня убьют публично. И пусть обо мне молится только старая седая рабыня со своими бедными, маленькими, грязными, оборванными, босыми ребятишками…»
К Стивенсу отец Костелло не обращался — тот и вовсе неверующий.
Скоро четыре года, как Стивенс знаком с Брауном, а не перестает ему удивляться. Нет, он не поклонялся ему, как некоторые мальчишки в отряде. Он вообще не умел поклоняться. В Канзасе он появился уже взрослым, зрелым человеком. Когда началась война с Мексикой, ему было шестнадцать лет, пошел добровольцем. Понятия не имел, что это за война, все казалось продолжением детских игр — стреляют и стреляют. Это теперь он знает, что войны бывают разные, а тогда не знал. Но скоро он научился воевать, угадывать намерения противника, скрываться, внезапно нападать. Потом командовал взрослыми солдатами. Подрался с майором, не стерпел, чтобы его оскорбляли. Гордость и воинственность — по наследству, его прадед — участник революции. И Старику с трудом подчинялся, хотя и уважал его больше всех на земле.
За драку с майором его посадили на гауптвахту, арестовали, приговорили к расстрелу, но президент Пирс помиловал юношу, заменил расстрел тремя годами каторжных работ. Та тюрьма в форте Ливенворс совсем не похожа на Чарлстонскую, там было беспросветное одиночество. Сейчас он ощущает — рядом учитель, за стенами — несчетное множество друзей, единомышленников, просто сочувствующих.
Тогда с каторги он убежал прямо в Канзас.
В Харперс-Ферри его тяжело ранили. Он вместе с Уотсоном вышел с белым флагом, когда они поняли, что продолжать сражаться бесполезно, а кабатчик Чемберс в них, уже раненых, сдающихся, продолжал стрелять. Уотсон и скончался от его пули.
Прокурор Хантер писал губернатору Уайзу: «Стивенс вряд ли дотянет до суда, он умрет от ран, если мы не поторопимся его вздернуть».
Он дотянул до суда, но его, как и Брауна, в суд приносили на носилках. Он прошел со Стариком все ступени, и все время Старик его учил.
Казалось бы, уж тогда, когда шел первый допрос в конторе арсенала, они лежали рядом раненые, Стивенсу мучительно хотелось пить, нестерпимая боль сверлила голову, над ними стояли враги, — казалось бы, уж тут можно было бы и перестать учить. Так нет же.
— Зачем вы вовлекали негров в мятеж против их воли?
Браун отрицал, а Стивенс буркнул, что был только один случай, когда негр хотел вернуться… Старик посмотрел на него так, что Стивенс твердо решил: больше он рта не раскроет.
Однако конгрессмен Валландингэм наклонился прямо к Стивенсу:
— Далеко ли от города Джефферсона вы жили?
Браун предупредил его ответ:
— Осторожно, Стивенс, осторожнее отвечайте на вопросы, которые могут коснуться друзей. Я бы на такой вопрос не стал отвечать.
Стивенс на мгновение рассердился — вроде совсем невинный вопрос, и в голову не пришло бы промолчать. Раздражался, а все-таки повезло ему, что рядом такой человек.
Все ступени. Осталась последняя. Старика раньше, а потом его, Стивенса…
Месяц в одной камере. Трудно даже с самым кротким и самым близким человеком быть двадцать четыре часа, ни на миг не разлучаясь. А Браун не кроток. И не скажешь, что близок.
Оба прикованы. Не уйдешь друг от друга.
Все переговорено. Все перевспомнено. Давно уже нет ни сил, ни желания спорить о том, существуют ли бог или дьявол.
Впрочем, Стивенсу и в камере мерещились таинственные звуки, знаки, видения. Он рассказывал Брауну про вертящиеся столы, про медиумов. Старик посмеивался, но и огорчался. Вспоминал сына: Джон-младший тоже увлекался месмеризмом, верил в какую-то ерунду вместо незыблемого слова божья.
Стивенс верил в судьбу, в предзнаменования, считал очень важным, что он родился в том самом году, когда было восстание Ната Тернера.
Уже невозможно снова и снова прикидывать: а если бы иначе, а если бы Гарриет Табмен не заболела и привела бы канадских негров…
Стивенс ранен тяжелее, чем Браун, но он ведь годится ему в сыновья. А Старик не говорит о боли. Они оба терпят боль молча.
Не надо, нельзя думать о виселице. Стивенс пишет письма: «Какое это счастье — пытаться сделать других людей счастливыми… Я мог бы вынести всю скорбь мира на одних своих плечах… Душа моя наполняется горечью, когда я вижу, как талантливые люди пользуются своим талантом, чтобы защищать то, что является проклятьем и для них самих, и для всего человечества…»
За год до Харперс-Ферри он писал сестре из Спрингдейла: «Если потребуется, я готов отдать свою жизнь за угнетенных. Я надеюсь, что ты сочувствуешь мне, что ты поощряешь меня в этом благородном деле».
Письма патетичные, а говорил он просто, часто шутил, много смеялся. В тюрьме не может даже улыбаться — поврежден лицевой нерв. И петь не может. Бывало, густым красивым баритоном он умел больше выразить, чем словами. Девушки слетались на его пение. И не все они его забыли: было радостно узнать, что Дженни к самому губернатору добралась, просила за него. Разумеется, напрасно, а все же приятно, что просила.
Харперс-Ферри — пусть и поражение, но воспоминание гордое, радостное. Был настоящий бой. Они хорошо дрались. Ведь продержались почти двое суток против стократно превосходящих сил. Да, да, именно стократно — он даже Старика удивил этими подсчетами, — их двадцать два, а в Ферри больше двух тысяч жителей. И еще милиция из других мест, солдаты.
…Зимой пятьдесят восьмого года Стивенс стал начальником маленького отряда в Спрингдейле, они устроили тогда военную школу. Начальником школы был, конечно, Старик, но он почти все время разъезжал — Нью-Хэвен, Нью-Йорк, Северная Эльба, Рочестер, Сен-Кэтрин, Конкорд… Браун метался, как в лихорадке, за деньгами, за оружием. Ездил к покровителям, вербовал новобранцев, искал сторонников. Терпел неудачи, и в собственной семье тоже. Зять, Генри Томпсон, который был с ним в Канзасе, отказался. Дочка Рут понимала, что виновата перед отцом, перед Делом, просила прощения в письмах, но мужа отпустить не захотела. А Генри послушался женщины. Отказался и Салмон. От этого саднящая рана. Его сын и не верит. Или просто боится? Его сын боится, что же спрашивать с других?
Но были у него и радости. Самая большая радость — встреча с Гарриет Табмен.
Кто в Америке угнетеннее раба? Рабыня. Уж на ней-то, на женщине, можно сорвать и зло, и унижение, и боль. Отец, пли муж, или брат — любой может сорвать.
Брауну постоянно доказывали — и Фредерик Дуглас много об этом говорил, — что негры, удравшие на Север, никогда не вернутся на Юг сражаться за своих братьев в неволе. Не пойдут, даже если очень захотят, захочет ум, захочет душа, а поротая задница не пустит.
Гарриет Табмен, рабыня, бежавшая из штата Мэриленд, стала проводницей тайной дороги, снова и снова возвращалась на Юг. Не раз и не два — девятнадцать раз. Она вывела своих дряхлых родителей, вывела сестру с двумя детьми. Выводила знакомых и незнакомых — около трехсот человек. Браун много о ней слышал. За ее голову на Юге предлагали сначала четыре тысячи долларов, цена с каждым новым рейсом все поднималась, дошла до сорока тысяч… Брауну было даже чуть обидно, — за него, за Джона Брауна, предложили всего двести пятьдесят долларов, правда, эту цену назначил президент Соединенных Штатов Бьюкенен. Однажды на митинге Браун сказал: «Он за меня дает двести пятьдесят долларов, а я за него в десять раз меньше — два с половиной доллара за то, чтобы президента благополучно доставили в одну из тюрем свободных штатов».
Браун приехал в Канаду, в Сен-Кэтрин, в начале апреля пятьдесят восьмого года, пришел к Табмен.
Вышла женщина без возраста — сорок? Шестьдесят? Длинное платье, белый бант у горла, пестрый тюрбан на голове. Прямо тетушка Хлоя из романа Бичер-Стоу. Только худее и почти не улыбается. Очень толстые губы, даже для негритянки необычно вывернуты.
Браун редко обращал внимание на внешность, но тут и ему бросилось в глаза — некрасива.
За последние два года он чаще всего слышал, как сомневались, возражали, предостерегали друзья, единомышленники, пугали его, отговаривали; мало кто прямо говорил «я боюсь», почти все заботились о пользе дела, о том, как лучше для рабов… А Гарриет молча выслушала, на карту смотреть не стала — неграмотна, да она весь этот путь на ощупь знает, сколько раз прошла его в ночной тьме, она знает все дороги ногами. Она не стала хвалить его Великий план, а уж с этого все обязательно начинали, не сказала, что будет участвовать в Деле. Все было ясно само собой. Она просто спросила: когда? где? сколько людей уже есть? сколько необходимо для начала?
И сумрачность, и немногословность Гарриет были по сердцу Брауну.
«Гарриет Табмен включилась сразу, со всей своей командой. Она-то (Табмен) и есть настоящий мужчина, едва ли не первый изо всех, кого я нашел…» — писал Браун сыну.
Впервые он получил долгожданный ответ на главный вопрос: как отнесутся негры. Встреча с Табмен перевесила все слышанные раньше возражения.
И белые, и некоторые образованные негры говорили ему: рабов к свободе надо готовить. В Бостоне один собеседник произносил медленно, веско, очень уважая свои слова:
— Мирный демократический переворот может свершить только седьмое поколение свободных людей.
Браун не успел ответить, Каги выкрикнул:
— А как освободить первое поколение? Ведь мы же говорим о рабах!
Родители Гарриет Табмен были рабами. И сама она — вчерашняя рабыня. А действует она по свободному выбору, могла и не возвращаться на Юг, но вернулась же.
Пока Браун разъезжал, занимался политикой, Стивенс в Спрингдейле учил волонтеров маршировать, чистить оружие, стрелять, учил тактике. Они плохо учились, эти дуралеи. Молокососы. Когда Брауна не было, все норовили удрать, одни в пивнушку, другие к девчонкам.
О Стивенсе говорили, что он играет в солдатики. Его упрекали за муштру. Но как же научиться воевать без муштры? Он понимал, сам помнил, как это противно — несчетно повторять одно и то же движение. Двадцатилетним свободолюбивым парням это кажется бессмысленным, а то и оскорбительным. Они ворчат, сопротивляются, просто не выполняют приказов. Он сам был такой, он же с кулаками бросился на офицера. А теперь он для них вроде офицера. Он-то их понимает, а вот они его — нисколько. Надо маршировать, надо научиться владеть деревянными этими саблями, тогда и с настоящими управишься, надо правильно обуться, чтобы не натирать ноги, надо пройти десяток миль с тяжелым ранцем и не останавливаться у колодца.
А они ждали совсем иного: толпы ликующих освобожденных негров, баррикады, песни, стрельба, похожая на фейерверки четвертого июля, свобода или смерть…
Не много он требовал: три часа в день учиться. Остальное время девай куда хочешь.
Часто по вечерам его волонтеры сидели вместе, рассказывали о себе, по многу раз повторяясь, мечтали вслух, спорили. О чем они только не спорили! Например: кто возродит умерший дух революции? можно ли злом победить зло? что нужнее — газеты и речи или пушки и ружья? Друзья-квакеры, часто приходившие в гости, настаивали на своей правде — только мирное, ненасильственное сопротивление принесет добрые плоды; не внезапно, не сразу, но зато долговечно. А квакеры уже больше сделали для негров, чем каждый из них. Но молодые вояки возражали: рабовладельцы мирно ничего не уступят, хочешь не хочешь, а сражаться придется.
Оуэн Браун записывал тогда в дневник: «Снежный вечер, горячо спорим о нынешних неверных военных теориях, о нравственном праве убивать тех, кто насильственно обращает в рабство близких, кто с готовностью отнимает жизнь угнетенных для того, чтобы продлить зло, распространить зло и на потомство…»
Стивенс редко участвовал в таких спорах. Во время рейда в Миссури, когда вывели одиннадцать человек из неволи, это он, Стивенс, убил рабовладельца. Убил, не колеблясь, но вспоминать об этом не хотелось.
Подчас царило очень приподнятое настроение, когда мечтали: ведь придет же время, и рабство в Америке станет далеким прошлым. И произойдет эта великая перемена при их участии, это им выпала на долю великая честь — начать…
Один из колонистов Спрингдейла, Джерри Андерсон, писал брату: «Мы живем в век чудес. Не удивляйся, если ты обо мне услышишь, узнаешь, что я окажусь совсем в другом месте… Наша теория нова, но она, безусловно, хороша, практична, проста и вполне безопасна. Но когда эта теория воплотится в жизнь, мы, пожалуй, поразим весь мир, все человечество…»
Битва в Харперс-Ферри доказала: учились они не так уж плохо. Впрочем, что сейчас об этом думать… Кто уже мертв, а кто в соседних камерах ждет смерти.
Тогда, в часы занятий, Стивенс выходил из себя. Ему казалось, его парни беспомощней новорожденных телят. Он не умел объяснить толком. Стрелял он сам прекрасно, только Куку уступал, а наставлял нетерпеливо, нервно, раздраженно. Раздражены они все были долгим ожиданием. Готовились, готовились — и вдруг…
В начале июня пятьдесят восьмого года собрались, как обычно, к ужину. Старик вернулся злющий, даже по стуку подков слышно, что скачет сердитый. Лошадь велел накормить, а сам не стал есть. Сел боком к столу.
— Парни, главное наше дело решено отложить. На год.
— Кем это решено? Что мы, рабы, что ли? Какие еще хозяева выискались?
Браун стукнул сильно по столу. Злится, а на них срывает. Стал рассказывать: о предательстве Форбса кое-что они слышали и раньше. Ведь поначалу это именно Форбс, опытный военный, участник отряда Гарибальди, должен был их всему учить. Браун ему поверил. И Стивенсу он поправился — деловой, подтянутый.
Форбс оказался подлецом, предупредил власти. Придется переждать не меньше года. Нет другого выхода. Ведь ударить необходимо наверняка.
— Вы люди молодые, вы должны учиться ждать. Терпение — этому, быть может, труднее всего выучиться. Я ждал двадцать лет. Как вы думаете, легко ли мне, ведь я даже не знаю, доживу ли.
Браун понимал, что ожидание вредно для дела. В 1851 году в уставе Лиги галаадитов он написал: «Когда ты готов, не откладывай атаки ни на мгновение, иначе потеряешь всю решимость».
Но как же не отложить? Внезапность — главное их оружие, главная надежда. А сейчас их лишили внезапности — враги предупреждены. Необходимы отвлекающие маневры.
Главнокомандующий просил воинов маленькой своей армии оставаться верными знамени, верными решениям, которые они сами приняли. Просил, а не требовал, не угрожал. Стивенсу тогда впервые стало очень жаль Старика, жаль ребят, жаль себя.
Тридцать первого мая тайная шестерка решила, что из-за предательства Форбса Браун должен отложить рейд на Юг. И оружие, и деньги собирали для Канзаса, вот и надо отправляться в Канзас. Один Хиггинсон возражал.
Браун сам кипел. Однако без денег, без оружия, без покровительства тех, кто влияет на общественное мнение, идти на такое дело нельзя.
— Какого же дьявола мы торчали здесь почти четыре месяца и, как идиоты, вышагивали по три часа в день?
И зачем он, Стивенс, портил им жизнь!
Горький привкус неудачи. Только что были собраны, сжаты в кулак. А теперь — разброд. Теперь надо думать, как продержаться год. Возвращение к родным, минутная радость. Но горечь сильнее. Каждому надо искать работу, мало кого прокормят дома.
Сидят за столом, друг на друга не смотрят. Стыдно. И на Старика не смотрят. Хотя почему стыдно, в чем они, собственно говоря, виноваты?
Оружие переправили в Огайо. Этим занимался Джон-младший.
Теперь, в тюрьме, Стивенс думает: это чудо, что после такого удара Старику еще удалось вновь их собрать. Пятерых потеряли, но кое-кто из новых присоединился. Братья Коппоки, Барклай и Эдвин из квакерской колонии в Спрингдейле, молодой канадец Стюарт Тейлор, Джордж Джилл — он познакомился с Брауном еще в Канзасе.
Браун их собрал и снова учил, и снова пришлось ждать. Теперь уже не в Спрингдейле, а совсем рядом с Харперс-Ферри, на ферме Кеннеди…
Стивенсу, младшему другу, последняя записка Брауна за два часа до казни:
«2-го декабря, Чарлстон: тюрьма
Д. Б. — А. Д. С.
«Тот, кто медлен во гневе, лучше, чем власть имущие; тот, кто управляет духом своим, сильнее того, кто захватывает город»».
Это из Соломоновых притч. Стивенс управлял и духом и плотью до последнего мгновения. Он роздал подарки, надел чистую рубашку, почистил ботинки и одежду: «Я хочу хорошо выглядеть на виселице».
2
Сколько раз Браун уже садился перед таким листом бумаги — перед чистым листом. Заполнял его. Перечислял, обычно по параграфам, как людям надо жить.
Художник делает наброски, пишет один картон за другим, одно полотно за другим, отходит от мольберта, приближается, мазок, еще мазок. Утром возвращается в мастерскую — нет, не то, надо переделывать.
Писатель правит черновики, вписывает, вычеркивает. Перечитывает «утренними глазами» — нет, не годится, попробую иначе. То, что звучало внутри так явственно, выраженное словами, мертвело.
И революционер сначала перекраивает общественную жизнь воображением, в голове, затем на плане, на бумаге и только потом в реальной действительности.
Джон Браун редактировал свои наброски: как люди должны быть связаны друг с другом? каково должно быть общество? Он редактировал подобные планы несколько раз. «Поправки» вносили действительность и собственное внутреннее развитие.
Сначала была Северная Эльба — попытка создать негритянскую коммуну.
Затем — Лига галаадитов.
Устав их дружин в Канзасе и военных школ в Спрингдейле.
Новые пробы, новые черновики.
Этот новый проект Временной конституции написан в Рочестере, в доме Фредерика Дугласа. Три недели Браун работал. Вместе с Дугласом они вспоминали слова Хиггинсона: как взять власть? Революцией и только революцией… Он был совершенно прав. Власть не просят. Кто ее отдаст? Власть — берут. Мы — возьмем.
Маленький городок Чатем на реке Темзе. Два озера, Эри и Онтарио, почти как моря, берегов не видно.
Они сначала все вместе поселились в негритянской гостинице, чтобы не наталкиваться больше на такие случаи, как в Чикаго: всем белым подали обед, а негру Ричардсону отказали. Разумеется, они тоже не стали обедать, ушли, но осадок неприятный остался.
А потом Браун переехал в старый кирпичный двухэтажный дом, владелец бежал из Луизианы, уже двадцать пять лет живет в Канаде.
Завтра, восьмого мая 1858 года, они будут принимать Временную конституцию. Жаль, что не получилось, как было намечено сначала, — четвертого июля. В День независимости. Мы — наследники семьсот семьдесят шестого года, наследники революции, это надо подтверждать. Но даже ради такого важного символа откладывать нельзя. Он и так рассчитывал, что соберется больше людей.
Перед началом съезда Брауну нужно побыть одному, подумать, посидеть над этими листами бумаги.
В Америке еще сотни тысяч фурьеристов. Два года просуществовала «Новая Гармония», организованная самим Робертом Оуэном; за десять лет до Чатемского съезда распалась коммуна Брук Фарм, созданная бостонскими интеллигентами.
И Брауну казалось: стоит упразднить главное зло — рабство, и наступит в Америке золотой век.
Рабство как больной зуб, его можно просто вырвать, и страна выздоровеет, немедленно и окончательно.
А почему, собственно, нельзя придумать, сочинить, набросать на бумаге план жизни, а потом массы людей будут кроить и перекраивать свои десятилетиями и столетиями сложившиеся обычаи, поведение в соответствии с этими параграфами. Ведь эти параграфы разумны и справедливы, а нет ничего легче, чем понять разумность и справедливость и начать жить по законам разума и справедливости.
Мир Американской Мечты — человек может все, может освоить девственный континент, может вступить в победительный поединок с природой — почему же не с обществом?
Просветительское мышление. Ясный, познаваемый мир, разложенный по статьям и параграфам, как до блеска начищенная посуда в шкафу у хорошей хозяйки.
Он, Джон Браун, умел приказывать себе, умел обуздывать себя, отказываться от необходимого, совершать невозможное — почему же это недоступно другим?
И, как большинство современников, не ощущал сложности, «хитрости», страдательности истории, паутины кровеносных сосудов, всеобщей корневой связи.
Он тщательно работал над конституцией, чтобы она была еще разумнее, еще справедливее. Ведь рабы были долго угнетены, бесконечно унижены. Надо сделать так, чтобы освобождение не сопровождалось бы актами мести, разгулом инстинктов. Себя, своих единомышленников, своих покровителей, тех, кто собрался в Чатеме и кто издали наблюдал за работой съезда, всех надо убедить, что у них все должно пойти по закону, в соответствии с американской традицией. Никакой анархии, это американцам не грозит.
В Северной Эльбе негритянской коммуны не получилось. Да и в Спрингдейле было не гладко.
Но теперь, теперь ведь создается нечто совсем новое, — республика в Аллеганских горах, отделенная от рабовладельческого Юга, от всей и всяческой скверны неприступными вершинами, ущельями.
Завтра — начало съезда. Надо думать о безопасности людей. Когда можно позволить себе об этом думать. Сегодня можно. Вот они и приняли все меры предосторожности: считается, будто они собирают масонскую ложу. Это разрешено везде, даже на Юге.
Браун разослал единомышленникам письмо:
«Чатем, Канада, 5-го мая 1858 года.
Дорогой мой друг.
Я созываю здесь мирный съезд, съезд истинных друзей свободы. Ваше присутствие весьма серьезно необходимо.
Ваш друг
Джон Браун».
Мало кто откликнулся на призыв. Не приехал ни один из членов тайной шестерки; может, оно и к лучшему, пусть останутся пока неизвестными. Не приехали наиболее видные негритянские лидеры — ни Фредерик Дуглас, ни Гарнет, ни Логен. Откладывать не будем. Кто есть, тот есть.
Собралось сорок семь человек — двенадцать белых и тридцать пять негров.
Съезд открылся в баптистской церкви в субботу, в десять часов утра.
За председательским столом — священник Вильям Монро. Секретарь — Джон Каги. Он присоединился к отряду ополченцев свободы еще в Канзасе.
Браун произнес вступительную речь, рассказал, как он во время поездки в Европу в сорок девятом году осматривал места знаменитых битв, особенно внимательно — фортификации. Говорил и о Канзасе:
— С тех пор я посвятил себя целиком — интеллектуально, нравственно, физически, я отдаю все, что у меня есть, главной цели — крушению рабства.
Браун читает:
— «Временная конституция и Ордонансы для народа Соединенных Штатов.
Так как рабство на всем протяжении своей истории в Соединенных Штатах есть самая варварская, неспровоцированная и несправедливая война одной части граждан страны против другой, и так как выбор в этой войне — либо вечное заключение, крепостничество, либо полное уничтожение, и все это в глубоком пренебрежении, в нарушение тех вечных и самоочевидных истин, которые провозглашены в нашей Декларации независимости, мы, граждане Соединенных Штатов и угнетенный народ, мы, последним решением Верховного суда объявленные бесправными, — оказывается, у нас нет таких прав, которые белый человек обязан был бы уважать, — мы вместе с другими униженными и оскорбленными принимаем для себя следующую преамбулу Временной Конституции и Ордонансы, чтобы лучше охранять нас, нашу собственность, нашу жизнь и свободу, чтобы руководить нашими действиями».
Эта преамбула — отчасти отклик на споры в Питерборо, в Бостоне, в Рочестере — везде. Его ведь упрекали в том, будто он несет насилие, войну. Он же доказывал, а теперь сформулировал: не он начинает военные действия, не его армия. Эта война идет давно, кровь льется давно, с тех пор как привезли первый транспорт с невольниками. Он только предлагает решительный удар, пусть не без крови, но зато война действительно прекратится, а негры получат свободу.
Присутствующие негры почти все бежали из рабства, они изгнанники. Торжественные слова преамбулы убеждали их: они — законные граждане Соединенных Штатов.
Во главе будущей Республики — однопалатный конгресс, без сената, только палата представителей. Президент. Вице-президент. Верховный суд. Право избирать и быть избранными предоставлено всем взрослым гражданам.
Конституция основана на принципе равенства.
Браун читает один за другим параграфы.
Общественная собственность. Обязанность трудиться на благо всех. Наказание за проступки — общественные работы. Никто не получает заработной платы. Бесплатное обучение…
Статья сорок шестая гласила: «Предшествующие статьи конституции никоим образом не должны способствовать свержению правительств отдельных штатов или правительства Соединенных Штатов; не должны помогать разрушению Союза Штатов, а лишь содействовать улучшению дел; и флаг наш останется тот же самый, под которым сражались наши отцы в эпоху Революции».
Против этой статьи возражал Рейнольдс, кузнец из Огайо; он был проводником тайной дороги, ему не раз приходилось, охраняя свои «поезда» и свою жизнь, отстреливаться от рабовладельцев и от их полиции. Он спросил:
— Если мы заранее против революционного насилия, зачем тогда мы все это затеяли? Нынешние правители тоже говорят, что хотят улучшить жизнь рабов, только постепенно. Кто же не хочет? Мы твердо решили уничтожить рабство, Джон Браун утверждает, что рабство — это война. Кто же нам разрешит мирным путем покончить с рабством? И в Канзасе было насилие, и оно было необходимо. Даже непротивленец Гаррисон сжег американскую конституцию, назвал ее «договором с дьяволом». Неужели мы окажемся большими соглашателями, чем гаррисоновцы?
Негр Мартин Делани, врач, отстаивал формулировку Брауна. Его поддержал Каги.
— Это наша Америка, наша конституция, наш флаг. Их захватили дурные люди, мы должны отбить обратно, это наше, я считаю, что Гаррисон неправ.
— Мы, революционеры, и есть истинные патриоты.
Большинством голосов оставили эту статью.
«Необходимо уважать институт брака, семьи должны, насколько возможно, сохраняться, и необходимо принимать все меры, чтобы восстанавливать разрушенные семьи, и для этой цели необходимы особые, просвещенные учреждения…»
Перед глазами Брауна было надругательство над браком, были рынки рабов, насильственно разбитые, насильственно созданные семьи, постоянное принуждение к сожительству с рабовладельцем. А «просвещенные учреждения» — это нечто вроде бюро по розыску родных, разлученных войной: кто-то погиб, кто-то нашел другую жену или другого мужа, но ведь кто-то ждет чуда — воссоединения с любимым человеком.
Семья как ячейка республики будущего — это имел в виду Джон Браун.
Автор конституции не призывал к мести, настаивал на терпимом отношении к пленным рабовладельцам и сторонникам рабовладения. Воины свободы должны быть благородными.
Впрочем, подставлять другую щеку не рекомендовалось. Когда необходимо — можно и нужно драться. И, значит, убивать. Самооборона — понятие широкое. Дело не только в том, чтобы охранять свою жизнь. Надо охранять, надо защитить и новую Америку, вот только сейчас рождающуюся. Свободолюбивую.
— А что, если против нас пойдут войска? Удержимся ли мы? Все-таки у них, за ними — такая сила.
— Горстка испанцев удержала Наполеона. Мюриды Шамиля успешно сопротивлялись русской армии. Наконец, ближе к нам — Туссен-Лювертюр, негры на Гаити. Неужели мы хуже?
В Чатеме собрались люди молодые, пылкие, честолюбивые и одержимые мечтой о свободе. Нет, они ничуть не хуже своих предшественников и современников. А быть может, — кто знает — окажутся и лучше.
Они слушали проект конституции совсем иначе, чем Смит и Сэнборн в Питерборо в феврале. Каждая статья касалась непосредственно большинства из присутствующих, каждая задевала кровно.
И насколько Брауну было легче с ними, с этими слушателями!
Стены маленькой церкви раздвигались, они ощущали себя не просто американцами, неграми или белыми, они ощущали себя гражданами мира.
— Негры за вами не пойдут.
— Брат Джонс, не надо больше доводов с той стороны. Та сторона и так, и без нас весьма укреплена.
«…Не должно допускать, не должно терпеть ругательств, грязных разговоров, неблаговидного поведения, спиртных напитков, ссор, а также беспорядочных половых связей». Этот пункт почти дословно переходил из черновика в черновик, из устава в устав, от галаадитов в Канзас, из Канзаса в Спринг-дейл и сюда в Чатем.
Джон Браун настаивал: борцы за свободу сами должны быть безупречны, совершенны, рыцари без страха и упрека.
Браун заходил дальше Уэнделла Филипса, который пояснял: «Наша цель — заставить каждого участвовать в борьбе за отмену рабства. И мы надеемся достичь нашей цели задолго до того, как весь наш народ превратится в святых или будет целиком возведен в ранг философов».
Кража лошадей в Миссури, когда вывели по тайной дороге одиннадцать негров, — это реквизиция, это для общего дела. Но мародерство каралось строжайше. В Ордонансах было записано: все отнятые у рабовладельцев вещи — деньги, часы, драгоценности — будут помещены в безопасное место и составят общественный фонд.
Там же сказано, что необходимо выработать ряд мер «для облегчения страданий, для воспитания молодежи, для борьбы против невежества…».
Вольное поведение молодых людей в Спрингдейле от Старика скрывалось. Он недаром вырос в Новой Англии — пуританская закваска. Его предки стояли в толпе на площадях Салема и других маленьких городков, когда сжигали ведьм или когда привязывали к позорному столбу молодых женщин с алой буквой «А» (адюльтер) на груди. За изнасилование по конституции Брауна полагалась смертная казнь.
В Канзасе он чуть не пристрелил храброго парня, который вечером волок в кусты девчонку, а она визжала. Может, она визжала потому, что девчонкам так положено? Браун просто забыл, как это бывает, да и знал ли? Его первой женщиной была его первая жена, а второй и последней — вторая жена.
Во всяком случае, та девчонка кинулась на защиту парня, а он стоял, опустив руки, в бою не пугался, а тут насмерть струсил. Девчонка же орет на него, на самого Джона Брауна.
— Вы что лезете? Вам какое дело? За своими дочками смотрите, а я вам не дочь, а он не сын.
Дерзкая, он таких и не видел раньше. Шаталась по Канзасу, какая уж тут чистота нравов. Нет, его дочери не такие. Но все равно, его бойцы должны быть безупречными. Может, эти двое заранее сговорились, а может, ей жалко стало парня — Браун ведь не на шутку грозил расстрелом на месте. За насилие и надо стрелять без пощады. Армия Свободы.
Образ жизни, утверждавшийся конституционно, приспособлен к условиям партизанской войны, уклад отчасти продиктован укладом военного лагеря.
Уже хотели расходиться, когда поднялся Ричардс и сказал полувопросительно:
— А может, нам подождать выступать до войны? Вот нападет кто-нибудь, тогда нам самое время и подняться.
— Я буду последним, кто воспользуется тяжелым положением моего отечества перед лицом иностранного врага, — властно отрубил Джон Браун.
Вечером, в гостинице, после ужина, разгорелся спор. Может быть вообще ничего не надо менять. У канадских негров тут налаженная жизнь, их уже пятьдесят тысяч. Тут у них школы, церкви, газета, даже институт в Уилберфорсе, который готовит механиков, врачей, юристов.
В Чатеме собрались люди отважные. Но и они с ужасом думали о Юге. Самим, вновь, добровольно, совать голову в пасть льву?
Браун вспомнил то, что говорил ему Дуглас еще при первой их встрече. Вспомнил и усилием воли выключил воспоминание.
— Да почему, собственно, надо стремиться обратно в Америку, где нас не ждут, где нас не считают за людей?
Делани говорил о возвращении на историческую родину, в Африку.
— В Либерии уже одиннадцать лет существует независимая негритянская республика, подумайте только, президент — негр и в конгрессе одни негры!
Джон Томас закричал:
— Почему я должен уезжать в какую-то Либерию? Почему не жить в Америке, где трудился мой дед и дед моего деда? Да, они были рабами. Я — первый свободный негр в нашем роду, теперь и дети мои будут свободными, если я буду сражаться за их свободу. Потому и пошел за Джоном Брауном. Это про меня сказано в начале конституции.
Бабка моя была рабыней, а пела она так, что ее сходились слушать все — и негры, и белые. Мы любим красно-коричневую землю старой Миссус. И реки такой нигде нет больше. Как услышу пароходные гудки, у меня ноги слабеют. Здесь в Канаде хорошо, чисто, спокойно, а все-таки не дома. Никуда я не собираюсь, кроме Миссисипи, и других буду отговаривать. Нашу Америку надо сделать пригодной для жилья, а не искать другую.
Юноша лет восемнадцати задумчиво сказал:
— Это, наверно, еще и от характера зависит. Я вот никогда не любил драться. Мальчишки приставали, а я уходил, хоть и не слабый. Значит, таким, как я, хорошо бы уехать туда, где тебя оскорблять никто не будет, никто не плюнет в лицо, никто не обзовет «ниггер, черномазый».
— Дайте мне сказать. Вы спорите: «За Либерию!», «Против Либерии!», но ведь почти никто не знает, что там происходит на самом деле. А я разговаривал с капитаном шхуны «Лафайет», он там был, и вот что он рассказал: везут бесплатно, кормят первые полгода тебя и твою семью в долг. Дают участок земли — пять акров. Ты обязан в течение двух лет обработать участок и построить дом. Долг надо отдать из урожая.
Это я все говорю, как задумано. А выполняется по-разному. Много недовольных. Климат гиблый, почва плохая. Работать — от зари до зари, иначе ничего не вырастет.
Между прочим, письма с жалобами оттуда но пропускаются. Рабочие руки очень нужны. А почту, конечно, просматривают.
С местными африканцами отношения скверные. Вот я вам прочитаю письмо одного священника, он два года прожил в Либерии: «Большое препятствие к улучшению дел — представление, которое переселенцы вывезли из Америки, будто, едва они достигнут Африки, сразу же превратятся в леди и джентльменов: и — о печальное заблуждение! — без труда, безо всякого труда!»
Да, там республика, недаром и названа «Либерия» — «Освобожденная». Они тоже приняли конституцию, как мы сегодня. Эту республику признали Англия и Франция.
Кто вырос слугой, тому туда ехать не надо. Они ждут людей сильных, энергичных, решительных. И прежде всего, с ремеслом. Плотники, строители, кузнецы — вот кто им нужен.
— Я сюда в Канаду бежал с Юга. Жена моя, тайком от меня, цветок в горшке захватила. Не просто цветок — она знахарка, листы настаивает, отваром от всех болезней лечит. Ну, еще она говорит, что этот цветок приносил нам счастье, что без него мы бы до Канады не добрались. Тащила, тащила, а здесь цветок зачах. Она сама чуть от горя не умерла. И лечить теперь нечем. Растению трудно, а человеку еще труднее. Мы и сами не знаем, как с землей нашей связаны, какие корни глубинные…
— Что говорить, что спорить! Нам, неграм, в Америке плохо. Было бы не так, мы бы здесь не собрались. Но кто обещал человеку, что ему должно быть хорошо? Да разве мать выбирают? Знаю, что есть на свете женщины лучше, добрее, красивее, моложе, но мать-то одна. Так, наверно, и родина…
Каги вступил. Руки за спину, наклонился немного вперед, словно объясняет ребятишкам в школе, словно учит их латыни.
— Мне, может, и помолчать следует, я белый, меня с родины никто не гонит, предки мои — свободные люди, и дети будут свободными. Но я часто думаю: что же такое отечество?
Когда мы школьниками учили историю, нам говорили, что наши враги — англичане. И последняя война с англичанами не так уж давно была, Старик еще помнит.
Еще были враги индейцы. Враги мексиканцы, Воевали мы в Канзасе, голодали, мерзли, схватили миссурийцы меня, били, держали четыре месяца в тюрьме. И я спрашивал себя: кто надо мною издевается, кто мои враги? Пьяные миссурийцы, которые на меня набросились, — это же мои соотечественники, это американцы. Такие же чистые, как и я. Глупое это слово «чистые», все откуда-то приехали. Мои предки — из Швейцарии.
Еще я верю в предопределение, тогда в Канзасе пуля в меня летела, не долетела. Книга защитила, книга на груди была, я почти всегда с собой ношу.
Мне судьбой предначертано быть здесь.
Мои друзья, белые и негры, вы, единомышленники, — это моя родина. Миссурийцы — те вовсе не родина. Как же можно покинуть тех, с кем все было вместе? И наверно, это не только для меня так, а и для Шилдза Грина, например. Тут не в том дело, какого цвета кожа…
— Да, но как же быть с детьми? Ваши дети будут свободными, а мои с первого дня жизни — в клетке.
— Дед мой в Либерию уехал, тогда еще, с первым кораблем, в 1822 году. Меня на свете не было. А вестей от него нет никаких. Очень уж далеко. Мы и не ждем. Может, там ему лучше. Только подняться трудно. Страшно. Как это — все бросить и уехать? Немножко похоже на смерть.
— Я бы увязался за кем-нибудь. А сам нипочем не решусь.
— Как же вы не понимаете, что колонизация выгодна рабовладельцам? Все, кто хочет действительно бороться, те, кого они называют инакомыслящими, беспокойными, поджигателями, — те уедут, и останутся одни покорные. Нет, надо оставаться.
Священник Робертсон тихо, словно про себя, сказал:
— Рабство — это чума. Но одному из зачумленного города уезжать нехорошо. Ты один убережешься, а другие как же — пусть погибают?
На следующий день съезд продолжался в здании школы. О самой конституции почти не спорили. Так и надо все детально, все точно разложить, как по полочкам. Так ведь и в той книге, которую все здесь знают, в Библии. Бог все точно указал, особенно в Ветхом завете. Сколько локтей длины, сколько ширины светильники, усыпальницы, когда пахать и сеять, сколько дней продолжается праздник, сколько дней пост и как готовить священную пищу и на какой день что есть, пятьдесят петель у одного покрывала, пятьдесят у другого.
Общественный порядок, как и религиозный, упорядочивающие подробности ограждают человека от хаоса. Или, может быть, это людям только кажется, что ограждает.
Тот же Джонс задумался:
— А имеем ли мы право ставить под угрозу жизнь такого человека, как Джон Браун?
Браун резко возразил:
— Разве учитель мой Иисус Христос не сошел с небес, чтобы принести себя в жертву ради спасения рода человеческого? И неужели я, червь, недостойный того, чтобы проползти под ногой его, неужели я откажусь пожертвовать собой?
Еще раз были прочитаны последние слова Чатемской декларации: «Природа скорбит о своих убитых и пораженных горем детях. Да займется заря нового дня!»
И каждый подошел, поставил свою подпись — так когда-то подписывали Декларацию независимости Отцы-Основатели.
Потом избирали правительство: Джон Браун — верховный главнокомандующий, Каги — военный министр, Рилф — государственный секретарь, Оуэн Браун — казначей, Джордж Джилл — министр финансов, Осборн Андерсон и Альфред Эльсворт — члены конгресса.
Два негра отклонили предложение быть президентами будущей республики. Тогда решили, что место останется вакантным, пока же будет управлять комитет во главе с Брауном.
Все решения конгресса должны утверждаться главнокомандующим. Военная диктатура. Временная конституция напоминала американскую конституцию с ее разделением властей — исполнительной, законодательной, судебной. Споры в Питерборо не прошли напрасно. В конституции Брауна не было гарантий демократии, как, впрочем, не было их и в тексте той конституции, которая определяла жизнь всех граждан Соединенных Штатов. В условиях военного лагеря тем более не до билля о правах.
Все дали присягу:
— …я торжественно заявляю, что никоим образом не выдам тайны этого съезда, кроме как тем людям, которые знают то же, что знаю я; не выдам, иначе утрачу и покровительство этой организации, и уважение ее членов.
Когда заговорили о деньгах, Браун заметил, что деньги есть, хоть немного, на первые нужды той республики, которая теперь возникнет в Аллеганских горах, где люди будут строить жизнь по идеальным этим параграфам.
— Деньги собрать легче, чем найти людей. Тайком сунуть несколько долларов не так страшно, как поставить свое имя рядом с моим. Но кто не побоится сказать: я иду с Джоном Брауном?!
Они не побоялись. Расходились, разъезжались довольные собой, гордые, уверенные в себе.
— Мы — настоящие американцы. Мы не кучка заговорщиков. Мы действуем по закону, а теперь вот мы сами создали новый, революционный закон. Мы приняли конституцию. Начинается новая Америка…
…В том самом ноябре, когда Джон Браун ждал казни в чарлстонской тюрьме, Николай Чернышевский опубликовал в журнале «Современник» переведенную им Временную конституцию, о которой он писал: «Неукротимая энергия и глубокое, строгое нравственное чувство придают этому уставу чрезвычайную оригинальность. Он интересен для знакомства с понятиями людей, составляющих крайнюю аболиционистскую партию».
«До сих пор, — продолжал Чернышевский, — наступательным образом действовала партия защитников невольничества; аболиционисты, действуя словом, фактически держались в оборонительном положении… Первая попытка была неудачна, как почти всегда бывают первые попытки; ближайшим следствием ее будет усиление партии защитников рабства всеми робкими людьми, боящимися крутых мер. Но без всякого сомнения, борьба станет постепенно принимать новый характер, и аболиционисты через несколько времени отомстят за первых своих мучеников, Брауна, предводителя горстки людей, геройски сражавшихся в Харперс-Ферри, и его неустрашимых товарищей…»
Николай Чернышевский говорил об Америке и о России. О защитниках и сторонниках невольничества в России, стоявшей перед своим шестьдесят первым годом. О Джоне Брауне и о себе.
Глава девятая «И наступил час испытания душ…»
1
Брауна предупредили, что его хочет видеть скульптор из Бостона.
— Кто-о?
— Его приведет ваш защитник Хилтон завтра в десять.
Когда больного чахоткой Паркера увозили в Италию лечиться — впрочем, нет, умирать, — один человек позавидовал Паркеру. Никому об этом не говорил, но все-таки завидовал. Молодой, уже известный скульптор Эдвин Брекет — ведь Паркер увидит творения Микеланджело.
Едва лишь Брекет узнал о Харперс-Ферри, перед ним явственно возник тот пластический образ Джона Брауна, который ему, Эдвину, предстояло создать. Он увидел его отчетливо, словно скульптура уже стояла законченная на каком-то пьедестале.
Брекет видел Брауна один раз на улице, капитан разговаривал с Паркером. В каждом его жесте, в повороте головы были сила и свобода. Брекет и раньше знал, кто такой Браун, слышал о Канзасе, но слова до него доходили гораздо хуже, чем жесты: ему надо было увидеть. В ноябре Эдвин, раньше не читавший газет, хватал их, жадно ловил каждую новость из Чарлстона. Он будет лепить Джона Брауна! Он не может не сделать этого. Только бы раздобыть денег на поездку в Виргинию.
— Это ты сумасшедший, а не Браун, — сказала ему мать. — Кто тебе даст на это деньги, тебя просто выгонят. Да еще застыдят. Человека казнь ждет, а ты…
Доктор Сэмюэль Хау встретил Эдвина очень холодно и отказался говорить о Брауне. Эдвин слышал, что Хау боялся преследований из-за связей с Брауном, и не зря. Но упустил это из виду.
Страх искажает не только лицо, фигуру тоже. Озолоти Брекета сейчас, он не стал бы лепить Хау.
Уже понимая, что надо уходить, Брекет все же невнятно пробормотал:
— Но это необходимо потомству…
Слово «потомство» для него — незаполненное. Один раз он обнял девушку, а она предпочла другого. Дик, конечно, красивее его, и танцует, и поет, ничего не скажешь. А обидно было очень. Нет сейчас у него девушки.
Потомство — дети, внуки — это у других так бывает. А у него в мастерской стоят торсы, только начатые работы — его потомство.
Сейчас он хотел работать, как никогда раньше. Руки беспокойно двигались. Скорее бы кончить эти пустые разговоры, снять мерки — и за резец.
Кто это рассказывал в доме у Паркера, что Браун перевез в Северную Эльбу камень, под которым покоились его предки? И о том, что дом расположен в котловине, гряда гор и рядом утес мрачный со странным названием «Белое лицо». Лучше бы, конечно, высекать Брауна прямо в такой скале. Но это уж совсем невозможно. Хоть бы в мастерской удалось.
От Хау Эдвин отправился к Уэнделлу Филипсу. Тот встретил просьбу враждебно.
— Молодой человек, Джон Браун в застенке, в цепях. Его друзья, его единомышленники только и думают о том, как вызволить его, как смягчить его участь, как продолжить великое его дело. Этому посвящены каждая мысль, каждый поступок, каждый доллар. А вы о пустяках. Да будь я миллионером, и то не дал бы вам денег. Вы молоды, здоровы, пришли бы со словами «хочу выручить Брауна», и я со шляпой пошел бы по Бостону. А вы…
Эдвин выскочил из дома, не попрощавшись. Мать говорила — застыдят.
Может, они и правы. Никому не объяснишь, кто сам не испытывал этого — бежать с утра в мастерскую и лепить, лепить, забыв все остальное. Только поймать поворот, только запечатлеть, только освободиться от наваждения.
Еще одна попытка — Стирнсы. Говорят, они не испугались.
Стирнс разговаривал с Брекетом сухо, но просьбу не отклонил.
— Такими делами занимается моя жена, приходите к ней завтра с утра.
Надежды, собственно, уже не оставалось, но Эдвин пошел к Мэри Стирнс.
— Я дам вам денег на поездку. Только имейте в виду — Браун откажется. Махнет рукой да и вас еще попрекнет: зачем занимаетесь пустяками? («Как Филипс!») Вы, если посмеете, возразите ему: «Но потомство должно знать, каким был прославленный капитан Браун». Он же скажет: «А что мне до потомства? У нас свои заботы. Отдайте деньги бедным неграм». И вот тут вам последний довод: «Эти деньги мне дала госпожа Стирнс. Она очень огорчится, если вы откажетесь».
Эдвин отправился в Чарлстон. Ему казалось, что все уладилось счастливо, теперь он близок к началу работы. Скорее бы.
Чарлстон был на осадном положении, и Брекета самого чуть не задержали, начали допрашивать — откуда он, зачем здесь. Выручил адвокат Хилтон, они были знакомы раньше. Хилтон добился разрешения посетить тюрьму, но повторил слова Мэри Стирнс: «По-моему, он откажется. Еще отругает вас и сошлется на заповедь «не сотвори себе кумира». Ну, посмотрим, до утра».
Эдвин плохо спал. Проснулся в гостинице, все чужое вокруг, нет, никуда я не пойду. Не хочу, не могу. И зачем я тревожил столько людей? Руки, ноги как ватные. Вернуться в Бостон и лежать. Так уже не раз бывало. Не двигаться. Настоящий художник все это время хоть наброски делал бы. А я просто бездарь. Эмма права, что ушла к Дику. Что я могу дать женщине? Пока отец был жив, надо бы мне выучиться на кузнеца или на механика…
Ни есть, ни спать, ни лепить — ничего не хотелось.
Деловитый Хилтон вошел, не постучавшись.
— Что же вы разлеживаетесь, мы опаздываем. Ведь пускают всего по два человека в день. Вы заняли место, а очередь большая. Всем хочется посмотреть на Брауна. Быстрее, быстрее, позавтракаете потом.
Эвис ведет Брекета в кирпичное здание. Разрешили не в саму камеру, а к двери. Человек склонил голову над книгой. Руки и ноги в оковах. Сколько раз Брекет слышал в Бостоне на проповедях, на собраниях «негры в цепях, рабы в цепях». Ему казалось, что он понимал тогда. Нет, не понимал. Вот сейчас, когда увидел, тогда дошло. Увидел. Теперь дотронуться руками. Человек в цепях. И какой человек — Джон Браун.
И мать, и Филипс — они были правы. Я подлец. Сбить эти цепи. Сейчас же, сию минуту разбить. Какая тут скульптура, когда Джон Браун в цепях. Я негодяй, раз не понимал этого раньше.
— Что вам угодно, молодой человек?
Вопрос, видимо, был повторен дважды. Брекет пролепетал: «Бюст… Паркер… помните, в Бостоне… Стирнс…»
Мэри Стирнс хорошо знала своего друга. Браун произнес именно те самые слова. Потрясенный Брекет осознал это после, а там лишь автоматически следовал ее советам. И когда Браун начал стыдить Эдвина, тот повторил: «Госпожа Стирнс очень огорчится…»
— Ладно, так и быть…
Эдвин сделал несколько рисунков. А потом начал измерять шею. Надо для будущего бюста. Через неделю на эту шею накинут пеньковую веревку. Подлец. Мать была права. К черту скульптуру! К черту искусство! Как помочь Старику? Шепнул на ухо:
— Что я могу для вас сделать?
— Сражаться против рабовладения.
Брекет не хотел сражаться. Брекет не умел сражаться. Он снимал мерки, а руки дрожали. У скульптора, как и у хирурга, не должны дрожать руки.
— Знаю, знаю, о чем вы думаете, молодой человек. Перестаньте дрожать. Передайте привет госпоже Стирнс.
Брекет не только снял мерки для скульптуры, он привез и план тюрьмы: надо пытаться спасать.
Вернувшись в Бостон, он заснул мертвым сном, и ему приснился бюст из серого камня. Кто-то накидывал на каменную шею веревку. Эдвин кричал: «Зачем вешать скульптуру!», на него не обращали внимания. «Перестаньте дрожать, молодой человек». Веревка не выдерживала тяжести, камень раскалывался на куски…
Он видел в тюрьме изможденное лицо, глубокие борозды морщин, видел старого, измученного человека; позади у него — разгром, кровопролитие, гибель друзей и сыновей. Впереди — виселица.
Брекет содрогался, представляя себе конвульсии страха, конвульсии тела потом, на виселице.
…И до тюрьмы это было ясно: Джон Браун к миру, к другим людям обращен острыми углами. С ним неловко, трудно, для многих — невозможно. Он ни во что не укладывается, он не обкатывается, не ищет компромиссов.
Снаружи — углы. Даже во внешности — скулы, нос, подбородок — все выдается, линии резкие, жесты резкие. Но художнику, ему, Брекету, дано увидеть и внутреннюю, глубоко запрятанную гармонию. Он не мог знать письма, написанного Брауном за четыре дня до казни: «…я обрел с момента моего ареста удивительную внутреннюю радость и спокойствие… Я едва отдаю себе отчет в том, что я — в оковах, что я — в тюрьме. Я действительно не помню, чтобы мне когда-либо в жизни было столь радостно…»
Впрочем, Брекету не нужны были письменные доказательства. Он увидел героя в его звездный час, он увидел человека, равного свершенному им подвигу. В мятежнике, в закованном узнике он прозрел спокойное величие. И высек величие в мраморе.
Первого января 1863 года, в тот день, когда Авраам Линкольн огласил Декларацию об освобождении рабов, в доме Стирнса в Медфорде открыли мраморный бюст Джона Брауна. Бюст, который сделал бостонец Эдвин Брекет.
2
Браун добрался до Харперс-Ферри четвертого июля пятьдесят девятого года. Наконец-то свершилась его мечта — символично, именно четвертого июля, в День независимости. С ним приехали сыновья Оуэн и Оливер и мулат из Канады Джеремия Андерсон, участник съезда в Чатеме.
Браун назвал себя Айзиком Смитом, арендовал ферму у семьи недавно умершего Бута Кеннеди за тридцать пять долларов в год. Заплатил деньги вперед.
Как-то в августе он вышел из дому один, на рассвете, ребята еще спали.
Молодым просыпаться рано не хочется, им и засыпать не хочется, а ему несколько часов сна достаточно. Он шутит, что прожил уже гораздо дольше, чем его сверстники потому, что меньше спал.
Легко прошел восемь миль от фермы до Ферри.
Идет по главной улице. Все ставни плотно прикрыты. Городок спит. Главнокомандующий осматривает поле будущего сражения. Река Шенандоа. Река Потомак. Две реки соединяются. Отроги Аллеганских гор. Котловина.
Реки, горы, лес — непотревоженная природа. Чем-то мешает ему. Как ясно он помнит поле битвы Ватерлоо, уже десять лет прошло с тех пор, как он ездил в Европу. А Бельгия тогдашняя была ни к чему. Ничего рассказать не мог.
Сейчас, когда он не историю изучает, когда он действительно возглавляет отряд и через два-три месяца… Почему-то никак не может сосредоточиться на деле.
Что ему мешает, что отвлекает? Непотревоженность эта мешает. Он, который так недавно уверял Эмерсона, что одной силой взгляда может приказать кошке или собаке уйти из комнаты, — он не может сосредоточиться на главном деле.
Идет по молчащей улице.
Кажется, только однажды в жизни он так подчинился чужому, когда шли с Торо по лесу, ощутил более властную волю. Волю природы. Хотя тогда же спорил с Торо, доказывал ему, что природа — это одно, а люди — другое.
Жители Харперс-Ферри спят. Они и не подозревают, что здесь произойдет.
Шесть часов утра, но августовское солнце греет, а Брауну — зябко. Только бы не вернулась проклятая малярия.
Что там, за ставнями? Две с половиной тысячи жителей. У каждого — своя жизнь, жена, дети, скот, поле. Многие здесь работают в самом арсенале и на оружейных заводах. В Харперс-Ферри ежегодно производится шесть-семь тысяч мушкетов, две-три тысячи ружей. Ну, оружием и они не бедны, грех жаловаться, на ферме те самые ружья Шарпа, которые готовились для Канзаса, о которых шла длительная переписка. И пистолеты. И пики, которые он заказывал. Все стоит в заколоченных ящиках. Соседей уверяют, что в ящиках — мебель, жена приедет, сама распакует, без нее не велела.
Дочка Энни, которая хозяйничает, так часто повторяла: «Мама не велела распаковывать без нее», что привыкла сначала к этим словам, а потом и к этой мысли. И расставаться с иллюзией ей не хочется. А почему бы и не так на самом деле — новый дом, мебель, ферму надо обживать. Как бы хорошо.
На этих ящиках сидят, они — вместо стульев.
Здесь лучше, чем в Северной Эльбе, мягче, земля плодороднее.
Кто за ним пойдет? Не считая рабов, — их здесь в городке меньше сотни, — рабы-то, конечно, пойдут, а из свободных, из белых? Ведь у него тоже жена, дети, дом, но он же все оставил, пошел воевать за свободу негров. Значит, и другие могут пойти.
Скрипнула, приоткрылась одна ставня. Он вздрогнул, надвинул шляпу. Открылась вторая. Скорее бы дойти до конца улицы. Одиноко. Ставни эти — не союзники. В домах — каждый за себя. А за других кто?
Кожей ощущает, в домах — своя непотревоженность, и как же они ощетинятся, если их потревожат! Мы потревожим. И скоро.
«Постепенно», «постепенно», — чаще всего именно это слово противопоставляли его намерениям. Его приятель, аболиционист Мак-Ким, верно сказал, что постепенная отмена рабства — такая же глупость, как постепенное запрещение убийства. Сейчас, мол, еще не время запрещать убийства, еще одного убьют, еще десять, еще сотню, тогда и запретим…
Интересно, кому это, кроме бога, дано такое право — решать: этим человеком можно пожертвовать, а вот следующим — уже нельзя.
То же самое и рабство. Пока этих держат в рабстве, бьют, продают с аукционов, мы потерпим, подождем. А их младших братьев, их детей, тех уже не дадим в обиду. Тогда якобы придет время. То есть давайте-ка тяжесть переложим на следующее поколение, на плечи тех, кто идет за нами.
А я хочу, чтобы с нами, со мной, а не с теми, кто помоложе…
Что ему еще возражали? Что идти на Юг — безумие. Тоже неправда. Ведь здесь эта скверна процветает, отсюда по всей американской земле ползет и ползет, как чума. Здесь и дать первый бой. Здесь и сказать: нет!
А на Севере — еще одна газета, еще один митинг, еще одно общество противников рабства… Ублажают себя словоговорением, сотрясают и сотрясают потолки, а твердыня рабства ничуть не колеблется.
Я верно выбрал место: именно здесь, на Юге, в Харперс-Ферри. И мы не собираемся «ввозить» свободу, нас поддержат здесь, нас поддержат негры. А мы — мы дадим сигнал.
В Питерборо сказал Смиту и Сэнборну: нет вопросов, есть ответы. На одинокой дороге на ферму он возвращался и возвращался к этим ответам.
С одной стороны…
С другой стороны…
Прения сторон, как в настоящем суде. Надоело это ему. Он — на одной стороне. И вовсе это не «сторона» — это люди, чернокожие люди, с такой же душой, как у меня, у моих детей, у моих бойцов. Им также больно. За них и пойдем в бой. В справедливый бой.
И вселим надежду уже одним тем, что пойдем сражаться. Даже если потерпим поражение.
Война, любая война не знает одних побед. Сегодня — поражение, завтра — победа. Бой зовет к бою.
Сражались же мы против закона о беглых рабах. Паркер, Гаррисон, Хиггинсон. Мои галаадиты в Спрингфилде. И еще сотни людей, которых я не знаю. Сражались словом. Ружьями. Топорами. Кипятком. И не зря сражались. Где они сегодня, охотники за рабами? Испугались. Нас испугались. Хоть Север от них избавили. А не вступи мы тогда, повторяй, как мои сегодняшние оппоненты, «постепенно, постепенно», послушайся мы доводов «здравого смысла», сколько жизней было бы погублено?!
Сегодня нас мало, завтра будет больше. В авангарде никогда не бывает большинства. А мы — авангард. И те, кто придет завтра, будут сильнее нас.
Туда, обратно, по дороге Браун думал над словами сына Оуэна: «Если нас ждет успех, над этим домом будет водружено знамя Соединенных Штатов, Если же мы потерпим поражение, то этот дом назовут притоном, где скрывалась банда воров и разбойников».
Что такое успех? Что такое поражение?..
3
Браун писал Дугласу: «Я вынужден выступить раньше намеченного срока. Прежде чем уехать, я хочу повидать вас. Привезите с собой «Императора», скажите ему, что час настал».
Парикмахерская в Чемберсберге, где надо было ждать до вечера. Черные лица, белые зубы, белые полотенца. В темноте — хозяин парикмахерской, он свой, он ведет до условленного места. До старой каменоломни.
Двое приближались, двое вышли навстречу. Лица Брауна и Каги чуть светлели.
Дуглас и Браун начали разговаривать, словно вчера расстались. Они знают друг друга двенадцать лет. За эти годы Браун много раз останавливался в Рочестере.
Когда он приезжал в дом Дугласов, там почти умолкал смех. Фредерику при этом госте неловко было передразнивать разных известных людей, а он делал это так похоже, что жена, дети и друзья хохотали до слез. Он и самого Брауна однажды позволил себе передразнить — не при нем, конечно, — растрепал волосы, подвязал какую-то паклю вроде брауновской бороды, глаза устремил в одну точку, сел верхом на метлу, вытянул вперед руку: «За мной!!!»
В субботу, девятнадцатого августа, они продолжили давно начатый разговор.
Впрочем, все детали Великого Плана обсуждались и раньше: Аллеганские горы, система тайных убежищ, небольшие группы вооруженных негров. Форты свободы, а к этим фортам стекаются отовсюду беглые.
Захватить нескольких рабовладельцев и держать их как заложников. И не в Канаде, в самом сердце рабовладельческого Юга.
Эти группы в горах — большая сила, угроза власти рабовладельцев, угроза их кошельку. Двуногая собственность в любой момент может бежать. Час настал — надо осуществлять план.
— Но почему раньше срока, Браун? Необходимо дождаться декабря, как мы и уславливались, дождаться сбора урожая. Пойдет повальная пьянка, не так скоро хватятся, да и с собой в горы люди возьмут еду.
— Дело сейчас уже не в сроке, Дуглас. Я решил напасть на арсенал в Харперс-Ферри.
— Нет!
«Нет» было выдохнуто мгновенно, сначала ответили губы, потом заработала голова.
— Браун, вы говорили «насилие, кровопролитие — только если самооборона». А теперь предлагаете нападение («Харперс-Ферри… правительственный арсенал… сошел с ума…»).
— Сейчас недостаточно того, что мы замышляли еще в сорок седьмом году. Надо, чтобы нас услышали не рядом, не за несколько шагов, даже не только на Юге. Надо, чтоб грянул гром и разбудил тех, кто ничего не знает про аболиционистов, кто не слышал о Гаррисоне, кто не читает «Либерейтор».
— Вы предлагаете разбудить их выстрелами?
— Да.
— Это безумие.
— Нет, это разум. («Только бы не вспылить… только бы сдержаться… он — старый товарищ… за ним идут негры…») Если захватить арсенал, нас поддержат негры.
— Негры вас не поддержат, а вы все погибнете.
(«Он сказал «вы», а не «мы». Значит, он уже отделился, не хочет идти со мной. Нет, этого нельзя допустить, надо заставить его, вынудить пойти».)
— Дуглас, когда вас выкупили из рабства, вы дали торжественное обещание: «Я останусь таким же». К сожалению, вы не сдержали этого обещания. Вы изменились. Вы потеряли свой «диплом», тот, что высечен у вас на спине. Сами вы вырвались, что же вам теперь безразлична судьба миллионов ваших соплеменников?
Дуглас вскочил на ноги и выбежал из пещеры. Всему есть предел. Этого он никому не позволит, даже Старику.
Серый рассвет. Улеглись в разных углах. Оба не спали. Браун подошел первым.
— Простите меня, Дуглас. Я погорячился. Но разве обо мне речь? Ведь это общее Великое Дело.
Дуглас обнял Старика. Только сейчас увидел, до чего тот изменился. Между ними — восемнадцать лет разницы, Дуглас всего на пять лет старше Джона Брауна-младшего.
— Мне недолго осталось жить. Скоро шестьдесят. Большинство моих сверстников уже в могиле. Да и около меня сколько раз свистела смерть. А главного я не сделал.
— Браун, это неразумно, нереально. Мы все время боролись именно против рабовладельческого Юга. Зачем же нам восстанавливать против себя федеральное правительство? Ведь вся страна поднимется против нас. Это же азы политики.
— Мне плевать на политику. То, что вы все называете политикой, — трусость и лицемерие. Я не политик. Я просто поступаю так, как велит голос совести.
— Вы не правы, именно политика движет массами людей. Но я о другом. Я лучше, чем вы, знаю, какая у них сила. У них армия, Браун, вы понимаете, что такое армия.
— Их сила не пушки, а наш с вами страх. Вот то, что и как вы говорите сейчас, — это и есть их главная сила. Если мы с вами поверим, что мы сильнее, то и будем сильнее. И другие пойдут за нами.
Каги и Грин не вмешивались, но не пропустили ни слова.
Разожгли костер, вскипятили воду, разогрели свинину с бобами. За едой Браун спросил:
— А что вы собираетесь делать, Дуглас?
— Я еду в ноябре в Англию, в Шотландию, в Ирландию. Друзья снова просят выступить. Нужны деньги. Моей газете нужны деньги. Вам нужны деньги.
Браун был в Англии в сорок девятом году еще как торговец шерстью. Жизнь тому назад.
Гранитный Браун. Дуглас поймал себя на том, что ни разу не сравнил Брауна с другими людьми, — то с высокой сосной, то с гранитной скалой.
— А еще я хочу писать.
— Но вы уже написали две книги. Да и сколько статей.
(«Разве так можно сказать: «уже написал». Вот он о себе говорит «главного еще не сделал». А я главного еще не написал. И оно стучит в голову, будит по ночам. А на бумагу не ложится. Черное и белое. Черные буквы на белом листе. Нет, Браун не понимает моей тяги писать. С Гаррисоном спорили, спорили, а он понял бы. И Филипс, хоть и не литератор, а понимает. И конечно, Уитьер».)
— А я хочу смыть позор рабства с Америки.
— И я хочу того же самого. Но какими путями?
— Если нельзя без этого обойтись, смыть кровью. Захватить арсенал в Харперс-Ферри, вооружить рабов, отойти в Аллеганские горы. Я пока еще могу туда повести людей, я знаю каждый выступ в этих горах, я уже много раз говорил вам: там один может обороняться против сотни. А завтра будет поздно. Мне будет поздно. Пойдемте со мной, Дуглас. Вместе мы непобедимы.
— Харперс-Ферри — стальной капкан, и вы в него добровольно лезете, вы обрекаете себя и своих сподвижников на гибель, а свою семью на горе.
— Как можно думать о своей семье, когда вот сейчас, в эту минуту, разлучают жен с мужьями, матерей с детьми. Да вы все это лучше меня знаете.
— Знаю. А не думать про Эмми, про ребят не могу. Не люблю с ними расставаться, каждый раз не хочу уезжать из дому. Выйду и все время, пока их вижу, оглядываюсь.
— А я никогда не оглядываюсь. Теперь хоть сыны со мной. Но не все одобряют.
— He все, капитан.
Это Каги сказал про себя. А вышло — вслух.
Одежда сливалась с камнем, все было серое.
— Сколько людей с вами на ферме?
— Двадцать два. То есть там восемнадцать, по еще четверо подойдут наверняка. Если вы с Грином присоединитесь, будет двадцать четыре. А для успеха мне нужно пятьдесят.
Двадцать два. На всю огромную страну, где уже четыре миллиона рабов… Миллионы белых подписывали петиции конгрессу об отмене рабовладения, а нашлось всего двадцать два смельчака. Да и они не полностью разделяют намерения Брауна.
У Дугласа слезы на глазах. Это не о Старике, не о себе. Может, о том, как слабы люди и как нестерпимо медленно движется история, если вообще движется. Но почему же меня так заботят цифры? Разве я отказываюсь от собственных слов: «В правом деле один — это уже большинство»?
Двадцать два. А если представить себе армию — вдруг все-таки не обойдется без войны! — тогда счет уже на десятки тысяч. И негры пойдут, если их пустят сражаться в рядах. И он, Дуглас, тогда пошел бы. Но стать двадцать третьим не хочет, не может.
— Я никого не прошу, — властно отрезал Браун.
Нет, он себя обманывал, Дугласа он просил. Умолял. Заклинал.
— Дуглас, речь идет о свободе. Неужели я вам должен объяснять, как это бесценно — свобода…
Почти половину прожитой жизни Дуглас был рабом.
Потом это слово расширилось, растворилось, приобрело много оттенков и прилагательных: феодальное, промышленное, колониальное рабство.
Столетие спустя «рабами» стали называть себя бунтующие студенты американских колледжей.
Но тогда рабство было рабством.
Ты — собственность другого человека. Тебя бьют, а то и забивают насмерть.
Свобода. В юности Фредерик пошел к свободе на Полярную звезду. Сбросил цепи, настоящие, тяжелые, ржавые.
Свободен ли он сейчас? Он может читать. Писать. Издавать газету. Содержать свою семью. Ездить с лекциями по свободным штатам из города в город. Ездить за границу. И разве я один? Нас, свободных негров, уже много.
Идти с Брауном — значит пожертвовать этой свободой, своей и своих соплеменников. А миллионы рабов в цепях?
Нет, Браун не может понять Дугласа. Почему он колеблется? Ведь речь-то идет не о белых, о черных!
Сколько человек пошли за Натом Тернером? Пятьдесят… Двадцать восемь лет тому назад. С тех пор многое изменилось. Разве тогда был в Америке негр, подобный Дугласу?
Этот самый знаменитый Дуглас просто боится. Как Браун учил своих сыновей не трусить? Порол. Дугласа не выпорешь. Да и своих-то не совсем научил.
«Вы хотите, чтобы ваши сыновья были храбрыми как тигры и одновременно боялись вас», — как обидно сказал на днях Уотсон. Обидно, потому что правда. Он ушел в свои мысли, не слышал последней фразы Дугласа.
— …на карту все, сделанное нами.
— А что вы сделали? Чего добились?
Тридцать лет аболиционистской пропаганды. Для Дугласа и его друзей — смысл жизни. А Брауну нужны дела. Но и дела были. Сколько людей вывели по тайной дороге из рабства.
— Дуглас, поймите, ваши друзья, нет, скажу, наши друзья прекрасные люди. Но для другого времени. Теперь пришел час бросать камни. Иначе гадину не раздавишь. Одно деяние, но такое, чтобы прогремело на всю страну, стоит сейчас больше, чем все ваши съезды, лекции, газеты…
— С этим я не могу согласиться.
— Вот вы писали в первом же номере «Северной звезды» двенадцать лет тому назад, что одна из целей газеты «ускорить день освобождения рабов». Ускорили?
— Разве можно на это ответить? А я все-таки верю в силу свободного слова, в его воздействие, пусть не сразу, исподволь. И обстоятельства хоть медленно, но меняются. Вспомните, когда начали издавать «Либерейтор», Гаррисона протащили с веревкой на шее по всему Бостону. Едва не линчевали — и не в Харперс-Ферри, в Бостоне.
Дуглас отказывается. Значит, и другие откажутся. Это люди для иных времен: накормить, переправить в Канаду беглого, собрать деньги, плакать над «Хижиной дяди Тома». «Аболиционисты чувств» — именно Дуглас их так назвал. А сам такой же.
Впрочем, может быть, он все-таки просто боится? Я верно писал в «Ошибках Самбо», что негры недостаточно смело отстаивают свои права. Даже лучшие из них. Но вот Гарриет Табмен не боится.
— Браун, я не умею сражаться. Винтовка не мое оружие. Я пытаюсь бороться с рабством тем оружием, которым я владею. И еще: я не готов для мученичества, для креста.
От хозяина Дуглас убежал за двадцать лет до Харперс-Ферри. А рабство выдавливал из себя всю последующую жизнь.
Брауну не надо выдавливать из себя рабство. Его предки — свободные белые люди. Борцы, участники революции. Он не знает, как это — выдавливать. Он не хочет выдавливать. Он хочет взорвать.
Фредерику вдруг показалось, что он понял Брауна. Наверно, все дело в мерках. Мерки к нему надо прикладывать другие. Сказочные, что ли, из тех легенд, которые так любит Дуглас, которые с такой радостью рассказывает детям. Семимильные сапоги, шапка-невидимка, заговоренный от пуль — вот кто такой этот высокий Старик. Не надо с ним спорить. Бесполезно.
— Вы в меня не верите, Дуглас?
— Я верю в вас, но я не верю в этот план. Вы не продержитесь и часу. Харперс-Ферри — это смерть. А я однажды дал клятву, что буду жить. Жить во имя борьбы, во имя освобождения. (И во имя самой жизни. Вот этого солнца, которое село, а вдалеке еще гаснет оранжевое, еще догорает лиловое. Во имя того, чтобы завтра увидеть полоску зари. Увидеть детей и Эмми. И вкусно поесть. И лечь с ней в постель. И читать стихи Бернса. А утром — за письменный стол. И вдохнуть любимый запах типографской краски. Потом поехать в Англию. Снова выступать. Снова чувствовать: ты нужен, тебя любят, тебя ненавидят, вокруг тебя кипят страсти. Ты стоишь на трибуне, видишь горящие глаза молодых людей, они живут твоим словом.
А вместо этого — сплошной серый цвет. Тюрьма. Виселица. Уж меня-то они наверняка повесят, как Пата Тернера.)
Браун снова и снова:
— Дуглас, ведь вы храбрец. Разве вам не грозила смерть, когда вы с кулаками бросились на мерзавца-объездчика? А сам ваш беспримерный побег! Вы не побоялись выпустить «Автобиографию» под собственным именем, хотя даже бесстрашный Уэнделл Филипс сказал, что на вашем месте немедленно сжег бы ее! Подумайте, что было бы с вами, если бы вы поступали «по разуму». По вашим же словам, вы выбрали «безумие». И только потому стали Дугласом, надеждой, вождем. Вы правы, вы должны жить. Умоляю вас, пойдемте со мной. Я обещаю вам телохранителя. Я сам буду рядом с вами, я прикрою вас от пуль, вы останетесь в живых.
Нельзя не поверить Брауну. Закроет своим телом.
«Трусость или мудрость остановили меня» — так Дуглас напишет потом. Боялся за себя, за своих. Боялся за свой народ. Кто будет расплачиваться за дерзкое нападение на Харперс-Ферри? Негры.
«Трусость или мудрость». Надо было быть очень смелым, чтобы пойти. Но он не осознавал, что и для отказа нужна была смелость.
Когда через два десятилетия в Харперс-Ферри, в Сторер-колледже устанавливалась особая стипендия имени Джона Брауна, Дуглас произнес речь о своем погибшем друге: «Освобождение расы, к которой я принадлежу, было всепоглощающей страстью его жизни. И страсть эта неизмеримо превышала мою собственную: пламенное солнце по сравнению со мной — бледным светильником. Я был ограничен моим временем, он был устремлен за пределы нашего времени, к вечности».
Юношей Фредерик отвечал только за себя. И не раздумывал, еще не умел раздумывать. Теперь за ним идут тысячи. А быть может, кто знает, десятки тысяч. Он несет за них ответственность. И он обязан проверять чувства разумом.
На третье утро перед рассветом Джон Браун спросил, не поднимая глаз:
— Как вы решили?
— Я возвращаюсь.
— Позовите Грина.
Да, еще и через это пройти. Браун познакомился с негром Шилдзом Грином в доме Дугласа в феврале пятьдесят восьмого года. Когда писал конституцию.
— Грин, я уезжаю. Как ты поступишь?
— Я, пожалуй, пойду со Стариком.
Дуглас уходил один. Он оглядывался. Три серо-темные тени слились с камнями. Он выбрал. Ему стыдно, ему горько, ему одиноко. Как же он оставил Старика? Как же не сумел отговорить его?
Два месяца спустя, семнадцатого октября, Дуглас читал лекцию в Филадельфии, в «Нейшнл Холл». Тема — «Люди, которые сами себя выковали». Он рассказывал о Бенджамине Баннекере: этот раб стал выдающимся математиком, землемером, участвовал в строительстве города Вашингтона. Лектор цитировал письмо Томаса Джефферсона Баннекеру. Автор Декларации независимости высоко оценил негритянский альманах, «документ, которым могут гордиться все люди с черной кожей».
У выхода Дугласа ждал друг. Он наклонился и прошептал: «Вчера совершено нападение на Харперс-Ферри».
Он не остался ночевать в Филадельфии. Кинулся в Нью-Йорк. Дал телеграмму в Рочестер: «Пусть Льюис заберет из моего стола все важные бумаги».
Дуглас боялся не напрасно. Виргиния уже предъявила ему обвинение в «убийстве, разбое и подстрекательстве рабов к мятежу».
Президент по просьбе губернатора Уайза дал разрешение на арест Дугласа. Ордер на арест, полученный шерифом Филадельфии, на три часа задержал человек, сочувствовавший Дугласу.
Наутро он обнаружил свое имя в газетных заголовках: «Замешаны Геррет Смит, Джошуа Гиддингс, Фред Дуглас и другие аболиционисты и члены Республиканской партии».
Девятнадцатого октября он уже плыл из Канады в Англию на судне «Скоттия». Что же будет с Брауном? Убьют. Мужественнее человека он никогда не встречал в жизни.
А может быть, все-таки надо было пойти со Стариком?
4
— «И наступил нас испытания душ…»
Медленно, торжественно начинает Каги читать «Американский кризис» Пейна — один из первых памфлетов войны за независимость. Можно назвать «Американский кризис» памфлетом, листовкой, можно — экстренным выпуском газеты, журнала; автор, редактор, наборщик один — Томас Пейн, англичанин, журналист, просветитель, философ, ставший одним из вождей американской революции.
Пейн обращался к солдатам.
Каги повторяет как стихи:
— «И наступил час испытания душ. Летние солдаты и сезонные патриоты во время подобного кризиса отшатнутся, не станут служить своей родине, но тот, кто выстоит теперь, — Каги обводит глазами своих слушателей, — тот заслужит любовь и уважение мужчин и женщин.
Тиранию, как и ад, нелегко победить, но утешить нас должно то, что чем больше препятствий, тем славнее триумф».
Пейн писал эти памфлеты — их вышло тринадцать — во время войны за независимость в 1776 году. За восемьдесят три года до Харперс-Ферри, а бойцам Брауна кажется, будто все написано именно про них, будто Пейн говорит про их кризис, будто Пейн сидит здесь с ними, в Виргинии, в начале октября 1859 года, слышит их споры, читает их мысли.
Солдат, к которым обращался Пейн, тоже было сравнительно немного, им было хуже — раздеты, голодны, мало оружия. А мы сыты, мы в тепле, у нас, — Каги глянул на ящики, — оружия очень много.
Они воевали, им было легче. А мы ждем.
Ничего, скоро и мы пойдем в бой.
«Летние солдаты», «сезонные патриоты», они летом воюют, а осенью разбегаются по домам. Октябрь. Осень. Холодно. Особенно холодно неграм.
Двухэтажный дом, на первом этаже комнаты и кухня, а наверху большой чердак. Целыми днями парни сидят на чердаке, вниз спускаются только по вечерам, когда уже твердо знают, что никто из соседей не постучит в дверь.
Конспирация, но не только конспирация. Им самим не хочется все время быть со своим грозным главнокомандующим. Он им годится в отцы, а кое-кому — и в деды. И дело не только в возрасте, но и в характере. Им надоело слушать, что у молодых людей должна быть цель в жизни. Цель есть, а слушать про это надоело.
«Тиранию, как и ад, нелегко победить». Это Пейн сказал про англичан. И наших тиранов, рабовладельцев, тоже нелегко победить.
Нам порою одиноко. А как одиноко было Пейну! Чучела, изображавшие Пейна, сжигали в Англии, специально изготовили сапоги, где на подметках — «Т. П.», чтобы топтать его имя. Пережил свою славу. Умер здесь, в Америке, в 1809 году, за гробом шло всего несколько человек, среди них — два негра.
А кто нас будет хоронить?
«Летние солдаты», а мы — мы какие солдаты? Только летние, а может, и на другие, на все времена?
Пока Каги читает, Энни и Марта, жена Оливера Брауна, готовят еду — картошку со свининой, яйца с луком.
Начинает темнеть, они закрывают ставни, затягивают окна занавесками — крепость огораживается, Парни следят за движениями женских рук. Скоро Энни и Марта уедут, останется мужское дело, которое надо делать без женщин.
Они смотрят на движения юных женщин, как везде и всегда мужчины смотрят на женщин, но не только так. Они словно предчувствуют, что будет завтра. Нет, чисто будет и завтра. Старик, как придирчивый боцман, который заставляет матросов драить и драить палубу. Но без женщин станет пусто, неуютно.
Вначале много смеялись, играли в карты, в шахматы. Старик карт не любил, кое-как терпел. Часто пели, лучше всех — Стивенс. Когда начинал звучать его баритон, Энни так и застывала со щеткой в руках.
Но веселье со дня на день стихало.
Каги продолжает читать Пейна:
— «Небо знает цену своим товарам; и, конечно, было бы странно, если бы такое небесное благо, как свобода, не ценилось бы высоко».
Собрались в этой комнате обыкновенные парни, но они ведь идут сражаться за свободу, они готовы платить самую высокую цену.
Прибыли наконец заказанные пики — девятьсот пятьдесят. На сколько же это человек?
Старик отвечает: надо будет вооружить тех, кто присоединится в ходе сражения. Но эти неведомые люди для них не реальны. Они говорят о тех, кого они знают. Весь август, весь сентябрь они подсчитывали, кто еще должен сюда прибыть. Рассказывали про Джорджа Джилла. Он наверняка должен приехать, его же в Чатеме избрали министром финансов, он давал присягу. Интересно, кого он привезет с собой? В августе они еще радостно передавали друг другу слова Джилла из письма Брауну: «В назначенный час — заклинаю Вас всем святым — вспомните обо мне!» Подошел назначенный час, Браун вспомнил о Джилле. Но Джилл, видимо, забыл.
Много лет спустя Джилл неприязненно говорил о Брауне, называл его «эгоистом с императорским комплексом», считал, что он «возомнил себя голосом бога», а он, Джилл, не был способен поклоняться ни богам, ни героям. Может, оно и так, а может, и оправдывал себя задним числом.
Рилф. На Рилфа особенно надеялись Кук и Каги. Его в Чатеме избрали государственным секретарем. Вот он и выполняет дипломатическое поручение: собирает деньги в Англии, он сам — англичанин. Но пора бы и вернуться. Он же мечтал о подвигах.
Из Канады обязательно должны приехать, — сколько людей тогда, в прошлом мае, во время съезда в Чатеме, обещали, просили, добивались как высокой чести, чтобы их взяли. Пока что из Канады приехал только Осборн Андерсон. Он рассказал о тяжелой болезни Гарриет Табмен. Ее имя обычно произносил сам Старик. Как только Табмен встанет с постели, немедленно приедет. Если встанет…
«И наступил час испытания душ…»
Кто выдержит испытание? Кто откажется от испытания? Кто провалится?
В сентябре пришло письмо от негров из Филадельфии: «Мы считаем, что именно Вы — тот единственный человек, кто по-настоящему нас представляет… Некоторые из нас готовы последовать за Вами».
Хинтон. Хинтон был в Канзасе. Уже знает, что такое бой, кровь. Сколько раз они там говорили о рабстве, о будущем. Брауну казалось, что Хинтон полностью разделяет его взгляды. Ему почти всегда так казалось: он говорил, он ощущал собеседника, особенно молодого, видел, как загорались глаза… А того, что подчас настроение круто менялось у тех же собеседников наедине или под влиянием иных советчиков, — этого Браун не видел. И вообразить такое ему было трудно: ведь у него самого между словом и поступком почти не было зазора.
Где Джеймс Редпат, другой канзасский корреспондент? Тоже прошел боевое крещение, какие речи произносил, сам Браун такого не говорил: «Если все американские рабы — мужчины, женщины, беспомощные младенцы, если даже все они падут на поле боя или окажутся жертвами мести… если останется в живых только один человек, только он один и сможет насладиться плодами завоеванной свободы, то за свободу этого единственного негра, доставшуюся всеобщим истреблением и его собственного народа и его угнетателей, за его свободу будет заплачено не очень дорого».
Наверно, не так уж трудно было произносить речь о всеобщей гибели ради свободы одного. А пробраться тайком сюда, на Юг, к этой заброшенной ферме, и здесь терпеливо ждать — это трудно, очень трудно. Ждать сигнала к атаке. Ждать сжавшись, скорчившись, прячась ото всех. Ждать неизвестно сколько времени. По сигналу встать. Знать, что в тебя будут стрелять. В тебя, в твоих товарищей, в тех, с кем ты сроднился, в тех, кто тебя порою и раздражал, но кто стал тебе ближе отца с матерью, ближе жены, ближе сестры и брата, ближе всех на свете…
Где же Редпат, который готов был жертвовать целым поколением?
В самом начале пятьдесят девятого года вышла книга Редпата «Заметки бродячего репортера. Разговоры с рабами в южных штатах». Эту книгу автор посвятил Джону Брауну: «Вы старый герой! Поверьте, что надо помочь рабам восстать, призвать их к мятежу; обуреваемый этими чувствами я приношу к вашим ногам этот свой вклад!»
Браун верил, что рабам надо помочь восстать, и Каги верил, и Шилдз Грин. И они действовали в соответствии со своей верой.
А Хинтону и Редпату было написано на роду другое — стать первыми летописцами Харперс-Ферри, оставить свидетельства о Брауне, о его соратниках.
Постепенно разговоры о неприехавших замолкали, к концу сентября их как бы сами себе запретили.
Браун долго не мог прийти в себя после встречи с Дугласом. Очень не хотелось этим делиться, но Каги и Грин знали, да имя Дугласа, естественно, называлось едва ли не чаще всех других.
Кратко рассказал и попросил не возвращаться к этому. Парни поняли.
Временами смотрели на дорогу, потом перестали смотреть.
Все же отряд медленно пополнялся. Пятнадцатого октября прибыли последние трое: негры Джон Копленд и его дядя Льюис Лири — их обоих завербовал Каги — и совсем не предвиденный Френсис Джексон Меррием, внук известного бостонского аболициониста. Он вырос в богатой семье, все получил готовым — дом, деньги, книги, положение в обществе, знакомство с лучшими людьми времени. Меррием считал себя страстным противником рабовладения, хотел участвовать во всех битвах. Очень преувеличивал свое собственное значение. А его не принимали всерьез, называли легкомысленным, не доверяли. Он обижался, тем яростнее стремился доказать, самоутвердиться.
В 1858 году он поехал с Редпатом по Гаити и по южным штатам. Результатом поездки и была книга «Записки бродячего репортера». Френсис писал Уэнделлу Филипсу: «…на Юге меня могут убить, и я даже буду рад этому, хотя я и трус, и не знаю, на что смогу осмелиться ради Дела», И спрашивал Филипса: «Можно ли человеку, которого на Юге посадят в тюрьму за то, что он крал рабов, можно ли этому человеку передать яд или какое-либо другое смертоносное средство?»
Меррием готовился к гибели, гибели театральной, сопровождаемой соответствующими жестами.
К нему обратились с просьбой о деньгах для Брауна.
— Я добуду деньги, но возьмите и меня в придачу к деньгам.
Шестого октября Меррием явился к Хиггинсону, сказал, что у него есть шестьсот долларов и он хочет с этими деньгами немедленно ехать к Брауну, Где его искать?
Хиггинсон колебался — давать ли адрес. Неуверенность в Мерриеме не исчезла. Но деньги были нужны, люди были нужны, а добровольцы отнюдь не толпились у дверей. Он поделился сомнениями с Сэнборном. Тот ответил:
— Меррием так же подходит для этого дела, как дьявол для охраны порохового склада. Однако каждый может пригодиться!.. Я ни от кого не жду многого, но, если тебе в рот падает слива, неужели ты не съешь ее потому, что она не груша и не тыква?
Адрес дали, Меррием поехал. Опасения оказались напрасными, он вел себя вполне достойно.
Вильяму Лимену — он самый молодой, девятнадцать, только начал бриться, вдруг стало тоскливо, одиноко. Потихоньку спустился вниз, вышел из дому. Не мог бы ответить, почему, но ощущал непреложно: тоску надо скрывать. А то как бы не заразить товарищей. Это недостойно, стыдно.
Вспомнил друзей детства, сверстников. На каждого может накатить тоска, а такое, как ему, никому не выпало. Сражаться. Да плечом к плечу с такими замечательными людьми.
Он грезил героями, мечтал о богатстве, о славе. А почему бы и нет? Нельзя дезертировать в тоску. Эту роскошь он себе не может позволить.
Письма все они писали только бодрые, только проникнутые глубокой верой в победу.
Вильям Лимен — матери: «Я сейчас в рабовладельческом штате на Юге, но прежде чем я уеду, отсюда, этот штат станет свободным… Мы намерены выступить, призвать рабов к восстанию и установить правительство свободных». Он просил мать сохранять тайну и продолжал: «Поверь, это все принесет мне Славу и Деньги, если мы победим…»
Уотсон Браун — жене: «Я думаю о тебе все дни и желаю тебя все ночи. Я бы с радостью вернулся домой, чтобы быть с тобой всегда, если бы не стремление, которое и привело меня сюда: жить не только для собственного счастья, а сделать что-либо ради других».
Джеремия Андерсон — брату: «Мы победим во всех случаях. Так что, если до тебя дойдут вести о поражении, это может произойти только после отчаянной борьбы и потерь с обеих сторон. Но меньше всего мы думаем об этом. Нам сопутствует удача, и победа увенчает наши знамена».
Они были молоды, они были крестоносцами великого похода, цель которого — всеобщее освобождение. Безоговорочное, немедленное освобождение.
Они по-юному жаждали славы. Некоторые воевали в Канзасе, их имена упоминались в газетах, они уже надкусили славу. Они не только мечтали о победе, они ее планировали. У них была карта семи рабовладельческих штатов, на которой прочерчен маршрут их предполагаемого похода.
Каги — сестре: «Через несколько дней мы выступим… Все складывается как нельзя лучше, успех нам обеспечен. Мы хорошо потрудились, мы немало страдали, но сейчас самое трудное — позади, а впереди — сияющий успех…»
Отец Каги — кузнец, мать умерла, когда Джону едва исполнилось три года. Семья раньше жила в долине реки Шенандоа, для Каги возвращение сюда — возвращение домой.
Тонкое лицо, не воин, скорее, студент-богослов. В отличие от остальных у него не борода, а усы. Совершенно безразличен к своей внешности, штаны висят мешком, шляпа измята, а другие парни очень следят за собой, тщательно чистят ботинки, брюки на ночь кладут под матрасы.
Предки Каги приехали в США в начале восемнадцатого века, их преследовали как инаковерующих. Самому Каги кажется, что бог и религия — проблемы не важные. Конечно, и он вместе со всеми почтительно слушает Старика, трижды в день читающего вслух Библию. Но сам-то предпочитает стихи и газеты.
Он был школьным учителем, дети очень любили его, да и здесь, когда появляется соседка-вдова с четырьмя детьми, именно Каги развлекает (и отвлекает) ребятишек, чтобы не увидели, чего не надо, чтобы не заподозрили, какая «мебель» в заколоченных ящиках. И сам отвлекается, веселится с детьми.
Каги почти во всех поездках сопровождал Брауна, выхаживал его во время болезней. И повсюду он таскал за собой конспекты лекций. Ему снились уроки, любимые ученики, во сне он не смущался, отвечал ребятам гораздо лучше, чем наяву.
А школу оставил сам. Час испытания души для него наступил раньше, чем для других. Ощутил ужас, позор рабовладельчества едва ли не физически, как ощущают дождь, жару, мороз. Как же можно, уже зная, не передавать детям это главное знание?
И сразу возникли неразрешимые проблемы. Столкнулся с родителями. Среди них не было защитников рабовладения. Просто они считали, что их детей надо учить так же, как в свое время учили их, как учат повсюду. Но гораздо больнее, чем с родителями, столкнулся с самим собой: они дети, могут ли они выдержать рассказы об ужасе, невыносимом даже для взрослых? Ребенка надо прежде всего научить любить мир, верить в мир. Неокрепшей душе сразу про тьму? Нельзя. Ребенку необходима твердыня.
Да и предположим, ты расскажешь на уроках, что в нашей Америке царит зло, несправедливость. А дальше? Это ведь дети, им нужны прямые, ясные ответы. Белое — черное. Как им жить дальше?
Каги пытался представить себе своих учеников в лесах Канзаса и здесь, возле Харперс-Ферри. Нет, пусть пока живут спокойно, пусть радуются…
Но кто же их научит сражаться против рабства?
Неразрешимо — и он ушел из школы, отправился в Канзас.
«Впереди — сияющий успех», — это он искренно думал, такими словами успокаивал семью, родных. Да и уговаривал самого себя.
Изредка подступало неверие, горечь. В такой момент и вырвалось у него письмо Джону Брауну-младшему: пусть никто сюда больше не приезжает, пусть никто больше из-за нас не попадет в беду…
Еще в Канзасе Хинтон сказал ему: кто решится на такое дело, тот погибнет. Каги тогда возразил:
— А я вижу занимающуюся зарю новых времен. За все, что я делаю сейчас, я жду награды, и не для себя одного. Нет сомнения в том, что в конце концов награда придет, великое дело увенчается заслуженным успехом.
Но потом добавил:
— Я знаю, что мы погибнем, но игра стоит свеч.
До последнего вздоха был уверен, что игра стоит свеч. Только ждать трудно, почти невозможно.
Повторял вслед за Брауном: нельзя торопиться, их на ферме очень мало, необходимы подкрепления… В этих беседах с самим собой участвовал только его разум. А сам весь рвался в бой. Скорее бы.
Друг с другом старались не говорить о том, что ждать уже невозможно.
Шилдз Грин не приводил себе никаких доводов. Он этого не умел. Он тоже не мог уже ждать, хотя безоговорочно и во всем верил Брауну.
Грин был многим обязан Дугласу. Полюбил Дугласа. Но не соплеменник Дуглас, а этот суровый белый Старик впервые вселил в него, черного, незыблемую уверенность: ты — человек, ты — мужчина. Ты свободен. Ты можешь и должен это доказать с оружием в руках. Шилдз Грин взял винтовку и пистолет. Оружие теперь неотделимо от руки, от тела, как будто с ними родился. Как и свобода. Скорее поделиться с другими, передать другим. Потому — скорее бы стрелять. Пусть и гибель. Только бы выстрелить. Убить хоть одного рабовладельца. Доказать Старику — он недаром поверил в Шилдза Грина.
…Каги кончил читать Пейна, смотрит на оплывающие свечи, воск медленно стекает. Когда наша очередь?
Главное ощущение — гордость: мы начнем. Мы на это решились. Мы — настоящие американцы, пионеры в деле освобождения рабов.
И наступил час испытания душ…
Того же двадцатого августа, когда Браун встретился с Дугласом, военный министр Соединенных Штатов Флойд получил анонимное письмо. Автор письма предостерегал правительство, сообщал о заговоре, который создал старый Джон Браун из Канзаса. Цель заговора, цель тайного общества — возбудить рабов Виргинии к восстанию, напасть на арсенал.
Как выяснилось много лет спустя, автором письма был квакер из Спрингдейла, некий Дэвид Гью. Он и его друзья уже год как знали, что готовится вторжение в Виргинию. Зимой и весной, когда Браун приезжал в Спрингдейл, квакеры не уставали спорить с ним, возражать против насилия во всех формах. Теперь спорить было поздно. Но Брауну и его ребятам, которых квакеры очень полюбили, грозит неминуемая гибель. И Гью решился на последнее, отчаянное средство — предупредить правительство. Он не видел иного выхода. Думал, что анонимное письмо министру подействует, безумная попытка будет пресечена и Браун спасен.
Военный министр Флойд в это время отдыхал у себя на родине, в Виргинии. Вернулся в Вашингтон, среди других писем прочитал и это. Не понял, что речь идет о том самом Брауне, за голову которого президент обещал двести пятьдесят долларов. Мало ли Браунов, — самая распространенная фамилия в Америке. Его Виргиния — ведь Флойд только что оттуда, — ну можно ли вообразить, что хоть один здравомыслящий американец отважится на подобный злонамеренный и отчаянный поступок? Только безумец. Флойд отложил письмо и забыл о нем. Вспомнить пришлось через два месяца.
О намерениях Брауна знал не один Гью, знали многие, хотя сам Браун строжайше требовал хранить тайну, требовал, чтобы Энни не отходила от входной двери, следила за прохожими; это и было ее главным делом — усыпить бдительность соседей. У отряда был свой пароль: «Старые шахтеры, возвращайтесь!» Пароль, часовой — чем не тайна?
И все же не заговор.
Все быстрее, все неотвратимее приближался конфликт. Он назревал по всей стране. На Юге и на Севере.
Здесь, в Харперс-Ферри, прорвалось: первый бой, первый огонь…
Браун вернулся из маленькой церкви — она расположена неподалеку от фермы, — он ходил туда почти каждый вечер. Прошел, как обычно, на кухню. Сверху доносилось мерное чтение. Голос Каги: «И наступил час испытания душ…»
Мальчикам необходим бой. Ожидание висит в воздухе, до него можно дотронуться.
Их мало. Тем дружнее они должны стать. А на самом деле… Браун не понимает почему, но ощущает все явственнее какие-то натяжения. Вчера он, едва ли не впервые, заговорил с Мартой. Невестка его боялась, всегда старалась проскользнуть мимо него побыстрее. А тут он сам ее остановил:
— Ты что такая невеселая?
— Я не хочу уезжать одна. Я не хочу оставлять Оливера. Боюсь за него, за всех вас боюсь.
— Не надо бояться, Марта. Ты попала в семью храбрых мужчин. Учись у моей жены, учись у Мэри.
— А я не хочу быть, как Мэри, всегда одной, всегда ждать в страхе. Она просто все скрывает от вас. Но мы-то знаем, каково ей. Я хочу обыкновенной жизни, как бабушка, как мама: муж, ребенок, — она глянула на свой живот, еще ничего не было заметно постороннему взгляду, — дом. Я с детства трудилась, мне и богатства не надо, а расставаться с мужем не хочу.
— Ты же знаешь, что рабов разлучают, жен в одну сторону отсылают, мужей — в другую.
— Мне их жалко, но себя, Оливера больше жалко. Я не умею думать про других. Мне за вами не влезть, туда, где вы обитаете. Да я и не хочу лезть. Вы близких не жалеете.
Энни молчала, она никогда отцу не перечила, но явно была на стороне невестки.
Энни и Марта не с ним, а с теми, кто там, за закрытыми ставнями в Харперс-Ферри. А ведь Оливеру надо бы взобраться выше, хоть на одну ступеньку выше. Дети должны быть лучше родителей, идти дальше.
На том давнем диспуте в Бостоне, два года тому назад, Фитцхью спросил Уэнделла Филипса и слушателей:
— Вы повторяете «человечество», «угнетенные», «три миллиона рабов»… А умеете ли вы любить одного человека, одного негра? На самом деле любить, то есть, зная недостатки, даже пороки, сосредоточить на одном все душевное внимание, все душевные силы?
Тогда вопрос проскользнул мимо Брауна, к сути спора ведь это не относилось, противоречило главному тезису плантатора, просто опытный демагог решил еще раз прославить свой Юг, доказать, что даже любить негров на Юге умеют лучше, чем на Севере.
А здесь, в уединенных размышлениях, всплыл и тот вопрос.
Браун учился сосредоточенному вниманию сейчас, здесь, умея гораздо лучше учить, чем учиться.
Никогда раньше он так пристально не вглядывался в окружающих, обычно смотрел или далеко вперед, или внутрь себя, шел по улице — не оборачивался ни вправо, ни влево. А сейчас пытается глядеть на каждого, пытается понять, чем Уотсон, его Уотсон, отличается от Оливера, от его Оливера. И чем они оба не похожи на Оуэна…
Салмон не пошел. Почему он все-таки не пошел? Из сыновей ему ближе всех Джон. Но его нельзя было сюда взять, очень уж он после Канзаса повредился в уме. Он из Огайо помогает, оружие ведь это он переправил.
Когда Вильяма Томпсона начала отговаривать жена, он ей ответил:
— Ты ни о ком другом не думаешь, только о себе. А что такое моя жизнь в сравнении с тем, что тысячи бедных негров в рабстве!
Браун думает о своей жене. Чаще всего вспоминает жену. Как жаль, что она не приехала, звал-то он не девочек, звал ее. Он понимает, что Элен маленькая, не с кем оставить ее. Но разве нельзя было оставить шестилетнюю дочку на Энни, да и Марта помогала бы, а Мэри была бы здесь! Здесь, рядом с ним, на кухне, пока молодые там наверху. Когда началось бы, он ее бы отправил. И не так тяжело было бы переносить вот такие минуты отчуждения молодых, сыновей особенно. Он вспоминал давние споры из-за Библии, но то было совсем по-иному.
Очень одиноко. Только щенок по прозвищу Каф иногда разделяет его одиночество, когда парни читают или поют, щенок принимается лаять, его выпроваживают на кухню. Интересно, Вашингтону тоже бывало одиноко или в большой армии у главнокомандующего так не бывает?
И он вспомнил восстание Ната Тернера, тридцать первый год. Он был почтмейстером, торговцем шерстью, он был тогда, как все. И у себя в лавке, в полной безопасности, рассуждал: прав или неправ Нат Тернер?
Быть может, завтра так и о нем будут спорить повсюду другие: прав или неправ Джон Браун…
Он уже не прочитал статью негра Томаса Гамильтона, опубликованную тридцать первого декабря 1859 года в «Англо-Африканском ежемесячнике». Автор говорил о сходстве двух борцов за свободу негров, но подчеркивал различия: «Ужасающая логика Ната Тернера предполагает возможность освобождения людей одной расы лишь за счет уничтожения другой. И он неуклонно действовал согласно этой логике. А Джон Браун верил, что освобождение порабощенных может быть достигнуто лишь равенством с поработителями, и он не мог, даже в самый момент борьбы за свободу, превратиться в тирана; он сострадал тиранам так же, как сострадал рабам, и он стремился удалить эту огромную раковую опухоль, не пролив ни одной капли христианской крови… Ну, что же, жители Юга, жители Севера, братья, люди, какой путь освобождения вы предпочитаете — по Нату Тернеру или по Джону Брауну?»
Страшно. Он всех учит, что бояться стыдно, а ему самому страшно. Но ведь даже Христос молился: «Да минет меня чаша сия…» И я прошу: да минет… Я — человек, не бог.
Нет, нельзя откладывать. И ждать больше нельзя. Он преодолеет слабость в себе и в других. Они прекрасные парни. И сражаться будут отлично. Он поднялся наверх.
— Я слышал, вы читали Пейна. Если бы он не кинулся в борьбу тогда, в семьдесят шестом, если бы не его соратники, Америка, быть может, до сегодняшнего дня оставалась бы колонией Англии. И мы были бы не свободными американцами, а угнетенными жителями колонии. Большинству людей тогда, как и сегодня, была свойственна инерция, живут, как щепки, плывут в потоке. И надо, чтобы кто-то взял на себя повернуть поток, разбудить людей.
Во время войны за независимость будили, поворачивали Джефферсон, Вашингтон, Пейн. И разбудили, за ними пошли тысячи, десятки тысяч. И победили. Сегодня разбудим мы. Да, да, вот все вы, здесь сидящие.
— А Пейн понимал, на что шел?
— Понимал, хотя и не все. Нам и не дано все понять в этой жизни. Пейн прошел испытание пострашнее нашего, он в девяносто третьем году попал в Бастилию. Его, революционера, посадили вместе с роялистами.
Каги не перестает удивляться тому, сколько Старик всего знает. Они еще ворчат. Не ворчать надо, а слушать его, спрашивать, учиться. И Каги вспомнил любимого своего ученика Рика, тот засыпал Каги вопросами, приходилось ходить специально в библиотеки, рыться в справочниках, в энциклопедиях. Так, готовя ответы мальчику, узнавал сам. Но он ведь учился в колледже. А Старик — самоучка.
— Если не мы, разбудит кто-то другой. Большая честь выпала на нашу долю — начать.
В августе разногласия так и оставались разногласиями. Разные люди, разные взгляды, разные привычки. А сейчас разногласия все чаще переходили в ссоры, ссоры — в разлады. Была и настоящая попытка бунта: сыновья вдруг заявили, что атака на Харперс-Ферри — безумие, что они решительно против. Браун сказал: выбирайте другого главнокомандующего, а я планы, которые вынашивал двадцать лет, я эти планы менять не стану. И, резко повернувшись, хотел выйти из комнаты.
Каги стал примирять: надо ворваться в Харперс-Ферри, на нашей стороне внезапность, этого они, безусловно, не ждут. И, пожалуй, Браун прав, не стоит ждать до декабря. Может, и разумно подождать, но уже невозможно. Но, обращаясь к Брауну, надо помнить, что нас мало. Очень мало. И мы не внаем, придут ли еще люди. Потому это должен быть именно набег, боя нельзя начинать и нельзя принимать, немедленно отойти в горы.
Браун ушел. Остальные посовещались между собой. Переглянулись, — где мы найдем другого Джона Брауна? Придется идти с повинной. Оуэн написал отцу записку: «Мы все согласны поддерживать Ваши решения, пока Вы компетентны, и многие из нас подчинятся Вашей воле и Вашим решениям».
Браун снова, в который уже раз убедился: только твердо стоять на своем, только диктат. Иначе с людьми, даже и с близкими, нельзя. На войне, а ведь война уже действительно идет, нельзя без дисциплины, без подчинения, без команды. Он взял на себя ответственность перед богом и перед людьми.
Если победа — тогда водрузят знамя Соединенных Штатов. А если поражение… Надо, чтобы люди знали, почему они пошли на такое.
Он, мятежник, был американцем, который чтил права, законы. Это впитано с детства и осталось до конца. Если право и закон вступали в конфликт, человек наделен правом протестовать против закона.
Лист бумаги. И Браун пишет: «Оправдание атаки». Все еще предстоит, а он пишет в прошедшем времени, словно в учебнике истории. «Будущее в прошедшем».
Оправдание тоже по пунктам.
Первое: «Вторжение соответствовало выношенным мною планам».
Второе: «Вторжение было ударом, нанесенным рабовладению».
Третье: «Вторжение имело и такую цель — снизить цену рабов».
И наконец, четвертое: «Вторжение прежде всего, превыше всего было Справедливым».
Я поступаю справедливо. Он вдруг вспомнил плач маленького Джона, сарай, розги, собственную боль, свою окровавленную спину. Кровь по крови.
Мы поступаем справедливо. Но ведь мы еще сидим здесь, мы еще никак не поступили. Самое трудное — решиться. Решиться — и значит уже поступить. Люди нас поймут и поддержат.
Мои ребята не воры, не разбойники. Они пойдут в бой не за себя, за других.
А флаг Соединенных Штатов — он еще будет развеваться над этим домом.
Он давно присягнул: отдам жизнь. Вот сейчас и требуется отдать жизнь. Свою и другие жизни — молодых, веселых, здоровых — отдать во имя великой цели.
Вертелись, вертелись какие-то слова, которые он должен обязательно вспомнить, вспомнить сейчас же, немедленно. Эти слова объяснят, помогут, оправдают. Эти слова сомнут сомнения.
…Наконец-то вспомнил:
«Если не я, то кто же?
Если не сейчас, то когда же?..»
Глава десятая «Окровавленную землю они хотели очистить кровью…»
1
Браун никогда раньше но задавал себе вопроса: а могла ли его жизнь сложиться по-иному? Здесь, в тюрьме, много свободного времени, вот и об этом думает.
Хотел бы он сейчас быть главой фирмы по сбыту шерсти? Ведь к тому вроде и шло, да не год, не два — десятилетия. Кончилось тогда банкротством, но это просто невезение. Да это и не препятствие на пути коммерческого успеха. Немало бывших банкротов заправляют теперь и фабриками, и торговыми предприятиями.
Был бы и он главой фирмы «Браун и Сыновья». Или «Браун, Томпсон и Сыновья». Был бы дом, не такой, как в Северной Эльбе, а удобный. И усадьба где-нибудь возле Бостона, на плодородной земле, вроде Медфорда или Питерборо. И Мэри сидела бы в кресле. А кто бы варил еду, стирал, убирал, негры, что ли? Но ведь ни у Джорджа Стирнса, ни у Геррета Смита нет рабов.
И он, Джон Браун, приходил бы домой, садился бы за длинный дубовый стол. Если чего на столе не хватало, он звонил бы в колокольчик. И все дети были бы живы, садились бы вокруг стола. Двадцать. Ну того, кто умер с Дианой, его не успели еще окрестить, можно считать девятнадцать. И все сыты, одеты, никаких долгов, никаких забот. Много комнат. И никто не отделяется. Никаких ссор, его слово — закон.
Сейчас он вверг свою семью в горе. Но если бы он был на месте Геррета Смита, то кто-то должен был встать на его место. Только его звали бы не Джон Браун, а, скажем, Питер Джонс. И Джонсова семья была бы сейчас в горе.
Браун, в сущности, мог и за Натом Тернером пойти, ему было уже тридцать. Дело не только в том, что не знал. И не в том, что у Тернера — одни негры. Он сам не был еще готов тогда. Он медленно созревал. Медленно, но неуклонно.
Молодость, наверно, не только годами числится. Для проказ он и смолоду был стар. А для Дела вот только-только успел приготовиться. Успел. Слава богу, что успел, слава богу, что не убили в Канзасе.
Можно ли было по-иному? Он спорил с Гаррисоном, как они кричали друг на друга в доме у Паркера! Браун свою правоту отстаивал по Ветхому завету, а Гаррисон — по Новому, по Евангелию. Но ведь и он хотел по-христиански, и он испробовал все мирные способы: и школу, и церковь, и тайную дорогу. И слово — сколько раз выступал. Все испробовал, но рабы по-прежнему оставались в неволе.
Разве он жаждет крови? Кто подсчитал, сколько крови рабов пролилось в Америке? Сколько замученных, забитых, искалеченных? Ведь «Либерейтор» и «Северная звезда» оглашают одну сотую, а то и одну тысячную долю фактов. Что делается на этих плантациях? Хозяйки там — лилейно-белые леди, они и мухи не обидят, они от царапины падают в обморок, а рабов по приказу джентльменов-рыцарей избивают далеко от особняков с колоннами — стонов не слышно.
Как он сказал на суде, так и есть, — пусть его кровь сольется с кровью миллионов рабов… А благоденствовать сегодня просто стыдно.
Да, кровь это страшно. Ему и теперь страшно. Но ведь недаром храмы возводили на крови. Он не увидит храма свободы. А разве ему, всем нам кто-нибудь обещал храм при жизни? Нам обещали пот, и войны, и страдания.
Он верно написал маленькому Генри Стирнсу: ему в главных делах сопутствовал успех. Хотя все его деловые начинания и потерпели крах. Торгуя шерстью, он постоянно суетился, был чем-то озабочен, огорчен, недоволен. Как почти все, у кого большие дома и усадьбы. Их владельцам не хватает то богатства, то славы, то женщин. А у него, у Джона Брауна, сейчас на душе спокойно. Он в мире с собой. Что хотел, то и совершил. Что ему было на роду написано, то и сделал.
Он поднялся, цепь лязгнула. Снова лег на койку. Попробовал вернуться к воображаемому покою и комфорту, — неловко двигался среди старинной мебели, неловко наливал чай в тонкую чашку, шею натирал воротничок, жали непривычные сапоги. Нет, уж пускай каждый будет на своем месте.
А мог бы он стать капитаном, объехать весь мир… Мало он за свои шесть десятков лет видел.
Или стать журналистом, писателем. Кажется, за этот последний месяц написал больше, чем за всю жизнь. Если бы тогда не началось воспаление глаз, учился бы в семинарии. Читал книги. Сидел за письменным столом. Или проповеди произносил в церкви, как Паркер. Жил бы в Бостоне или в Конкорде. Сейчас-то эта писанина вынужденная, ничего иного не осталось, вот он и скребет пером, пока рука не устанет. Не стоит и об этом жалеть, это для других.
А священники — так Библию он знает не хуже их. Грешат они не меньше остальных, только тайком. А кто выполняет заповеди неукоснительно, тех раз, два и обчелся.
Видно, каждому свое. И нечего искать конца благого. Ему уготовлена Голгофа — это знак избранности. Когда-нибудь близкие его будут этим гордиться.
Преподобный Чаннинг больше двадцати лет тому назад сказал, что один убитый, замученный аболиционист окажется нужнее для освобождения рабов, чем сотни обществ и петиций. И Гаррисон говорил: необходимы белые, готовые жертвовать собой, чтобы открыть глаза народу. Предлагал себя в жертву. Браун, далекий тогда от аболиционизма, усомнился, когда услышал об этом, а теперь сам оказался жертвой. Его судьба была предсказана.
Иногда роптал на господа, слаб человек. Но он, Браун, избран для мученического венца. И это лучшая доля, чем торговать шерстью.
2
— Нет, я ничего писать не буду…
— Не спешите. Не надо так спешить в петлю, мистер Кук. Мы не предлагаем вам ничего дурного. Вы напрасно думаете, что губернатор Виллард поехал сюда, обеспокоенный лишь своей репутацией… Я уверяю вас, как ваш адвокат и как друг семьи… Мы все думаем сейчас об одном — о вашей участи, о спасении вашей жизни.
— Не будь ослом, Джон Эдвин, не будь жестоким, упрямым ослом. Подумай о сестрах. Ты уже принес им столько горя. Для моей политической карьеры совершенно безразлично, что станет с преступным мятежником, который оказался моим зятем, — повесят ли его или засадят в тюрьму. Достаточно и того, что уже произошло, достаточно этого кровавого безумия в Харперс-Ферри. Но всех нас, твоих близких, — а ведь мы тебя любим, несмотря на все твои грехи и пороки, — нас всех мучит мысль о том, что ты, молодой, сильный, одаренный, должен умереть и так умереть — в петле, постыдной смертью, как убийца, разбойник…
— Не пугай меня, Виллард, и не пытайся убеждать в своей бескорыстной любви. Не поверю. И кто поверит, что губернатору штата Индиана безразлично, кем будет считаться его зять — мятежным висельником или раскаявшимся грешником, блудным сыном, возвращенным на стезю добродетели под влиянием доброго губернатора…
— Мистер Кук, вы несправедливы, клянусь честью, вы ошибаетесь. Послушайте меня, я — адвокат. Сын и внук, и правнук адвокатов, семья Вурхисов известна всей Новой Англии безупречной честностью. Я клянусь вам, что и губернатор Виллард, и я не предлагаем вам ничего недостойного, ничего несовместимого со строгими правилами чести. Вы только подумайте сами, — вам не нужно никого выдавать, ваши товарищи либо погибли, либо уже осуждены, либо находятся далеко на Севере, вне досягаемости для здешних властей. Прокурору и суду уже все известно, отлично известно, кто и какую роль играл в подготовке и в осуществлении атаки. Вы не можете сообщить ничего нового, если бы вы даже и захотели. Уже обо всем расписано в газетах, и при этом кое-что, конечно, искажено, преувеличено. Вы своими показаниями можете скорее помочь своим друзьям, спасти тех, кого еще можно спасти, доказав меньшую степень их участия.
От вас требуется только чистосердечно рассказать о событиях и признаться в том, что нападение на арсенал — именно одно это действие — было ошибкой, преступной ошибкой, о которой вы сожалеете. А ведь это действительно так, дорогой мой Кук, ведь этот старый безумец повел всех вас на верную гибель. Он, одержимый фанатик, завлек вас — молодых, доверчивых смельчаков. Уже отправил в ад родных сыновей и вас тащит… А вы вправе остаться жить, понимаете, жить! И для этого необходимо только признание правды, не отречение, не предательство, а только признание правды.
— Благодарю вас, джентльмены, благодарю за участие в моей судьбе, но ничего писать я не буду.
— Джон Эдвин, брат, я понимаю, что ты сейчас не отвечаешь за свои слова, говори любые гадости мне и обо мне, но заклинаю тебя — подумай, просто подумай: ведь оставшись в живых, ты можешь служить своему делу, ты увидишь еще торжество своих идеалов. Ты знаешь, что и я вовсе не сторонник рабовладения. А если ты дашь себя повесить со стариком Брауном, можешь быть уверен, что вся посмертная слава достанется ему одному, о тебе же, о других просто забудут. А так ты еще добьешься настоящей славы.
— Прощайте, джентльмены, благодарю вас, прощайте.
— Пишите, мистер Кук. До свидания.
— До свидания, Джон, помни о сестрах.
Он сидит в камере за столом. Перед ним — лист бумаги, сверху — заголовок: «Признания Джона Эдвина Кука».
Как легко ему всегда писалось! Все было легко — корреспонденции из Канзаса, и стихи, и песни. Даже нудные юридические бумаги, когда служил в адвокатской фирме, и то писал быстро. За этим же столом, в камере, писал стихи. Писалось легко — как жилось. А сейчас каждое слово вытягивает из себя клещами. Даже когда его с трудом произнесешь про себя, оно еще застревает на кончике пера. А запишешь, нанесешь на бумагу — и слово приобретает какую-то необратимость. Будто и не ты его породил, будто оно само тобой владеет.
Сколько раз прежде в письмах, в стихах мелькали «поход», «свобода», «верность», «друзья», «смерть». Тогда «гибель» была еще только словом. Тогда «испить чашу до дна» было лишь цитатой, воспринятой с детства. А сейчас гибель всерьез. «Повесить публично в пятницу, второго декабря». Это Брауна, А его, Кука, когда?
Старик им в Спрингдейле читал «Слово совета Галаадитам». «Пусть вас повесят, но ни в чем не признавайтесь!» — он так написал еще в пятьдесят первом году, целая вечность прошла. Даже и сам Старик тогда еще не знал, что такое «повесят», А теперь разве он знает? По-настоящему этого никто не знает заранее, только потом. А есть ли потом?..
Что писать? Застревают слова.
Я поступал по совести. Я сражался за свободу рабов. Я воевал в Канзасе. Я пошел за Джоном Брауном в Харперс-Ферри. А теперь я обязан подумать о своей семье.
На шее — медальон. Дагерротип — маленький сын. Завитки волос такие же, как у отца. И локон в медальоне.
Малыш и Виргиния. Моя любовь, моя жена Виргиния. И судит меня тоже Виргиния. Случайное совпадение?
В последний раз они виделись с женой тринадцатого октября, Виргиния переночевала на ферме. Какое счастье, что она выбралась, решилась оставить малыша. Он, Джон, больше нуждался в ней, чем малыш. С малышом она постоянно, у них целая вечность впереди. У него же… Увидит ли он ее еще?
А вдруг эта встреча не последняя? Вдруг то, что он пишет, вернет ему Виргинию?
Они тогда уединились с Виргинией, и на секунду мелькнула мысль: а парням каково, они тоже давно без женщин. Отогнал от себя. Обнять родную, все забыть…
А вдруг он взойдет на эшафот, начнет говорить, произносить последние слова, а в этот момент прискачет всадник, лошадь в мыле, привезет приказ президента — отменить казнь? Эшафот. Высокая трибуна. Что он скажет с этой трибуны? Свобода… Негры… Равенство… Декларация независимости…
Виллард его рассердил, молол какую-то ерунду, все о себе да о себе. Ну, конечно, и о жене, о сестрах Кука. Он младший в семье, с детства помнит девичьи лица вокруг, его любили сестры, сладости отдавали ему, Джонни.
Вилларду он твердо сказал: «Товарищей не предам». Не дал себя убедить. А теперь остался один, Перед листом, на котором сверху: «Признания Джона Эдвина Кука».
Он часто в детстве, в юности воображал подвиги, и он пошел на подвиг.
Часто думал о себе, а знал себя мало. Кое о чем едва догадывался. Когда в мае 1858 года рейд пришлось отложить из-за предательства Форбса, он писал друзьям: «…наедине, перед лицом всевышнего, в тиши вашей комнаты, я хочу, чтобы вы помнили, пока я не покину вас: я был так эгоистичен по натуре, что во мне шла постоянная борьба между желаниями эгоистичного сердца и предназначенным мне долгом. Так оно и есть. Мы сами себя не знаем, пока на нашу долю не выпадут великие испытания… Единственное, что меня отделяет от ощущения страшного горького несчастья, — это сознание, что я иду по пути долга».
Может быть, это было предчувствием.
Долг. Кто-то другой наваливает на тебя тяжелое, враждебное. Не хочу!
Напишу признания. Ничего нового я, разумеется, не сообщу. Только то, что уже известно. В газетах уже писали о соучастии Смита, и Хау, и Сэнборна. Вот и об этом напишу.
А в чем именно выражалось соучастие — об этом не буду. Не знаю. Я и на самом деле не знаю. Старик все скрывал, связи свои особо тщательно скрывал.
Хау подарил Брауну ружье и два пистолета. Но это же донос? Нет, не донос. Донос, когда врешь. А Хау правда подарил и давал деньги. А на деньги покупали оружие. Хау очень известен, защищен, ему ничего не будет. Да потом он и стар, шестьдесят почти. Успел и в Италии, и в Греции повоевать. Посмотрел мир. А он, Кук, ничего еще не видел. Еще? Или уже?
Надо писать. Надо начать сначала, как познакомились с Брауном в Канзасе, как привел к нему Парсонса и Рилфа.
…А зачем называть имена? Но ведь они уже названы. Пусть названы, но не мною. Без меня.
Вот ведь о Христе конечно же все было известно. И римляне, и фарисеи, и стража — все его знали в лицо. Так что поцелуй Иуды вовсе не был нужен ни для суда, ни для следствия, ни для приговора. Этот злосчастный поцелуй был им нужен совсем для другого. Чтобы Иуду замарать. Чтобы ученика стравить с учителем. Чтобы всех их унизить. Поэтому Иуда и повесился — понял, что сотворил с собой. Не с Христом, а с собой.
Нет, он не Иуда. Он не будет им помогать. Только расскажет, как дело было.
Качается маятник: туда-сюда, туда-сюда. Спасение — гибель, спасение — гибель.
Кук углубляется в несущественные детали. «А потом Браун дал мне два доллара на путевые расходы». Это правда, и это совершенно невинно. И повредить никому не может. Дальше рука уже сама, словно отдельно от него, выводит: в газетах меня называют главным помощником Брауна, но это не соответствует действительности. Главными помощниками Брауна были, скорее, Каги, Стивенс, Хэзлит.
Тело Каги в реке Шенандоа, ему не повредишь, Стивенс в другой камере, тоже ждет приговора. И Хэзлит в камере, но не доказано, что это именно Хэзлит. Все это отрицают.
Кук говорит правду, только правду.
Он ревновал Старика и к Каги, и к Стивенсу. Кук писал лучше, а Браун больше доверял Каги. Он стрелял лучше, он — самый меткий стрелок, а учить стрельбе поручили Стивенсу. Теперь он говорит правду: Каги и Стивенс были ближе Брауну. Каги вообще не создан для боя, учитель и учитель… А Стивенс — так Стивенс еще властолюбивее, чем Старик, не дай бог оказаться под его командой.
Легче становилось, когда уходил в подробности: называл города, места, даты. Это никому не повредит, а количество страниц увеличивалось, получались «Признания».
Рассказал о Форбсе: «Он предоставил информацию правительству». На секунду шевельнулось: «А я?», но тут же загасил… Я пишу не донос. Я сообщаю только бесспорные и, по сути, уже известные факты.
Рука сама выводит: «Рабы были вооружены». Кто их вооружил, не знаю. Вероятно, Браун. А сам уже знал, что Браун осужден и за «подстрекательство рабов к мятежу».
Он с неприязнью думал о грозном Старике, который был шагах в двадцати, через камеру. Он подогревал в себе эту неприязнь, раздувал искорки, которые тлели и раньше.
Из детства выплывала воскресная школа, забытая проповедь — нельзя вступать в соглашение с дьяволом. За это следует наказание, справедливое наказание. Так кто же дьявол? Прокурор Хантер? Но он был так добр к Куку.
А не дьявол ли сам Старик? Прикидывался богом всемогущим, а они уши развесили…
В письме жене из тюрьмы он обосновал свою неприязнь: «Меня, как и моих товарищей, заставили поверить в то, что… массы рабов стонут под игом угнетения… Мне и моим товарищам дело было представлено так, будто едва взовьется знамя свободы, тысячи рабов встанут под это знамя… Результат показал, что нас обманули, что массы рабов не хотят свободы. Что они не собрались под наши знамена. Во время схватки мы оказались в одиночестве… Нас обманули, но, когда мы обнаружили свою ошибку, было уже поздно».
В «Признаниях» эта мысль сглажена, завуалирована, но именно она лежит в основе. И она направляла, помогала писать, предоставляла индульгенцию, «Нас обманули». Кто же обманул? Понятно кто.
И забыл, просто забыл, что это он, именно он и докладывал Брауну о настроениях людей в Харперс-Ферри. О том, что думают рабы и рабовладельцы. Он ходил из дома в дом, с фермы на ферму, выдавал себя за продавца книг и карт, расспрашивал. И он не столько слушал, сколько говорил, вкладывал в собеседника свои слова, свои мысли, свои настроения, А потом его собственные слова вроде эха возвращались к нему, они-то и запоминались. Именно это он потом и пересказывал Брауну.
Кук, мечтатель, увлекающийся фантазер, и в обычных обстоятельствах не умел точно передавать то, что говорят другие, то, что он видел и слышал, А тут обстоятельства были совсем необычными.
Он писал «Признания» и спорил с собой. Спорил с собой — благородным, добрым, тревожащимся за друзей, пытаясь того Кука заглушить, заставить замолчать.
Зачем Старик нас повел? Он же старше, опытнее. Он-то должен был знать, чем все кончится.
Я не хочу умирать. Я вообще не хочу умирать, И ради освобождения рабов не хочу умирать. Я сражался, а на виселицу не хочу, Разве это справедливо, чтобы меня повесили?
Неужели я помогаю суду рабовладельцев! Но ведь ничего нового я не сообщаю. Только общеизвестные факты. Почему именно я должен умереть? Я же только начал жить.
Браун старик. Наплодил двадцать детей. А какая это радость — ласкать женщину, этого он не знает, не понимает. И наверно, никогда по-настоящему не знал. Иначе не напустился бы так зло на меня в Спрингфилде, когда я прижал маленькую Рози… Подумаешь, какое преступление. Она сама хотела. И вообще он все учил и учил, всем надоели нудные проповеди, гнусавый голос. Мне скоро тридцать, я сам уже учил детей. Тридцать.
Христу оставалось еще три года.
А вдруг то, что я пишу, вот эти самые страницы, эти проклятые «Признания» и впрямь встанут между мною и виселицей?
Виллард и Вурхис знают лучше. Напрасно я их обидел. Они хотят меня спасти, а Брауну все равно уже не поможешь.
…Но ты же писал в стихах: «Испить чашу до дна». Так то стихи…
Я все делал. Я не боялся. А они еще мне не доверяли. И от того, что это будет написано, ведь не стану я, герой Харперс-Ферри, хуже тех, кто и пальцем не пошевельнул для спасения рабов…
…Но другие бойцы так не поступали. Никто признаний не писал. Я не такой, как они. Я могу дать больше. Для того самого дела, на которое мы пошли. Я владею пером.
…Нет, это не подлость, никто не посмеет назвать меня подлецом. Я мог бы сразу бежать и теперь был бы в Канаде. А я остался, вернулся в Ферри и вызвал огонь на себя.
Он написал длинные «Признания». Писал даже и о том, чего не помнил. «Не помню, кому именно посылали приглашения на съезд в Чатем». Искренне не помнил. Виллард и Вурхис велели написать искренние признания.
…Все равно они меня убьют.
Трудно. Страшно. Долгие перерывы между словами.
…Ничего не поделаешь, надо возвращаться к листу бумаги. Постараюсь быть справедливым к Старику. Надо написать, как он нас предупреждал уже перед самым рейдом: «Берегите чужие жизни».
Все чаще его рука выводила «они». Не «мы», а «они». Отделиться от «них» на бумаге, тем самым отделиться от «их» судьбы.
Кончил. Перечитал. Все правда. Он ничего не выдумал. Только в чем же смысл всех этих переездов, планов, боев? Где же главная цель — освобождение негров от рабства? Об этом — ничего. Не вписалось в этот текст, этих «Признаний».
Впрочем, когда его в тюрьме потом спросили, отошел бы он от борьбы, если бы ему удалось спастись, он твердо ответил: «Битва должна продолжаться до горького конца, мы должны победить, ила божественной справедливости не существует».
Браун прочитал «Признания Джона Эдвина Кука». Горько, словно полынь жевал. Защитник, который принес ему эту длинную бумагу — чуть ли не двадцать страниц, отчасти прав: Кук ничего нового не сообщил суду. Расчет прокурора Хантера не оправдался, он так торжественно выкладывал эти листы — козырной туз!
Все равно горько. Ведь всем им, всем нам сейчас ничего иного не остается, как достойно идти навстречу смерти. Достойно. Никого не предавая.
На суде Браун сказал «о заявлениях людей, связанных со мной. Некоторые из них утверждали, будто я заставлял их примкнуть ко мне. Но истина прямо противоположна. Я говорю это не для того, чтобы обидеть их, я сожалею об их слабости».
А ведь ему казалось, что Кук хорошо к нему относится, верит ему, как и другие парни. А это все написано с неприязнью. И не в фактах дело, а в чем-то неназванном, в чем-то между строк. Вот, например, рейд в Миссури: у Кука получается, что мы двинулись не рабов освобождать, а покровителей моих убеждать в том, что они не зря вкладывают деньги и силы. Но ведь одиннадцать-то негров мы вывели, растет в Канаде черный Джон Браун, зачатый в неволе, рожденный в пути, растет на свободе.
Почему Кук вообще за ним пошел? Писал бы статьи, стихи, тискал бы девчонок… Но в стихах он так красиво писал «свобода народа…». Вот и поверилось, что он настоящий борец за свободу. Правда, Кук еще в Спрингдейле с ним спорил, но потом согласился. Видно, передумал. Такие, как он, способны только на рывок, на храбрый, красивый жест и чтобы обязательно перед зрителями, на виду. А на длительные, постоянные, неприметные для других усилия, как Стивенс, как Каги, не способны.
Брауну даже себе не хочется признаться в том, что его обидела сильнее всего одна строчка: «Мне сказали, что Джон Браун убит». И все. Как о чужом.
Лучший стрелок. Храбрец Кук. Красавец Кук. Любимчик женщин. И здесь, в тюрьме, посетители выходят от него восхищенные — умен, образован, с ним так интересно разговаривать, словно никаких запоров, решеток, кандалов, будто в клубе или в университете. Язык у него хорошо подвешен. Энни — девочка, а верно сказала: «Он готов на все во имя Дела, только не умирать».
Молодой. Молодому умирать труднее.
Плохо ты разбираешься в людях. Именно Куку поручил собирать сведения о Харперс-Ферри, хотя давно не вполне доверял ему, боялся и легкомыслия, и длинного языка. Впрочем, отчасти это и само собой произошло, ведь Кук раньше всех приехал в Харперс-Ферри, обосновался, женился, ребенок у них родился… Кому же собирать сведения, как не ему?
А если бы эти сведения собирал кто-нибудь другой, Каги или он сам, что изменилось бы?
Длинные «Признания», но странная у Кука память — какие-то мелочи помнит, а о спорах в Чатеме вокруг сорок шестой статьи Временной конституции забыл или делает вид, что забыл. Браун настаивал: будем верпы государству, будем верны флагу. Конечно, он тогда не думал о допросах, о суде, о приговоре. Но Кук сегодня мог бы подумать, ведь он знает, что Брауна обвиняют в государственной измене. Себя-то он ловко защищает, выгораживает, мог бы подумать о других.
Еще раз перечитал полученное утром письмо. Не все так к нему относятся, как Кук. Незнакомая женщина из колонии квакеров писала: «…ты никогда не узнаешь, скольким друзьям ты дорог, сколько людей привязаны к тебе всем сердцем, любят тебя за твои храбрые попытки освободить бедняков, освободить угнетенных.
И хотя мы противники насилия, хоти мы верим, что лучше исправлять людей оружием, поражающим дух, а не плоть, хотя мы не одобряем кровопролития, но мы твердо знаем, тебя воодушевляли самые благородные, самые человеколюбивые мотивы…»
Чужая женщина поняла, а он… Больно.
Ни о ком из товарищей Брауна потом не спорили так яростно, как о Куке. Друзья защищали его. Рилф писал: «…его недостатки были недостатками натуры горячей, импульсивной, рыцарственной». Ему вторил Хинтон: «…ошибки Кука связаны с его темпераментом, у него — благородная душа, гибкий, тонкий ум, живое воображение».
И Редпат: «Кук был мужественен, но у его мужества не было нравственной основы».
О Куке спорили студенты, священники, аболиционисты.
— Предавать товарищей, называть тех, кому грозят преследования, — подло.
— Но ведь они его знали, знали, что он такой. Его вообще не надо было брать в отряд.
— Кто мог знать заранее, что он предаст?
— Предательство — грех. Грех я ненавижу, а грешников жалею.
— Его нельзя жалеть. Обыкновенный подлец, цеплялся за свою жизнь и предавал других, хотя и вернулся в Ферри, когда бой был уже проигран. При кораблекрушении, когда спасательная шлюпка одна и всем не спастись, трусы становятся подлецами. Так и Кук топил Брауна. Нечего осложнять, все очень просто.
— Если бы думал только о своей жизни, не вернулся бы. В тюрьме он писал еще и о другом — о своем побеге. И тогда не назвал ни одного имени.
— Не он один вернулся. Шилдз Грин был в горах, мог бежать, спасти свою жизнь, как сделал Осборн Андерсон. А он снова упрямо повторил: «Я уж пойду за Стариком» — и пошел. Вот что такое безоговорочное мужество, и не на виду.
— Мы не имеем права судить. Мы но имеем права осуждать, ведь мы на свободе. Мы живем и завтра будем жить, а его повесили.
— К виселице надо идти достойно, как шел старый Джон Браун.
3
Шестнадцатое октября. Хмурое утро. Шел дождь. Потом задул сильный мокрый ветер, сквозь серые тучи изредка прорывался мутно-желтый свет осеннего солнца.
На ферме это утро ничем не отличалось от предшествующих. Самые молодые готовили завтрак. Сели за стол, начали с молитвы. Было только теснее, чем обычно, накануне пришел из городка Джон Кук и остался ночевать. А за день до этого вернулся Оливер Браун, проводивший жену и сестру до Трои. Собралось двадцать два человека.
Когда Старик закрыл книгу, он кивнул Аарону Стивенсу, и тот снова объяснял, как обращаться с оружием, как чистить ружья, пистолеты, револьверы, как затачивать сабли и кинжалы, что, когда и как пускать в ход. Некоторые тут же стали выполнять указания: сняв сапог, насыпав на подметку немного золы, точили кинжалы.
Обед был обильнее всех прежних обедов. Джон Браун читал из Библии о доблестных братьях Маккавеях, сражавшихся за освобождение своего народа, читал дольше, чем обычно, и чаще поднимал взор на слушателей.
Люди, знавшие его давно, — сыновья, зятья, Каги и Стивенс — переглядывались. Никто не сказал вслух, но чувствовали: выступим сегодня. Напряжение стало несколько спадать, когда стемнело и опять усилился дождь. Не верилось, что можно уйти от горячего очага, от теплого света керосиновых ламп.
Вечером Старик велел всем собраться на молитву. Он прочел псалмы и кивнул Копленду: веди молитву. Он впервые уступал эту обязанность другому, притом именно негру.
Когда отзвучало последнее «аминь!», Джон Браун высоко поднял голову, распрямился так, что на несколько минут вовсе перестал сутулиться. Но сказал обычным голосом:
— Парни, берите ружья, мы идем в Ферри.
Собирались недолго. Все было давно приготовлено. Каждый надел широкий пояс с пистолетом, взял винтовку, перекинул ремень через плечо так, чтобы ствол глядел вниз и приклад не торчал, набил карманы патронами. Каждый набросил на плечи широкий темно-серый плед, скрывавший оружие и защищавший от дождя.
Когда все были готовы, Браун сказал:
— Сейчас еще раз хочу напомнить то, о чем говорил вам все время, хочу, чтобы это накрепко засело вам в души. Вы взяли в руки оружие… Каждая пуля может принести смерть. Каждому из вас дорога его жизнь, и жизнь каждого из вас дорога его друзьям, его родным. Так вот, вы должны помнить, что всем людям, всем без исключения, и хорошим, и дурным, всем их жизни так же дороги, как вам — ваши. Поэтому никогда не отнимайте жизни у другого человека, если можете этого избежать. Но если это необходимо для Дела или если обороняетесь, тогда уж действуйте наверняка, чтобы кровь пролилась не напрасно.
Быстро, посвечивая фонарями, запрягли лошадь в фургон, положили еще несколько ружей, дюжину ник, лом, кузнечный молот и все накрыли соломой.
Оуэну Брауну, Барклаю Коппоку и Фрэнсису Мерриему он велел остаться, пока не пришлет за ними. Братья Барклай и Эдвин Ковпаки обнялись.
Джону Куку и Чарльзу Тиду Старик сказал:
— А вы, капитаны, идите вперед. Помните, в чем ваша обязанность?
— Да, сэр. Не упустить ни одного встречного, задерживать, чтобы никто не успел поднять тревогу.
Джон Браун взобрался на передок фургона. Поглядел на дом, на желтые окна, на открытую дверь, на сына и его товарищей, остающихся в резерве. Ничего не сказал, не кивнул, взял вожжи, встряхнул, фургон медленно тронулся, а за ним двинулись попарно, сутулясь от дождя, скользя по мокрой траве, шлепая по лужам, шестнадцать воинов — Первая Американская Армия Освобождения рабов.
Когда они подходили к мосту через Потомак, ведущему в город, было уже больше десяти. Во мгле река казалась шире, чем днем, отливала черной сталью. Сквозь шум дождя, хлещущего по воде, по дорожной грязи, прорвался паровозный гудок, перестук колес. Впереди замелькали пятна света. Поезд из Балтимора шел на запад. На том берегу темно бугрились холмы, угадывались дома, огни лучились сквозь дождь у самого берега. Там железнодорожная станция и здание арсенала.
Кук и Тид задержались у телеграфного столба, один взобрался другому на плечи, тесаком обрубил провода. Потом так же обкорнали еще два столба.
Мост был крытый, освещенный двумя тусклыми фонарями. Фургон скрипуче качнулся, колеса застучали по доскам. Под дощатым навесом моста еще терпко пахло паровозным дымом, мокрым углем.
Посреди моста стояли контрольные часы. Каждые полчаса сторож, охраняющий мост со стороны города, должен был отмечать в них особый листок — свидетельство того, что он не спал.
— Встретим часового у его часов, — крикнул кто-то из молодых.
Все засмеялись. Браун строго посмотрел на них. Но ничего не сказал. Он передернул вожжи. Часовой уже шел им навстречу, он услышал смех, подойдя ближе, узнал Кука, поздоровался с ним. Когда Каги и Стивенс положили ему руки на плечи, сказав: «Ты в плену, не вздумай орать», он сначала тоже засмеялся — веселые парни. Но потом увидел ружейные стволы, торчавшие из-под накидок.
Подъехал фургон, и остроглазый возчик с седой бородой отрывисто скомандовал:
— Ведите его, не спускайте глаз. Ты, Уотсон, и ты, Стюарт, оставайтесь на мосту. Никого из города не выпускать. Занят мост. Взят первый пленник.
Прямо напротив выхода с моста темнело здание арсенала. Светился только один фонарь у ворот, тяжелые железные решетчатые ворота изнутри охранял дремавший стражник. Его разбудил стук колес, внезапно прервавшийся негромким, но внятным суровым голосом:
— Открывай или давай сюда ключ.
Он увидел стволы ружей, нацеленных в упор, парней в темных накидках и фургон, запряженный мокрой лошадью, а на передке — высокого бородача в круглой шляпе.
— Н-нет, не открою… Нельзя. Здесь федеральный арсенал.
Бородач вполголоса что-то сказал. Двое парией полезли в фургон. Залязгало железо. Они вытащили ломы, сбили замок, распахнули ворота. Отряд вошел в ближайшее кирпичное здание с тремя большими деревянными воротами. В одной стороне была караульная комната, там топилась печь, а в другой, отделенной глухой каменной стенкой, стояли телеги с пожарными насосами и огромные катушки свернутых шлангов. Двух пленников поместили в караульное помещение, приставив к ним часового.
Перешли через дорогу в основное здание арсенала, где вовсе не было охраны.
Браун распоряжался вполголоса: Хэзлиту и Коппоку он велел быть «гарнизоном» арсенала. Каги и Копленду поручил занять ружейные мастерские, расположенные дальше, в другой стороне, на набережной Шенандоа; младший сын Оливер и Вильям Томпсон должны были охранять мост через Шенандоа, он вел на Юг.
Потом Браун отозвал Стивенса:
— Выбери пять человек, возьми фургон, и отправляйтесь в усадьбу полковника Вашингтона, в пяти милях отсюда, привезите его, Кук знает дорогу. Хозяин — внучатый племянник Джорджа Вашингтона, первого президента, понимаешь? Его имя нам будет полезно в любом случае, и если нам удастся уговорить его быть посредником, и если возьмем как заложника. Кук разведал, что у него в доме хранится шпага Вашингтона, подарок прусского короля Фридриха, и пистолет, подарок Лафайета. Обязательно добудьте и привезите. Мы — армия, нам необходимы реликвии. Но не забывайте главного: этот наследник великого воина американской свободы тоже владеет рабами. Их надо освободить. Молодых негров везите сюда, достаньте там лошадей. Пусть Кук укажет других рабовладельцев, которые окажутся у вас по пути. С ними поступайте так же: хозяев арестуйте, рабов освободите, молодых негров зачислим в нашу армию.
— Все понял, сэр.
Стивенс вызвал Кука, Тида и трех негров — Осборна Андерсона, Шилдза Грина и Льюиса Шеридана Лири.
В полночь они добрались до усадьбы. Войдя в дом, зажгли факел, постучали в дверь спальни.
Полковник Вашингтон никогда не был военным. Звание полковника ему присвоил губернатор Уайз, которому он помогал в предвыборной борьбе.
Он подчинился требованиям вошедших, не выказывая страха, даже пошутил вызывающе:
— А вы не очень храбры, джентльмены, если атакуете одного спящего вшестером, причем каждый вооружен за троих.
Стивенс потребовал шпагу Вашингтона, тут же демонстративно вручил ее негру Андерсону. В столовой зажгли множество свечей, как на празднике. Шпагу, которая хранилась в особом шкафу, — национальная и семейная святыня плантатора-аристократа — держали черные руки.
Полковник молчал, ощущая, как ногти впиваются в ладони.
Стивенс приказал запрячь самый большой фургон. Усадили полковника и шестерых молодых негров, а всем остальным неграм, которых разбудили во дворе и в конюшне, объявили, что отныне они свободны.
На обратном пути заехали в другую усадьбу — Альштедта. Когда начали стучать прикладами в двери, на верхнем этаже открылись окна, выглянули две женщины и закричали:
— Спасите!!!
Грин поднял винтовку, пригрозил:
— Молчать!
Окна захлопнулись. Хозяина и его сына подсадили в фургон к Вашингтону, из негров отобрали тоже шестерых.
— Теперь вы свободные люди, будете воинами, будете сражаться за свободу всех рабов.
Полусонные, недоумевающие негры молчали и зябко жались друг к другу, накрываясь старыми одеялами от холодных струй дождя, затекавших под навес фургона, испуганно поглядывали на своих хозяев, бессильных пленников, которые сидели так непривычно близко от них на той же соломе, поглядывали на странных негров с винтовками, пистолетами и кинжалами.
Те разговаривали как равные со своими белыми товарищами, тоже вооруженными, на самого полковника Вашингтона глядели без боязни.
Со стороны города послышались выстрелы, паровозные гудки, опять выстрелы.
Начальник маленького отряда, невысокий большелобый янки с темной бородкой, приказал поторопиться. Его отрывистый шепелявый говор северянина звучал пугающе-чуждо и для захваченных плантаторов, и для рабов, которых он только что объявил свободными.
А в Харперс-Ферри уже прогремели первые выстрелы и пролилась первая кровь.
Очередной стражник пришел сменить часового на мосту, увидел двух незнакомцев с ружьями, которые объявили его пленником. Он разозлился на бесстыдство щуплых северян, ударом кулака в челюсть сбил Уотсона Брауна, а когда второй направил на него ружье, бросился бежать. Тейлор кричал: «Стой!», выстрелил в воздух, второй выстрел сшиб шляпу стражника, пуля резанула его по голове. Он вбежал в подъезд ближайшего дома — это была гостиница, примыкавшая к вокзалу, поднял тревогу. Дежурный клерк всполошился — сейчас должен пройти ночной поезд на Балтимор, а что, если разбойники, захватившие мост, разрушили путь или заложили мину?
Он побежал навстречу поезду с фонарем. Паровоз остановился. Машинист и старший кондуктор, выслушав сбивчивый рассказ, взяв по фонарю, пошли к мосту разведать. Их встретили выстрелами. Пули просвистели угрожающе близко. Они тоже бросились бежать. Машинист дал задний ход, отвел поезд к станции.
Кладовщиком багажной камеры на станции Харперс-Ферри был свободный негр Шипхэрд Хэйуард, он дружил со стражниками, охранявшими мост, он пошел к мосту вместе с проводником багажного вагона на помощь второму часовому. Их встретили двое с винтовками наперевес, приказали остановиться. Они бросились бежать. Снова грянул выстрел. Хэйуард упал, пополз к платформе, захлебываясь кровью. Позвали доктора Старри, который жил поблизости от станции, но он, увидев, что помочь уже ничем нельзя, только укрыл смертельно раненного, запретил трогать. Пассажиры поезда и жители ближайших домов, разбуженные выстрелами, толпились на платформе вокруг умирающего негра.
Еще один из железнодорожников попытался приблизиться к мосту, чтобы договориться. Он сообразил, что стреляли по убегавшим, шел осторожно, кричал: «Я с миром… с миром». Его отвели в арсенал. Час спустя он пришел к начальнику поезда, панически возбужденный:
— Арсенал захвачен армией восставших негров. Их там пятьсот или шестьсот, все с винтовками, еще две или три сотни белых, тоже вооруженных. Командует капитан, бородатый верзила с такими сверкающими глазами, что секунды нельзя выдержать взгляд. Они говорят, что на Юге поднимается восстание рабов.
В толпе пассажиров несколько женщин истерически зарыдали, одна упала в обморок.
Начальник поезда призывал успокоиться, отвести дам на станцию. Он сам пойдет к мятежникам, он переговорит с их командиром. Поезд везет правительственную почту. Все пассажиры находятся под охраной федерального правительства. Даже самый фанатичный аболиционист не осмелится посягнуть на государство, на правительство Соединенных Штатов.
Джон Браун в главном здании арсенала при свете чадных керосиновых факелов говорил с пленными. Его слушали стражники, плантаторы, железнодорожники, негры, привезенные Стивенсом. Их вооружили пиками и велели охранять пленников.
Браун говорил:
— Мы пришли сюда, чтобы освободить черных рабов. Мы пришли из Канзаса, где раньше сражались за свободу. И теперь здесь, в рабовладельческом штате, мы захватили арсенал федеральной армии. Мы освободим всех негров, ибо рабство есть поругание законов божеских и человеческих. Мы призываем всех, кто любит свободу, помочь нам. Но если жители этого города попытаются мешать нам, то мы будем вынуждены сжечь город и пролить кровь.
Доктора Старри соседи считали заносчивым, желчным упрямцем, хотя он никому никогда не отказывал в помощи. У него не было рабов, он лечил негров, так же как белых, но он был истым южанином, презирал янки — торгашей и ханжей, был уверен, что все противники рабства — опасные безумцы, угрожающие Америке грабежами, поджогами, братоубийственной войной.
Выстрелы у моста, кровавая пена на губах умирающего Хэйуарда, рыдания женщин его не столько напугали, сколько возмутили. Он пробрался к арсеналу, укрываясь в тени стен, он слышал и видел, как подъехал большой фургон, грохоча по булыжникам, он узнал полковника Вашингтона и Альштедта, которых вели вооруженные негры, он заметил, как смущенно и робко держались молодые черные парни, которые сошли с того же фургона, когда им дали пики и долговязый янки высокопарно сказал, что теперь они — воины армии свободы. Он слышал, как тот же янки объявил: вон там стоит наш начальник. Это прославленный капитан Браун, старый Джон Браун из Канзаса, сражавшийся в Осавотоми.
Старри убедился, что отряд Брауна не так велик, как почудилось спросонья и с перепугу железнодорожнику. Но он может быстро вырасти.
Медлить нельзя. Он побежал домой, оседлал коня. Оба моста захвачены, оставалась лишь дорога к западу. По пути он разбудил начальника арсенала, потом поднял с постели пастора лютеранской церкви, попросил его ударить в колокол и послал соседей оповестить городские власти. Добравшись до знакомых фермеров, Старри отправил гонцов в Чарлстон, главный город графства, в восьми милях от Харперс-Ферри.
Браун пошел на станцию. Он слышал взволнованные голоса, плач, видел тревожную суету людей, пробегавших от поезда к станции. Он подошел к тихо стонавшему человеку, который лежал под наспех сооруженным навесом из мешков. Старая негритянка вытирала кровь, сочившуюся изо рта.
— Кто это? — спросил он.
— Бедняга черномазый, свободный негр, добряк, кладовщик. Его подстрелили с моста разбойники-аболиционисты.
…Свободный негр — первый, кого сразили мы, воины свободы. Что это — искушение господа или знамение дьявола? Агнец невинный — первая жертва ради спасения миллионов страждущих. Чья пуля догнала беднягу, Уотсона или Тейлора? Надо ли их упрекнуть? Он вразумлял их: щадите чужие жизни… Но теперь идет война, мы — армия, они — часовые на мосту. Во мраке не видно, кто перед ними, белый или черный, вражеский лазутчик или случайный прохожий… Сначала приказали остановиться. Ночью, в дождливой тьме, померещились толпы врагов, услышали топот бегущих. И выстрелили. Иначе не могли. И он сам, наверное, поступил бы так же.
Нет, не надо рассказывать, кого они убили. Не надо сеять новые сомнения и колебания.
Умирает, бедняга. И в тусклом свете фонарей видно, как черное лицо посерело, вытягивается, Дьявол направил эту случайную пулю…
Начинало светать. Патрульные по приказу Брауна задерживали всех мужчин, которые выходили из своих домов, и вели в арсенал. Так собрали сорок человек — служащих, мастеров, рабочих арсенала, нескольких фермеров, домовладельцев.
Снова гремели выстрелы. Одного из жителей города, который вышел с ружьем из дому, убили посреди улицы.
Утро было пасмурным и холодным, по дождь прекратился. Со стороны моста протяжно завыл паровоз. Поезд ушел на восток.
Старри пришпорил едва отдохнувшего коня. Он скакал в Чарлстон. Уже издалека он услышал набатные колокола. По улицам городка катили повозки, бежали люди.
На площади выстроилась рота милиции, многие милиционеры были в серых мундирах, слежавшихся в сундуках, они угловато топорщились… Упряжка мулов тянула старую бронзовую пушку. Командир гарцевал перед отрядом в шляпе, украшенной петушиным хвостом. Он узнал Старри.
— Хэлло, док! Мы идем на выручку в Ферри! Осталось еще что-нибудь от города? Многим удалось спастись?
— Город цел. Наша милиция тоже собралась. Бандиты захватили только арсенал.
— Вы что утешаете нас, док? Тут уже все знают, что Харперс-Ферри горит, жители бежали в леса, а черные дьяволы убивают и насилуют на всех дорогах.
— Это преувеличено. Но если мы будем медлить, то именно так и произойдет.
— Гвардейцы, это мой друг, док Старри из Харперс-Ферри. Он говорит, что силы порядка еще удерживают город и отбивают атаки взбесившихся черномазых и бандитов-янки. Там ждут нашей помощи. Медлить нельзя, вперед!
Набатные колокола звонили в соседних городках, Прибежали несколько бледных, задыхающихся от страха жителей Харперс-Ферри.
Мужчины заряжали ружья, точили кинжалы и топоры, седлали лошадей. Отряды милиции собирались у церквей и мэрий. Капитаны проверяли оружие. Призывали: «Идем на помощь. Идем защищать очаги, защищать наших жен и детей. Наш мирный Юг». Успокаивали. Приказывали.
К ним присоединялись новые ополченцы, добровольцы. Чуть ли не каждый час приносил тревожные новости.
Браун рассчитывал, что известие о захвате арсенала привлечет в отряд по меньшей мере несколько сотен негров и молодых аболиционистов, которые только и ждут призыва.
Первый удар был успешным: противник в панике, захваченного оружия хватит на несколько полков. Он решил рассредоточить людей, чтобы создать впечатление большой силы и образовать несколько боевых очагов, куда могут приходить рекруты.
Осборн Андерсон и Шилдз Грин должны были создать форпост на ближних холмах. Каги он приказал закрепиться на той стороне реки, в доме на открытом месте, удобном для обороны. Но через два часа Каги прислал записку: «Отряды южан движутся на город. Нам неоткуда ждать помощи, нужно отступать немедленно». Нет, это было бы ошибкой. Они вступили в бой, и самое жестокое поражение лучше трусливого бегства. У них в руках арсенал, горы оружия. И придут, должны прийти еще воины, белые и черные.
Куку, Тиду, Лимену и шести неграм, освобожденным ночью, он велел отправиться в трофейном фургоне Вашингтона через Потомак — вербовать добровольцев и перевозить оружие. Каги, Кук, Оливер будут командовать новыми отрядами.
Лимен вернулся и привел еще одного пленного плантатора из Мериленда. Задание выполнено, оружие перевезено. А с той стороны Шенандоа слышны беспорядочные выстрелы. Многие жители Ферри бежали в горы, не только белые, но и негры. Лимен пересказал слова старухи негритянки: «С Севера пришли слуги сатаны, они похищают бедных негров, уводят их от добрых южных хозяев, продают злобным янки».
Браун слушал Лимена хмуро. Выстрелы доносились все ближе.
Во двор арсенала вбежал Оливер, бледный, потный:
— Отец, они заняли мастерские и мост. Их очень много. Они охотились за нами. Денгерфилд убит.
«Я несу полную ответственность за жизни тех, кто уже погиб и кому еще предстоит погибнуть», — в этих строках из тюремного письма Браун позже выразил то, что ощутил в разгар боя.
— Первый из нас…
— Он упал среди улицы, они набросились на труп, как псы. Били палками, рубили саблями.
Шилдз Грин бросился к бойнице — отомстить за друга. Кто-то упал. Может, и не убийца Денгерфилда.
Выстрелы вблизи. Пули в стену. С улицы крики: «Убивай их! Убивай их!»
Стивенс командовал:
— Цельтесь спокойно. Не высовывайтесь.
Браун приказал отвести всех пленных в большое кирпичное здание, помещение для пожарных машин. Некоторые попросили разрешения сходить домой, предупредить родных да заодно позавтракать. Браун разрешил. Один пленник уходил дважды — завтрак не сразу поспел.
(Потом, на суде, Гардинг говорил о «шайке воров и разбойников». Пусть бы вспомнил какого-нибудь разбойничьего атамана, который отпускал своих пленных домой, на ланч…)
Стивенс быстро обошел двор:
— Они строят баррикады на прилежащих улицах и напротив, у трактира. Их уже не меньше тысячи. Много пьяных. Пушек пока не видно.
К воротам изнутри придвинули тяжелые телеги с насосами.
На другой стороне улицы, за оградой арсенала, толпились. Галдели. Орали. Подъезжали все новые всадники. Над трактиром подняли флаг — звезды и полосы — флаг федерального правительства.
Браун велел Томпсону ответить — поднять на шоссе белое полотнище, флаг парламентера, и вместе с одним из заложников пойти к врагам, предложить перемирие.
— Пусть нам откроют дорогу за Потомак, там мы отпустим всех пленных.
Томпсона окружила толпа, мелькали стволы ружей, его повели в трактир. Шум на той стороне усиливался.
Браун послал новых парламентеров — Уотсона и Стивенса — и с ними пленного, начальника арсенала.
— Объясните нашим противникам, что мы не хотим бессмысленного кровопролития, но, если они не пойдут на перемирие, мы будем сражаться до последнего заряда, это им дорого обойдется. Пусть нам предоставят возможность выйти из города.
— Сэр, — обернувшись к начальнику арсенала, — вы подтвердите, как мы обращаемся с пленными. Но если нам навяжут схватку, мы не ручаемся за их жизнь.
Трое с белым флагом не прошли еще и полпути, как началась пальба и яростные крики: «Убивай! Убивай!»
Уотсон приполз обратно, скрюченный от боли.
— В живот… И Стивенса ранили очень тяжело… Он не может двигаться… Остался лежать на улице, Отец, их там тысячи…
Уотсона положили на сложенные плащи, перевязали. Он кусал губы от боли.
— Молись, сынок…
Один из пленных отделился.
— Сэр, капитан, я механик Джо Бруэй, я хочу помочь вашему другу Стивенсу, это он брал меня в плен, я знаю, что он хороший парень. Я отнесу его туда, где его перевяжут, и вернусь. Бруэй держит слово.
— Идите.
Он вышел, махнул рукой, закричал: «Не стреляйте, я пленник, я механик из Ферри, Джо Бруэй».
Он легко поднял Стивенса и понес его к вокзалу, Через полчаса он вернулся:
— Парень едва ли выживет. Дырки в плече и в бедре. Ваш друг хорошо держится, просил передать капитану Брауну, что он ни о чем не жалеет.
Шум на улице опять усилился.
Лимен сидел в углу, его бил озноб. Зачем он вернулся сюда утром? Ему двадцать лет, он самый молодой. Он еще и не жил. А что, если попробовать? Вдруг?.. Он рванулся, выбежал, понесся к реке. Ему стреляли вдогонку: он успел упасть в холодную, тяжелую воду. В серой воде островок. Пытался двигаться, уже раненый. Продолжали стрелять и тогда, когда плыло мертвое тело.
Браун уперся в длинную шпагу Вашингтона, уставился в небо… Чего он ждет? Никто ему не поможет.
Оливер злобно:
— Трусливые убийцы, хуже индейцев, ликуют над мертвым.
Снова выстрелы со стороны Шенандоа. Нет, теперь это не беспорядочная, пьяная пальба. Там Каги. Значит, он и его парни не успели уйти. Пуля догнала Каги в реке. Лири был тяжело ранен, его подобрали, и он дожил до следующего утра.
Вдова Лири потом вторично вышла замуж. Ее внук, Лэнгстон Хьюз, стал замечательным современным поэтом.
Копленда, негра с винтовкой, схватили: «Линчевать! Линчевать черномазого! На сук его! Вздернуть и поджечь!»
Доктор Старри ворвался в толпу. Он был героем дня, его везде приветствовали.
— Хэлло, док! Вот кто спас Ферри от мятежников!
Наезжая на пьяных линчевателей, он приказал:
— Назад, джентльмены. Этот ниггер — мой пленник. Он должен дать показания, он будет предан законному суду. Назад, черт вас возьми! Джентльмены Юга чтут закон.
В дальнем углу арсенала негры пели: «Я иду к тебе, Иисус, я иду к тебе по терниям босой…».
Мэром Харперс-Ферри был старик Фонтэйн Бэкхем. Его считали «негролюбом», многие знали, что он завещал выкупить из рабства большую негритянскую семью.
И все были убеждены в его неподкупной справедливости, смелости, мирном нраве.
Его тревожило пьяное буйство «спасителей» Ферри, хотя, конечно, он был противником мятежа, Бэкхем ходил по улицам безоружный, уговаривал не орать, не покидать своих позиций, не допускать самочинных расправ.
Он подошел к арсеналу со стороны железной дороги. В это время в реке расстреливали Каги. Бэкхем взобрался на платформу, груженную лесом — посмотреть во двор, что там происходит. Его увидел Эдвин Коппок. Молодой квакер впервые взял в руки оружие, он еще ни разу не стрелял в человека. Толстая трость мэра показалась Коппоку ружьем, и он первым спустил курок. Тело Бэкхема унесли на вокзал. В толпе кричали все более исступленно.
— Они убили старого мэра! Никакой пощады бандитам! Убивать их всех!
Опять сильный дождь. На полчаса все стихло. Потом вспомнили о парламентерах. Томпсону накинули веревку на шею и потащили к реке. Били прикладами, пинали ногами. Кто-то предложил, чтобы ему дали помолиться перед смертью. Большинство возражали. Из-за перебранки задержались, он успел крикнуть:
— Вы можете убить меня… Но придут восемьдесят тысяч. Они отомстят за меня. Они освободит всех рабов!
Браун услышал его последние слова. В них не было страха, это был голос гордого мужества.
Оливер словно вторил Томпсону:
— Отец, лучше умереть в открытом бою, здесь нас всех перебьют, как кроликов. Мы можем атаковать эту пьяную сволочь. Прикончим хоть десяток, глядишь, кто-нибудь из нас прорвется туда, к своим, — к Оуэну, Куку.
Браун слушал сына. Почему он так ошибся, старый Браун, главнокомандующий? Почему не пришли ни черные воины с Юга, ни храбрые аболиционисты с Севера? Неужели он неверно понял господню волю?
Снова выстрелы. Рядом вскрикнул Оливер и осел на землю, прижимая обе руки к боку. Браун и Грин внесли его внутрь, положили рядом с Уотсоном. Сыновья умирают. Он знал, что их уже не спасти. Нет, вылазка невозможна, не оставлять же умирающих на муки, на издевательства озверелой толпе. Он пожертвовал тремя сыновьями. Жив ли Оуэн?
Темпело. Браун приказал пробить бойницы в степах и воротах, зажечь факел.
Черные парни, которых они утром освободили, с облегчением бросили пики и схватились за ломы — они пробивают бойницы. Оружие им чуждо. Боятся. Нет, такие сами не проснутся, таких надо будить огнем и мечом.
Сколько было христиан на земле, когда на Голгофе сколачивали крест? Совсем мало. Большинство — покорные рабы, вроде тех, что сейчас орут на улицах Ферри, — тогда кричали Пилату: «Варраву! Варраву!» Требовали освободить разбойника. И спокойно глазели на крестные муки спасителя.
И он сказал: я принес вам не мир, но меч. Даже у него было мгновение слабости, и он молился: «Да минет меня чаша сия». И с этого начался Новый завет. И наша кровь, наши раны, наши муки удобрят почву для добрых всходов. В Америке не станет рабства.
Жестоко испытывает его судьба, но не зря. Его дело правое.
Тускнеет свет факелов. Холодно. Стопы умирающих сыновей. Оливер тяжело дышит. Уотсон бредит, зовет жену.
Их осталось только пятеро — Эдвин Коппок, Джеремия Андерсон, Дофин Томпсон, Шилдз Грин, единственный из негров.
Шилдз Грин, засевший на холмах, мог бежать, спастись. Но он снова повторил, как и в каменоломне Чемберсберга: «Я пойду за Стариком».
А Осборн Андерсон бежал, ему удалось добраться до Канады. Его книга «Голос из Харперс-Ферри», опубликованная в 1861 году, через два года после мятежа, — первое и единственное свидетельство очевидца.
Тогда, в тот момент, оба поступили по мгновенному инстинкту. Грин — к битве, к товарищам, к Брауну; Андерсон — прочь!
Пленные в углу зябко жмутся. Отрывистые удары пуль. Браун укрывает Оливера своим плащом, сукно отяжелело от сырости. На лбу у сына смертный пот. Под его головой — сумка с патронами, грязный канат.
Сам Джон Браун, как Иов, на гноище. Нет, он не будет роптать на бога. Это он ошибся. Кук был прав, говоря, что арсенал беззащитен. Арсенал взяли, как пустой сарай. Но Кук уверял, что в городе готовы восстать сотни.
Поднявший меч и принявший крест не смеет отступать, не должен падать духом. И врагов он должен встретить так, чтобы смерть осилила смерть.
Он ходил машинально взад и вперед, поеживаясь от холода, подходил к своим: «Не спите, парни, но спите».
— Отец… молю… одну пулю… будьте милостивы… Боль нестерпима… Дайте револьвер, я сам… Помогите… скорее…
— И мне, отец, и мне…
— Тихо, сыновья… тихо… Нашими жизнями не мы распоряжаемся… Если пришел час умирать, умирайте, как мужчины.
Из угла, где сидели пленные:
— Это говорит отец. Чудовище. Фанатик. У него вместо сердца — катехизис.
Уотсон хрипел все тише. Браун наклонился над ним. И снова угрюмо зашагал туда и обратно, осторожно обходя ноги сыновей. Мертвый Уотсон, казалось, вытянулся. Оливер еще стонал глухо, прерывисто.
Далекий гудок паровоза. Сильный свист. Стук колес все ближе. Топот. Сильный, размеренный топот сапог.
Идут солдаты. С этим поездом привезли солдат.
— Не спите, парни, не спите.
Грохот. Острый чад. Порох. Что-то сильно стукнуло в ворота. Потом снова гудел паровоз. Снова топот марширующих колонн. Отрывистые выкрики команд. Разбита стена. Пленные уходят из караульной.
Шпага Вашингтона позвякивала на бедре Брауна. Нарядная шпага. Королевский подарок вождю революции. Он был рад, когда ее взяли. К чему она теперь, к чему этот символ? Тонкая, нарядная, не для боя, для парадов.
Стало еще холоднее.
Голос:
— Хэлло, парни! Не стреляйте. Я принес письмо от нашего полковника. Кто у вас тут командует?
Браун подошел к двери. Синяя шинель, синяя каскетка, красные канты. Золотые пуговицы. Морская пехота.
Молодой офицер небрежно козырнул, протянул листок бумаги:
— Ответ немедленно. Иначе штурмуем.
— Скажите полковнику, сэр, что мы согласны прекратить бой, уйти из города и освободить пленных, если нам позволят унести наших раненых. Мы не хотим сражаться против федеральных войск. Мы подняли оружие только против рабства.
— Передам.
Не поворачиваясь, офицер отбежал от дверей.
Снаружи топот. Властный пронзительный голос. Первые команды: «Марш вперед!», «Не стрелять! Штыками!»
Вой. Вопли. И в тысячи глоток: «Убивай! Убивай!»
За стенами топот. Тяжелые удары в дверь. Грохот. Но он слышал только голос Оливера:
— Отец…
Браун стал на колени перед сыном, опираясь на ружье. Оливер умирает. Едва подрагивают веки.
— Сынок…
Взял за руку, пульса уже нет. Теперь его очередь. Сейчас все кончится. И уже ничего не будет нужно, не надо будет ничего бояться, ничего делать, ни о чем думать. Холодная сталь ружья кажется теплее руки сына. Ружье уже ни к чему. Все ни к чему. Скорее бы! Теперь он понимает сыновей. Захотелось ускорить удары, рушащие дверь.
Грохот. Выстрелы. Острый, удушливый дым. Команда: «Не стрелять! Я же приказал: не стрелять! Штыками! Сдавайтесь!»
Прямо над ним удар… удар… голова разламывалась… жарко. Слепящий свет… Издалека голос: «Осторожнее. Это и есть Осавотоми». Крики: «Убивай!» Удар в живот. Смерть?! «Прими мою душу…»
Он очнулся. Болела голова. Тугая повязка давила, натирала шершавая корпия. И тупая боль в бедре. Изрубили его. А все-таки жив. Значит, еще не конец.
Он лежал на одеяле, укрытый плащом. Нестерпимо больно. Рядом чье-то тяжелое дыхание. Поворачивает голову. Темные усы, бородка. Стивенс! И он еще жив? Они лежат рядом на деревянном полу.
Эта битва закончилась поражением. Битва, но не война.
Глава одиннадцатая «Душу мою никому не дано заковать»
1
Первые газетные заголовки:
«НЕГРИТЯНСКИЙ БУНТ В ХАРПЕРС-ФЕРРИ!»
«ГРОМАДНЫЙ ЗАГОВОР РАБОВ В МЕРИЛЕНДЕ И ВИРГИНИИ!»
«СОТНИ ВОССТАВШИХ ВОРВАЛИСЬ В АРСЕНАЛ!»
«ПЕРЕРЕЗАНЫ ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПРОВОДА! ЗАХВАЧЕН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ!»
Семнадцатого октября на столе у президента Бьюкенена лежал экстренный выпуск газеты «Балтимор Сан». «Негритянский бунт в Харперс-Ферри! Во главе — двести пятьдесят аболиционистов. Захвачен арсенал. Оказан отпор. Стреляют по вагонам. Один человек убит».
По Америке катилась волна страха.
Страшились сторонники Брауна.
Страшились противники Брауна.
Глаза у страха оказались огромными. Слухи передвигались быстрее, чем газетные сообщения, быстрее, чем официальные донесения. Страхи рождали действия, порою глупые, порою подлые. Действия усиливали страхи.
На тюрьму в Чарлстоне были с самого начала направлены две пушки, поставили еще три.
Вокруг города вспыхивали пожары.
Второго ноября, в день приговора, полковник Дэвис отдал тайный приказ: «Если произойдет нападение на тюрьму, узников немедленно пристрелить».
На улицах Чарлстона вывесили большие белые листы, на которых крупными буквами было написано:
«В соответствии с инструкциями, полученными от губернатора штата Виргинии, объявляю, что, как уже было извещено ранее, и, особенно, с сегодняшнего дня по пятницу второго декабря неизвестные лица, не проживающие в нашем штате, обнаруженные в графстве Джефферсон и в прилегающих графствах, лица, у которых не будет надежных свидетельств о том, кто они и зачем они здесь, будут арестованы.
Подобные лица и особенно группы лиц, прибывающие сюда в течение этого же срока под предлогом того, что они хотят присутствовать при казни Джона Брауна, прибывающие по железной дороге, а также иными путями, будут встречены солдатами, возвращены обратно или арестованы, даже если для этого потребуются крайние насильственные меры.
Женщины и дети к месту казни допущены не будут.
В. Д. Талиаферо,
генерал-майор, главнокомандующий»
Английский консул в Чарлстоне сообщал своему правительству о «царящем терроре». Четыре конгрессмена с Севера приехали в Чарлстон, они хотели быть при исполнении приговора, их посадили в тюрьму.
Собственный корреспондент «Балтимор Америкен» и «Нейшнл Интеллидженсер» сообщал первого декабря из Чарлстона: «…продолжают поступать фантастические сведения о количестве вооруженных участников вторжения… но люди уже попривыкли к таким рассказам и прежде, чем требовать прихода новых войск из Ричмонда, сначала ждут подтверждения. Паника среди женщин и детей не утихает, особенно в деревнях… Жители этого города не могут ходить по окраинам — их арестовывают… Даже достопочтенный Эндрью Хантер повинуется той же военной дисциплине… Нам никому не разрешили выходить из вагонов… Вчера начали строить виселицу…»
Железнодорожные билеты в города Виргинии и в другие города Юга продавали только по предъявлении свидетельств о лояльности.
В Техасе, Миссисипи, Южной Каролине бдительные граждане конфисковали все «антиюжные» книги, эти книги сжигались на площадях.
В Вашингтоне арестовывали всех, кто подозревался в сочувствии аболиционизму. Аресты прокатились по многим городам.
Простые люди помогали властям.
В штате Джорджия приезжего механика выгнали из деревни, потому что сверток его белья был завернут в «Гералд Трибюн» — газету, поддерживающую республиканскую партию, партию Авраама Линкольна.
Старый священник в Техасе сказал в проповеди, что рабовладение — зло. За это его избили плетьми — шестьдесят плетей, но удару за каждый прожитый им год.
Другой священник поехал в Северную Эльбу отслужить молебен, когда гроб с телом Джона Брауна привезли к родному дому. Это была обычная заупокойная служба. Он не призывал продолжать дело Брауна, он лишь просил бога принять душу казненного. «Когда я из своего Барлиогтона уезжал на похороны, я был уважаемым гражданином и любимым священником. Я вернулся и обнаружил, что я — в немилости, что я у себя в родном городе вроде как бы в ссылке, что мое положение немногим лучше социально отверженного».
В Южной Каролине линчевали белого — ирландца, каменщика, заподозренного в симпатиях к Брауну.
За три недели в штате Миссисипи повесили двадцать три человека, которых сочли аболиционистами.
И для страха не было границ между Севером и Югом. Боялись и на Севере.
Газета «Уикли Сентинел» (Огайо) комментировала: «Вот он, «неустранимый конфликт» Сюарда, Смита, Гиддингса в действии. Кто песет ответственность за Харперс-Ферри? Разумеется, не Браун, ибо он просто сумасшедший, несут ответственность те, кто своим поощрением и денежной помощью принудили его взяться за оружие, чтобы провести в жизнь свои безумные планы, — это они обязаны отвечать перед страной и перед миром…»
Приближались выборы 1860 года, битва в Харперс-Ферри стала картой в большой политической игре. Сенатор Стивен Дуглас, кандидат в президенты от демократической партии, соперник Линкольна, утверждал, что вторжение — «естественный, логический, неизбежный результат доктрин и учений республиканской партии».
Редактор газеты республиканцев в Чикаго писал Линкольну: «Нас чертовски тревожит проклятый провал Брауна в Виргинии, как это отразится на нравственном здоровье республиканской партии?» Линкольн отмежевался: «Вы обвиняете нас в том, что мы инспирировали восстание среди ваших рабов. Мы отрицаем это. Каковы ваши доказательства? Харперс-Ферри! Джон Браун!! Вы не назовете ни одного члена республиканской партии, который был бы в какой-либо мере связан с Харперс-Ферри».
Сенатор Уилсон от штата Массачусетс сетовал: «У нас было превосходное положение, а брауновская акция привела нас к необходимости перейти к обороне… Если мы потерпим поражение на выборах, то это произойдет из-за глупых, безумных действий Брауна…»
Уилсон в тот момент настолько потерял голову, что даже заявил: если Стирнса и Хау повесят как соучастников, мне будет совершенно безразлично… Это были его старые приятели, во многом — единомышленники, года через два у них возобновились дружеские отношения.
На ферме Кеннеди было захвачено четыреста писем и бланки денежных переводов.
Тайная шестерка стала явной: Смит, Хау, Паркер, Сэнборн, Стирнс, Хиггинсон.
Большинство людей, непосредственно связанных с Брауном, уехали из Соединенных Штатов. И каждый отъезд означал уничтожение документов. В Америке жгли бумаги.
…В очаге горит огонь. Ужин кончен, посуда перемыта, убрана в шкаф, дети уложены. Да и родители давно бы спали, но сегодня лечь нельзя. Пересматривают книги, письма, документы. Вытащили все семейные шкатулки, альбомы с фотографиями.
— А вдруг завтра?
— Надо жечь. Письма Хау. Его имя в газетах.
— Помилуй бог, это же про школу для слепых.
— А подумают, что шифр, что про Брауна.
Запись лекции Эмерсона. Совсем молоденькой, жена записывала «Об искусстве хорошей жизни».
— Не дам жечь, — и унесла к себе наверх.
Супруги перечитывают старые письма. Они почти забыли, из-за чего весь этот переполох. Они погрузились в прошлое. Вспоминают. Вот одно письмо выпало из семейной Библии, они считали его потерянным. Объяснение в любви, тогда, в незапамятном прошлом, двадцать лет тому назад. Нежно смотрят друг на друга. И со страхом — на огонь.
— Ни за что…
— А если эти слова прочтут чужие, мерзкие тебе люди, тебе не будет противно? Поверь, не из страха…
В одном бостонском доме, в семье, весьма далекой от аболиционизма, на всякий случай выбросили «Век Разума» Томаса Пейна, ведь книги Пейна читали бойцы на ферме Кеннеди перед нападением на Харперс-Ферри, да и сам он был еретиком.
Геррет Смит, давний и самый щедрый покровитель Брауна, раньше писал, что не хочет знать планов капитана Брауна, надеется, что он будет держать их при себе. Теперь Смита мучили угрызения совести. Он знал, пусть не до конца, не до арсенала, но знал. Он поддерживал. Он давал деньги. И вот он пока в безопасности, а Джон в камере, ждет казни.
«Как честный человек, я сам должен был бы отправиться в Виргинию и сказать «вяжите меня». «Мы не можем допустить, чтобы он погиб один…» — так он говорил еще совсем недавно, а теперь понял, что вовсе не хочет погибнуть вместе с Брауном.
«Меня засадят, засадят… если кого и засадят, так это меня…» Губернатор Уайз действительно запрашивал согласие на арест не только Дугласа, но и Смита, Сэнборна, Хау.
Смит ощущал и раньше, что он — попутчик Брауна лишь в начале дороги. Ощущал, но не знал, до какой степени он не готов принять последствия собственных поступков. Да и кто знает заранее?
Он уничтожил компрометирующие документы не только у себя, но и в доме Джона-младшего, в Огайо.
Шло сражение между страхом и совестью.
Смит, как и его товарищи, вовсе не был ни трусом, ни себялюбцем. Ему, благополучнейшему американцу, всю жизнь не давали покоя чужие беды. Он помогал Мадзини, сражавшемуся за свободу Италии. Он выручал бежавших из Ирландии участников «картофельных бунтов». Он вмешивался. А рядом с ним спокойно существовали многочисленные Смиты, Джонсы, Андерсоны, которых вообще ничто, кроме своей судьбы, своей семьи, не волновало. Узнав о Харперс-Ферри, Геррет Смит едва ли не позавидовал этим людям. Их никто ни в чем не обвинял. Получалось, что они лучше, чем он, чем Хау.
Всю жизнь он был защищен, а тут вдруг стены рухнули, и он оказался один, нагой, перед страшной опасностью.
Сам себя не знал до конца. Писал раньше: «Я был до сих пор противником кровавой отмены рабства. Но теперь, когда рабовладение начало свой победоносный поход в свободные штаты, я, как и десятки тысяч других миролюбивых людей, не только готов к тому… чтобы противостоять распространению рабства силой, но даже и к тому, чтобы люди гибли и несли гибель…»
Смиту было еще необходимо, чтобы его поступки одобряли, чтобы его любили все окружающие. У него концы должны сходиться с концами, он должен быть в мире с миром и с самим собой. Он не обманывал себя, он добросовестно заблуждался. Он переоценил свои возможности, он не был готов ни к насилию, ни к Харперс-Ферри, не готов к последствиям насилия, а главное, он не был готов к смерти за свои убеждения.
Тяжелые бессонницы сопровождались галлюцинациями. Он пытался покончить самоубийством.
Смита увезли в психиатрическую больницу, он ушел в болезнь, в затмение, как другие скрылись в Канаду. Он, разумеется, не симулировал, ведь он в психиатрической больнице не в первый раз. Сработал защитный механизм. Защитный? Или уничтожающий? Когда его везли в больницу, ему мерещилось, что его везут в Чарлстон, туда, к Джону Брауну. Из больницы он вернулся двадцать девятого декабря притихшим, сломленным.
Страх бушевал, страх всячески раздувался. Губернатор Уайз писал прокурору Хантеру: «Сведения, получаемые отовсюду, убеждают, что существует целая организация, готовая перейти границу едва ли не в каждом пункте. И лучшее время для перехода — день: меньше всего шансов быть задержанным. И днем негодяям легче всего скрыться… Я говорю Вам, что эти дьяволы прекрасно обучены индейскому искусству грабительской войны… Что же будет с нашими границами в день казни?.. Я потребовал, чтобы в Чарлстон доставили двести штыков и солдат и чтобы они были наготове… Я потребую еще четыреста вооруженных людей… Следите за Харперс-Ферри. Повторяю — следите за жителями Харперс-Ферри…»
В панике Уайз наставлял генерала Талиаферо: «Если ошибаться, то пусть ваши ошибки будут в излишестве предосторожностей».
В штат прибыло четыре тысячи полицейских. Их содержание обошлось в четыре тысячи долларов.
Хау бросился к Стирнсу: что делать? Оба отправились за советом к Джону Эндрью, юристу. Тот сказал, что ему необходимо подумать до субботы. Пока что Стирнс просил своих друзей собрать денег и решить, как помочь заключенному.
Едва узнав о Харперс-Ферри, восемнадцатого октября Хау писал другу: «Надо все перевернуть, не оставить камня на камне, но спасти его жизнь и спасти нашу страну от позора казни». Следующее письмо, написанное через неделю, было умереннее: «…я, разумеется, имею в виду только законные пути спасения Джона Брауна, я никого не призываю следовать за мной дальше, как бы ни поступил я сам…»
Эндрью, подумав, ответил друзьям: никаких законных оснований для ареста Хау и Стирнса нет. Но они оба тем не менее уехали в Канаду.
Пробыв в Канаде три недели, — Хау занимался там и делами института для слепых, — он послал в американские газеты письмо: «Появление Брауна в Харперс-Ферри было для меня неожиданным и непредвиденным. Это не вяжется с тем, что я знал о Джоне Брауне раньше, не вяжется с характерной для него осмотрительностью, с его нежеланием проливать кровь или призывать к восстанию рабов. И сейчас все это для меня тайна и чудо. Что до героя, который взлелеял и воплотил в жизнь эту обреченную мечту, то прежние мои с ним отношения таковы, что в них никому не стыдно признаться».
Стирнс уговаривал его не посылать этого письма.
— Как ты можешь написать «неожиданным и непредвиденным»? Это неправда, ты это знаешь, и все это знают.
— А ты не думаешь, что с меня хватит? У каждого есть свой предел.
Хау стал участником освободительной борьбы рано и сделал много, очень много. Вместе с Фенимором Купером и генералом Лафайетом после поражения польского восстания 1831 года создал в Европе Комитет помощи польским беженцам. По приказу прусского правительства он был арестован, и его продержали в Берлине в одиночке шесть недель. Страх тюрьмы остался на всю жизнь.
Он оправдывался перед Стирнсом:
— Пойми, я уже старый человек. Но я вовсе не ухожу от дел и сейчас — наша газета, наша школа для слепых. Я не могу быть спокоен, пока в сумасшедших домах с людьми обращаются, как с бешеными псами. Сейчас вот с ужасом думаю о Геррете Смите, как он там? И без Брауна — предостаточно. Неужели это преступление, что я не хочу в тюрьму?
— Ты сделал много, очень много, больше, чем почти все окружающие люди. Но чем больше ты делаешь, тем больше с тебя спрашивается. На тебя смотрят. Ведь ты, как и я, как и другие, уже пошел за Брауном. Свернуть сейчас, отказаться — значит предать — каково Брауну в камере будет читать это? Предать Сэнборна, Хиггинсона, да и самого себя.
— Ты меня не хочешь понять. И ты забываешь о том, что Джулия вот-вот должна родить.
На рождество у Хау родился шестой ребенок — сын…
Люди боялись.
Страх передавался из поколения в поколение, мистический, иррациональный, питался традицией: сколько раз со всех амвонов Америки пугали адом, геенной огненной, твердили, что за грехи, свершенные здесь, придется сторицей расплачиваться на том свете?!
Но были страхи посюсторонние. Люди боялись не только таких необыкновенных обстоятельств, как тюрьма, как насильственная гибель, они еще боялись остаться в одиночестве, боялись неодобрения соседей. Не хотели оказаться у себя в родных местах чужими. Чужими среди тех, кто не хочет ни убивать, ни быть убитым и думает, что этого можно добиться, укрывшись, уползая в свою раковину.
Одни поддавались страху, другие ему сопротивлялись.
За неделю до казни вышла книга де Витта «Жизнь капитана Брауна, его судебный процесс и приговор», книга продавалась по двадцать пять центов. В ней были помещены портреты самого Брауна и участников рейда в Харперс-Ферри. Эти портреты распространялись и отдельно.
Джеймс Редпат публиковал в ежедневной бостонской газете «Атлас и пчела» заметки о мятеже. Браун «учил нас мужеству жить, теперь он учит нас мужеству умирать. Пусть трусы отвергают его, пусть журналисты змеиной породы освистывают его святое поражение, я, не колеблясь, заявляю, что люблю его, восхищаюсь им и защищаю его».
Речи Брауна на суде, его письма, свидетельства тех, кто знал его, переписывались, листки и книги передавались из рук в руки, правда шла по стране с пешеходами, ее везли на лошадях, в поездах. Правда была огнеопасной, она жглась, поэтому — быстро прочитать, запомнить, чтобы пересказать и отдать друзьям, знакомым, соседям. Пусть они узнают, но пусть опасные бумаги не почуют дома…
Слова правды, проявленное мужество влекли за собой наказания. Пятого декабря собралась сессия конгресса США, и было решено учредить особую комиссию, чтобы «расследовать недавнее вторжение и захват общественной собственности в Харперс-Ферри». Комиссию по расследованию возглавил сенатор Мейсон, автор первого билля о беглых рабах, участник первого допроса Брауна.
Франк Сэнборн тоже уехал в Канаду. Он писал Паркеру двадцать второго октября: «Наш старый друг нанес удар таким образом, то ли по собственному неразумию, то ли по воле провидения, что это погубило его, отпугнуло от него людей и, вероятно, погубит его друзей». Сэнборн упоминал и опасность, грозящую ему, но что это «по сравнению с утратой Брауна и с преждевременным взрывом мины?»
Поддавшись общим настроениям, Сэнборн просил Хиггинсона сжечь все компрометирующие бумаги.
Можно ли отличить, да еще в такой момент, что компрометирует, а что нет?
Сжечь бумаги просил человек, для которого ужо тогда самым большим наслаждением было рыться в старых семейных архивах. Сколько раз потом он жалел об этом, жалел, когда четверть века спустя начал работать над книгой «Джон Браун, освободитель Канзаса, мученик Виргинии. Жизнь и письма», жалел, когда писал о литераторах и просветителях Новой Англии — Готорне, Торо, Эмерсоне, Паркере, Олькотте!
В ноябре 1859 года он писал Хиггинсону: «…есть тысячи возможностей продолжать войну против рабства, и все они лучше, чем гнить в вашингтонской тюрьме. Некоторым из нас так понравилось бряцать оружием, что за отсутствием врагов мы готовы кидаться на друзей…»
Страх разъединял, разъедал, разрушал долголетние дружбы.
Может быть, письмо Сэнборна — косвенный упрек Хиггинсону, который сам резко осудил заявление Сэмюэля Хау. Хиггинсон негодовал: «…разве можно молчать, когда звучит ложь; всех нас хотят спасти — при самых омерзительных обстоятельствах, — спасти в глазах общества. Мы как бы не принимали никакого участия ни в чем. А в это время благородный человек, которого именно мы спровоцировали на смертельную опасность, он стал козлом отпущения, и ему грозит виселица…»
Сэнборн очень скоро опомнился, вернулся в Конкорд, продолжал учить детей. Он не пошел за Брауном в Харперс-Ферри, не ощутил внутренней потребности, внутренней готовности. Но теперь-то он обязан выстоять. Обязан вести себя достойно Великого Дела, за которое Старик отдает жизнь. Он включился в планы спасения Брауна.
Сэнборн получил вызов на комиссию конгресса, но поехать в Вашингтон отказался. Он понимал, что могут последовать репрессии. И условился с учениками о таком сигнале: если с окна исчезнет горшок с геранью, это значит, что за ним пришли. Пятого апреля 1860 года — через четыре месяца после казни Брауна — в окно Сэнборна постучал нищий, попросил милостыню. Хозяин открыл дверь, ворвались четверо с ордером на арест за отказ явиться на комиссию конгресса. Он снял горшок с геранью. Ученики и друзья, жившие по соседству, подоспели сразу же. Зазвонили в колокола. Собралась толпа, сторонников Сэнборна оказалось больше, чем противников. Любимого учителя отбили силой, «вторая битва при Конкорде» окончилась победой. На следующий день Верховный суд Соединенных Штатов отменил ордер на арест.
Хау назвал комиссию «антиамериканской» по происхождению и характеру, сравнивал ее с инквизицией. Но все же по вызову явился.
Томас Хиггинсон услышал о Харперс-Ферри в книжной лавке Уорчестера. Первое ощущение — восторг. Поразительное восстание! Но сразу же — горечь и упрек себе: нас, тех людей, которые давали ему деньги и оружие, нас не оказалось рядом с ним. Он был ближе всех Брауну. И повел себя мужественнее остальных. Он никуда не уехал. Он не сжег ни одной бумаги, несмотря на уговоры друзей. А у него, молодого человека, накопился уже обширный архив. Как многие литераторы Новой Англии, он вел дневники с двенадцати лет.
Только не поддаваться панике. Только спокойствие. «…Я обязан быть хотя бы свидетелем защиты. Мне легче, чем другим, — мое имя упомянуто мельком и только на суде…»
Кое-кто из друзей уговаривал его не вмешиваться.
— На том стою и не могу иначе.
— Ведь ты уже так много сделал. Пусть теперь другие…
— Это дело их совести. Я несу ответственность за свою.
Он долго не оставлял надежд на организацию бегства заключенных, уже после казни Брауна пытался спасти Кука и Коппока. Друзья его поддерживали, враги негодовали; однажды Хиггинсон получил письмо из Алабамы: если бы ты попался мне в руки, я бы собственными руками сжег тебя…
Панические приказы и Предостережения Уайза возникли не на пустом месте. Были люди, готовые напасть на тюрьму. Были люди, готовые выкрасть губернатора Уайза, на яхте Хиггинсона увезти его и открытое море и держать заложником, чтобы обменять на Джона Брауна. Мисс Партридж — ее брат сражался с Брауном в Осоватоми и погиб — предложила навестить заключенного, поцеловать его и при этом протолкнуть записку с очередным планом побега.
Боялись едва ли не все, как-либо причастные.
Боялся и Хиггинсон, но подавлял страх. Вернувшись в свой родной Уорчестер, Хиггинсон записал в дневник: «Возвращен к жизни». Он повторил слона героя любимой им книги Диккенса «Повесть о двух городах».
Волны мужества шли из камеры, где сидел человек больной, старый, обреченный. Мужество шло из камеры смертника.
«…Я хотел бы, чтобы вы видели, как радостен я сейчас, вооружившись «духовным мечом», я держу его обеими руками. Я благословляю бога за то, что этот меч оказался могущественным и он может сокрушить твердыню… Подняв меч, я не чувствую себя виноватым; ведь если бы я встал за богатых и власть имущих, за образованных, за тех, кого люди привыкли считать великими, или за тех, кто устанавливает законы, выгодные им и развращающие других… если бы я за таких выступил, за таких пострадал, за таких принес бы жертвы, то меня считали бы очень хорошим человеком…»
Он поддерживал родных и друзей: «…я не припомню ночи столь темной, что воспрепятствовала бы наступлению нового дня, не помню бури столь грозной и ужасной, что помешала бы вернуться теплому свету солнца и безоблачному небу…»
Он неустанно повторял: бой в Харперс-Ферри, вопреки поражению, еще даст свои плоды. «…Жертвы, которые ты и я призваны были принести тому Делу, в которое мы верим, Делу на благо всего человечества, эти жертвы ничуть не кажутся мне чрезмерными.
Меня, как говорится, отколошматили, но я убежден, что весь капитал, утраченный при этом крушении, я могу вернуть только тем, что на несколько минут буду подвешен за шею. Я исполнен решимости извлечь наибольшую выгоду из нашего разгрома…»
«…Еще до того, как я начал свое Дело в Харперс-Ферри, я был убежден, что и в худшем случае все это окупится… у меня и сейчас нет никаких оснований изменить эти взгляды, в самом главном я ничуть не разочарован…»
Он делился оптимизмом: «…я радовался жизни, я довольно рано открыл секрет радости. Он заключается в том, чтобы преуспеяние и счастье других стало бы моим собственным. И потому я очень преуспел… Душу мою никому не дано ни арестовать, ни заковать, ни повесить…»
Не зря он просил детей переписывать его письма.
2
Мэри Браун ехала из Харперс-Ферри в Чарлстон на последнее свидание. Она не знала о бешеной работе телеграфа — запросы из Харперс-Ферри в Ричмонд, ответы губернатора. Друзьям, которые сопровождали ее из Филадельфии, — Мак-Киму с женой и Гектору Тиндейлу, — не разрешили следовать о ней дальше. Коляску охраняли восемь конных солдат под командой сержанта, с ней рядом сидел капитан милиции.
Сколько им дадут времени? Что надо успеть сказать? Главное — утешить его, помочь… Станет ли он есть этот пирог, который она везет в корзинке?
Почему он так не хотел, чтобы она приезжала? Запрещал в каждом письме к ней, к Хиггинсону, к общим друзьям. Три недели тому назад она садилась в поезд, чтобы ехать в Харперс-Ферри, а на вокзал привезли телеграмму, единственную телеграмму в их жизни. Пока она поняла в чем дело, у нее помутилось в голове, вдруг показалось, что ехать уже поздно.
Она не верила, что он не хочет ее видеть. Она так привыкла повиноваться, а тут читает его слова и не верит. «Мэри, не приезжай… трудная дорога… истратишь последние деньги… их и так нет… на тебя будут глазеть, а может, и хуже…» Все верно, он прав, как всегда. Но ей нужно знать только одно — он ее хочет видеть? Она ему нужна? И тогда она помчится. Наконец прочитала долгожданную строчку: «О, Мэри!» Для всех — просто восклицание, я для нее — ключ. Словно во все небо написано крупными буквами: «О, МЭРИ!» Теперь она твердо знала, что надо ехать, теперь ее никто не отговорит, даже он сам, ее муж, Джон Браун.
Тогда, двадцать шесть лет тому назад, догнав ее у колодца, он ждал ответа, согласна ли она стать его женой, он тоже сказал ей: «О, Мэри!» Только тогда она еще не совсем понимала, что это значит.
Долгий путь до Чарлстона, впервые за месяц совсем одна, этого безмолвного капитана, до которого можно дотронуться, словно и вовсе нет.
За месяц она увидела такое множество людей, услышала столько слов, кажется, больше, чем за всю ее жизнь. Сквозь горе, сквозь ожидание видела она тех людей, в тумане, а все-таки видела.
Она всегда гордилась мужем, всегда любила его, с тех давних пор, когда побоялась вскрыть письмо и только на следующий день прочла, что сам Джон Браун — он и тогда был для нее сам Джон Браун — делает ей предложение.
А сейчас ей временами казалось, что все американцы только и заняты судьбой Джона Брауна.
Она не все понимала в замысловатых речах, статьях, разговорах, не все схватывала в спорах, нередко в непривычном многолюдии она просто уходила в себя. И начинала особенно старательно считать петли — она все время вязала, надо же хоть чем-то отплатить за хлеб, за кров, за участие. Везде есть дети, всем нужны теплые шапки на зиму. Считала петли, уходила в свое. У нее и сейчас в сумке вязанье, Джона раньше очень успокаивало, когда она рядом вязала, а он читал Библию.
Слезы опять к горлу, нет, нельзя, они не должны видеть моих слез, я — жена Джона Брауна.
И он не должен видеть.
В доме миссис Спринг прочитали письмо Гюго, все говорили, что он очень известный французский писатель: «Я только атом, но я в родстве со всеми людьми, и, вдохновленный совестью человечества, я опускаюсь на колени в слезах перед Звездным Знаменем Нового Света и с протянутыми руками, с глубоким сыновним уважением я умоляю славную Американскую Республику, сестру Французской Республики, вспомнить о святости всеобщего нравственного закона и спасти Джона Брауна…»
Кто-то — она уж и не помнит кто — рассердился:
— Зачем он так разговаривает с этими бешеными зверями? Недостойно, стыдно становиться перед ними на колени, умолять их.
Добрый пожилой джентльмен возразил:
— А мне близки слова Гюго. Я за то, чтобы беречь прежде всего знаменосца. Его надо спасать, О нем думать.
Как же она была ему благодарна. Потом ей даже себе было стыдно признаться, что он ей понравился.
А Джон рассердился бы на этого старика. Он редко, очень редко сердился. Но тут сказал бы о несчастных рабах, которых он призван освободить. Ведь это и есть его знамя. Как же можно об этом святом знамени заботиться меньше, чем о нем самом?
Для других он — знаменосец, или чудовище, или спаситель. В негритянских хижинах матери рассказывают о нем детям сказки. Это еще во времена Канзаса началось.
А ей он муж. Никогда никого ближе не было. Матери она не помнит. Дети — это совсем другое дело.
Она всегда была замужем, за каменной стеной. Хоть он часто уезжал, особенно в последние годы, она ждала и ждала. Носила, рожала, кормила и ждала. Работала от зари до зари и ждала. Семь маленьких гробов опустили в землю, и, когда его не было рядом, она его ждала.
Жила в нищете. Приходилось брать деньги даже у старика свекра. Почему же она не поехала туда, но ферму Кеннеди, в июле, когда он звал ее? Побоялась оставить младшую дочку. Сколько раз ее укоряли и взрослые дети, и соседи, — что она все о муже и о муже. Вот она и послушалась уговоров. Нашла время… Побоялась оставить дом и маленьких на Энни, ей все казалось, что Энни сама маленькая. Для нее все они маленькие, все дети. А разве Оливер и Уотсон не мальчики? Убили моих мальчиков. А теперь и Джона убьют.
…Нельзя.
Не поехала тогда, послала дочь и невестку. Может, потому не поехала, что он написал: «Ты можешь сослужить неоценимую службу Делу». Если бы он написал: «О, Мэри!», она бы поехала.
Теперь-то всех оставила, сегодня ровно месяц с того дня, как Хиггинсон увез ее из Северной Эльбы.
Может, Джон обиделся на нее за это и потому не хотел ее видеть? Нет, у них такого не водилось — обижаться. Он понимал, что она поступила благоразумно.
Коляска остановилась.
— Вы не хотите выйти, миссис Браун?
— Нет, сэр.
Сидела в углу, боялась пошевелиться. Хотела, чтоб скорее, и хотела, чтоб медленнее. Ведь это последнее свидание.
Сколько было планов бегства! С самого начала, после первых же раскатов грома из Харперс-Ферри, с той первой поездки с Хиггинсоном. И с каждым планом она вновь начинала надеяться. Забывала, если он сказал «нет», значит, нет. Слово как камень в их родной Эльбе.
Трудно жить у чужих людей. Все не так, как дома. Джон ей много рассказывал про своих друзей, союзников, помощников, про тех, кто поддерживал, собирал деньги, покупал оружие. Сидели они у своего огня, и слушала она про Дугласа, про Хиггинсона, про Торо, про Стирнсов, про Смита, про Расселов, и эти рассказы заменяли ей знакомство. А теперь пришлось многих увидеть.
Не надо бы ей их видеть. Она бы обошлась. Ей так мало нужно, только, чтобы он был рядом.
…Нельзя.
Чужие дома оказались не совсем такие, как в рассказах. И люди не совсем такие. Впрочем, все сейчас на себя не похожи, выбиты из колеи, взбаламучены, растерянны. А она разве похожа на себя? Джон однажды, давно-давно, писал о ней: «Жена у меня — старомодная, деловая женщина». Какая она деловая? Старая — это да, сорок три года. Раньше казалось, что между ними большая разница — семнадцать лет, а теперь и вовсе нет этой разницы.
К ней были очень добры, приносили подарки: носовые платки, перчатки, домашние туфли, корзинку для пикников… Она никогда не носила перчаток и постеснялась спросить, что такое «пикник»?
Нельзя думать о том, о чем неотступно думается. Можно только молиться. Вот она все время молилась и сейчас молится. Так Джон велит в каждом письме.
Там, в тех домах, где ей пришлось бывать на пути, люди очень много спорили о Джоне. Нет, они о ком-то другом говорили. О герое, о рыцаре на коне. А Джона, ее Джона, они и не знали. Он никому не открывался, да и ей редко. Он ведь добрый, это же он от доброты стал железным; плачет ребенок у соседей, все равно, что его ребенок, хоть белый, хоть черный.
Они его не знают. Только она, может быть, знает его. Он и сам не подозревает, как хорошо она его знает.
А он, разве он ее знает? Какие слова он ей говорил, совсем не про нее, про другую какую-то, про волшебницу. И ей всегда хотелось стать такой волшебницей. Она и не помнит уже, когда смотрелась в зеркало, а в этих домах везде зеркала, хочешь не хочешь, а видишь себя. Гладко зачесанные волосы, прямой пробор, большой рот, широкий нос. Некрасивая. А Джон еще называл ее «моя лучшая половина». Просто он редко смотрел на нее. Очень редко.
Она и училась только до десяти лет. Потом надо было помогать старшей сестре, потом своя семья — дети, хозяйство, где уж тут учиться?
За этот месяц она один только раз очень рассердилась, когда приехал этот человек из Огайо, он собрал уже восемнадцать свидетельств, что Джон сумасшедший, и ей предлагал написать такую бумагу. Тогда есть надежда, что помилуют. Она сурово молчала, он спросил:
— Миссис Браун, а сами-то вы считаете своего мужа нормальным человеком?
— А что такое «нормальный»?
— Ну, можно сказать, обыкновенный… («Что она, совсем дура, эта жена Брауна?..»)
— Нет, он, конечно, необыкновенный. Но не сумасшедший. Вот его дядя тот, правда, был сумасшедший, никого не узнавал, выл, его пришлось в больницу отвезти. Старший сын Джон после Канзаса из ума вышел — так разве можно было спокойно перенести, когда его на цепи по земле тащили… А муж? Нет, он не сумасшедший. Я не подпишу такой бумаги.
Да, он всегда только о рабстве и о рабстве, себя забывал, семью забывал. Борьба против рабства — это для него главное дело. Но он же не один, разве вы Дугласа, Гаррисона, Филипса считаете сумасшедшими?
— Но им же не грозит виселица!
— Муж осудил бы меня, если бы я подписала такую бумагу. Я знаю, что он не безумен. И я не могу так оскорбить ни его, ни его Дело.
А ночью рыдала, уткнувшись в подушку. Он мог бы жить. Он мог бы жить. Пусть в сумасшедшем доме, но жить. Его бы помиловали, боже, наставь меня, помоги мне…
Коляска катила к Чарлстону. Времени оставалось все меньше и меньше. Как песочные часы — песок на донышке, скоро можно будет переворачивать. Да уж некому. Как легко ей было бы, если бы их убили вместе. Он писал однажды про негра, который покончил с собой, потому что его жену продали на Юг.
Но она не смеет убить себя, мы не властны над своей жизнью. Умереть вместе было бы легче. О детях позаботятся, сколько оказалось друзей у ее мужа. Хоть он и предупреждал ее: «Не думай, что ты всегда будешь окружена таким вниманием», но просто он там, в тюрьме, не знает всего, не может даже себе представить. Сколько людей подходили к ней или писали, предлагали помощь, снова и снова обещали: «всегда». Они так держались, будто были виноваты перед ней, перед ним. За то, что он пошел, а они не пошли. Она никого не судит. Каждый сам вправе решать — идти или не идти. Джон иногда судил. Она знает, чувствует, хоть они с тех пор и не виделись, что Дугласа он осудил. Он верил, что уж кто-кто, а Дуглас пойдет с ним. Сейчас Дуглас в Англии. Какая Эмми Дуглас счастливая, она еще обнимет своего Фредерика…
…Нельзя. Так уж совсем нельзя.
То ли лошади, почуяв конюшню, побежали быстрее, то ли ей так казалось. Падают последние песчинки. Все уйдут, и она, и этот капитан, и солдаты, и губернатор Уайз, который разрешил свидание. Кто раньше, кто позже, но все. Именно так ее будет утешать Джон. Но сейчас от этого не легче.
Перед глазами вязанье, она пытается отогнать то, о чем нельзя. И куда-то эта нитка ведет ее, какое-то неотвязное воспоминание. Семерых детей она похоронила. Шестерых — от болезней. А маленькая Амелия — отец называл ее котенком — погибла по вине старшей сестры, по вине Рут.
Рут не доглядела, и малышка утонула. А могла бы жить. Джона не было тогда с ними.
Письма от него пришли позже, он очень убивался и просил: «Я надеюсь, что ни один из вас не возложит неразумных укоров на Рут из-за того страшного испытания, через которое все мы должны пройти».
А она и сама так сделала: она не обвиняла Рут, зачем? И ни разу не крикнула на нее, если бы еще родная дочь, а то падчерица.
Как он радовался, что и старшие сыновья, Джон и Джейсон, прислали мне письма, пожалели меня. А ведь бывало и по-иному. Бывали обиды, которые она скрывала. Ничего от него не могла скрывать, а обиды от детей скрывала. Обида от взрослого сына или дочери саднит, ноет, как рана, долго-долго, муторно, муторно…
Джон не обижал ее. Теперь ей кажется, что никогда он не обижал ее.
Амелия могла бы жить, ей срок не подошел — вот в чем дело. Сколько ей было бы сейчас? Тринадцать лет.
И Джон мог бы жить.
Лошади рванули коляску, громче стук колес и топот копыт, солдаты вдруг заговорили громко-громко, молчаливый капитан стал кричать, она не разобрала, что он кричал.
Только потом, на обратном пути, поняла, — они зашумели, чтобы она не услышала стук топоров: строили виселицу.
Половина третьего.
Капитан Эвис встретил ее на крыльце, поклонился, как леди. Сначала ее провели в комнату, где миссис Эвис должна была обыскать ее, нет ли при ней оружия. Жена тюремщика очень смущалась, но таков был строжайший приказ. А Мэри окаменелая, ей все равно, обыск так обыск.
После этого Эвис привел ее к мужу. Браун был один, Стивенса на это время перевели в другую камеру.
— О, Мэри!
— О, Джон!
И все. Обнялись, и сразу же каждый сжался.
Они остались одни. Они говорили все о том же, о чем Джон писал ей весь этот месяц, — о детях, о завещании, о деньгах, о друзьях.
— Еще расскажи про Элен…
— Что тебе рассказать? Месяц уже не видела ее. Когда Хиггинсон приехал, она так важно принесла ему Библию, которую ты ей подарил, и держалась прямо как взрослая.
— Я все написал тебе, Мэри. Я ведь не знал, что разрешат свидание, и утром отправил письмо, Ты все сделай, как я тебя прошу.
— Я все сделаю, как ты просишь, родной.
Они держались за руки. И часто замолкали. Раньше всегда было так: он говорил, она молчала. Теперь замолкал он. Она ругала себя — ведь знала же, ведь все обдумала столько раз, надо: о том, о том, о том…
— Мэри, меня и сегодня не надо занимать разговорами.
Он всегда читал ее мысли, а за последние годы они часто произносили одни и те же слова.
В начале свидания она заметила, какой он бледный; раньше он ведь редко, чтобы подолгу жил в доме, в четырех стенах, и лицо всегда коричневатое, прокопченное кострами и обветренное, а тут — месяц взаперти. Он заметил ее взгляд, и они оба хором, как в детских сказках, вместе: «Белое лицо». И улыбнулись. Так называлась гора в Северной Эльбе, недалеко от их дома.
Он рассказал о гибели сыновей и зятьев.
— А знаешь, есть такие цветы, в наших краях они не растут, лиловые с желтым, называются «Джон и Мэри». И лиловое от желтого не отделить, как ни старайся. Ты это всегда помни: где ты, там и я. Помни про эти цветы.
Он никогда не дарил ей цветов. Она об этом и не думала никогда. А сейчас подарил на прощанье.
Она ждала, что он повторит фразу из письма: «Думай о том, чтобы кончить жизнь хорошо, а не о том, чтобы жить долго». Не повторил.
— Вот что я тебе еще скажу, Мэри. Это тебе не легко будет слушать, но ты ведь мужественная женщина, ты справишься. Я решил, что очень сложно тебе будет увозить наши тела. Поэтому надо сжечь нас всех вместе — Оливера, Уотсона, Томпсона и меня. А вот пепел, пепел собери в ящик и отвези в Северную Эльбу и похоронишь под нашим камнем.
Она заплакала еще и потому, что вдруг увидела: ему страшно. Это она увидела впервые. И он подробностями закрывается от страха. Костер, пепел, ящик, камень, а до того — удавка. Ему страшно, как может быть страшно только большому, сильному, бесстрашному мужчине. И она не может отогнать его страх, не может защитить.
В дверях камеры стоял капитан Эвис. Свидание кончилось.
— Позвольте ей побыть здесь со мной до завтра.
— Разрешение получено на три часа, после этого миссис Браун должна возвратиться в Харперс-Ферри — таков строжайший приказ.
— Вы не смеете! Я прошу, я, наконец, требую, чтобы жене разрешили остаться! Чего вы боитесь? Жалкие трусы! Звери!
Мэри нежно, но твердо обняла его и гладила голову, щеки, руки.
— Не надо, родной. Успокойся. Бог с тобой. Бог с нами.
Эвис, угрюмо потупясь, сказал:
— Мы с женой просим вас и миссис Браун отобедать у нас.
Мэри ничего не ела со вчерашнего дня. Утром она не могла, как ни уговаривали, не могла проглотить ни куска. Джон не дал ей открыть корзинку с едой, которую она привезла. Но в первый момент приглашение показалось им обоим диким, даже оскорбительным.
Браун сказал жестко:
— Вы — тюремщик, я — заключенный, я вынужден повиноваться, обедать так обедать, на виселицу так на виселицу.
Эвис отомкнул цепь Брауна, пропустил его вперед, начальник тюрьмы молчал, а его жена, они уже шли по коридору, умоляюще смотрела на мужа.
Квартира Эвиса в углу тюремного двора. Жаркие запахи кухни как удар, оба чуть отклонились. Какая вкусная индейка, особенно хрустящая эта корочка. Все жены знают: горе позади, горе впереди, все равно сначала накорми. Что бы ни случалось у них в жизни, Мэри говорила Джону: поешь, родной.
Сейчас они сидят за столом в последний раз. И кормит чужая жена. Подкладывает лучшие куски. Четыре человека сидят за накрытым столом. Двое мужчин, две женщины. Стол обильно уставлен яствами. Неделю тому назад, в праздник благодарения, миссис Эвис тайком от мужа всем заключенным подсунула по куску индейки, — все американцы в этот день едят индейку и благодарят бога за то, что их предки благополучно перебрались через океан, за то, что им, их потомкам, здесь лучше, чем в Старом Свете.
Брауну не дают ни ножа, ни вилки — тюремные правила.
Бобы. Яблочный пирог. Сидр. Спиртного нет: Эвис знает, что Браун давно ничего спиртного не пьет. А сам начальник тюрьмы отнюдь не прочь выпить, но сейчас обед для Брауна. Это придумала жена Эвиса, она убеждала мужа: Мэри Браун едет издалека, едет на такое горе, она, конечно, не ела… Чем же еще можно помочь несчастной?
Эвис сначала угрюмо цыкнул на жену — нельзя. А потом, а почему, собственно, нельзя?
Украдкой Эвис все чаще смотрит на часы: время отмерено строго, он и так нарушает приказ, как бы начальство не разгневалось. Странная мысль, а что если бы мятеж в Харперс-Ферри кончился бы по-другому, если бы он, Эвис, сидел сейчас в тюрьме, стал бы Джон Браун кормить его? Стал бы сочувствовать врагу? Стал. Он хорошо относился к пленным, об этом и на суде говорили. Да Эвис и без этого знает, мало кого он так хорошо знает, как Джона Брауна, мало он встречал таких удивительных людей. Взгляды у них разные, только и всего.
Эвис не был таким уж истовым христианином, но за этот месяц многому научился, многое узнал из писем Джона Брауна.
Молодец жена, это по-христиански — накормить перед казнью. Поминки. Мудрые поминки. Только, вопреки обычаю, еще до смерти того, кого поминают. Мэри и миссис Эвис потихоньку утирали слезы. Здесь можно.
У входа в тюрьму ждала та же коляска. Они обнялись в последний раз. И вот она опять едет. Едет и ни о чем уже не думает, ни о чем не вспоминает, ни о чем не просит.
Глава двенадцатая Дух Джона Брауна шагает по земле…
1
Он проснулся от скрипа двери. Эвис в парадном мундире со свечой, рядом с ним кто-то незнакомый в длинном, темном сюртуке.
— Это пастор, сэр, он хочет побеседовать, помолиться с вами.
— Спасибо, сэр, но в моих отношениях с богом не нужны ни посредники, ни помощники.
Браун, как всегда, открыл Библию, в этот раз подчеркнул любимые места. Потом позавтракал.
Накануне он забыл отдать Мэри завещание. Утром дополнил его — какие именно надписи нужно вырезать на могильном камне.
Ответил давнему знакомому Лору Кейзу из Гудзона. Последнее письмо:
«Глубокоуважаемый сэр, поразительный взлет Вашего добросердечного сочувствия не только по отношению ко мне, но и по отношению ко всем тем, у кого нет заступников, заставляет меня урвать момент из тех немногих, что мне отпущены для приготовления к последней, великой перемене, и написать Вам несколько слов… Чувства, которые Вы выражаете, делают Вас в моих глазах светочем среди этого злого, извращенного поколения. Да будете Вы всегда достойны того высокого уважения, которое я к Вам испытываю. Чистая истинная религия, как я ее понимаю, перед лицом Всевышнего Отца, такова: действующие, а не дремлющие принципы… Я посылаю Вам «благословение, написанное моей собственной рукой».
Напомните обо мне всем Вашим и моим добрым друзьям.
Ваш друг Джон Браун».
Генри Лонгфелло занес в дневник второго декабря: «Это великий день нашей истории. Пока я пишу эти строки, в Виргинии ведут на казнь старого Джона Брауна за попытку освободить рабов. Они сеют ветер и пожнут бурю, и буря эта — не за горами».
Герцен в «Колоколе» восклицал: «Рабство, только терпимое прежде, сделалось законом, основой, на которой покоится американская демократия. В то время, как мы это пишем, быть может, палач вешает героев Харперс-Ферри. Итак, вот к чему пришел весь образованный мир!»
Виктор Гюго, но зная, что приговор уже приводится в исполнение, в тот же день писал редактору «Лондон Ньюс»: «Если восстание когда и было священным долгом, то это именно восстание против рабства…
…Такие события, свершенные перед лицом всего цивилизованного мира, не проходят безнаказанно. Сознание человечества — всевидящее око. Пусть судьи в Чарлстоне, и Паркер, и Хантер, и присяжные, и рабовладельцы, и все население Виргинии, пусть они хорошенько взвесят свои поступки, ибо их видят! Они в мире не одни. Взоры Европы в этот момент прикованы к Америке.
…С его казнью уйдет луч света: сами представления о справедливости и несправедливости будут затемнены в день, который будет свидетелем убийства Свободы.
…На долгие годы впредь, — знай это, Америка, и взвесь хорошенько, — будет нечто более страшное, чем Каин, убивающий Авеля: Вашингтон, убивающий Спартака».
Браун оделся. В камеру вошли Эвис и стражник. Браун подарил стражнику Библию, а Эвису — часы.
Он покинул стены, которые окружали его тридцать три дня. Его вели по коридору, Эвис отпирал дверь за дверью.
Грину и Копленду Браун сказал:
— Ведите себя, как подобает мужчинам, и не предавайте друзей.
(Последние слова Копленда перед казнью две недели спустя были: «Я умираю ради свободы, трудно избрать лучшую смерть. Я предпочитаю смерть рабству!»)
У камеры Коппока и Кука Браун задержался:
— Кук, вы дали ложные показания, будто я заставил вас идти в Харперс-Ферри.
— Но ведь так оно и было, капитан!
— Нет, было не так, я прекрасно помню.
— Мы с вами помним по-разному.
— Желаю вам обоим мужества.
Стивенс встал ему навстречу, его уже не вернули в камеру к Брауну после отъезда Мэри.
— До свидания, капитан, я знаю, что вы уходите в лучший мир.
— Да, в это я верю, это я знаю. Держитесь так же, как держались до сих нор, и никогда не предавайте друзей.
С Хэзлитом он прощаться не стал: ведь у властей не было формальных доказательств того, что Хэзлит принимал участие в нападении на арсенал, и Браун, оберегая товарища, делал вид, будто не знает его.
А в конце коридора он обернулся и сказал громко:
— Благословляю всех вас, быть может, нам еще придется встретиться в ином мире.
В Чарлстон привезли три веревки — из Южной Каролины, из Миссури, из Кентукки. Выбрали веревку из Кентукки. Виселица была готова.
Газета «Рипабликен» 1 ноября 1859 года в городе Саванна взывала: «Как соседи, мы стоим за коллективную месть. Устрашающий пример должен быть дан, этот пример станет путеводным маяком на долгие времена…»
Джордж Куртис из Уорчестера предупреждал: «Чтобы его удавить, могла найтись только южная веревка, но у этой веревки две петли, — одна удушит человека, вторая удушит систему».
Уэнделл Филипс: «То, чего государственный деятель не мог бы достичь в течение семидесяти лет, тому один поступок научил в течение недели восемнадцать миллионов человек…»
Френсис Уоткинс, рабыня из штата Индиана, писала Брауну: «Вы поколебали кровавую Бастилию, цикута растворена в победе, если ее подносят к губам Сократа».
Когда Браун увидел колонны солдат на улицах а на площадях Чарлстона — их было полторы тысячи, — он сказал:
— Не думал, что губернатор придает моей казни такое большое значение.
Губернатор Уайз, прокурор Хантер и судья Паркер с нетерпением ждали за прочными дверьми своих прочных домов, убежденные в своей правоте, в незыблемости отстаиваемых ими порядков.
В 1866 году на плантации бывшего губернатора Уайза в Ричмонде была открыта школа для негров. Преподавала в ней Энни Браун. Хозяину не разрешили войти в свой дом; на Юге еще стояли войска северян, была провозглашена реконструкция.
30 мая 1881 года отмечалась четырнадцатая годовщина Сторер-колледжа — негритянского колледжа в Харперс-Ферри. Речь о Джоне Брауне произнес Фредерик Дуглас.
Рядом с Дугласом сидел благообразный седой человек, бывший прокурор Виргинии Эндрью Хантер. Он поздравил Дугласа с прекрасной речью, пожал ему руку, пригласил к себе в Чарлстон и сказал, что, если бы генерал Ли был жив, он тоже пожал бы руку Дугласу.
Солдаты оттеснили толпу. В утренней тишине звучали топот, шарканье, тихий говор. Но ни одного громкого голоса, ни единого вскрика…
Браун подошел к телеге, на ней стоял гроб. Руки связаны за спиной. Шляпа, как всегда, надвинута низко на лоб. Его посадили на гроб рядом с шерифом. Впереди сели Эвис и гробовщик. Телегу сопровождали шесть отрядов милиции.
Месяц миновал. Утренние часы миновали. Дела сделаны. Теперь осталось доехать до площади — всего два с половиной квартала. Во многих окнах — люди, но есть и закрытые ставнями.
Лошади ступают медленно. До сих пор жизнь мчалась. Даже в тюрьме время двигалось быстро. А сейчас едва тащится. В одиннадцать утра телега подъехала к эшафоту…
Джон Браун поднял голову, он уже не замечал ни солдат, ни толпы, посмотрел поверх улиц на горы, на лес, на небо: как здесь красиво! Я никогда еще по-настоящему не видел этих мест.
Генри Торо говорил:
«Покажите мне человека, который проклинает Брауна, и спросите, знает ли он хоть одно прекрасное стихотворение… не говоря уже о поступках Брауна… Какое произведение создал за шесть недель этот сравнительно мало читавший и далекий от литературы человек! Где этот профессор словесности, или логики, или риторики, который так хорошо пишет? Браун в тюрьме создавал не историю мира, подобно Ралею, а ту Американскую Книгу, которая, я думаю, проживет дольше. Я не знаю, чтобы при подобных обстоятельствах в римской истории, или в истории Англии, или в истории любого народа произносились бы подобные слова… Он жив сегодня более, чем когда-либо. Он завоевал бессмертие».
Гаррисон спрашивал: «Сколько сегодня в этом зале непротивленцев?» Одинокий возглас: «Я». — «Видите — один… (Смех.) Тем не менее сам я остаюсь непротивленцем… Но и я — мирный человек, ультрамирный человек, и я готов сказать: всем восстаниям рабов на Юге — успеха, всем восстаниям рабов в рабовладельческих странах — успеха!»
Браун поднялся на помост. Его предупредили, что речи ему не дадут произнести.
Палач снял с него шляпу, накинул на голову белый холщовый мешок. Последние минуты страха властей. Пушки заряжены, у канониров тлеют фитили, — вдруг единомышленники еще попытаются отбить старого узника?
Последние минуты его страха и его надежд. А вдруг — чудо? Ведь он уже не раз умирал. И совсем недавно, там, в пожарном сарае…
В конце октября он просил суд подождать, отложить заседания на два-три дня, подождать, пока приедет адвокат с Севера, пока заживут раны, подождать хотя бы, пока улучшится слух. Он хотел оттянуть конец. Но прокурор возражал, и суд отклонил его просьбы.
А сейчас он хотел только одного — скорее.
Когда мешок натянули, он сказал внятно, обычным тоном:
— Прошу вас, джентльмены, не заставляйте меня ждать.
Однако его заставили ждать. Звучали отрывистые команды. Началась перестройка войск. Замешательство длилось почти десять минут.
Посреди воинственно напряженных прямоугольников, прямых линий воинских колонн вокруг эшафота — одинокий штатский, Эдмунд Руффин, единственный зритель, допущенный присутствовать при казни. Ученый-садовод, журналист, истовый защитник прав Юга. Он пристально глядел, как Браун поднимался по дощатой лесенке, ступая твердо, неторопливо и бестрепетно. Вот оно, лицо врага, бледное, истощенное, но спокойное. В глазах — ни искорки страха, ни тени смертной тоски. Осматривается вокруг, скорее любопытствуя… Нет, все же печально. Прощается с жизнью, старый разбойник, как внимательно глядит куда-то вдаль, на горы, на небо. Что ему видно? Железный старик! Связан крепко, пальцем не шелохнет, но стоит прямо, гордо. Что-то сказал палачу, кажется, даже ухмыльнулся криво. Сам подставляет голову под мешок. Не торопится, но и не старается медлить. Железный…
Глухо загрохотали барабаны. Командные окрики все громче, все надрывнее. Ряды, колонны снова перестраивались, маршировали у эшафота.
Руффин думал: конец? Нет, еще не конец. Этот старик так уверенно смотрел вдаль… Что он видел?
Наконец полковник Поль Престон скомандовал:
— Так погибнут все враги Виргинии! Так погибнут все враги Союза Штатов! Так погибнут все враги рода человеческого!
Майор милиции Томас Джексон стоял на площади в час казни. Он писал жене в тот же вечер: «Джон Браун вел себя необыкновенно твердо… Меня поразила мысль, что вот передо мной человек здоровый, полный сил, но через несколько мгновений он перейдет в вечность. Я обращался с петицией, чтобы спасти его жизнь. Ужасно было сознавать, что через несколько минут он услышит приказ: «Злодей, отправляйся в ад навечно!»»
В городе Акроне, штат Огайо, где несколько лет прожил Браун, второго декабря был объявлен траур: банки, магазины, предприятия — все было закрыто.
В Олбэни, штат Нью-Йорк, в тот час, на который была назначена казнь, грянул залп из ста ружей в память погибшего мученика.
На Гаити отслужили заупокойную мессу в соборе Порт О'Пренса. В середине собора воздвигли пустую гробницу. На белом фоне — перо, меч, Библия и золотыми буквами: «Джону Брауну, мученику за дело черных». Траур длился три дня.
«Старый Браун превратит виселицу в место столь же святое, сколь святым сделал крест другой мученик», — сказал Ральф Уолдо Эмерсон.
Натаниель Готорн возражал:
«Разве смерть этого фанатика с окровавленными руками может освятить виселицу, как гибель Христа освятила крест? Брауна повесили совершенно справедливо!»
«К небесам от виселицы не дальше, чем от трона», — писал из Рима умирающий Теодор Паркер.
Уходя на казнь, Браун передал записку:
«Я, Джон Браун, теперь вполне уверен в том, что преступления этой погрязшей в грехах страны могут быть смыты только кровью. Теперь я понимаю, что напрасно тешил себя мыслью, будто это может произойти без большого кровопролития».
Аболиционистка Сара Эверет писала:
«Как могут здравомыслящие христиане предлагать покончить с этим грехом, но пользуясь средствами Джона Брауна? Вы знаете отлично и все знают, что рабовладельцы не допустят у себя на Юге никакой проповеди истинного христианства, а только христианство дьявольское. До сердца великого Юга могут добраться только божьи посланцы мести!»
В январе 1860 года издатель из Нью-Йорка предложил Редпату срочно опубликовать биографию Джона Брауна, чтобы поддержать Линкольна в избирательной кампании. Редпат отказался: «Я не хочу участвовать в святотатстве, при котором сигары зажигаются от алтарного огня».
Его книга «Общественная жизнь капитана Брауна» была посвящена «Уэнделлу Филипсу, Ральфу Уолдо Эмерсону, Генри Торо — защитникам праведника; когда толпа погромщиков кричала: «Безумец!», они произнесли: «Святой»».
Весь сбор от продажи книги пошел семье Брауна.
Редпат писал Торо, что эта книга «предназначена для масс, именно к этому я стремился; у образованных людей достаточно других учителей».
Через полгода, в День независимости, четвертого июля 1800 года, к могиле снова пришли друзья Брауна. Они вновь подтвердили «неколебимую веру в Принципы Свободы для всех и… нашу решимость Всеми, Любыми средствами помогать рабу освободиться, оставляя каждому лично, оставляя на совести каждого решать, каким именно способом и когда именно принципы будут воплощены в дела».
Второго декабря Мэри Браун ждала в Харперс-Ферри, в том самом пожарном сарае. С ней были друзья — семья Мак-Ким и Гектор Тиндейл. Губернатор обещал выдать тело Брауна. Мэри не плакала. Она застыла, закрыла глаза. Перед ней — его лицо, измененное страхом, корзинка с едой, обед у Эвисов. И опять сначала — объятье, его лицо, его руки. Их последний обед. Виселицу, ЕГО на виселице, она представить себе не могла.
Смерть — черпая непроглядная мгла. Без просвета.
Сырой холодный декабрьский ветер продувал все углы пожарного сарая. Тиндейл вполголоса рассказывал:
— Здесь они укрепились. Бон туда капитан Браун велел отвести заложников. Отсюда они стреляли, из-за этих повозок. Вот следы пуль. А ворота разбили бревном… Тут была последняя схватка… Это пятна, должно быть, от крови.
Она поглядела — бурые пятна на глинобитном полу. Их кровь. Ее кровь.
Тиндейл, осторожно прикоснувшись к плечу, словно ответил на ее мысли:
— Эта кровь пролита за святое дело, мэм, за великое святое дело свободы. Капитан Браун верил неколебимо, и я верю — его дело победит. И сюда будут приходить паломники, чтобы поклониться памяти героев, памяти Джона Брауна, его сыновей, его друзей. Вы должны гордиться, мэм, вы и вся ваша семья, все будущие потомки. Велика скорбь, но еще больше гордость.
Она слушала. Ей чудились даже знакомые интонации, но того голоса она никогда больше не услышит. Святое дело… Гордость… Правда, конечно, правда. Но все равно — в черной мгле нет просвета.
Гроб с телом Джона Брауна отправили из Чарлстона в Харперс-Ферри под охраной солдат. Вдоль улиц стояли безмолвные толпы.
Третьего декабря поезд с гробом прибыл в Филадельфию.
На вокзале собралось множество людей. Гроб погрузили на корабль, отплывавший в Нью-Йорк. Там друзья изготовили новый гроб, они не хотели хоронить Брауна в «южном» гробу.
Дальше его везли в фургоне. Следом — повозки и верховые. Мэри не замечала перемен — поезд, корабль, фургон, — все равно гроб. Траурный кортеж проезжал Трою, Рутлэнд, Вергенны, Вестпорт, и везде звонили колокола и собирались люди. От Элизабеттауна до Северной Эльбы — двадцать пять миль гроб сопровождал почетный караул. По этим городам еще недавно метался Джон Браун, торопился из одного в другой, из дома в дом. Он спешил, чужое горе гнало, заставляло спешить. Он вербовал сторонников, искал деньги, звал живых, готовился свергнуть рабство.
Теперь его везли, процессия двигалась медленно. Вечером седьмого декабря добрались до Северной Эльбы.
Какая была огромная семья — целый клан, едва усадишь за стол. А теперь их осталось в живых немного. Четверо сыновей — Салмон, Джон-младший, Джейсон и Оуэн. Мэри, дочери, невестки. Женщины и дети. И друзья.
Могилу выкопали под тем самым камнем, на котором было выбито: «Джон Браун погиб…» Воля покойного соблюдалась неукоснительно. На камне появились новые надписи, как он велел второго декабря. Священник отслужил заупокойную службу.
Уэнделл Филипс говорил у могилы:
— Он уничтожил рабство в Виргинии. Вы можете возразить, что это преувеличение. А между тем историки будут датировать освобождение Виргинии от событий в Харперс-Ферри. Да, верно, там еще есть рабы. Но ведь когда буря вырывает сосну на холме, сосна кажется зеленой еще долго — год, два. Однако это дрова, а не дерево. Джон Браун вырвал корни системы рабства, она еще дышит, но уже не живет…
Филипса слушали родные, друзья, соседи, слушали белые и негры.
— Джон Браун опередил всех на целое поколение, заявив, что белые люди имеют полное право выступить на стороне рабов с оружием в руках… Его слова сильнее, чем ружья. Они сломили государство. Они изменили мысли миллионов и помогут сокрушить рабство… Ему был дарован сан более высокий, чем сан солдата, — сан учителя. Эхо выстрелов умерло в горах, миллионы сердец хранят его слова…
Могилу засыпали землей, камень водворили на прежнее место. «Джон Браун погиб…» Негры пели его любимые песни.
Опять поминки. Мэри должна, как всегда, заботиться о других. Накормить, напоить. А в темной мгле нет просвета.
«Миллионы сердец хранят его слова…»
Люди, пришедшие сюда отдать последний долг, сохранили. И передали другим.
Монкюр Конвей, священник, литератор, говорил в церкви города Цинциннати:
«Все силы земли и ада не могут помешать нам сегодня услышать голос старого павшего героя Виргинии. И если бы молчали мы, заговорили бы камни.
Герой ли Джон Браун? То, что сегодня разумные, нормальные люди могут задавать подобный вопрос, станет когда-нибудь лишь свидетельством глупости нашего века…
Там, где есть героизм, там, где есть самопожертвование, там, где есть высшее стремление к истине, — там исполняется воля, неизмеримая никакими мерками осторожности; его деяния столь же подлежат нравственному суду, как молния или землетрясение…
…Кто посмеет сказать, что человек, который скрепил своей кровью смертный приговор рабству, который подытожил делами своими труд столетия, кто посмеет сказать, что этот человек потерпел поражение? На капитолии Виргинии и Вашингтона красными буквами начертано «КРАХ», а на виселице Брауна начертано «УСПЕХ»».
Ральф Уолдо Эмерсон сказал на собрании в Салеме: «Меня поразило, что у лучших ораторов, которые прибавляли свои восхваления к его славе, — а мне не надо покидать этот дом, чтобы найти примеры самого замечательного в стране красноречия, — у этих лучших ораторов есть соперник, который их всегда немного опережает, — Джон БРАУН. То, что говорится о нем, оставляет людей чуть-чуть разочарованными; но как только начинают звучать его собственные речи и письма, на слушателей нисходит мир — такова сила единой цели, которая пронизывает у него все…
Это был романтический характер, совершенно лишенный пошлости; он жил ради идеальных целей, безо всякой примеси жалости к себе, безо всякой примеси компромисса… И как обычно бывает с людьми романтического склада, его судьба была тоже романтичной. Вальтер Скотт был бы счастлив написать его портрет, его жизнеописание…»
Маркс писал Энгельсу:
«По моему мнению, величайшие события в мире в настоящее время — это, с одной стороны, американское движение рабов, начавшееся со смерти Брауна, и, с другой, — движение рабов в России».
Джордж Стирнс весь тот день, когда казнили Брауна, провел один на Ниагаре. Хоть бы этот непрестанный рев, грохот падающей воды заглушил боль…
Вползали и дурные мысли — Браун был с ними неискренен, пытался их использовать. Нет, так думать нельзя, недостойно. Даже наедине с самим собой. Я живу. Я дышу. Я ощущаю на лице брызги воды. А ему сейчас накидывают мешок на голову, петлю на шею.
Кто из всех людей, которых я знал, мог бы сравниться с Брауном?
На Ниагаре Стирнс поклялся посвятить жизнь и отдать все состояние борьбе против рабства.
В феврале 1800 года Стирнс явился по вызову в комиссию конгресса. Три часа его допрашивали о помощи Канзасу, о поставках оружия, о Джоне. Брауне-младшем:
— Что вас побудило помогать Брауну?
— Я звал, что этот человек одержим идеей, я считал эту идею справедливой, потому я и давал ему деньги…
— Вы одобряли нападение на Харперс-Ферри?
— Я не одобрил бы действий капитана Брауна, если бы знал о них. Но с тех пор я изменил свою точку зрения. Я считаю, что именно Джон Браун представляет наш век так же, как Вашингтон представлял век минувший. Харперс-Ферри и поход в Сицилию, Браун и Гарибальди — вот два великих события, два великих имени современности… Одно освободит Европу, другое — Америку…
Сенатор Мейсон сердито сказал Стирнсу:
— Когда вы отправитесь на небо, к Старому Джентльмену, управляющему вселенной, вам придется держать ответ за ваши дела и слова.
— Господу богу сначала придется расследовать злодеяния, свершенные за двести пятьдесят лот рабовладения, а пока он с этим справится, ему будет уже не до меня…
Стирнс писал жене в 1863 году:
«Вчера я выступал на собрании негров и напомнил собравшимся о том, что на наших глазах происходит завершение битвы в Харперс-Ферри, что история воздает должное Джону Брауну».
На его могильной плите высекли:
«Джордж Лютер Стирнс купец из Бостона, который доказал своей жизнью и деятельностью доблесть и широту Гражданственности, отдав свою жизнь и свое состояние для свержения ига рабства и сохранения свободы.
Его преданности и настойчивой воре Массачусетс обязан созданием 54-го и 55-го негритянских полков, а федеральное правительство — тому, что в армию было рекрутировано десять тысяч негров».
Эпилог
Уже с рассвета двенадцатого апреля 1861 года во всех батальонах, во всех батареях знали: начинается… Войска северян не хотят уходить из форта Самтер, не хотят признавать права свободного Юга. Значит, их нужно прогнать, проучить раз и навсегда.
Над кирпичными стенами форта, на утреннем небе над морским горизонтом звездно-полосатый флаг. Вдоль гребня стены за брустверами неторопливо двигаются синие каскетки — сменяют караул. А в километре, напротив, на травянистых холмах, на опушках леса, подальше, ряды белых палаток, поближе — свежие песчаные насыпи, обложенные плетеными фашинами. Торчат стволы пушек. Над ними синие флаги, перекрещенные косыми красными крестами, семь белых звезд. Флаги конфедерации южных штатов, отделившихся, отвергших власть Вашингтона. Торопливо снуют серые мундиры.
Руффин на передовой батарее. Единственный штатский среди офицеров и солдат. Опять, как полтора года назад у эшафота.
— Ну что ж, джентльмены, как говорил Цезарь, жребий брошен. Приказ правительства конфедерации однозначен, срок ультиматума истекает через пять минут. Придется ядрами напомнить господам янки, кто здесь хозяин.
— Мистер Руффин, вы наш гость, сэр, наш друг и просветитель. Позвольте вам предложить честь сделать первый сигнальный выстрел.
— Благодарю, полковник, очень польщен, горжусь.
— Эй, парень, подай фитиль нашему гостю! Становитесь сюда, остерегайтесь колес. Прикладывайте запал по моему знаку.
Грохот. Рывок пламени. Бело-серые клубы дыма. Чад. Черная тяжелая пушка подпрыгнула, рванулась назад, скрежетнув колесами. Справа и слева грохот. Короткие молнии…
— Поздравляю вас, джентльмены, с началом кампании. Теперь наступит конец власти северян. Поздравляю вас, мистер Руффин, вы сделали первый выстрел.
— Благодарю вас, сэр. Но это, пожалуй, не первый выстрел. Война началась еще в Харперс-Ферри. И первым стрелял Джон Браун.
Пять дней спустя, семнадцатого апреля 1861 года, вдоль булыжной мостовой Бродвея, выбитой копытами и колесами, маршировал большой отряд. Новенькие, еще не измятые синие куртки, еще не истоптанные сапоги, не потускневшие глянцевые ремни. Новенькие блестящие ружья… Впереди барабанщики, стучат размеренно, отбивая ритм песни. Высокий, почти мальчишеский голос завел протяжно, как псалом:
Прах Джона Брауна Покоится в земле…Вся колонна загудела торжественно, однако не ускоряя напев, в лад барабанам, в лад шагу:
Дух Джона Брауна Шагает по земле.— Откуда вы, парни, чей отряд?
Офицер, шагавший сбоку и подтягивавший вполголоса мотив, сбиваясь в словах, ответил горделиво:
— Второй батальон Массачусетского полка Флетчера-Вебстера.
— Лихие парни…
— Хорошо поют…
— Эй, массачусетцы, старина Эйб в Белом доме ждет не дождется, когда вы придете Вашингтон защищать, а вы тут псалмы распеваете.
— Какие же это псалмы? Это новая песня. Про старика Брауна поют.
— Да, Браун, вот кто был бы нужен теперь. Он умел колотить южан. За ним черные пошли бы сотнями тысяч.
— Побойтесь бога, мистер. Что вы говорите? Восстание негров? Да ведь это гибель для всех американцев. Вот из-за таких безумных аболиционистов и началась братоубийственная война. Скорее бы кончилось. Хорошо, что старого головореза Брауна вовремя повесили.
— Оторвать бы вашу дурацкую голову!
— Капитан Браун — великий воин Америки. Правильно поют массачусетцы: «Дух Джона Брауна шагает по земле…»
Вашингтонская газета «Индепендент», 9 августа 1861 года:
«Кто мог представить себе полтора года тому назад, что тысячи человек пойдут по улицам Нью-Йорка и будут вдохновенно, едва ли не молитвенно, петь хвалу Джону Брауну… Так еще не чтили ни одного героя нынешней войны».
Джордж Стирнс писал жене из Луисвилля: «Делегация миссурийцев поет в вагонах песню о Джоне Брауне».
Хиггинсон рассказывал: «Я никогда не испытывал ничего подобного. В этом есть какая-то потрясающая народная справедливость, что ЕГО имя стало гимном войны».
Сентябрьский вечер шестьдесят второго года. Над Харперс-Ферри черными клочковатыми столбами дым пожаров. По опустевшим улицам идут солдаты в синих мундирах. Идут усталые победители, идут вразброд, не торопясь.
Войска северян вступают в город. Обгоняя пеших, рысят офицеры, катят фургоны обозов. Грузные кони тянут пушки. У пожарного сарая толпа синих мундиров. Во дворе арсенала телеги, оседланные лошади. Молодые офицеры переговариваются:
— Неужели квартирьеры не нашли для штаба лучшего места?
— Командир полка велел расположиться только здесь.
— Вот он и сам идет, можешь спросить у него.
— Вам не нравится помещение, джентльмены? Не слишком удобно? Потерпите, здесь мы ненадолго задержимся. Но зато наш славный двадцать восьмой полк отвоевал у мятежников святое место. В этом каменном мешке три года тому назад сражался Джон Браун. Их было двадцать два бойца — двадцать два против всего Юга, против двух веков рабства. Чтобы осилить горсточку героев, понадобились тысячи ополченцев, федеральные войска, батальоны морской пехоты. Сам полковник Роберт Ли командовал наступлением.
— Это нынешний генерал конфедератов?
— Да, он самый. Тогда и он, и все, кто с ним, были уверены, что, осилив старика Брауна, они осилили и его дело. А потом, второго декабря, мы с его вдовой здесь же ждали, когда привезут из Чарлстона тело казненного… Запомните это место, парни! Здесь Джон Браун начал войну, которую мы с вами должны закончить победой.
— Правильно, майор…
— Слушайте, слушайте…
— Мы еще притащим сюда генерала Ли, заставим и его поклониться этой земле.
Второго декабря сенатор штата Иллинойс Авраам Линкольн, кандидат в президенты, заявил: «Старого Джона Брауна казнили за государственную измену, Мы не можем протестовать против казни, хотя он, как и мы, считал, что рабство несправедливо. Но это обстоятельство не может оправдать насилие, кровопролитие и измену. Нет никаких оснований считать его правым…»
Священник Фейлс Ньюхолл из Роксбери говорил с амвона, что отныне слово «измена» стало святым в американском словаре; священник Эдвин Уилок из Бостона благословил «святую и блистательную измену Джона Брауна».
Первого января 1863 года Линкольн подписал Декларацию об освобождении рабов: «Я, Авраам Линкольн… в момент вооруженного восстания против Соединенных Штатов применяю как необходимую военную меру для подавления этого мятежа следующее: я заявляю, что все лица, которые были рабами… в тех штатах и в тех округах, которые восстали… отныне считаются свободными… И далее я заявляю, что такие люди… будут зачисляться в армию Соединенных Штатов.
…Воздавая справедливость черной расе, мы гарантируем свободу белой…»
Гарибальди, узнав о Декларации, приветствовал Линкольна как «продолжателя дела Христа и Джона Брауна».
Среди войсковых частей, выстроившихся у виселицы, была колонна военного училища. В первой шеренге стоял, напряженно вытянувшись, бледный юноша с лихорадочно блестевшими глазами. Кадет Джон Уилкс Бутс учился плохо, он медленно соображал на испытаниях, был неповоротлив в строю. Товарищи не любили его за хвастовство и заносчивость, но с удовольствием слушали, как он декламировал монологи из трагедий, мелодрам и, завернувшись в простыню, изображал Цезаря или Гамлета. Он был сыном известного актера, его старший брат уже прославился как исполнитель шекспировских ролей, но младший Бутс мечтал о славе еще более громкой, чем та, которую можно добыть на сцене.
Бутс глядел на казнь, испытывая не только удовлетворение — вот он, конец врага, — и любопытство — такое зрелище он видел впервые, — но и зависть. Двойную зависть, — он восхищенно завидовал тем, кто осилил страшного Брауна из Осоватоми и привел его на эшафот, и втайне, сам себе не признаваясь, зло завидовал этому ненавистному разбойнику. Он прославлен, вся Америка, весь мир шумят о нем. Завидовал даже гордому спокойствию Брауна.
Бутс не стал офицером. О ходе военных действий он узнавал из газет и рассказов участников. Он тем исступленней ненавидел Север, чем дальше на Юг продвигались армии северян, тем надрывнее любил побежденный Юг, чем явственнее сознавал, что уже никогда не будет сражаться за его поруганные права…
Когда он впервые увидел президента Авраама Линкольна, он мгновенно вспомнил площадь в Чарлстоне, виселицу, последние минуты старика Брауна.
Он был чем-то очень похож, этот иллинойский плотник-адвокат, на того фермера из Новой Англии! такой же долговязый, тощий, угрюмый плебей, с немигающим взглядом фанатика, такой же неумолимый враг Юга… Читая в газетах речи Линкольна, слушая разговоры о нем — и восторженные и бранные, — Бутс испытывал острую, ненавидящую зависть, почти как тогда, у подножия виселицы, но к тому еще мучительную от бессилия: ведь этот был не только всемирно прославлен, но и всевластен, побеждал, жил…
Пятнадцатого апреля 1865 года все газеты США, а затем и газеты всего мира сообщили: убит Авраам Линкольн. Президент смотрел спектакль. Убийца, вошедший в ложу сзади, поразил его несколькими выстрелами в затылок и бежал через сцену с криком: «Sic semper, tyrannis! Юг отомщен!»
Вскоре стало известно: убийцу президента — актера Бутса — застрелили преследователи.
Томас Вентворт Хиггинсон второго декабря в своей церкви в Уорчестере, за шесть тысяч миль от Чарлстона, писал Джону Брауну-младшему: «Если бы он был моим отцом, я знаю, что я испытывал бы все судороги горя вместе с благодарностью за то, что он был источником великого добра. Его первоначальный план потерпел поражение, но ого истинно великое дело увенчалось успехом».
В тот же вечер на митинге Хиггинсон сказал: «Джона Брауна нам снасти не удалось, а угнетенные, ради которых он погиб, все еще в цепях».
Когда началась Гражданская война, Хиггинсон разрабатывал планы партизанских набегов на Виргинию, он напомнил о замыслах Брауна: «Мы должны привлечь полковника Монтгомери, который сражался в Канзасе, мы должны привлечь таких людей, как Джон Браун-младший. Я хочу, чтобы слухи о Джоне Брауне достигли южан. Само по себе одно лишь его имя вызовет страшную тревогу и отгонит войска мятежников от Вашингтона».
На рассвете оранжево-розовом — взъерошенные силуэты пальм, угловатые крыши над круглыми горбами садов.
Сквозь тишину, влажную от росы, пронзительный, гортанный, протяжный звук трубы. Обрывистые шумы — будто высыпают камни из мешков, картошку из деревянных ящиков. Топот в лад.
Еще гортанней труба, заунывней рокот барабана, Мгновение тишины.
Сотни мужских голосов гудят над пальмами, над крышами. Краснеет. Зеленеет. Синеет. Выплывает солнце вишнево-красное, через минуту невыносимо слепящее. Хор все громче.
— Господи, спать не дают. И с чего это черномазые в будни выть стали.
— Мэм, это янки в казармах молятся.
— Что ты плетешь, дура? Какие янки? Это же негритянские молитвы. У нас на плантации каждую субботу и воскресенье твои родичи так поют.
— Истинная правда, мэм. Я как услышала, полезла на чердак посмотреть, где поют… Это в казармах, где янки.
— Что же это такое? Неужели эти проклятые северяне согнали черномазых со всего графства, чтобы они им песни вели?
— Леди и джентльмены! Закрывайте ставни! Закрывайте ворота и двери! Заваливайте их всем, чем можете! Заряжайте ружья! Берите топоры! Настал конец света… Идут черные янки…
— Спасите… куда бежать?
— Некуда, леди…
— Молитесь, настал день гнева. Наши черные братья, заблудшие овцы, надели синие мундиры северян, взяли оружие, стали слугами дьявола. Они будут воевать против Юга.
— Заткни глотку, отец проповедник. Твои седины выросли на глупой рабской башке. Наши парни стали воинами свободы. Молодец Линкольн, дал неграм оружие. Эй, Сэм, Дик, пошли в казармы, пусть и нас возьмут.
— Ну, теперь конец Югу! Теперь проклятью северяне покончат со всеми нами… Они вооружили черномазых. Значит, отменят рабство. Черные обезьяны с винтовками и пушками — это гибель всей белой цивилизации. Они будут убивать всех белых мужчин, насиловать всех белых женщин, все уничтожат, разрушат, сожгут.
— Напрасно вы каркаете, сэр, как ворона, ведь армии Ли и Джексона еще сражаются, еще колотят синих. Еще не всем дням вечер наступил.
— Я не каркаю, молодой человек, а говорю правду. И если бы сейчас не требовалось единение всех южан, то за такие оскорбления я бы вызвал вас и пристрелил на месте. Но что могут сделать тысячи, даже сотни тысяч наших храбрых воинов, если они окружены миллионами взбесившихся черных. А получив оружие, те непременно взбесятся. Ведь они же не люди. Нас может утешить лишь то, что они будут истреблять всех белых, значит, набросятся и на северян. Они начнут с Нового Орлеана, а потом и Нью-Йорк уничтожат.
— Так это правда, лейтенант, у нас будет негритянский полк?
— Да, сегодня они присягают знамени Штатов.
— А кто ими командует? Офицеры у них тоже черные?
— Есть несколько младших офицеров негров, много сержантов и капралов. Но большинство офицеров — белые. Командир полка Томас Вентворт Хиггинсон — настоящий джентльмен, коренной американец, священник, ученый и давний противник рабства. Он был другом старого капитана Брауна.
— Скажи честно, сержант, ты согласился бы командовать взводом черномазых?
— Почему ж нет? Из черных парней, работящих, богобоязненных, скромных, я мог бы сделать лучших солдат, чем из таких упрямых лодырей, как твой чикагский дружок…
— Спасибо, сержант, вот теперь я понимаю, почему южане называют нас негролюбами. Я-то никогда не имел дела с неграми. Только видел. А вы, лейтенант, кажется, тоже аболиционист, сэр?
— Нет, но я не сторонник рабства. Впрочем, это не наше дело, парни. Мы все американские солдаты и должны выполнять приказы. Южные рабовладельцы начали братоубийственную войну. Президент Линкольн хотел единства страны, хотел мира, порядка, справедливости… Мы были вынуждены воевать против рабовладельцев, и естественно, что рабы становятся нашими союзниками.
— Когда англичане воевали с нами, они вооружали краснокожих, а мы вооружаем черномазых. Только не захочется ли им наших скальпов, мы ведь тоже белые…
— Слушай ты, бродвейский франт, если ты не перестанешь долбить «черномазые», я заткну тебе глотку твоими же зубами.
— Тише, ребята, вы не в трактире. Вы забываете, что вы солдаты, здесь лейтенант. Таскаешь в ранце Евангелие, а ругаешься и клянешься, как пьяный матрос. А ты не задирай его, а то сядете на гауптвахту на шесть суток на хлеб и воду. В армии должен быть порядок. Никакой политики, Понятно?
— Так точно, сэр! Ясно.
Барабаны четко, дробно. Барабаны громче, громче. Флейты, флейты, птичьим свистом, визгом кверху, в небо.
По широкой улице, исполосованной утренними длинными тенями деревьев, вдоль густых кустов движется синяя колонна.
Впереди флаг. Сине-белозвездный, красно-белые полосы.
На рыжем копе долговязый полковник. Золоченые пуговицы на синем мундире. Золоченые позументы на каскетке.
За ним в таких же синих мундирах черные барабанщики. Грохочут, грохочут: ать-два, раз-два, раз-два-три. Черные флейтисты высвистывают все пронзительнее.
И за ними хвостом огромного дикобраза штыки. Над синими каскетками, над темными лицами с белыми зрачками и толстыми лиловыми ртами. Ряд за рядом — раз-два-три, раз-два-три. Между колоннами — светлые лица офицеров редкими фасолинами в темной чечевице.
У обочины жмутся прохожие. Их немного. Раннее утро.
Белые одетые получше — опрятные мужчины в сюртуках, женщины в нарядных платьях — глядят молча, цепенея от ужаса, подавленные злобой. Белые победнее, в мятых шляпах и куртках с бахромой, угрюмо сплевывают табачную жвачку, ругаются вполголоса. Женщины испуганно, всполошенно перешептываются, убегают в боковые улицы, отбежав подальше, кричат:
— Спасайтесь, идут черные янки!
Негры-слуги, выбежавшие из подворотен, спешащие на рынок возчики, носильщики останавливаются, глядят неотрывно. Негритянки-служанки боязливо, изумленно. Старики задумчиво. Молодые восхищенно.
Полковник отвернул коня. Пропускает взвод за взводом. Рядом на пританцовывающем вороном — адъютант, молодой, улыбающийся.
— А ведь хорошо маршируют наши черные мальчики, сэр.
— Хорошо. Вот увидите, они и драться хорошо будут.
— Поглядите на жителей, сэр. Сплошная паника. Если их серые вояки так же испугаются, мы через месяц покончим со всей конфедерацией.
— Не спешите, мой друг. Предстоят еще трудные бои. Но это уже начало победы.
— Истинно так, сэр. Я счастлив, что сейчас с вами, здесь. В колледже я сдавал экзамен — апрель 1776 года, битва при Лексингтоне, заря американской свободы… А наши внуки и правнуки будут учить — июль 1862 года, первый негритянский полк, заря победы над рабством. Начало настоящей американской свободы…
— Может быть, и так, мой друг. Старик Браун мечтал об этом… Он первый из нас поднял меч… Если бы он только мог видеть это.
(«…Придут, должны прийти пятьсот черных воинов. Хотя бы — двести…»)
Барабаны в новом такте глуше, мягче. Флейты, флейты новым высвистом. Впереди молодой голос высоко, молитвенно и протяжно:
Прах Джона Брауна Покоится в земле…Ряд за рядом подхватили в лад барабаны, рокоча угрожающе, призывно:
Дух Джона Брауна Шагает по земле…Воздействие слов и поступков Джона Брауна сравнивали с метеором, с разорвавшейся бомбой. Но эта бомба обладала и долговременным воздействием — многие его современники пробуждались годы спустя, уже после Гражданской войны.
Бостонский врач, аболиционист Баудич, посетивший в 1865 году могилу Брауна, писал:
«Я раньше считал его намерения безумными и неверными, но в свете последующих событий мне стало ясно: это мои взгляды были безумны, ведь именно его дух вел нас в Гражданской войне, его «дух шагает по земле», даже его враги и тогда, когда отнимали его жизнь, были вынуждены восхищаться им».
Тейлюр из штата Южная Каролина был в Харперс-Ферри от «Балтимор пресс». Он писал Джону Брауну-младшему в 1879 году:
«Во время нападения я был глубоко заражен политическими предрассудками моего штата, однако торжественное спокойствие, неколебимое мужество и приверженность долгу, проявленные в то время Вашим отцом и его сподвижниками, произвели на меня глубокое впечатление. Нельзя не испытывать уважения к людям, которые отдают жизни во имя своих убеждений…»
Тейлор сражался на стороне Юга.
«Однако теперь я должен твердо сказать: я верю, что война была ниспослана богом для уничтожения рабства; и Ваш отец был избран для начала этого великого дела».
Пожарный сарай в Харперс-Ферри назвали «Форт Джона Брауна». Этот форт привезли в Чикаго как экспонат Всемирной выставки в 1893 году, затем вновь вернули в Харперс-Ферри.
Перед фортом воздвигнут обелиск, к нему ведут три ступени.
Граждане Оберлина установили памятник трем неграм, убитым в Харперс-Ферри.
В 1874 году Мэри Браун вручили золотую медаль памяти Брауна, сделанную в Брюсселе по заказу парижского комитета. Членами комитета были видные общественные и литературные деятели — Гюго, Луи Блан, Этьен Араго, Патрис Лерок, Эжен Пелетон.
Уильям Ллойд Гаррисон вручил Джону Брауну-младшему бронзовую копию медали. На медали было выгравировано: «Памяти Джона Брауна, убитого по закону Виргинии в Чарлстоне второго декабря 1859 года, и памяти его сыновей и товарищей, которые вместе с ним погибли за дело освобождения негров».
Тридцатого августа 1877 года в Осоватоми открыли памятник Джону Брауну. Выступал бывший губернатор Канзаса Чарльз Робинсон: «Дух Джона Брауна вдохновлял северные армии во время освободительной войны… Для поверхностного взгляда может показаться, что его дело кончилось крахом. Так же, впрочем, как дело Иисуса из Назарета. Оба погибли позорной смертью как изменники своим правительствам. Однако затем один был провозглашен избавителем мира от греха, а другой — избавителем черной расы от рабства».
Известный адвокат Кларенс Дэрроу говорил в 1926 году, что рейд Брауна сделал больше, чем все остальное, чтобы «разбить цепи рабства». Мир с тех пор принял результаты дела Брауна. Цена была высокой, по все люди знают, что дело того стоило. Плоды жизни Джона Брауна вам ясны: сыновья и дочери рабов будут жить при свете свободы, их будет вдохновлять надежда, и они не будут склоняться перед волей хозяина».
Девятого октября 1963 года делегат от Ганы Амону, осуждая на сессии ООН апартеид в ЮАР, напомнил о Джоне Брауне: «Этот великий американец, чей дух до сих пор шагает по земле, более чем сто лет тому назад был взят в плен в Харперс-Ферри, и он сказал: «Со мной вы очень легко сладите, джентльмены, но этот вопрос, я имею в виду негритянский вопрос, конца ему не видно…» Господин председатель, дух Джона Брауна жив в Южной Африке и сегодня. И но будет ему успокоения, пока справедливость не восторжествует».
Москва. Осень семьдесят третьего года. Я кончаю эту книгу. Едва успеваю читать все новые работы о Брауне — романы, биографии, научные исследования, сборники документов: «Человек в пламени» Жюля Абелса, «Меч и слово» Барри Стэвиса, «Очистить эту землю кровью» Стефена Оатса, «Легенда о Джоне Брауне» Ричарда Бойера, «Выковывается революционер», «Негры о Джоне Брауне».
Почтальон приносит открытку из Харперс-Ферри. Цветной портрет Брауна.
Мой друг из Америки пишет: «…прекрасен треугольник в слиянии рек Потомак и Шенандоа, обрамленный скалами и горами… Теперь здесь национальный мемориал — и пожарный сарай, и все вокруг…»
Но его имя не только на памятниках, не только в работах, специально ему посвященных.
О Харперс-Ферри спорят на научных конференциях, на студенческих собраниях, на демонстрациях и митингах. Приводят доводы, выкрикивают лозунги, задают вопросы, похожие на те, что звучали и сто лет назад в актовом зале Гарварда, в аболиционистских кружках, среди гаррисоновцев и сподвижников Брауна.
— Когда же наступит настоящее равенство?
— Мартин Лютер Кинг назвал свою книгу «Почему мы не можем больше ждать» — эти слова мог бы произнести и Джон Браун. Его подвиг и есть выкрик того времени: «Мы не можем больше ждать!» Рабы не могли ждать больше.
— Какими путями люди добьются равенства?
(И одинокие сомнения: а нужно ли равенство? а возможно ли?)
— Равенства добьемся постепенно. Власти идут на уступки под давлением. В автобусах, в ресторанах уже отменили сегрегацию. Провозглашен билль о правах. Мэром Лос-Анджелеса выбран негр — мэр третьего по величине города Америки. Постепенно добьемся всего. Черные и белые сообща когда-нибудь…
— Все права немедленно, при жизни этого поколения!
— Нет, не хотим ждать! Если нельзя по-другому, тогда кровью. Мятежами. Выстрелами. Бомбами, Как в Харперс-Ферри.
— Не хотим интеграции с безумным американским обществом. Не хотим и в Африку. Будем строить внутри Америки свое отдельное черное государство.
— В Америке все белые против всех негров.
— Как все, а Джон Браун?
…Американцы спорят, ищут, сражаются. И в этих поисках, в этих сражениях участвует человек, которого повесили сто с лишним лет назад, потому что он не мог вынести чужих несчастий.
Он поднял меч. Он погиб от меча.
Потом были Гражданская война, отмена рабства, хотя негры еще на столетие остались бесправными. Прогремели две мировых войны. Прокатилась «негритянская революция» шестидесятых годов. А этот вопрос — негритянский вопрос — «конца ему не видно».
И сейчас тысячи людей спрашивают себя: что же должен делать человек, столкнувшись с рабством? Как бороться за свободу — свою и чужую?
Юноши и девушки ищут смысла жизни. Ищут в идеях, в вере, в теориях, но ищут и в людях, олицетворяющих идеи, в современниках и в предшественниках.
Ищут цельного человека, который берет на свои плечи историческую ответственность. Который верит в миссию. У которого слово и дело нераздельны. Готового на смерть ради своих убеждений. Таких людей немного. За такими идут другие.
…Дух Джона Брауна шагает по земле.
1
Перевод Д. Самойлова.
(обратно)



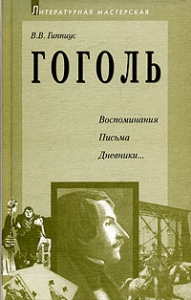
Комментарии к книге «Поднявший меч. Повесть о Джоне Брауне», Раиса Орлова-Копелева
Всего 0 комментариев