Алексей Зотов ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК НАПОЛЕОНА. ВЕЛИКИЙ ГЕНЕРАЛ МОРО
Всем французским воинам, нашедшим свой последний приют в русской земле, посвящается эта книгаАвтор выражает благодарность всем, кто помогал ему в подготовке этой книги, а именно сотрудникам Российской национальной библиотеки и Российского государственного исторического архива; Библиотеке Конгресса США, Национальному союзу музеев Франции и лично госпоже Элизабет Молле за предоставленную возможность использовать прекрасные репродукции картин музеев Мальмезона и Буа Прео, Версаля и Трианона, а также замка-музея Орсе и Музея Армии в Париже. Одновременно автор благодарит и г-на Патрика Жубера, директора музея г. Морле, за содействие в поиске документальных материалов, относящихся к раннему периоду жизни генерала Моро.
Автор выражает свою признательность президенту Международного наполеоновского общества кавалеру ордена Почетного легиона господину Бену Вейдеру за вдохновение, которое автор черпал из переписки с этим удивительным человеком, и за его поддержку в публикации ряда материалов по теме исследования.
Автор благодарит издателя английского журнала FIRST EMPIRE г-на Дэвида Уоткинса, опубликовавшего несколько статей автора, включая работу Forgotten Moreau.
Автор признателен:
г-дам Алену Пижару, Иву Минасьяну и Жану-Луи Мартену за предоставление уникальных материалов по истории французской революции и первой империи; г-ну Филиппу Моро, заместителю торгового советника Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге за интерес, проявленный к настоящему исследованию; г-ну Джорджу Маунту, директору информационного центра муниципального образования Моррисвиль, штат Пенсильвания, США, за помощь в поиске документов, связанных с пребыванием генерала Моро на территории Соединенных Штатов Америки;
г-же Татьяне Эман, представителю Испанского центра культуры, бизнеса, образования и туризма в Санкт-Петербурге за помощь в подготовке иллюстративного материала, отражающего испанский период жизни генерала Моро; члену Международного наполеоновского общества В.Ю. Чабукиани за разрешение использовать репродукции картин из его личной коллекции.
Особую благодарность автор выражает заведующему отделом письменных источников Государственного исторического музея Российской Федерации кандидату исторических наук А.Д. Яновскому за предоставление в распоряжение автора копий ранее никогда не публиковавшихся 7 писем генерала Моро и одной записки Наполеона.
Автор благодарит митрополита прихода Св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге г-на Тадеуша Кондрусевича, а также служителей этой церкви за помощь при фотографировании мемориальной доски генерала.
И, наконец, автор признателен своей племяннице Надежде за фотографии мемориала поля сражения при Гогенлиндене, своему сыну Никите за техническую поддержку при подготовке манускрипта и своей супруге Ольге за полезные советы по корректировке отдельных глав книги.
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Соперники Наполеона..? Разве они у него были?» — спросит иной читатель. Наполеон — признанный гений и не только в военной сфере. Это великий реформатор, который преобразовал Францию, дал ей новый свод законов — знаменитый «Гражданский кодекс», по которому живет вся Европа уже не одно столетие. Наполеон распространял образование, восстановил католическую церковь, строил мосты, дороги, поощрял науки и искусства. Он создал Банк Франции и Парижскую биржу, а также установил справедливое налогообложение. Наполеон учредил систему государственных наград, в том числе орден Почетного легиона, как выражение признательности нации тем, кто заслужил эту признательность, будь то ученый, музыкант, политик, священнослужитель, писатель или простой солдат. В военной области Наполеон впервые сформулировал положения, известные под названием «принципов войны», которые до сих пор изучаются в большинстве военных академий мира. О Наполеоне написано несметное количество книг, сняты десятки фильмов, и даже сейчас в связи с открытием новых источников исследование его жизни продолжается во всех цивилизованных странах мира.
Разве у такого человека могли быть соперники?
Как оказалось, могли… и были… и не один. Назвать хотя бы Лазара Карно и Луи Николя Даву в военной области, а также Бернадота, Сийеса, Талейрана и даже Люсьена Бонапарта — в политике. Но самым ярким из всех был генерал Жан-Виктор Моро (1763—1813). Напомним читателю, что до 1800 г. Наполеон еще не стал тем великим императором, преобразователем и полководцем, гений которого поражал современников. В то время он был лишь генералом Бонапартом, хотя и прославленным.
Если мысленно перенестись во времени, оказавшись на рубеже веков XVIII и XIX, и спросить «среднестатистического француза», знает ли он, кто такой генерал Бонапарт, нам, вероятно, ответят: «О да, этот генерал дважды завоевывал Италию и совершил экспедицию в Египет. На его счету славные победы: Кастильоне, Лоди, Риволи, Пирамиды, Маренго». А кто такой генерал Моро? Мы, вероятно, получили бы следующий ответ: «Это прославленный генерал. Он защищал Республику от внешних врагов, завоевал Голландию, Бельгию, сражался с грозным Суворовым при Кассано и Нови, спас лучшую из революционных армий, искусно отведя ее за Рейн, и одержал знаменитую победу над австрийцами при Гогенлиндене, которая даровала французам долгожданный и продолжительный мир».
Как видно из этих виртуальных ответов, военная слава двух генералов на рубеже веков была равной. Методы ведения войны у них могли отличаться, но результаты потрясали воображение склонных к славе французов.
Однако почему имя Наполеона, как гениального полководца, вошло в Историю, а имя генерала Моро, тоже гениального полководца — нет. Ответ прост: абсолютная власть. Установив Консулат, а затем Империю, Наполеон сделал все, чтобы имя генерала Моро не только не упоминалось на страницах газет, в парижских салонах и в армии, но чтобы оно навсегда исчезло из памяти народа.
В предисловии к своей книге «Моро — республиканский соперник Наполеона» французский историк Пьер Савинель пишет: «Пока этот феноменальный авантюрист, считавший революцию лишь трамплином для реализации своей мечты о создании восточной империи, а Францию — инструментом для осуществления своих амбициозных целей, переименовывал прекрасные артерии Парижа в названия бесполезных и все более кровавых побед (хотя истинная его история находится в Лондоне, где-то между Трафальгарской площадью и вокзалом Ватерлоо), Моро все глубже погружался в забвение».
Непререкаемый классик советской исторической науки о Наполеоне Е.В. Тарле писал: «Задушив французскую революцию, Наполеон гнал всякие воспоминания о ней, а Моро был самым ярким ее представителем. В декабре 1800 г. Бонапарт беспощадно расправился с якобинцами из-за покушения на его жизнь; он вскоре понял, что они тут ни при чем; он стремился уничтожить республиканский дух той части французского народа, которая не хотела променять революционные традиции на славу “больших батальонов” и восторженные крики “Vive l'Empereur!”».
Инспирированный консульской полицией «заговор» Пишегрю, Моро и Кадудаля XII года (1804 г.), убийство герцога Энгиенского и ссылка в Америку самого главного из своих оппонентов и соперников — генерала Моро — были вехами нарождающейся диктатуры — абсолютной власти одного человека — императора. Вводя для себя этот новый титул, Наполеон сначала хотел называться императором республики, по крайней мере, на переходный период, но затем передумал и утвердил другое название — император французов. Тиран, он изгнал всякое, даже отдаленное представление о свободе из всего государственного и общественного быта своей страны и не только. Полнейшее безмолвие царило в течение всего его правления в необъятной французской империи. Он хотел всем руководить и всем повелевать. Дело доходило до того, что при его дворе среди высших сановников, среди высшего генералитета и маршалата люди женились по его прямому приказу и разводились, если он находил это нужным.
Не обошла чаша сия и генерала Моро. Вполне вероятно, что его отказ жениться на Каролине Бонапарт, сестре Наполеона, этой красавице с перламутровой кожей, обидно задел весь клан Бонапартов, особенно мадам Мер, мать Наполеона, что вбило первый клин в отношения между двумя выдающимися полководцами.
К исходу 1800 г. Моро был на пике своей популярности. За плечами этого прославленного генерала были многочисленные победы, такие как Мускрон, Менен, взятие Амстердама, завоевание Австрийских Нидерландов, спасение Рейнской армии и, наконец, Гогенлинден, положивший конец революционным войнам и даровавший стране долгожданный и продолжительный мир. То, чего не мог дать Франции Бонапарт, дал Франции Моро. Однако у последнего не было военного образования и генералом он стал волею судьбы, чего не скажешь о Наполеоне, закончившего Бриенскую и Парижскую военные школы. И хотя к концу 1800 г. Бонапарт еще не стал тем великим Наполеоном, которого все хорошо знают, его послужной список был отнюдь не хуже, чем у Моро. Две блестяще проведенные итальянские кампании, захват острова Мальта, экспедиция в Египет и, наконец, сражение при Маренго, переворот 18 брюмера и Консулат.
Если отбросить политику, то в военной сфере по сумме достигнутых успехов, их значимости, результативности и последствий для судеб Франции Моро был равен, а по некоторым оценкам современников, даже превосходил Бонапарта. Это признавал сам Наполеон: «Я бы с удовольствием променял пурпурную мантию Первого консула на эполеты командира бригады под вашим командованием», — писал он в депеше к Моро от 16 марта 1800 г.
Согласно Жомини, в последующие годы Наполеон более не скрывал мотивов, почему он не снял генерала Моро в 1800 г. с поста главнокомандующего Рейнской армией за предложение ему, Наполеону, «следовать принципам прежних кампаний». «Дело в том, — писал Бонапарт, — что мое положение тогда было еще недостаточно прочным, чтобы идти на открытый разрыв с человеком, имевшим многочисленных сторонников в армии и которому только не хватало энергии, чтобы попытаться занять мое место. С ним необходимо было обходиться как с самостоятельной силой, какую он, собственно, и представлял в то время».
Вместе с тем у обоих генералов были свои неудачи и поражения. Так, Моро проиграл битву при Кассано и сражение при Нови в 1799 г. нашему знаменитому соотечественнику А.В. Суворову. Хотя в первом случае Моро был назначен командующим в день битвы, и приказ о его назначении опоздал ровно на сутки, что лишило французскую армию шансов на победу; а в последнем — он формально не являлся главнокомандующим и вынужден был принять совершенно неподготовленное и плохо организованное сражение в связи с внезапной гибелью генерала Жубера.
В области политики Сийес предлагал Моро возглавить переворот с целью свержения Директории после гибели Жубера, на которого делалась главная ставка, но в момент, когда Моро вошел в кабинет к Сийесу, пришло известие о возвращении Бонапарта из Египта. «Вот кто вам нужен», — сказал Моро и отошел в сторону.
Но и Бонапарт не всегда выигрывал. Так, он не смог взять крепость Сен-Жан д'Акр, знаменитую Акку во время Египетской кампании и практически проиграл битву при Маренго в 15.30 14 июня 1800 г., и если бы не своевременное появление генерала Дезе во главе дивизии Буде в 17.00, Вторая итальянская кампания была бы проиграна. Фактически Дезе начал новое сражение и ценой своей жизни выиграл его. Вот почему известный английский историк и крупный специалист в области Наполеоновских войн Дэвид Чандлер в своей книге «Ватерлоо. Сто дней» писал: «Этот успех в Северной Италии был первой победой Наполеона в качестве Первого консула и главы государства. На самом деле случай помог ему победить… Однако сражение занимает особое место в мифологии Первой империи: и по сей день бесчисленные обедающие неосознанно почитают успех Наполеона, заказывая любимое блюдо императора — “ципленка а ля Маренго”».
Но самое главное поражение Бонапарта, которое он очень переживал, состояло в том, что этот его успех не принес желанного мира, и понадобился Гогенлинден Моро, затмивший на некоторое время славу Маренго, чтобы закрепить достигнутые результаты. Именно Моро подарил Франции долгожданный мир, длившийся ровно пять лет вплоть до Аустерлица. Позднее Эрнест Доде, французский историк генерала, напишет: «Солнце Аустерлица — достойно снега Гогенлиндена».
Да, Наполеон — гений и сам творец своей легенды. Яркий пример тому — Аркольский мост.
Он Тот, в чьих белых пальцах сжаты Сердца и судьбы, сжат весь мир. На нем зеленый и помятый Простой мундир. Он Тот, кто у кремлевских башен Стоял во весь свой малый рост. В чьи вольные цвета окрашен Аркольский мост.Эти блестящие стихи Марины Цветаевой лишний раз подтверждают, насколько сильна в памяти народной легенда Наполеона. На самом деле «проза жизни» выглядит несколько скромнее. Действительно, в начале атаки и Бонапарт и Ожеро со знаменем в руках пытались прорваться через мост под градом австрийской картечи, но они не прошли: Бонапарта сбросили в воду, и тактику пришлось изменить. Солдаты сами пошли вброд через реку Альпоне, а барабанщик Франсуа Этьен, поставив на голову барабан, бил сигнал «к атаке». Французы не взяли Аркольский мост — они обошли его по воде, что явилось полной неожиданностью для австрийцев (вернее для двух батальонов хорватских новобранцев, защищавших мост), которые, растерявшись, бросили свои пушки и отступили. Таковы факты. Но легенда осталась и, похоже, будет жить в веках, а последующие поколения так и будут считать, что молодой Бонапарт со знаменем в руках взял Аркольский мост.
Аналогичную легенду Наполеон поддерживал и в отношении гибели Моро. Во время Дрезденского сражения Наполеон, якобы увидев в подзорную трубу опального генерала в свите царя, лично навел орудие и выстрелил, убив предателя. На самом деле Наполеон, хотя и сосредоточил около 100 пушек, которые открыли ураганный огонь по позициям войск коалиции и, в частности, по прусской батарее, лично в Моро не стрелял. У этой батареи опальный французский генерал оказался случайно: он прискакал к месту, где находился русский царь, чтобы увести его с линии огня, но нашел здесь свою смерть. Тем не менее и эта легенда, глубоко укоренившаяся в умах французов, продолжает жить и сегодня.
В чем же состоит историческая заслуга генерала Моро? На наш взгляд, прежде всего в том, что своей блестящей победой при Гогенлиндене он даровал французам пятилетний мир и положил конец революционным войнам, длившимся целое десятилетие. С 3 декабря 1800 г. по 2 декабря 1805 г. Франция не вела крупных войн на суше с европейскими державами. Во-вторых, став другом русского царя и вместе с тем оставаясь патриотом своей родины, Моро просил Александра I, в случае победы сил коалиции, оставить Францию в ее естественных границах. В 1814 г., войдя в Париж, Александр Павлович не забыл своего обещания, и Франция сохранила свою территориальную целостность и границы, в которых она пребывает и поныне. И, наконец, Моро не был предателем по отношению к своей родине, он стремился освободить ее от ига Бонапарта, который уничтожил Республику и снова превратил Францию в королевство под названием Империя. Прожив в США 8 лет, Моро понял, что такое настоящая свобода и демократия, и искренне желал своей стране именно такой свободы и такой демократии.
Здесь невольно вспоминаются слова Пьера Савинеля, автора, пожалуй, самой подробной и достоверной биографии Моро: «Если когда-нибудь Французская республика обратится к своим истокам и смыслу ценностей, на которых она основана и которые делают честь одному из ее выдающихся патриотов, ей будет стыдно за то, что она оставила в забвении имя человека, который пал за родину, понимая ее не только как территорию, заключенную в некие границы, но и как общность свободных людей, уважающих права личности, которые она, эта республика, воплощает».
Моро можно по праву назвать французским русским фельдмаршалом. И хотя это звание не было присвоено ему официально, Моро был похоронен в России с фельдмаршальскими почестями. Кроме того, герой Гогенлиндена покинул Францию в возрасте 41 года, 1 год прожил в Испании, 8 лет в Америке и почти 200 лет спит в русской земле, и не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге, и не просто в Санкт-Петербурге, а в самом центре — на Невском проспекте в церкви Святой Екатерины Александийской, что всего в 300 метрах от могилы другого знаменитого русского фельдмаршала — М.И. Кутузова, что в Казанском соборе.
К выдающимся людям следует подходить как к вопросам высшего значения. Их нужно изучать до самых тайных уголков их духовной жизни. Если главной целью является выяснение их значения для эпохи, в которой они жили, и потомков, то одновременно появляется желание и интерес познакомиться с ними в их общечеловеческих чертах и слабостях. Хочется понять их целиком, узнать их склонности, пристрастия, ошибки и недостатки наравне с их добродетелями и преимуществами, чтобы потом лучше и справедливее судить об их поступках.
Вот почему автор ставит своей целью не только представить читателю наиболее полную и, возможно, отчетливую картину жизни и деятельности человека, который на рубеже веков был равен в славе великому Наполеону, но и одновременно показать генерала Моро не только как историческую личность, но и как человека, с его качествами, природными дарованиями, характером, привязанностями и устремлениями.
Так кем же были Наполеон и Моро? Непримиримыми соперниками или серьезно рассорившимися друзьями? Новыми Моцартом и Сальери? Сталиным и Жуковым? Или Цезарем и Брутом?
А кем был сам Моро? Предателем? Оппозиционером? Политическим диссидентом? Или Прометеем, Новым Кориоланом, революционером Империи? И почему забытый Моро?
Прочтите эту книгу, и вы многое узнаете.
Алексей Зотов Санкт-Петербург, август 2009 г.ВВЕДЕНИЕ
В 1839 г. в Санкт-Петербург прибыл известный французский путешественник и писатель маркиз Астольф де Кюстин. Он собирался писать о России. В доброжелательности этого произведения в Петербурге не сомневались. Маркиз принадлежал к аристократической семье, которая пострадала в период Великой французской революции. Его отец, маркиз Адам Филипп де Кюстин (1740—1793), был французским генералом еще в Семилетнюю войну и обратил на себя внимание короля. В 1789 г. он был депутатом от лотарингского дворянства в собрании Генеральных штатов. В 1792 г., командуя французскими войсками на Рейне, быстро занял Шпейер, Вормс, Майнц и Франкфурт, но пруссаки вынудили его эвакуировать два последних города. Обвиненный Конвентом в недостаточном усердии при удержании города-крепости Майнц, маркиз де Кюстин был приговорен к смерти и гильотинирован 28 августа 1793 г.
Дед де Кюстина также был казнен якобинцами — вот почему его внук подчеркивал свой непоколебимый монархизм и глубокую религиозность.
Однако в Петербурге ошиблись. По возвращении во Францию де Кюстин действительно написал книгу «La Russie en 1839» (Paris, 1843), но из дорожных записок она превратилась в тенденциозный памфлет, носящий явно антирусский характер. Как и полагается при составлении памфлета, критике и сарказму подвергалось буквально все, что видел в России де Кюстин: царь и дороги, климат и правительство, архитектура и нравственность дам, кутежи молодежи и православная религия, деспотизм царя и педагогические учреждения, гостиницы и даже католическая церковь. Рассказы де Кюстина о нравах высшего русского общества вызвали много неудовольствия, даже В.А. Жуковский назвал де Кюстина собакой. Однако, несмотря на неблагоприятные отзывы о России, записки де Кюстина представляются для читателей весьма интересными. Автор метко улавливает отрицательные явления русской жизни того времени и дает удачные характеристики некоторых тогдашних деятелей.
* * *
Понимали ли современники, французы 40-х годов XIX века, цели памфлета? Полагаем, что да. Несмотря на известную критику автора за лживость, легкомыслие, некомпетентность и праздную болтовню, была отмечена главная заслуга де Кюстина — предупреждение о якобы возможной агрессии России в отношении Западной Европы и необходимости объединения Англии и Франции перед лицом такой опасности. Де Кюстин, пожалуй, первым из европейцев увидел призрак новой войны между европейскими державами, которые не смогли сохранить дарованный им после Ватерлоо почти сорокалетний мир. Эта мировая бойня будет известна в истории как Крымская война 1853—1856 гг.
Но для нас главная заслуга данного памфлета де Кюстина состояла в другом. Именно из него мы узнали, где находится прах генерала Моро, ибо ни одна российская газета того времени по понятным причинам не сообщала о захоронении прославленного французского генерала, находившегося на русской службе всего один месяц. Тем более что за полгода до кончины Моро Казанский собор в Петербурге принял прах более известного русскому народу полководца и спасителя отечества — фельдмаршала М.И. Кутузова. По тем же причинам и это событие тогдашняя пресса почти обошла своим вниманием.
Однако вернемся к де Кюснину. Остановившись в гостинице Кулона, теперь она называется «Европейская», и не имея возможности хорошо выспаться из-за кусавших его всю ночь клопов, он решил прогуляться по городу и забрел в католический костел, расположенный поблизости. Вот выдержка из его дневника от 20 июня 1839 г.: «…храм находится на Невском проспекте, самой красивой улице в Петербурге, и не поражает своим великолепием. Церковные коридоры пустынны, дворы заполнены всякой рухлядью, на всем лежит печать уныния и какой-то неуверенности в завтрашнем дне. Терпимость к иноверной церкви в России не гарантируется ни общественным мнением, ни государственными законами. Как и все остальное, она является милостью, дарованной одним человеком, который завтра может отнять то, что дал сегодня.
В костеле обратила на себя внимание и глубоко меня взволновала надпись на одной из плит — “Понятовский”. Эта королевская жертва суетного тщеславия, этот легковерный фаворит Екатерины II погребен здесь без всяких почестей. Но хотя он был лишен величия трона, величие несчастья сохранилось за ним навсегда. Горькая участь короля, его ослепление, столь жестоко наказанное, предательская политика его врагов — все это будет долго привлекать внимание туристов к его безвестной могиле.
Рядом с телом изгнанного короля погребен изуродованный труп Моро. Император Александр I приказал привезти его сюда из Дрездена. Мысль соединить смертные останки этих двух достойных сожаления людей, чтобы слить в одну могилу воспоминание об их печальной судьбе, представляется мне одной из благороднейших мыслей русского монарха, казавшегося великим даже при въезде в тот город, который только что покинул Наполеон».
Прочитав эти строки, мы устремились на Невский проспект и без труда нашли храм римско-католической церкви, который теперь называется приходом Святой Екатерины Александрийской, рядом с которым вели небойкую торговлю свободные художники Петербурга. Найти склеп генерала Моро оказалось непростым делом. Никаких указателей, ни мемориальной доски, ни намека на то, что здесь лежат останки генерала, мы не обнаружили. И только одна служительница церкви с трудом могла указать примерное место, где спит герой Гогенлиндена. Она провела нас в подсобное помещение, где на батарее центрального отопления стояла демонтированная мемориальная доска со склепа Моро. Мы с сожалением узнали, что последний раз официальная французская делегация пыталась посетить могилу Моро в далеком 1954 г., но ей было отказано. За нее это сделали ученые Академии наук СССР. С тех пор прах прославленного генерала лежит забытый в русской земле за тысячи километров от Франции, которую он так любил и за свободу которой он сражался в рядах русской армии. А вот поляки позаботились о своем короле: останки Станислава Августа Понятовского в 1938 г. по просьбе польского правительства были вывезены в усыпальницу родового поместья Понятовских в Волчине.
Атмосфера забвения, ощущение какой-то несправедливости, неустроенности и мистической тайны на фоне строительных лесов внутри церкви, где неспешно шел ремонт, — все это очень перекликалось и вторило дневнику де Кюстина. Складывалось впечатление, что за 200 лет здесь так ничего и не изменилось.
Увы, главное состояло в том, что генерал Моро — этот блестящий тактик и опытный стратег, умный собеседник и строгий критик, образованный, с тонким чувством юмора, скромный и тактичный человек, пользовавшийся огромным авторитетом в армии и славой одного из лучших полководцев Французской республики, и, наконец, реальный соперник Наполеона, оказался забытым как русским, так и французским народом.
В XX веке о герое Гогенлиндена было опубликовано всего три книги, а о Наполеоне — 200 тысяч.
Мы решили исправить эту несправедливость, снять вуаль забвения с имени генерала Моро и воздать должное не только ему, но и всем французским воинам: офицерам, унтер-офицерам и солдатам, павшим при Бородине, Малоярославце, под Миром, Красным, Вязьмой, у Березины… и нашедшим свой последний приют в русской земле. Ведь сражаясь за Наполеона, они, так же как и Моро, верили, что сражаются за свободу Франции.
Глава I. ГЕНЕРАЛ ПАРЛАМЕНТА
Жан-Виктор Мари Моро происходит из семьи с фламандскими корнями, которая обосновалась во Франции во времена правления Людовика XIII. Его прадед Ив Моро был прокурором в парламенте г. Ренна и принадлежал к так называемой «буржуазии в мантии». Дед будущего генерала Жан-Франсуа Моро (1698—1738) стал господином из Лизорё путем покупки ленного владения, принадлежащего дворянину, долги которого он погасил, хотя сам так и остался простолюдином. Местечко Лизорё в то время представляло собой небольшую деревню из шести домов, расположенную в коммуне Корсёль на северно-западном побережье Франции. Сын Жана-Франсуа — Габриэль Луи Моро (1730—1794), женившись на девице Катрин Шаперон (1730—1775), создаст большую семью, которая подарит королям Франции отличных судей и блестящих администраторов. Позднее, в 1814 г., король Людовик XVIII от своего имени пожалует дворянство оставшимся в живых братьям Жозефу и Жану-Батисту в знак признания заслуг, оказанных Жаном-Виктором Моро и восстановит фамильный герб семьи, украсив его лилиями и горностаем.
В городской библиотеке города Морле сохранилось свидетельство о браке Габриэля Моро и Катрин Шаперон, датированное 6 января 1756 г., в котором их родители именуются знатными гражданами, а не дворянами. Обращает на себя внимание подпись Катрин под этим документом, которая выполнена каллиграфически правильно и очень понятно. Эта женщина, которой оставалось жить девятнадцать лет, успеет подарить Габриэлю Моро пятнадцать детей, из которых шесть умрут в младенческом возрасте, а один в возрасте двадцати лет. Будущий генерал станет седьмым по счету ребенком и старшим из сыновей.
Мы не нашли каких-либо воспоминаний Жана-Виктора, повествующих о его матери, которую он потерял, когда ему еще не исполнилось 12 лет. Однако сохранилось свидетельство о крещении Жана-Виктора Моро, датированное 28 августа 1763 г., в котором говорится, что младенец, законный сын Габриэля Луи Моро из Лизорё и Катрины Шаперон, крещенный 14 февраля сего года священником местного прихода, получил имя Жана-Виктора-Мари и прошел католический обряд крещения в церкви Св. Матье. Крестным отцом является священник Жан Бернар, а крестной матерью Виктория Мазен.
Из этого документа известна дата выдачи документа о крещении, но не ясна точная дата рождения Жана-Виктора. Однако, принимая во внимание строгую религиозность этой католической семьи, можно с высокой степенью вероятности предположить, что он был рожден 12-го, 13-го или 14 февраля 1763 г. Дело в том, что в XVIII веке, в соответствии с католическим обрядом, детей крестили сразу после рождения либо на второй или третий день, в редких случаях в течение первой недели после появления на свет. Учитывая, что это был первый мальчик в семье, мы думаем, что родители поспешили произвести крещение в день рождения, а документы оформили позже. Впрочем, Пьер Савинель, наиболее авторитетный биограф Моро, склонен считать днем рождения будущего героя Гогенлиндена 13 февраля, а днем крещения приходским священником — 14 февраля. Однако все остальные историки придерживаются даты, указанной в официальном документе — свидетельстве о крещении младенца Жана-Виктора Моро. Будем и мы в нашем исследовании опираться на эту дату.
Итак, Жан-Виктор-Мари Моро родился 14 февраля 1763 г. во Франции, в г. Морле, в семье королевского судьи по гражданским и уголовным делам.
Его мать, урожденная Шаперон де Л'Илль, умерла в 1775 г., оставив семерых детей — четырех мальчиков и трех девочек.
Жан-Виктор, старший из сыновей, полагаем, получил католическое воспитание в семье благодаря своей матери. В 1775 г. Жан-Виктор обучался в Крейцкерском колледже в г. Сен-Поль де Леон. И хотя он постепенно уходил от истинного католицизма, в котором его воспитывала мать, он тем не менее видел и одобрял, как мать и отец помогали бедным. Его отец, став вдовцом в 45 лет, получил даже прозвище «папаша бедняков». Мы с уверенностью можем сказать, что с ранних лет Жан-Виктор воспитывался своими родителями в атмосфере внимания к бедным людям и уважения к их личности.
Документов о детстве Жана-Виктора и времени, проведенном в колледже, почти не осталось. Дом, в котором он родился, был снесен в 1863 г. в связи с возведением большого виадука при строительстве железной дороги Париж—Брест, проходящей через Морле. В музее этого города сохранился неплохой рисунок, который дает представление о доме, в котором родился и жил наш герой. Дом располагался в старой части города на пересечении улицы Карно и Шмен-де-л'Оспис.
Мы можем лишь представить себе, как юный Жан-Виктор во главе подростков из своего квартала играл в войну, штурмуя замок или форсируя небольшую местную речку под названием Буре. Начиная с семнадцатилетнего возраста любовь к войне старшего сына, как мы вскоре убедимся, начнет создавать проблемы для отца будущего генерала. Пьер Савинель ссылается, пожалуй, на единственное дошедшее до нас свидетельство каноника Салюдена, о времени, связанном с обучением Жана-Виктора в Крейцкерском колледже: «Его отец был судьей и человеком с твердым характером. В 1773 г. он привел своего старшего сына в это учебное заведение с тем, чтобы сделать из него адвоката. Жан Моро прошел полный курс обучения, ничем особенным не отличаясь от других за исключением черного юмора и задиристого характера. Ежегодно в колледж поступал один из его братьев, и вскоре Жан сформировал из них некое подобие маленького батальона, который под предводительством старшего брата наводил “страх” на окрестных крестьян. Но даже в стенах колледжа, что могла сделать эта маленькая группа подростков от 10 до 15 лет против старших по возрасту учеников, таких как двадцатилетний Жан Перрон?» Не выясняя, кто такой Жан Перрон, мы тем не менее полагаем, что Жан Моро не давал в обиду своих братьев. Известно также, что, изучая античность, он увлекался демократией, существовавшей в Римской империи.
Закончив колледж в 1780 г., что почти соответствует нашей средней школе, и получив, таким образом, среднее образование, Жан-Виктор объявляет отцу, что мечтает о военной карьере.
«Нет, — ответил отец, — ты станешь адвокатом. Посмотри на своего младшего брата, через год он будет изучать право». Делать было нечего, с отцом не поспоришь, и Жан-Виктор поступает в школу права в Ренне. Шел 1781 год. Моро еще не знал тогда, что именно в этот год суждено было появиться на свет той женщине, которая станет его женой и которую он будет любить до последней минуты своей жизни.
Биограф Моро, некий Ле Жан, пишет по поводу следующего неожиданного поступка нашего героя: «Ему еще не исполнилось 18 лет, как он сбежал из школы и записался в армейский полк». Отец обиделся, с трудом оформил отпуск и под угрозой тюремного заключения заставил Жана Моро продолжить обучение. Все говорило о том, что он станет вечным студентом, или, как выражаются французы, «студентом десятого курса». Так и случилось: начав изучать право в 1781 г., Жан-Виктор получил квалификацию бакалавра права в 1787 г., а лицензию адвоката — в 1790 г.! Однако в семейном архиве Моро сохранилось письмо, адресованное кому-то из родных, скорее всего брату (но не отцу), в котором Жан-Виктор пишет: «Я изучаю воинские регламенты трех родов войск, а также трактаты по стратегии и тактике». Удивительно, но факт состоял в том, что будущий герой Гогенлиндена был Водолеем, и, следовательно, если верить астрологической науке, был человеком, которого невозможно против его воли заставить заниматься чем-либо другим. Он всеми правдами и неправдами добьется своего и будет заниматься делом, которое ему по душе.
Молодой, смелый, хладнокровный, предприимчивый, дерзкий, отважный, высокий (1,78 м), худощавый, красноречивый, Жан-Виктор быстро завоевал популярность в студенческой среде. В то время студенты образовывали общества, союзы, ассоциации. «Студенты школы права в Ренне, — пишет Салюден, — не жили изолированно. Они постоянно общались друг с другом и создали настоящую студенческую корпорацию, со своим уставом, правом на периодические собрания и привилегии. Так, на каждый спектакль в театре им полагалось 13 бесплатных билетов, и каждая актриса, дебютирующая в театре, должна была нанести визит президенту студенческой ассоциации, называемому “судьей”, где она в окружении других студентов выступала зачастую прямо в актовом зале школы права. Веселая и шумная жизнь студентов вносила некоторый ажиотаж в спокойную и размеренную жизнь города. Жан-Виктор постепенно стал лидером студенческой среды и, как арбитр, разрешал многие споры и противоречия. Он был первым и на увеселительных мероприятиях и на демонстрациях, где его хладнокровие вселяло уверенность в слабых духом студентов».
* * *
События 1788 года дали ему шанс еще более укрепить свой авторитет. В этом году, в ходе постоянной борьбы против королевской власти, которую вели многие парламенты Франции, Бретонский парламент первым выступил в защиту прав граждан против закона о так называемом «территориальном подчинении», суть которого сводилась к защите и укреплению привилегий власть имущих. Законом от 8 мая 1788 г. Ламоуньон попытался лишить парламенты всякой политической власти. В ответ на это Бретонский парламент объявил данный закон попыткой государственного переворота и два дня спустя организовал массовые беспорядки в Ренне.
Командан Тиар ввел в город королевские войска в количестве 1900 человек с задачей захватить парламент. Возмущенные жители вышли на улицы, и в солдат полетели камни. Два офицера были ранены. 2 июня 1788 г. здание парламента, в котором оставалось 48 человек, было окружено. Улицы Ренна наполнялись народом. Люди шли на выручку своих судей, запертых в парламенте. Знатные горожане были со шпагами в руках. Страсти накалялись. Одна девушка схватила полковника Эрвили за воротник и потребовала освободить ее отца, находящегося в здании. В конце концов, командан Тиар получил приказ снять осаду.
* * *
Жан Моро дразнил и насмехался над королевскими войсками, стоя во главе своих товарищей с заряженными ружьями. Комендант города отдал приказ взять Моро живым любой ценой, но Жан-Виктор продолжал провоцировать Тиара, ежедневно приходя на главную площадь Ренна, где он постоянно ускользал от солдат короля.
После этого случая Моро получил прозвище «генерал парламента».
Однако вскоре тот самый парламент, который Жан-Виктор так страстно защищал, принял сторону короля, подавляя свободы граждан и встав на защиту привилегий нотаблей. Тогда студенты и молодые люди из мелкой буржуазии повернули свое оружие против парламента. И впереди них шел Жан-Виктор Моро.
В 1789 г. в ходе бурного заседания представителей городов Бретани он решительно принял сторону третьего сословия и выступил против дворянства, участвуя в многочисленных стычках между «синими» (республиканцами) и «белыми» (роялистами) г. Ренна. Годом позже, в январе 1790 г., в г. Понтиви Жан-Виктор будет избран президентом Федерации бретонских городов.
Получив степень «бакалавра права», он никогда не станет адвокатом. Ему суждено воевать на полях сражений, а не соревноваться в красноречии в залах суда. Тем не менее полученные им юридические знания, как мы вскоре сможем убедиться, сослужат ему хорошую службу и, возможно, помогут сохранить жизнь.
* * *
Вскоре новость о взятии Бастилии принесла радость и ликование простым жителям Ренна; стали создаваться новые муниципалитеты, национальная гвардия и милиция. Жан-Виктор со своими друзьями бросился к арсеналу, где заместитель военного коменданта города граф де Тиар, приняв сторону буржуазии, и выступив против парламента, раздавал оружие «молодым гражданам» Ренна. Милиция и национальная гвардия приступает к выборам своих офицеров. Неудивительно, что граждане избирают Моро командиром 2-го батальона. Этот выбор был оправдан и не только тем, что Жан-Виктор проявил себя как тактик, сражаясь сначала за, а потом против парламента, но и тем, что, будучи «вечным студентом» в школе права, он не терял времени даром, методически изучая артиллерийские системы Грибоваля и работы военных специалистов — Жибера, Бекария и других.
В подчинении у новоиспеченного командира батальона находилось 600 человек, включая 8 капитанов, 8 лейтенантов, 8 сублейтенантов, 25 сержантов и 40 капралов. В одно мгновенье он стал офицером республики, одновременно справедливым и компетентным. Но главное, что отличало командира батальона Моро, так эта его твердая гражданская позиция.
Узнав, что в национальной гвардии Ренна не хватает канониров, что не позволяет организовать даже одну роту (около 70 человек), командир батальона Моро, несмотря на протесты офицеров и солдат, которые его избрали, записывается простым канониром в артиллерийскую роту. Одним махом он вновь меняет свою судьбу, отказывается от денежного довольствия, которое существенно превосходит довольствие канонира, и начинает службу. Благодаря незаурядным способностям к обучению он вскоре получает первую нашивку, а затем становится капитаном роты канониров, которая под его командованием показывает высокую выучку и подготовку.
Конституанта (Учредительное собрание Франции в период 1789—1791 гг.) объявляет о наборе в батальоны волонтеров, не ожидая формирования вспомогательной армии из 100 000 солдат.
21 августа 1791 г. численность национальной гвардии достигает 101 000 человек. 169 национальных батальонов избирают своих офицеров, и артиллерийский капитан Жан Моро становится 11 сентября 1791 г. подполковником 1-го батальона волонтеров Иль-э-Вилена. Казалось, что и этому доверию своих товарищей Жан-Виктор не был рад, так, по крайней мере, пишет один из его биографов Бошан: «…не видя для себя перспективы сделать карьеру в рядах народной милиции, он подал прошение о зачислении его в жандармерию, соглашаясь при этом на понижение в чине…»
«К счастью, — продолжает Бошан, — эта его просьба осталась без удовлетворения».
Тем временем над молодой французской республикой сгущаются тучи. Европейские монархи, подстрекаемые апологетом абсолютизма — шведским королем Густавом III, образуют первую коалицию. С объявлением войны 20 апреля 1792 года, Моро со своим батальоном присоединяется к Северной армии под командованием генерала Дюмурье и Шампморена, сменивших Рошамбо. Последний генерал вынужден был уйти в отставку из-за трусости и зверства солдат из неподготовленных батальонов, оставивших свои позиции при первой встрече с австрийцами и расстрелявшими генерала Дилона, не забыв повесить и полковника Бертуа.
* * *
Моро участвует в сражении при Неервиндене, где 18 марта 1793 г. Дюмурье был разбит, но сражается вместе с Журданом, одержавшим блестящую победу при Ватиньи 15—16 октября 1793 г., с которой начинается возрождение духа французской армии. Именно с этой битвы возникает дружба Моро с Лекурбом, который в то время был полковником и командовал бригадой. Моро вместе с Лекурбом плечом к плечу смело ввел в бой четыре батальона в пешем строю на австрийские батареи, которые доминировали над местностью и растачали смертоносную картечь. Эта атака решила исход сражения. «Лекурб далеко пойдет!» — восклицал уже командир бригады Моро. Пророчеству этому, правда, не суждено было сбыться. Обвиненный в излишней умеренности, Лекурб с трудом избежит гильотины во времена террора. А вот способный генерал Дюмурье перейдет на сторону англичан и сдаст им двух представителей народа в армии, будет арестован, но избежит наказания и с тех пор окажется на службе сильных мира сего, сначала русского царя Павла I, а затем английского кабинета. До конца своих дней он так и не вернется во Францию.
* * *
За отличия в сражениях при Неервиндене и Хондшуте народные представители Хентс и Гийо 20 декабря 1793 г. временно назначают Моро бригадным генералом. Указ Комитета общественной безопасности от 30 января 1794 г. утверждает Моро в этом звании одновременно с Бонапартом. В данном документе эти два имени впервые встречаются в Истории.
9 февраля 1794 г. командование Северной армией переходит в руки дивизионного генерала Шарля Пишегрю, который через вереницу побед менее чем за год завоюет Бельгию и Голландию.
* * *
Здесь и далее названия исторических мест, где происходили сражения, приведены в соответствие с современной топонимикой, за исключением укоренившихся в науке наименований населенных пунктов, рек, озер, гор и т.п. Читатель может следить за перемещениями войск через Интернет по картам Google либо по другим, имеющимся в его распоряжении. Основные схемы приведены также в приложении к настоящей работе.
* * *
14 апреля 1794 г. по представлению командующего Северной армии Моро получает звание дивизионного генерала — высшее воинское звание во французской армии. Теперь он имеет возможность в полной мере проявить свои военные таланты. Моро выигрывает несколько сражений подряд: сначала Мускрон, затем Менен, а 18 мая 1794 г. совместно с генералами Суамом и Бонно у Туркуэна разбивает австро-английскую армию Клерфе, захватывает города Ипр, Брюгге, Ньюпорт и о. Казанд. По поводу битвы при Туркуэне Суам рассказывает, что «на военном совете накануне сражения предложили план, который был великолепен и понравился всем присутствующим. Однако он подвергал смертельному риску дивизию Моро, которая в случае неудачи могла потерять половину своего личного состава. В зале воцарилась тишина. Помолчав с минуту, Моро ответил: “Это наилучший план из всех предложенных и, следовательно, его необходимо принять к исполнению”». Именно в эту кампанию Моро познакомится с дядей генерала Суама, неким аббатом Давидом, который сыграет роковую роль в судьбе Моро.
После сражения при Турнэ, не оставившего победителей, Пишегрю принимает решение двинуться в Западную Фландрию, где ему суждено сыграть важную роль и где во всей красе расцветет его военный гений. Пишегрю считал Моро своим лучшим дивизионным командиром и доверил ему командование половиной своей армии.
Моро маневрирует вдоль побережья Фландрии на левом крыле Северной армии. Пишегрю входит в Брюссель 10 июля 1794 года, где соединяется с Журданом, командующим Самбро-Маасской армией, которая только что одержала блестящую победу при Флёрюсе.
Моро осаждает Ньюпорт, в котором заперся десятитысячный англо-ганноверский гарнизон. Именно здесь он одерживает свою первую большую победу и принимает капитуляцию англичан. Это почти две дивизии. Неплохо для первой победы!
Однако вскоре после переворота 8 термидора кровожадный Робеспьер объявил о необходимости подвергнуть смертной казни победителя при Ньюпорте. Дело в том, что Моро получил письмо главнокомандующего Северной армии, в котором тот напоминает ему о существовании декрета от мессидора II года республики, в соответствии с которым любые войска неприятеля, сдающиеся на милость победителя, должны быть преданы мечу. Пишегрю сообщал далее, что об этом декрете Конвента ему напомнил представитель народа Гитон-Морво, находящийся сейчас в Брюсселе. Моро с негодованием ответил, что не собирается исполнять варварский декрет. И Пишегрю, не задумываясь, сжег это компрометирующее письмо.
Вскоре в Дюнкерке появились три представителя народа. Моро объяснил им, что его войска не собираются исполнять этот декрет, и так как народные представители ничего не знали о напоминании Гитона-Морво, то они «санкционировали генерала Моро принять капитуляцию осажденного гарнизона». Как только об этом стало известно в Париже, Комитет общественного спасения обвинил Моро в том, что тот обманул представителей народа и 8 термидора. Робеспьер с трибуны Конвента заявил, что «в Северной армии насмехаются, пытаясь сеять чистые семена свободы, вместо того, чтобы исполнять приказы Конвента, направленные против англичан».
Говоря о том, что нужно было перерезать весь гарнизон Ньюпорта, Робеспьер вскричал: «Убить 10 000 человек — это больше, чем принцип!» Слова эти означали смертный приговор генералу Моро. К счастью, на следующий день, 9-го термидора, голова монстра с раздробленной челюстью упала в корзину знаменитого парижского палача Сансона, куда раньше с такой легкостью Робеспьер отправлял столько голов невиновных генералов. Случись это событие несколькими днями раньше, и Робеспьер успел бы пополнить свою коллекцию головой 31-летнего генерала-победителя.
* * *
Вскоре, однако, Моро получает страшное известие, что его отец — 64-летний судья из Морле — арестован в Бресте и должен предстать перед революционным трибуналом. Немедленно (19 термидора) Моро пишет письмо общественному обвинителю гражданину Вертейлю: «…я не могу поверить в вину моего отца. Он всегда заслуживал своей честностью и чистотой помыслов уважение окружающих… Все его сыновья сражаются в армиях республики. Рассчитывая на твою любезность, прошу сообщить мне, в чем состоит его вина, и очень надеюсь, что правосудие восторжествует и все обвинения с него будут сняты…»
Увы, когда было получено это письмо, непоправимое уже свершилось. 13 термидора, в полдень «человек закона» Габриэль Моро из Лизорье был гильотинирован на главной площади Бреста за то, что «…поддерживал переписку с врагами республики и за перечисление им денежных средств для осуществления враждебных замыслов против родины».
Гибель отца Моро оказалась простым убийством. Вот что писал младший брат генерала, Жозеф Моро, Конвенту: «…моему отцу не было предоставлено право на защиту. Обвинительный акт ему принесли в 9 часов вечера, а на рассвете следующего дня казнили. Государственный обвинитель Вертейль, под предлогом сбора оправдательных доказательств, удалил из Бреста одного из моих братьев, направив его в Морле, и пока тот отсутствовал, учинил “суд” и казнь, в результате которой вся семья лишилась отца. Заявляю Конвенту, что мой отец пал жертвой предателей революции и наполнил горем сердца пяти его сыновей, находящихся на службе республики: один — командует национальной гвардией; другой, флотский офицер, захвачен в плен и заточен в темницу в Англии; третий — ранен в плечо, при подавлении восстания в Вандее; четвертый — служит адъютантом в Северной армии; и, наконец, пятый, старший из всех — генерал Моро, командует Северной армией…»
Письмо Моро от 19 термидора II года государственный обвинитель Вертейль получил 22 термидора (10 августа 1794 года). «Ему и кровожадным исполнителям — “судье” Раулю и палачу Хансу — оно доставило особое удовольствие, — пишет Пьер Савинель, — так как в нем Моро просил освободить невиновного человека, казнь над которым они совершили десять дней тому назад”.
Узнав правду о невиновности отца, Моро был взбешен и, по словам его биографов Шатонефа и Бретона де ла Мартиньера, «был готов сломать шпагу и перейти на сторону австрийцев, только чтобы не служить чудовищному режиму, который способен на подобные преступления».
* * *
Но траур по отцу не мог остановить войну, и Моро продолжает наступление. Двигаясь в северном направлении, генерал переходит бельгийскую границу и осаждает форт Слёйс (о. Кадзан), самую неприступную крепость Голландии, в то время расположенную на берегу моря и со всех сторон окруженную водой, за исключением дамбы. Защитники крепости стояли насмерть и проявляли чудеса храбрости. Но осада острова Кадзан велась под непрерывным огнем артиллерии, и когда крепость была взята, от нее остались одни руины. Форт Слёйс стал первым завоеванием Моро в Голландии и был местью французов за поражение их флота в этом пункте в 1340 году в результате чего началась Столетняя война. Моро вспоминал позднее, что наибольшую радость ему в этом деле доставило не взятие крепости, а то, что ему удалось спасти французского гренадера. Дело в том, что при штурме использовались деревянные лодки, вмещавшие 7—8 человек, но одна из них перевернулась. «Я забыл, что командую, — вспоминал Моро, — увидев, как гибнут мои солдаты, я разделся и бросился в воду. Мне удалось спасти одного гренадера. От Конвента я получил “заслуженную благодарность родины”. Но для меня большим счастьем было спасение человеческой жизни».
Под командованием Пишегрю находилось 6 дивизий общей численностью 70 000 человек при 275 орудиях. В предстоящих операциях дивизии Моро надлежало действовать на правом фланге Северной армии, которой предстояло преодолеть три непреодолимые естественные преграды, которыми являлись реки Маас, Ваал и Лек. Эти реки, ширина которых достигала одного километра во время разлива, текли почти параллельно друг другу и практически не замерзали зимой.
Кампания в Голландии не была для Моро столь славной как предыдущая, тем не менее она принесла ему бесценный боевой опыт. Теперь Моро наступал на правом фланге армии совместно с Макдональдом; в центре находились дивизии Сальма и Дельмаса, а слева шла дивизия Бонно. Правое крыло было надежно прикрыто реками Самброй и Маасом, где стоял Журдан со своей стошестнадцатитысячной армией, штаб-квартира которого находилась в Маастрихте. Англо-голландская армия маневрировала с целью ввести в заблуждение французов, переправляясь то на один, то на другой берег Мааса. Однако после 20 декабря 1794 года установилась необычная для этих мест морозная погода (показания термометра упали до отметки -17 градусов), предоставившая уникальную возможность французам форсировать реки Ваал и Лек. На рассвете 27 декабря бригады Дендельса и Остена отбросили противника на правый берег Ваала и захватили много пленных. Однако внезапно наступившая оттепель задержала форсирование реки вплоть до 6 января 1795 года. Видя перед собой тонкий лед, Пишегрю начал колебаться. Однако представители народа в Северной армии прямо заявили ему: «Если ты в ближайшие два часа не отдашь приказ об атаке, то будешь снят с должности». Ваал форсировали дивизии Моро и Макдональда выше г. Неймегена. Река не полностью замерзла, и кое-где плавали льдины; кроме того, с фланга подходил австрийский корпус Альвинци, однако переправа прошла успешно, и укрепления противника, расположенные на правом берегу, были взяты отчаянной штыковой атакой французов. Моро и Макдональд захватили 60 пушек, багаж и обоз с продовольствием — к их великому счастью, так как армия находилась в плачевном состоянии: у нее не было ни провианта, ни обмундирования. Генерал Дендельс писал: «армия в буквальном смысле умирает от голода». Ему вторил и генерал Атрии: «Моро сообщает, что у него начался падеж лошадей…» Тем не менее река Лек форсирована в двух местах 15 января 1795 года: англичане отступили вдоль линии Мюнстер — Гановер, а голландцы — на Схевенинген. Вандамм вошел в Арнем, а Сальм занял Утрехт, где Пишегрю принял делегацию представителей голландских княжеств, которая согласилась на капитуляцию. Пишегрю отрядил Моро с корпусом, состоящим из дивизий Сальма и Дендельса, поставив задачу взять Амстердам. Французы вошли в город 20 января 1795 года без единого выстрела. Горожане с удивлением и восхищением смотрели на этих «босоногих солдат, обмотанных соломой, и в рваных мундирах, которые шли под музыку и барабанный бой к ратуше, где, построившись, дисциплинированно ждали при 17-градусном морозе, пока их расквартируют».
Мирное соглашение будет подписано в Гааге 16 мая 1795 года, но еще за два месяца до этого радостного события, а именно 29 марта 1795 года, Пишегрю сдаст командование Моро, назначенному главнокомандующим, а сам отправится в Рейнскую армию, затем в Париж как триумфатор и завоеватель Голландии. Здесь следует отметить, что Моро получил в наследство от Пишегрю элитную армию, которая, по выражению Конвента, «заслужила почет и уважение родины». В то время как республиканские армии в Италии занимались грабежами, мародерством и даже не гнушались убийствами, в Северной армии царил образцовый порядок и дисциплина, кроме того, она отличалась высоким моральным духом, так как в основном состояла из добровольцев. Моро пробудет в этой должности ровно год и в марте 1796 года сдаст командование генералу Бернонвилю.
* * *
Многие историки сходятся во мнении, что 1794—1795 годы оказались чрезвычайно удачными для республиканского оружия и республиканской дипломатии. Генерал Пишегрю во главе Северной армии не только изгнал чужеземцев, вторгнувшихся на территорию Франции, но и завоевал также Австрийские Нидерланды (современную Бельгию). Журдан, командовавший Самбро-Маасской армией, разбил австрийцев под Флёрюсом, где мужество генерала Франсуасеверена Марсо решило победу. Многие другие французские генералы также увенчали себя лаврами. Генерал Гош, еще в предшествовавшем году разбивший австрийского генерала Вурмзера под Вейсенбургом и вытеснивший австрийцев из Эльзаса, увенчал себя новой славой благодаря успехам, одержанным в борьбе с инсургентами на западе Франции. Генералы Гувьон Сен-Сир, Бернадот, Клебер и многие другие сверстники Буонапарте (в то время Наполеон еще носил свою корсиканскую фамилию) тоже успели выдвинуться вперед и обратить на себя внимание. Освобожденная французская нация под управлением якобинцев обнаруживала на военном поприще энергию «беспримерную в летописях истории», как заявлял лорд Чарльз-Джеймс Фокс (1749—1806) в английской палате общин. Двадцать семь побед, из которых восемь в генеральных сражениях, и сто двадцать удачных схваток доставили французам в течение одного 1794 года 90 000 пленных, 116 городов и больших крепостей, 230 фортов и редутов, 3800 пушек, 70 000 ружей, 960 тонн пороха и 90 знамен и штандартов. Наряду с количественным изменялся и качественный состав армии. Часто утверждали, что французские республиканские и наполеоновские армии, в сущности, являлись армиями Бурбонов. На самом деле это не так. Закон о конскрипции, несмотря на свое несовершенство, изменил состав армии.
Известно, что в первые годы революционных войн применялись различные методы набора солдат в армию. В январе 1791 г. Национальное собрание призвало 100 000 «добровольцев вспомогательных войск» для пополнения действующей армии. Реально было мобилизовано менее трети. В этой связи в июне правительство постановило, что один из каждых 20 национальных гвардейцев должен нести действительную службу. Результат все еще был неудовлетворительным, и правительство вновь воззвало к волонтерам из департаментов в том же году Постепенно набралось около 40 000 «волонтеров 1791 г.», но чрезмерно либеральное правительство предоставило им возможность увольняться из армии с двухмесячным предупреждением. Этим разрешением воспользовались чуть ли не все добровольцы в течение той же зимы. Армия таяла на глазах, и правительство в панике издало декрет о новом наборе в мае 1792 г., но только за два месяца до этого лозунг «Отечество в опасности!» воспламенил народный патриотизм, когда австрийско-русские войска начали подходить к французским границам. Ответ народа был единодушен, и вскоре армии федератов, рвущихся в бой, хотя неумелых и недисциплинированных, уже шли на фронт. Однако эти новые части непрестанно враждовали с остатками «волонтеров 1791 г.», а регулярные войска одинаково презирали и тех и других. Тем не менее, несмотря на внутренние раздоры, именно такая армия победила у Вальми. Однако к концу года, когда завершился самый тяжелый кризис, многие федераты дезертировали и, собираясь в разрозненные банды, грабили крестьян в сельской местности. Возобновление кризиса в 1793 г. особенно проявилось в массовом дезертирстве офицеров, вызванном переходом генерала Дюмурье на сторону коалиции. Очевидно, требовались более серьезные меры. Комитет общественного спасения в августе издал закон о принудительной мобилизации, который обязал всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет (позднее до 30) служить в армии весь период боевых действий. Этот массовый призыв дал стране почти полмиллиона рекрутов и стал началом всеобщей воинской повинности. Однако термин конскрипция официально не применялся до сентября 1798 г., когда военный министр генерал Журдан опубликовал закон о воинской обязанности, в котором призывной контингент в указанных возрастных пределах подразделялся на пять классов в соответствии с возрастом и семейным положением. Одновременно и вся структура военной организации претерпела существенные изменения. С 1 января 1792 г. по 20 января 1795 г. вышло в отставку, отрешено от должности и уволено со службы всего в общей сложности 110 генерал-лейтенантов, 263 генерал-майора и 138 старших штаб-офицеров. Именно в этот период Лазар Карно возглавлял «военный отдел» Комитета общественного спасения. Будучи военным инженером, он мог соперничать даже с Наполеоном в способности к длительному и напряженному труду.
Кстати, его сын Сади Карно разработал идеальный термодинамический цикл. Те из читателей, которые закончили технические вузы или еще продолжают обучение в них, наверняка помнят цикл Карно, используемый в двигателях внутреннего сгорания. Именно этот человек заложил основы бензиновых двигателей, хотя многие современные автомобилисты даже не подозревают, что в моторах их автомобилей используется т.н. цикл Карно, изобретенный сыном великого французского мыслителя.
Карно сделал многое, чтобы реорганизовать не имевшие военного порядка армии первой республики. Для координации действий различных армий он создал Топографическое бюро — прообраз генерального штаба. Через институты всемогущих представителей народа — комиссаров Конвента — он добился установления некоторой дисциплины в армии, используя систему поощрений наряду с наказаниями для подъема морального духа. Именно он, а не Бонапарт был творцом «амальгам» 1794-го и 1796 годов. При этом один батальон линейных войск сливался с двумя батальонами волонтеров в часть под названием полубригада, чтобы отличаться от традиционных полков, существовавших при Старом порядке. Карно положил конец практике выборов офицеров, распустил массу «временных» волонтерских отрядов и на их месте создал 198 линейных и 15 легких полубригад, придав им в поддержку 213 резервных батальонов. Кавалерия была аналогично реорганизована в полубригады из четырех эскадронов в каждой. В артиллерии Карно способствовал сохранению системы Грибоваля и значительно увеличил количество батарей на конной тяге. Он продолжил работу Дюбуа-Крансе по организации батальонов, батарей и эскадронов в сводные дивизии. Пять или шесть таких дивизий образовывали полевую армию, и к 1795 г. официально имелось 15 армий первой республики, каждая списочной численностью 100 000 человек. Однако такая численность никогда не достигалась, и считалось, что в 1795 г. было 323 000 человек в линейной пехоте, 97 000 — в легкой пехоте, 59 000 кавалеристов, 29 000 артиллеристов и 29 000 человек в инженерных войсках, т.е. всего 528 000 бойцов первого эшелона. Кроме того, такое же количество было в Национальной гвардии, являвшейся резервом. Претерпела изменения и иерархия воинских званий. Во французских республиканских армиях были упразднены королевские звания и заменены на революционные. Высшим воинским званием стал дивизионный генерал. Кроме того, Карно создал упорядоченную систему армейских и дивизионных штабов, придав командирам разное количество штабных офицеров, в зависимости от их звания и фактической численности армий. Так, например, дивизионный генерал обычно имел 5 офицеров штаба и 4 помощника.
Изучая поражения, понесенные в Семилетней войне, французские военные теоретики конца XVIII века искали новую тактическую доктрину для действий своей армии, в частности пехоты. Были тщательно взвешены преимущества и недостатки сражения в линейном и колонном строю. Каждый боевой порядок имел своих приверженцев, и результатом стали распри среди военных теоретиков. Гибер внес некоторое равновесие, выступив в пользу линейного порядка, но признавал и ценность колонн при вступлении в бой, особенно на пересеченной местности. Сторонники колонн, Фолар и Мениль-Дюран, не принимали в расчет огневую мощь пехоты и проповедовали всемогущество внезапности и численного превосходства. Герцог де Бройль проводил эксперименты с использованием предложений последних в лагере Васье в 1778 г., но нашел их практически малопригодными. Исходом споров стал компромисс, отраженный во Временном строевом уставе 1788 г., где отрицался догматический подход к этому вопросу и предлагалось пользоваться преимуществами, которые давало во многих положениях принятие смешанного боевого порядка (l'ordre mixte) — сочетания линейного строя и колонн. Этот строевой устав в новой редакции стал действовать с 1792 г. и явился теоретической основой для тактики пехоты, которая использовалась во время войн революции, консулата и первой империи. Вот почему, как мы увидим ниже, современникам было трудно найти различия в стратегии и тактике, применяемых нашими героями — Моро и Бонапартом.
* * *
В качестве военного администратора Карно творил чудеса, обеспечивая новые армии продовольствием, снаряжением, боеприпасами. Хотя провианта всегда не хватало и жалованье практически не выплачивалось, большинство армий было достаточно хорошо оснащено. Исключение составляла, пожалуй, только Итальянская армия в 1796 г., когда Бонапарт принял над ней командование. Используя неограниченные полномочия Комитета общественного спасения, Карно добывал валюту путем реквизиций, насильственными и договорными займами. Однако финансовые трудности армии были настолько велики, что Карно настаивал на тезисе, что «война должна сама себя кормить». Он создавал фабрики и литейные мастерские и в целом полностью заслужил свое почетное имя «организатор победы». Понимая основную проблему связи в войсках, он использовал оптический телеграф Шаппа для связи Парижа с Рейнской армией и организовал две специальные роты для обслуживания аэростатов, применявшихся в разведке. Таким образом, Карно создал то оружие, которое Наполеон впоследствии использовал с таким мастерством. Уже упомянутый нами английский историк Дэвид Чандлер писал по этому поводу: «Бонапарт умел улучшать и развивать, но редко изобретал что-то новое».
Тем временем Франция, казалось, решила признать своей естественной границей на востоке — реку Рейн, а на юге — Пиренеи, Савойю и Ниццу. Во внешней политике создалось совершенно новое дипломатическое положение, в силу которого Голландия, превратившаяся с помощью армии Пишегрю и Моро в Батавскую республику, уступила Франции голландскую Фландрию (западная часть современной Бельгии). Пруссия, в свою очередь, отказалась от коалиции и подписала 5 апреля 1795 г. Базельский договор, по которому вся Северная Германия была признана нейтральной, а Франция приобретала левый берег Рейна, Пруссия вознаграждалась секуляризацией католических церковных владений в Центральной Германии. Испания, Португалия, а также мелкие итальянские и германские государства утратили желание продолжать борьбу с Францией, тем более что в эти страны стали проникать либеральные идеи Великой французской революции. Все эти государства, несколько недель спустя после подписания Базельского договора, решили присоединиться к нему. В результате только две могущественные державы — Англия и Австрия — остались в состоянии войны с Францией. Причем существенную поддержку им оказывал сам папа римский, подстрекая вандейское духовенство упорствовать в сопротивлении республиканским войскам.
Во внутренней междоусобной войне республика также одержала заметные успехи. Уже к концу 1794 г. бретонские крестьяне, называемые шуанами, практически были усмирены.
* * *
Английская экспедиция, отправленная в следующем году во Францию с намерением возобновить междоусобицу, потерпела фиаско. Британский королевский флот 27 июня 1795 г. доставил на полуостров Киберон (южная часть французского департамента Бретань) 3500 вооруженных эмигрантов с целью организации помощи восставшей Вандее. Однако мятеж был жестоко подавлен генералом Гошем. К середине июля республиканские войска взяли в плен 6000 роялистов и их подручных. Из высадившегося десанта спаслось меньше половины. В марте следующего года вандейское восстание было окончательно подавлено. Через много лет, находясь в ссылке в Америке, Моро вспомнит об этой экспедиции, но по другому поводу.
Будучи главным соратником Пишегрю в завоевании Голландии, Моро вскоре становится и его другом. Жан-Шарль Пишегрю был в то время боевым генералом, 34 лет, крепкого телосложения и физически очень сильным. Его жесткое, почти грубое лицо выражало мужество и упорство. В прошлом преподаватель математики в военной школе в Бриенне (где учился молодой Бонапарт), он в 1780 г. поступает в королевскую артиллерию и принимает участие в кампании в Америке. По возвращении во Францию Пишегрю получает звание сержанта. Этот молодой унтер-офицер приветствовал революцию, а она, благодаря его храбрости и военному таланту, не заставила себя долго ждать и вскоре сделала его генералом. Конвент считал его незапятнанным. «Это человек с душой настоящего республиканца, — писал о нем народный представитель в армии Ришар, — для тех, кто его слушает — это Тацит и Плутарх в одном лице. Он не зря ест свой хлеб». Да, покушать генерал любил и всегда ел много — у Пишегрю было отличное здоровье и отменный аппетит. Однако поглощал он свой армейский паёк отнюдь не всухомятку — частенько запивая его немалыми дозами хорошего французского вина.
Моро тоже не был аскетом. Если ему требовался хлеб, то у него не было нужды просить взаймы 50 луидоров у своего шефа на пропитание.
В 1795 г. якобинцы решили принять новую конституцию. Роялисты, со своей стороны, видели в ее статьях средства для достижения контрреволюционных целей. Рассчитывая на враждебное отношение к якобинскому правительству как черни, так и именитых парижских горожан, они задумали произвести государственный переворот и низложить якобинцев, а потому принялись активно агитировать в военных и политических кругах. Летом 1795 г. республиканские армии оказались охваченными каким-то странным бездействием. Полагали, что Пишегрю умышленно парализовал как свои собственные войска, так и армию Журдана. Бесцельное перемирие, заключенное ими с австрийцами, похоже, подтверждает это предположение. Как впоследствии выяснилось, некоторые члены Конвента поддерживали тесные связи с роялистами.
* * *
14 марта 1796 г. генерал Моро принимает на себя командование Рейнско-Мозельской армией, куда он прибывает 23 апреля. В это время ее штаб-квартира находилась в Страсбурге. С июня по октябрь 1796 г. разворачивается знаменитая Рейнско-Дунайская кампания. Журдан переправляется через Рейн в Дюссельдорф, а Моро в Келе. У каждого из них имелось около 75 000 человек, тогда как армия эрцгерцога Карла, ослабленная войсками, отправленными Вурмзеру в Италию, оказалась численно слабее. По плану кампании, одобренному Директорией, обе французские армии должны были двигаться параллельно друг другу в глубь Германии, держась южнее нейтральной полосы, а затем, вступив через Тироль в связь с армией Бонапарта, надлежало всем сообща ударить по австрийской столице. Сражаясь против эрцгерцога Карла, Моро выходит победителем в битве при Раштатте 5 июля и продвигается до Штутгарта, а затем и Мюнхена, столицы Баварии. Следует череда блестящих, но малоизвестных побед Моро — Эттлинген (8 июля), взятие Пфорцхайма (14 июля) и, наконец, Штутгарт. Затем следуют Нересхайм (И августа) и Фрайдберг (24 августа). Тогда Вюртемберг и Баден заключают с Францией сепаратный договор, а Саксония, отозвав свои войска из коалиционной армии, объявляет себя нейтральной по примеру Пруссии. В свою очередь Журдан овладевает Вюрцбургом 11 сентября и выигрывает сражение под Альтенкирхеном, но на пути к Регенсбургу (Ратисбон) встречается близ Ноймаркта с армией эрцгерцога Карла и терпит сокрушительное поражение. Молодой эрцгерцог сумел воспользоваться уроком, который преподнес ему командующий Рейнской армией. Однако поражение Журдана при Вюрцбурге поставило под удар всю армию Моро. Вынужденный отступить, отбивая стремительные атаки австрийского генерала Латура (в корпус Байе-Латура входили французские эмигранты герцога Конде), ему удается остановить последнего у Бибераха. Кстати, знамена для корпуса Конде были вышиты воспитанницами Смольного института благородных девиц в Петербурге по просьбе Павла I.
Сдерживая напор и искусное преследование эрцгерцога Карла, Моро с армией пересекает лесной массив Шварцвальд; вновь переходит р. Рейн и приводит во Францию целой и невредимой лучшую из революционных армий республики, даже несмотря на поражение, которое он потерпел при Эммендингене 19 октября 1796 г. «Если Моро и не обладал тем ярким гением, который его соперник с успехом применял в Италии, — пишет Тьер, — то он имел твердость духа и стойкость, неподвластную несчастьям… Он командовал армией, численностью более 60 000 человек, моральный дух которой не могло сломить ни одно поражение, а вера в своего командира только придавала ей силы. Имея такой ресурс за спиной, он ничего не опасался и принял решение отвести войска во Францию». Моро отступал в образцовом порядке вдоль правого берега Дуная на Биберах, имея в качестве прикрытия озеро Констанц. Здесь, под деревушкой, полное название которой Биберах-ан-ден-Рисс, Моро одержал одну из своих блестящих побед этой кампании. 2 октября он взял 5000 пленных, 20 пушек и несколько знамен у Байе-Латура.
Некоторые историки считают, что генерал Моро оставался в оборонительной позиции в течение всей осени 1796 г. На самом деле это не совсем так.
Находясь у истоков Дуная на высотах Донауэшингена, Моро созывает военный совет с командирами трех корпусов. Вопреки мнению Гувьона Сен-Сира, он принимает решение передислоцироваться на Рейн через Нойштадт — Фрайбург в Брайзахе. В Шварцвальде на высоте 1000 м над уровнем моря Моро в диких местах Черного леса отбивает бесполезные атаки неприятеля. Холод дает о себе знать. Обмундирование пришло в негодность: солдаты плохо одеты, а треть из них без обуви. Разрозненные банды германских партизан тревожат тылы, жгут фургоны с фуражом, перехватывают обозы с продовольствием, пытают отставших, издеваются над ранеными. Поставив повозки с ранеными в центр колонны, Моро идет на Страсбург. Здесь, у Келя, разворачивается сражение с войсками эрцгерцога Карла. Город Кель — это ворота во французский Эльзас. Пишегрю (уже на стороне австрийцев) уговаривал эрцгерцога немедленно атаковать Кель, чтобы открыть ворота во Францию. План Пишегрю был прост: собрать разбитые войска Моро под знаменем Бурбонов и вместе с австрийцами идти на Париж.
Но не тут-то было. В ноябре Моро атакует западный выступ австрийской боевой линии у Келя, чуть южнее его поддерживает Лекурб, а генерал Декан — в центре. Многие редуты взяты, но французы не в состоянии отбить стремительную атаку численно превосходящих австрийцев. Потеряв пленными 800 человек, среди которых много старших офицеров, Моро отдает приказ к отступлению. При отходе французы не забывают заклепать 15 австрийских пушек и 8 увезти с собой. Французы теряют 3000 человек убитыми, ранеными и пленными. В ночь на 24 ноября 1796 г. эрцгерцог Карл начинает подготовку к осаде. В стане французов много больных и раненых, в артиллерии не хватает канониров, их заменяют артиллеристами из конной артиллерии, но и они истребляются в результате ежедневных обстрелов; кроме того, в Страсбурге действует «пятая колонна» — целая армия шпионов, организованная Пишегрю. Из документов, захваченных у австрийца Клинглина, о которых мы расскажем ниже, неприятелю были известны часы начала выступления войск и прохождения их через единственный мост в Келе, который австрийцы методично обстреливали, нанося ощутимый урон живой силе французов. Тем не менее, и это делает им честь, французы продержались целых 45 дней.
Однако 9 января 1797 года генерал Дезе (правильно по-французски его фамилия произносится Дезекс) подписал капитуляцию, которая была вручена эрцгерцогу Карлу и генералу Бельгарду.
Другое предмостное укрепление наплавного моста у Юнинга защищал генерал Абатуччи, позиции которого подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу с правого берега Рейна, где была установлена мощная австрийская батарея. Князь Фюрстенберг направил своего парламентера с предложением сдать мост, на что храбрый французский генерал ответил: «Попробуйте его взять!» После чего последовала сильная атака австрийцев, которая была отбита, оставив у моста 1800 человек убитыми и ранеными. На рассвете, повернувшись спиной к австрийцам, чтобы оценить свои собственные потери, генерал Абатуччи был убит выстрелом из ружья в спину одним легко раненным венгерским гренадером, который замаскировался и всю ночь прятался в небольшой траншее.
Генерал Дюфур принял командование вместо Абатуччи и по приказу Директории был уполномочен подписать капитуляцию 2 февраля 1797 года.
* * *
Проведение отступательной операции через лесной массив Шварцвальд прославило имя Моро, т.к. по своей стратегической значимости оно приравнивалось решающему сражению всей кампании. Этим маневром Моро сохранил для Франции лучшую из революционных армий республики. Однако некоторые историки сочли действия Моро подозрительными и на них основывали свои первые подозрения в его измене. Почему генерал не пожелал продолжать боевые действия? Зачем отвел армию за пределы Рейна?
Представляется вероятным, что в его армию, ещё под командованием Пишегрю, были внедрены многочисленные агенты роялистов для агитации солдат с целью их использования в назревавшем государственном перевороте против Директории. Вероятно также, что во время отступления через Шварцвальд Моро мог иметь контакты с эмиссарами принца Конде. Пишегрю в октябре 1796 г. прибыл в Страсбург, в штаб-квартиру Рейнской армии, где, как полагают, встречался с Моро и, возможно, посоветовал ему увести войска за Рейн, чтобы использовать их в планируемом государственном перевороте — военном или парламентском.
На о. Святой Елены доктор Барри О'Мира однажды спросил Наполеона: «Разве Моро не проявил выдающиеся военные способности в этом отступлении?»
На что получил следующий ответ: «Это отступление было величайшей военной ошибкой Моро, которую он когда-либо совершал. Если бы он, вместо отступления, сделал обход и маршем вышел в тыл эрцгерцога Карла, то уничтожил бы австрийскую армию или взял ее в плен. Директория относилась ко мне с ревностью и хотела, по возможности, поделить поровну военную славу. Поскольку члены Директории не могли похвалить Моро за одержанную победу, они похвалили его за проведенное отступление, которое постарались превознести в самых восторженных выражениях. Хотя даже австрийские генералы порицали его за эту военную операцию. В будущем, — продолжал Наполеон, — вы, вероятно, сможете получить возможность ознакомиться с мнением по этому вопросу французских генералов, которые были непосредственными свидетелями отступления войск Моро, и вы убедитесь в том, что оно полностью совпадает с моим мнением. Моро вместо похвалы за эту военную операцию заслужил самое нелицеприятное осуждение и несмываемый позор. Как генерал, Пишегрю был гораздо более талантлив, чем Моро».
Такова характеристика этого маневра, данная самим Наполеоном. К слову сказать, ни здесь, ни в последующих цитатах, приписываемых Наполеону, мы не услышим ничего лестного в адрес нашего героя.
Пока Моро сражался в Германии, Бонапарт вел свою знаменитую первую итальянскую кампанию в качестве главнокомандующего. Именно в этой кампании он проявил себя как гениальный полководец, освободившийся от контроля, которому недоверчивая Директория подчиняла до сих пор своих генералов. Знаменитые сражения — Монтенотте, Кастильоне, Лоди, Риволи, Арколе — навсегда прославили его имя. В то время как генералы, командовавшие армиями войск коалиции, не считали возможным смотреть на выставленного против них двадцатисемилетнего «мальчишку», как на серьезного полководца, Наполеон совершал подвиги, казавшиеся чудесными и невероятными даже по сравнению с подвигами Гоша, Журдана и Моро, вызывавшими такое общее изумление.
Через несколько дней после начала кампании оборонительная линия австро-сардинской армии оказалась прорванной в центре, сардинцы были разбиты наголову и вынуждены подписать перемирие. Дав войскам двухдневный отдых, Наполеон двинулся в Ломбардию и победоносно вступил в Милан. Спустя две недели он двинулся вперед и менее чем через месяц подчинил себе большую часть Средней Италии. Следующие затем действия против врага, доведенного до отчаяния и поставленного в безвыходное положение, состояли из четырех отдельных наступательных операций. Первая, длившаяся девять дней, — против Вурмзера и Кваздановича; вторая, шестнадцатидневная, — против Вурмзера; третья, двенадцатидневная, — против Альвинци, и, наконец, четвертая, тридцатидневная, — также против Альвинци, закончившаяся взятием Мантуи, овладением горными проходами в Тироле и Каринтии. Через две недели после открытия военных действий против папы римского Наполеон принудил его подписать Толентинский мирный договор. Через тридцать шесть дней после того, как армия Наполеона двинулась от Мантуи к Вене, она достигла Леобена и, находясь в 150 км от австрийской столицы, заставила императора Франца I заключить мир с республикой. В течение года — с 27 марта 1796 по 7 апреля 1797-го — Бонапарт заставил покориться его шпаге самую гордую династию в Европе.
До сих пор нет точных сведений о размерах колоссальных денежных сумм, которые Италии пришлось уплатить Наполеону в качестве вознаграждения за издержки войны. Но уже с момента вступления в Милан французская армия была заново обмундирована и обеспечена продовольствием, а солдатам было выплачено денежное довольствие в полном объеме. Таким образом, в результате кампаний в Германии и Италии Франция достигла вершины своего революционного величия. Она стала самой могущественной державой на Европейском континенте, и пошатнувшимся соседним монархиям пришлось снова заняться обсуждением вопросов, которые в 1795 г. казались уже навсегда улаженными.
Помимо армии Бонапарта на данном театре действовали еще две — армия Журдана (затем сменившего его Гоша) и армия Моро. Директория считала скоординированные действия всех трех армий — залогом успеха кампании. Однако Рейнская армия Моро находилась в сложном положении. Мы уже упоминали, что в середине апреля Моро ездил в Париж, чтобы получить от казначейства 40 000 экю, необходимых для оборудования понтонного парка. Кроме того, ему нужны были средства на покупку лошадей для артиллерийского парка, так как он уже вынужден был применять волов и мулов как тягловую силу; армии давно не выплачивалось денежное довольствие, даже территориальными мандатами, не хватало овса лошадям и продовольствия солдатам.
Поняв, что денег от Директории не добьешься, несмотря на понимание со стороны военного министра, Моро в срочном порядке был вынужден приступить к реквизиции леса, скоб, гвоздей и других материалов, необходимых для постройки деревянных понтонов, что в итоге обеспечило успех переправы.
Бонапарт, желая присвоить всю славу этой кампании, не подчинился главной установке Директории по координации взаимодействия трех армий республики, дислоцированных на германском фронте. Впрочем, он перестал это делать еще со времен своей первой итальянской кампании. Этот человек представлял собой полную противоположность Моро. Целью последнего была слава родины, целью же Бонапарта — личные амбиции и собственная слава. Если бы Бонапарт стал ждать Гоша и Моро, то он рисковал, зная их военные таланты, получить только треть славы, а ему нужна была вся! Она была нужна ему для того, чтобы заложить основы своей будущей восточной империи, которая сделает его господином мира. Вот почему он, нарушив приказ Директории, не ожидая своих коллег, еще в марте начал наступление, бросив свою армию на верную гибель в глубокие снега Тарвиса и Земмеринга. Но все обошлось, и 7 апреля эрцгерцог подписал перемирие.
В противовес такому авантюрному поведению Бонапарта, Гош и Моро наивно исполняли свой долг генералов республики. Так, Гош, сконцентрировав свои войска у Нойвида (севернее Кобленца), форсировал водную преграду всеми имевшимися у него силами и разбил армию барона фон Края сначала у Нойвида, а затем 18 апреля 1797 года у Альтенкирхена и готовился к окружению австрийской армии. Моро, обманув графа де Грюна, направленного к нему Байе-Латуром с целью продления перемирия, убедил австрийцев, что собирается переправляться через Рейн в Мангейме, а на самом деле 20 апреля, прервав перемирие, форсировал реку севернее Келя, правда, на два дня позже Гоша из-за небрежности понтонеров, которые, заблудившись, спокойно спали, не успев навести мост. Моро в три часа ночи лично бросился в воду, увлекая своим примером остальных. Три часа спустя 10 батальонов уже были на правом берегу Рейна, переправив с собой на лодках 9 легких орудий под ураганным огнем австрийской артиллерии. В этом бою был ранен пулей в бедро генерал Дезе. В ночь на 21-е мост наконец был закончен.
22 апреля Вандамм захватил Оффенбург, и крепость Кель вновь стала французской.
Эти бои оказались тяжелыми для французов, которые потеряли 3000 человек. Однако они взяли в плен 3000 австрийцев, захватив 20 пушек, несколько знамен и много фургонов обоза, в одном из которых, а именно в багаже генерала Клинглина, как мы вскоре узнаем, находилась зашифрованная переписка французских шпионов, находившихся на службе Австрии и герцога Конде. Речь шла о некой мадемуазель Зед, под именем которой срывался не кто иной, как сам генерал Пишегрю.
Наступление продолжалось. Генерал Лекурб, находясь под командованием Гувьона Сен-Сира, удерживал Байе-Латура под Мангеймом и атаковал далее на Рейн с целью дать генеральное сражение, чтобы закрепить достигнутые успехи генерала Моро. Однако в ночь на 22 апреля прибыл австрийский парламентер, чтобы сообщить о подписании 17 апреля Леобенского мирного договора. Гош узнал эту новость несколько раньше Моро от курьера, отправленного Бертье. Двум славным армиям республики ничего не оставалось, как вновь перейти Рейн, форсированный с таким трудом и с такими жертвами. Этот поступок выглядел как насмешка главнокомандующего Итальянской армии, который в это время уже заигрывал во дворце Момбелло с князьями небольших германских государств. Он публично обедал с ними, уподобляясь «королю-солнцу» — Людовику XIV, в то время как его супруга устраивала приемы, словно при Старом порядке.
Вот как описывает эту короткую кампанию республиканских армий американский историк В. Слоон: «20 апреля 1797 г. Моро начинает новое наступление, но перемирие, подписанное Бонапартом в Леобене, останавливает его порыв. Дело в том, что в день подписания Леобенского договора генерал Гош, не зная о перемирии, нанес на Рейне жестокое поражение австрийцам. Моро был не в состоянии тронуться с места из-за того, что Директория отказалась ассигновать ему сравнительно ничтожную сумму, о которой он ходатайствовал. Гош, армию которого также хотели парализовать безденежьем, под конец не вытерпел. Ему хотелось во что бы то ни стало загладить прошлогоднюю неудачу Журдана, а потому он двинул свои войска на неприятеля, хотя они и не были подготовлены к такому наступлению. Переправившись через Рейн в Нойвиде, он быстро теснил перед собой австрийцев, ослабленных тем, что лучшие их полки выступили уже на соединение с эрцгерцогом Карлом. Под Гедерсдорфом произошло сражение, в котором австрийцы были разбиты с потерей 6000 пленных. Остаток их армии был практически окружен войсками Гоша, когда курьер из Леобена, прибывший с известием о заключении перемирия, заставил французов прекратить дальнейшее наступление. Подобное же разочарование испытал в Шварцвальде Дезе, который, переправившись с армией Моро ниже Страсбурга, тоже теснил перед собой австрийцев. Однако эти блестящие успехи французских полководцев были одержаны слишком поздно. Они не оказали никакого влияния на условия подписания мирного договора, а понесенные при этом потери оказались напрасными».
* * *
Летом 1797 г. под напором французского оружия пала Венеция. При капитуляции города был взят в плен эмигрант граф д'Антрег, игравший весьма важную роль в роялистском движении. По распоряжению Наполеона с ним обращались с таким тактом и уважением, что под конец он документально подтвердил подозревавшееся, но не доказанное до тех пор намерение Пишегрю изменить республике еще два года тому назад. Претендент на французский престол, король Людовик XVIII из замка Бланкенбург, где он проживал в изгнании, тайно реорганизовал роялистскую партию во Франции, которая называлась партией Клиши, так как ее штаб-квартира находилась в клубе, заседавшем в этом предместье Парижа. Ему удалось переманить на свою сторону генерала Пишегрю и разработать сложный, хитросплетенный заговор, рассчитанный на то, что в нужный момент, когда Директория, доведенная до крайнего раздражения, решится прибегнуть к силе против враждебного ей большинства в законодательных собраниях, Пишегрю, являвшийся председателем Совета пятисот, предстанет перед войсками в своем генеральском мундире завоевателя Голландии, примет на себя главное командование и заставит высказаться против Директории армию, являвшуюся единственным ее оплотом. Парижские роялисты вели себя довольно неосторожно и так откровенничали, что до сведения правительства дошли многие подробности искусно составленного заговора. Несмотря на эти предупреждения, положение Директории оставалось опасным. Радикальные члены этого правительственного органа считали необходимым, для спасения самих себя и республиканской конституции, как можно скорее назначить способного и преданного генерала главнокомандующим внутренней армией, т.е. комендантом Парижа. Они последовательно обращались к Моро, Гошу и, наконец, к Бонапарту.
«Моро не обнаружил особенной преданности к радикальной республике, — писал В. Слоон. — Рейнская армия, состоявшая под его начальством, давно уже не получала причитавшегося ей жалования. Солдаты бедствовали и, подобно своему вождю, были раздражены вынужденным бездействием. Моро относился к Директории до того холодно и до такой степени не сочувствовал правительственной ее системе, что, хотя имел в руках положительные доказательства перехода Пишегрю на сторону роялистов, тем не менее не донес об этой измене и предпочел воздержаться от всякого вмешательства». Блестящий полководец Гош согласился помочь Директории и охотно принял на себя выполнение разработанного Баррасом плана о сосредоточении в Париже войска под предлогом одновременной реорганизации обеих армий, Северной и Внутренней, причем должно было измениться прежнее расквартирование дивизий. Для более удобного выполнения проекта было признано необходимым назначить генерала Гоша военным министром. Оказалось, однако, что ему еще не было тридцати лет, и по конституции он не имел права занимать министерский пост. Директории не оставалось иного выбора, как обратиться к Бонапарту или к одному из генералов его армии. Директория понимала как нельзя лучше, что чрезмерное возвышение Бонапарта угрожало ей самой. Тем не менее в сложившихся условиях у нее не было иного выбора, как заручиться поддержкой завоевателя Италии и просить его прислать в Париж надежного генерала, за которого он сам мог бы поручиться. Бонапарт заранее уже предвидел, что к нему обратятся с такой просьбой, и фактически уже продемонстрировал свою готовность оказать поддержку Директории. Он отправил в Париж депеши с обещанием выслать в распоряжение правительства еще три миллиона франков, заставил сильнейшую из действующих французских армий сделать блестящую демонстрацию в пользу Директории и командировал в столицу честолюбивого, пылкого и бесстрашного генерала Ожеро, без того уже просившегося туда в отпуск по семейным обстоятельствам. Ему было поручено передать Директории восторженный адрес от Итальянской армии, являвшийся финалом чествования национального празднества 14 июля. Прибыв в Париж, Ожеро без стеснения хвастался, что его прислали в столицу, чтобы передушить роялистов. Он сразу же был назначен главнокомандующим внутренней армией. Чуть ранее Баррасу через Бернадота были переданы бумаги с показаниями, снятыми с графа д'Антрега и скрепленные его подписью. Таким образом, Директория оказалась во всеоружии и подготовилась к предстоящему перевороту. Не принимая это в расчет, роялистское большинство в законодательных советах непродуманным образом действий умышленно вызывала кризис. Недовольное сосредоточением в предместьях Парижа значительного количества войск, прибывших из Самбро-Маасской армии, народное представительство назначило командиром своей охраны пламенного роялиста, закрыло конституционные клубы, организованные в качестве противовеса клубу в Клиши, и на заседании 3 сентября 1797 г. с восторгом приняло предложение генерала Вильо произвести на следующий день восстание и низвергнуть Директорию. Тогда Ожеро ввел ночью в Париж двадцать тысяч солдат, занял военными постами все улицы, а также помещения законодательных собраний и таким образом закончил недолговечную первую попытку конституционного управления во Франции. На следующее утро (18 фрюктидора V года), 4 сентября 1797 г. Директория оказалась полновластной хозяйкой Парижа и всей Франции.
Карно, ничего не знавший об интриге между Баррасом и Гошем, переписывался с Бонапартом, приводя в письмах такие доводы, как если бы его адресат был и в самом деле добросовестным, искренним патриотом. Внезапно пробудившись от наивной иллюзии и убедившись в полной ошибочности своих предположений о том, что другие члены правительства — такие же искренние слуги отчизны, как и он сам, Карно заметил уже слишком поздно приготовления к государственному перевороту и едва успел спастись бегством. Другой оппозиционный член Директории, Бартелеми, был арестован и заключен в тюрьму. Вместо Карно и Бартелеми новыми директорами стали радикалы — Мерлен и Невшато. Президент Совета старейшин, роялист Барбе-Марбуа, с одиннадцатью членами этого совета, а также генерал Пишегрю с сорока двумя членами Совета пятисот и 148 другими лицами, в основном публицистами, подверглись проскрипции. Все они, за исключением немногих, успевших бежать, были сосланы в смертоносные болота Кайенны (Французская Гвиана), где томилась уже целая колония ссыльных священников. Восстановления гильотины не последовало, но тем не менее 18 фрюктидора дало Франции революционное правительство, опиравшееся лишь на военную силу, хотя и прикрывавшееся маской конституционных порядков. Фрюктидорцы утверждали, что они строго придерживаются конституции, и выставляли себя перед Францией сторонниками законности. Факты оказываются, однако, убедительнее слов. На самом деле фрюктидорцы группировались вокруг Директории, которая дважды уже обращалась за помощью к армии, являвшейся почти ее единственной опорой. Свобода печати была отменена, и военное положение провозглашено везде, где только исполнительная власть признавала это нужным. Генерал Ожеро, ласкавший себя надеждой стать членом Директории, был назначен вместо Моро главнокомандующим армией, которой не предстояло в ближайшем будущем участвовать в военных действиях. Преждевременная смерть Гоша лишила почти тогда же Францию единственного генерала, который мог своей гениальностью поспорить с Бонапартом, и вместе с тем избавила Наполеона от опасного политического соперника.
Но вернемся к нашему герою. Ведь он тоже пострадал от переворота, а его имя, хотя и косвенно, но было связано с Пишегрю, а, следовательно, и с неудавшимся coup d'etat.
В этой связи второе подозрение в измене Моро историки относят к весне 1797 г., когда ему удалось перехватить секретные документы одного австрийского генерала. 23 апреля в Оффенбурге, накануне подписания соглашения о прекращении огня, генерал Ферино, командир одной из частей армии Моро, захватывает обоз и багаж Клинглина. Многочисленные бумаги, содержащиеся в сундуках этого английского генерала, находящегося на австрийской службе, Моро отправляет в Страсбург — к Дезе, где последний лечился от раны, полученной в недавней кампании.
Дезе провел тщательную инвентаризацию всех документов и отобрал ряд писем, которые его заинтересовали. Узнав об этом, Моро поручает Дезе расшифровать загадочные послания и с этой целью направляет ему в помощь генералов Рейнье и Андреосси.
Клинглин (по свидетельству английского полковника Гре-хэма, был генералом на французской службе до революции) отвечал за секретную корреспонденцию австрийской армии. Он обратился к своей племяннице, баронессе Рейх, урожденной Беклин, с просьбой систематизировать и классифицировать эти бумаги, так неосторожно оставленные в обозе первой линии и поэтому захваченные французами. Документы принадлежали двум адвокатам из Страсбурга, агентам принца Конде — неким Демуже и Фенуйо, на самом деле работавших на графа де Монгайара и Фош-Бореля, прусского букиниста из Невшателя. Кроме того, при расшифровке всплыли имена небезызвестных английских агентов Уикхэма и Крауфорда, ответственных за финансы роялистов. Расшифровка писем показала, что адресаты скрывались под псевдонимами. Так, баронесса Рейх называлась Диогеном; Демуже был Фуре; Фенуйо — Робер; Монгайар — Пино; Фош-Борель — Луи; Уикхэм — Блюэ; мадемуазель Зед или баптист — Пишегрю; Моро — новобрачная; Люмьер — австрийцы и так далее.
В этой связи интересен документ № 110, в котором сообщалось: «У меня в гостях был баптист. Он очень заинтересован в Люмьерах…» В другом письме Фуре — Клинглину из Плобсхайма 5—6 сентября 1796 года говорилось, что мадемуазель Зед активно пытается дестабилизировать положение французской армии в Германии. Так, обедая с двумя генералами, прибывшими из Безансона, она произнесла: «оборона этих постов (Кель и Юнинг. — А. 3.) весьма интересна и что новобрачная будет их защищать так же, как и вы, если правительство выделит ей средства».
Или вот еще: «Уходя, мадемуазель Зед рассмеялась, крепко пожала мне руку и сказала, как бы отвечая на все вопросы: “Будьте спокойны! Положитесь на меня! Я сделаю все как надо. Я знаю французов…”»
Тщательное изучение бумаг привело к выводу, который поразил Моро — его бывший шеф, генерал Пишегрю, состоял в тайной переписке с главарями эмиграции, предав тем самым идеалы революции.
«Что делать? — задавал себе вопрос Моро, — выдать своего бывшего командира и друга?» «Да! — отвечал разум. — Нет!» — говорило сердце. Взвесив все «за» и «против», Моро решил промолчать. Его молчание продолжалось вплоть до переворота 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.). Именно в этот день, узнав о провалившемся роялистском путче и падении Пишегрю, Моро направляет все бумаги одному из директоров — Бартелеми, снабдив пакет сопроводительным письмом, датируемым двумя днями ранее, как полагают некоторые историки. Почему Моро выбрал именно Бартелеми, а не Барраса или другого члена Директории? Дело в том, что этот выбор указывает на симпатии, которые испытывал генерал к наиболее образованному, тактичному директору-дипломату, стоящему у власти, взгляды которого были близки взглядам Моро. И, хотя Бартелеми был сторонником конституционной монархии, а Моро в тот период ратовал за президентскую республику, тем не менее их подходы к новой форме правления во многом совпадали. Вот почему генерал решил обратиться к наиболее умеренному директору, с которым он уже встречался ранее и которого знал лично, за советом помочь ему выйти из щекотливого положения, не оставлявшего иного выбора: либо выдать друга, либо промолчать, что равносильно предательству. И Моро написал:
«Страсбург, 17 фрюктидора V года
Генерал-аншеф
гражданину Бартелеми
Уважаемый директор,
Уверен, вы помните, что в ходе моей недавней поездки в Баль я докладывал вам, как при форсировании Рейна нами был захвачен фургон генерала Клинглина, в котором мы обнаружили порядка 200—300 писем из его корреспонденции… Сейчас занимаются их дешифровкой, что отнимает массу времени… Я принял решение не придавать огласке это дело, имея в виду, что, во-первых, заключив мир, республика оказалась вне опасности и, во-вторых, эти документы могли бы послужить доказательством против весьма ограниченного круга лиц, так как в них не было указано ни одного имени…
Однако, видя, что во главе партий в настоящее время стоят люди, которые могут нанести вред нашей стране, а ими руководит человек высокого ранга, наделенный огромными полномочиями, и упомянутая корреспонденция серьезно компрометирует его, наделяя функциями будущего претендента, я счел необходимым вас проинформировать и т.д…»
К сожалению, Моро выбрал неудачный момент, и адресату не суждено было получить это письмо. В ночь с 17 на 18 фрюктидора генерал Ожеро с 12 000 солдат окружил советы, аннулировал выборы в 49 департаментах, восстановил революционные законы и без суда и следствия объявил о высылке в Кайенну директора Карно, директора Бартелеми и еще 53 депутатов, включая Пишегрю, Порталиса, Буасси д' Англа и многочисленных роялистов. Все они были арестованы преторианцами Бонапарта, услужливо предоставленными в распоряжение Директории главнокомандующим Итальянской армией. Арестованные были отправлены на так называемую «сухую гильотину» — в каторжную тюрьму Синнамари, расположенную в 100 км от Кайенны.
20 фрюктидора письмо Моро к Бартелеми распечатал Баррас, который, прочитав, решил наказать Моро за «позднее предупреждение властей, за выбор предателя в качестве доверенного лица и за непоздравление спасителей родины в связи с провалившимся переворотом». Свои поздравления, кстати, прислали Бонапарт и Гош, вскоре погибший при невыясненных обстоятельствах (герцогиня д'Абрантес в своих мемуарах утверждала, что его отравили за то, что он якобы растратил 800 000 франков из армейской казны, а тот, в свою защиту, намеревался опубликовать документы, изобличающие Барраса).
Моро вызвали в Париж для объяснений по делу Клинглина. Покидая армию 23 фрюктидора, генерал обратился к ней с воззванием, в котором, в частности, говорилось: «совершенно очевидно, что Пишегрю предал интересы и доверие всей Франции…»
На вопрос директоров, почему он так долго не информировал правительство о бумагах Клинглина, Моро ответил: «Уверяю вас, мне было трудно поверить в то, что человек, столько сделавший во имя родины и не имевший никаких причин ее предавать, мог совершить такой поступок».
Эрнест Доде в своей книге «Ссылка и смерть генерала Моро» утверждает, что в своем письме к Бартелеми Моро намеренно изменил дату, которая на самом деле была 19-е фрюктидора, а не 17-е, как если бы Моро, узнав 18-го по оптическому телеграфу о перевороте, прилетел на крыльях, чтобы содействовать победе республики. Однако это утверждение, на наш взгляд, не выдерживает критики. Во-первых, Моро находился в Страсбурге в момент переворота, а оптический телеграф между Парижем и Страсбургом был построен в месяце брюмере VI года (ноябрь 1797 г.); во-вторых, если бы Моро узнал о перевороте 18 фрюктидора, то с его стороны было бы абсурдом писать письмо человеку, низложенному в результате coup d'etat, и, в- третьих, Моро всегда утверждал, что письмо было написано им 17 фрюктидора, а не 19-го, и что только «небрежное написание цифры 7 дало почву для этой ошибки».
Впрочем, сами власть имущие подтверждают дату 17 фрюктидора в письме, адресованном генералу Гошу:
«Исполнительная Директория гражданину Гошу, генерал-аншефу Самбро-Маасской и Рейнско-Мозельской армии Гражданин генерал,
Исполнительная Директория направляет вам письмо от 17-го числа сего месяца, написанное генералом Моро и адресованное гражданину Бартелеми. Из сего вы узнаете, что зашифрованная корреспонденция чрезвычайной важности находится у генерала Моро и что к ней имели доступ генералы Дезе и Рейнье, а также адъютант генерала Моро, имя которого не сообщается, и офицер секретной части, имя которого также не разглашается. Об этом факте известно только вышепоименованным лицам».
Далее, директоры просят Гоша собрать все бумаги, относящиеся к этому делу, и срочно направить их в Париж. Одновременно ему приказано арестовать командира бригады Бадонвиля (этот генерал служил под командованием Пишегрю в 1795 г. и серьезно скомпрометировал себя связями с братьями короля).
Из этого документа следует, что дата в письме оставлена прежней, и мы понимаем, что если бы триумфаторы могли поставить 19 вместо 17, то они бы это сделали. Но здесь обращает на себя внимание другой факт. Из письма видно, что Моро к тому времени уже не является главнокомандующим Рейнско-Мозельской армией. Его армия, переименованная в Германскую, вскоре будет передана под командование Ожеро в знак услуг, оказанных Директории его солдатами-полицейскими в день 18 фрюктидора. Бонапарт, взбешенный таким быстрым возвышением своего подчиненного, откажется приветствовать его и вместо этого отправится на конгресс в Раштатте. Затем Бонапарт настоит на переводе Ожеро в Пиренейскую армию, а Рейнско-Мозельская армия в соответствии с декретом от 4 февраля 1798 г. будет расформирована, так и не подчинившись какому-то Ожеро, который насмехался над ней. Лишенная законного командира, который вел ее к победам, она сочла за благо прекратить свое существование. Но, как мы вскоре сможем убедиться, она возродится вновь и по декрету от 17 мессидора VII года будет называться Рейнской армией. К ней вернется ее прежний командующий, и она узнает новые славные победы.
* * *
Вот что говорил сам Наполеон в беседе с доктором О' Мира на острове Св. Елены по поводу событий 18 фрюктидора и связи с ними генерала Моро (цитируется по: О 'Мира Б. Голос с о. Св. Елены. М., 2004): «После Леобена сенат Венеции поступил достаточно глупо, подняв мятеж против французских армий, так как для этого у него не было достаточных сил, и он не мог надеяться на соответствующую помощь со стороны других держав, обещавшую малейшую надежду на успех. В результате всего этого я приказал французским войскам оккупировать Венецию. Там в это время находился агент Бурбонов, граф д'Антрег, о котором, я полагаю, вы слышали в Англии. Опасаясь последствий, он бежал из Венеции, но на пути в Вену у реки Брента (я думаю, что об этом он сказал сам) был арестован со всеми бумагами Бернадотом. Как только было установлена его личность, так сразу же его направили ко мне, поскольку его посчитали важной персоной. Среди его бумаг мы обнаружили документы с его планами и переписку Пишегрю с Бурбонами. Я немедленно приказал Бертье и двум другим офицерам заверить все эти бумаги, опечатать их и направить в Париж, в Директорию, так как они имели важнейшее значение. Затем я лично допросил д'Антрега, который, поняв, что содержание его бумаг стало известно, решил, что нет никакой пользы в том, чтобы далее пытаться что-либо утаивать, и, соответственно, во всем признался. Он даже рассказал мне больше того, чего я мог ожидать. Он посвятил меня в секретные планы Бурбонов, не опустив и имен их английских приверженцев. В действительности информация, которую я получил от него, была столь полной и столь важной, что она помогла мне решить, как мне действовать в данный момент. Она стала главной причиной мер, которые я затем предпринял, и написания воззвания, с которым я обратился к армии. В нем я предупредил солдат армии, что, если это будет необходимо, им придется совершить переход через горы и вновь вступить на землю своей родной страны, чтобы разгромить предателей, которые замышляют заговор против существования республики. В то время Пишегрю был главой законодательной власти. Граф д'Антрег оказался столь общительным собеседником, что я самым искренним образом чувствовал себя обязанным ему, и даже могу сказать, что он почти покорил мое сердце. Он был человеком, обладавшим способностями и острым умом. С ним было приятно вести беседу, хотя впоследствии он оказался негодяем. Вместо того чтобы содержать его в заключении, я разрешил ему свободно гулять в Милане повсюду, где ему вздумается, всячески потворствовал ему и даже не выставил за ним слежку. По прошествии нескольких дней я получил указания от Директории добиться того, чтобы его расстреляли или, что было в те времена одним и тем же, отдали под суд военного трибунала, приговор которого подлежал немедленному исполнению. Я написал Директории, что он представил весьма полезную информацию и не заслужил столь неожиданного поворота в судьбе. И, наконец, что я не могу выполнить указания Директории, если же Директория настаивает на его расстреле, то она должна сделать это сама.
Вскоре после этого д'Антрег сбежал в Швейцарию, где этот мерзавец имел наглость написать клеветническое заявление, в котором обвинил меня в том, что я обращался с ним самым жестоким образом и даже заковывал его в цепи. На самом же деле я предоставил ему столь большую свободу пребывания в Милане, что его побег был обнаружен лишь по прошествии нескольких дней после того, как он оттуда исчез. И только потом, благодаря сообщениям швейцарских газет о прибытии в эту страну графа д'Антрега, что поначалу считалось невозможным, это сообщение подтвердилось в результате того, что в Швейцарию были направлены люди для проверки его квартиры. Подобное поведение д'Антрега вызвало большое возмущение всех тех, кто были свидетелями того снисходительного отношения, которое я проявлял к нему. В их числе было несколько послов и дипломатов, которые настолько почувствовали себя оскорбленными, что собрались вместе и подписали заявление, отвергавшее эти обвинения д'Антрега.
Сразу же после захвата д'Антрега ко мне явился Дезе. Обсуждая с ним события, связанные с Пишегрю, я высказал замечание о том, что нас очень сильно обманули, а затем выразил свое удивление по поводу того, что его измена не была обнаружена ранее. “Но почему же, — возразил Дезе, — мы знали об этом еще три месяца тому назад”. “Как это могло быть возможным?” — спросил я. Тогда Дезе рассказал мне о том, как повел себя Моро, вместе с которым в то время находился Дезе, когда в багаже австрийского генерала Клинглина была обнаружена деловая переписка Пишегрю. В ней сообщались детальные планы мероприятий в пользу Бурбонов, а также приводились данные о ложных маневрах, которые Пишегрю собирался осуществить на практике. Я спросил Дезе, сообщалось ли обо всем этом Директории. Дезе ответил, что нет, не сообщалось, так как Моро не хотел погубить Пишегрю. Моро попросил Дезе, чтобы тот ничего по этому поводу не говорил. Я заявил Дезе, что он действовал совершенно неправильно; что ему следовало немедленно отправить все бумаги Пишегрю Директории, подобно тому, как поступил я; что в действительности это было молчаливым согласием с планом уничтожения его родной страны.
Как только Моро стало известно, что Пишегрю разоблачен, он объявил в армии, что Пишегрю — предатель. Одновременно он отправил Директории документы, содержавшие доказательства предательства Пишегрю. Эти документы Моро прятал у себя в течение нескольких месяцев и позволил Пишегрю быть избранным в качестве главы законодательной власти; хотя знал, что Пишегрю замышляет уничтожение республики. На это раз Моро был обвинен, и справедливо, в двойном предательстве. “Ты сначала, — говорилось в обвинительном документе, — предал свою страну, сокрыв измену Пишегрю, и впоследствии ты бесполезно предал своего друга, раскрыв ему то, что ты обязан был сделать известным раньше”. Моро никогда вновь не вернул к себе уважения со стороны общественности».
* * *
Находясь в Париже, Моро видел, как все больше увеличивался контраст между богатыми и бедными. Из-за воровства директоров Франция находилась в сложном финансовом положении. Бедность царила на улицах столицы. Луи Мадлен в своей работе «Франция времен Директории» (1922 г.) описывает случай, когда полиция арестовала молодую женщину за то, что та украла хлеб. Она сказала комиссару: «Вы бы не арестовали меня, если бы увидели, где сейчас находятся мои дети». Полицейский согласился пойти посмотреть и, войдя в убогое жилище, увидел на полу двух малышей. «Где ваш отец?» — спросил он. «За дверью, в чулане», — сказали малыши. Открыв ее, комиссар увидел тело повесившегося отца. Случаев смерти от голода в Париже в то время было очень много. Моро, происходивший из христианской семьи, в которой было принято помогать бедным, с трудом верил своим глазам, видя масштабы нищеты.
С другой стороны, часть общества купалась в роскоши, давая званые обеды, устраивая балы, красочные карнавалы и фейерверки. Их столы ломились от обильных яств и экзотических угощений. В садах, летом, давались спектакли. Женщины из высшего общества прогуливались почти обнаженными. Армия и флот терпели унижения от постоянных поражений (Бонапарт при Абукире, 1 августа 1798 года; Журдан при Штокахе 21— 24 марта 1799 года, Шерер при Кассано 28 апреля 1799 года и т.д.). Франция накануне 18 брюмера была настоящей колыбелью прогнившей диктатуры порока.
И все же в Париже Моро нашел теплый прием у своего друга — генерала Клебера, также находящегося в вынужденном отпуске. Быть геркулесом, как Клебер, молодым, как Моро, и оставаться не у дел — тяжело переносилось обоими генералами. Сердца их наполнились особенной горечью, когда до их ушей дошло известие о заключении Кампо-Формийского мирного договора, подписанного 27-летним французским генералом по имени Бонапарт.
* * *
Тем не менее Моро не получает никакого командования. Батавская армия отдана под начало Брюна, Германская — под командование Журдана, Швейцарская (Гельветическая) — Массе-не, Итальянская — Шереру, а Неаполитанская — Макдональду.
Терпению двух молодых генералов пришел конец. Клебер вскоре принял на себя командование дивизией в Восточной армии, направлявшейся в Египет во главе с Бонапартом, к которому он, впрочем, хорошо относился за «поддержку Барраса», а Моро, умерив гордость, добился от директоров возвращения на действительную военную службу. И хотя он получил всего лишь должность главного инспектора сухопутных войск в Итальянской армии (15 сентября 1798 г., по другим сведениям, только в начале 1799 г.), фортуна не заставила себя долго ждать. Вскоре мы находим его в штабе Шерера, в Мантуе, откуда он пишет своей сестре Маргарите, вышедшей замуж за некоего гражданина Бершу:
«Из генерального штаба в Мантуе, 3 жерминаля VII года (23 марта 1799 г.)… До свидания, моя дорогая сестра. Верь, что я никогда не забуду тебя и что я желаю тебе настоящего счастья. Твой преданный брат, Виктор Моро».
Не успел генерал-инспектор обосноваться в Милане, как 21 апреля 1799 г. пришел приказ о его назначении командующим армиями, действующими в районе Неаполя и р. Адидже в связи с невозможностью выполнять свои обязанности по состоянию здоровья генералом Шерером. Моро сохранил пост командующего лишь до 4 августа 1799 г. в связи с назначением Жубера, который вскоре погиб в сражении при Нови (15 августа 1799 г.). Вновь приняв командование Итальянской армией, Моро находился в этой должности чуть больше месяца — до 21 сентября, когда пришел приказ о его назначении главнокомандующим Рейнской армии.
Именно в этот период Моро суждено было противостоять русскому военному гению — непобедимому Суворову.
Глава II. МОРО И СУВОРОВ
В марте 1799 года вторая коалиция выставила против Франции 320 000 человек, 80 000 из которых составляли войска А.В. Суворова и A.M. Римского-Корсакова. Директория могла противопоставить этим силам примерно половину, а именно 170 000 солдат, плотность фронта существенно уменьшилась, и французы постепенно начали сдавать свои позиции.
Англо-русский экспедиционный корпус высадился в Голландии, и Брюн был не в состоянии сдерживать численно превосходящего противника. Кампания, которую вел Журдан, была еще более катастрофической, чем в 1796 году. Вновь потерпев поражение от эрцгерцога Карла при Штокахе 24 марта 1799 года, он был вынужден отступить, сократив линию фронта до 100 км — от Остраха до Рейна, который только что был форсирован австрийцами, угрожавшими вторжением в Эльзас.
Под давлением австро-русских войск фон Готце и Римского-Корсакова генерал Массена отступал от Фельдкирха на рубеж р. Лиммат и достиг Цюриха, который решил оборонять при поддержке генерала Лекурба, который к этому времени уже славился как крупный военный специалист по ведению боевых действий в горной местности. По мнению французских историков, именно ему в итоге будет принадлежать честь разбить армию «старого скифа» — Суворова, как в шутку называл его Лекурб.
Генерала Шерера в Италии также ожидала череда поражений. Казалось, что Баррас, зная о неспособности Шерера, как полководца, согласился на его назначение в угоду Бонапарту, однако на всякий случай приставил к нему Моро в качестве генерал-инспектора пехоты. Это позволяло Баррасу в случае необходимости иметь возможность оперативно передать командование в руки Моро и тем самым минимизировать негативные последствия, связанные с возможным поражением Шерера. Такой момент не заставил себя долго ждать. Как только началось отступление, Шерер, трясясь от страха ответственности за неминуемое поражение, попросил Моро принять на себя командование корпусом, состоявшим из двух дивизий (что могло быть сделано только с молчаливого согласия всех директоров). Тем не менее Шерер продолжал оставаться главнокомандующим и, несмотря на мнение Моро, решил принять сражение на реке Адидже против войск барона фон Края. Этот опытный австрийский генерал нанес свой удар под Маньяно, неподалеку от Вероны, 6 апреля 1799 года. Правое крыло армии Шерера было разбито, но левое во главе с Моро продолжало держаться. Вот как вспоминал об этом сам Моро: «Я был на марше с отрядом, которым мне поручили командовать. Вдруг я услышал канонаду. Я мог продолжать движение в соответствии с приказом командующего, с которым у меня прервалась связь из-за этой внезапной атаки противника. Однако опыт подсказывал мне, что армия находится в опасности». Тогда Моро принял решение развернуть свой корпус на 90 градусов и идти на «гром пушек». «Я с успехом сражался до самого вечера. Мною были взяты несколько тысяч пленных и много орудий. К ночи враг был разбит и отступил в полном расстройстве». В похожей ситуации окажется наполеоновский маршал Груши в 1815 г., но он точно будет следовать букве приказа и не повернет на грохот орудий, в результате чего Наполеон окажется без резервов, и Ватерлоо будет проиграно.
Как всегда, следуя своей врожденной скромности, свойственной многим Водолеям, Моро ничего не говорит о том, что он спас армию Шерера от полного разгрома и позволил ему отступить в порядке к крепости Мантуя и перегруппироваться. Только восемь дней спустя австрийцы вновь смогли выйти на рубеж реки Минчо. Однако этот рубеж, равно как и фронт по реке Ольо, французы были не в состоянии продолжать удерживать в связи с подходом русских во главе с Суворовым, что удвоило силы австрийцев.
Именно в этот критический момент Моро получает срочный приказ Директории явиться в Париж для консультаций. Эта новость быстро распространилась по войскам, и солдаты пришли в уныние. Видя падение морального духа своей армии, Шерер был вынужден взять на себя всю полноту ответственности за неподчинение директиве правительства и приказал Моро остаться. Шерер не ошибся, сохранив при себе этого генерал-инспектора, который значил много больше как генерал, чем как инспектор. Итак, Моро сохранил за собой командование левым крылом армии, находившимся в тылу р. Адды, которую ему предстояло форсировать. Он разместил свою главную квартиру в Лоди, тогда как штаб Шерера располагался в Кассано. Утром на следующий день, узнав, что «старый скиф» форсировал Адду в нескольких пунктах, Моро отправился в Кассано, где узнал, что Шерер уехал в Милан, бросив армию на произвол судьбы, разрешая, однако, ему, Моро, издавать все необходимые приказы. Видя численное превосходство противника, Моро понял, что единственным средством спасения армии может быть только отступление. По этому поводу Моро позднее напишет: «Временно назначенный командир, имеющий полновластного главнокомандующего, находящегося в 8 лье от места предстоящей битвы, не имел права принимать сражение без его ведома. Тем не менее я принял решение собрать армию в кулак, для чего левому крылу было приказано приблизиться к центру В 5 утра мне доложили, что неприятель форсировал реку в нескольких пунктах. Издав самые необходимые приказы, которые требовала создавшаяся обстановка, я послал адъютанта, чтобы предупредить генерала Шерера о том, что армия атакована и что ему необходимо срочно прибыть к ней. Я же, со своей стороны, окажу ему всяческую поддержку. Через четыре часа ко мне вернулся адъютант с приказом Директории о моем назначении главнокомандующим Итальянской и Неаполитанской армиями». Мы полагаем, что именно за этим распоряжением Шерер отправился в Милан, где у представителя Директории в Италии получил нужный ему документ. Вместе с тем мы не думаем, что Шерер нарочно бросил армию. Во-первых, с ней оставался Моро, а во-вторых, полученная передышка давала ему шанс уладить все дела. Он только не учел, что эта передышка так быстро закончится. И все же Шерер решил уйти от ответственности, возложив всю вину за предстоящее поражение на плечи генерала Моро, чего последний, естественно, не желал. Тем не менее Моро принял командование, и, не ставя во главу угла интересы карьеры, как некоторые из его недавнего окружения, он просто служил республике; вот почему он поставил задачу спасения армии выше забот о ее славе. Армия, о которой шла речь, представляла собой 20-тысячный отряд, растянутый по фронту на 25 лье, т.е. 800 человек на 1 лье, или 182 человека на 1 км фронта. Это был нонсенс, даже по тем временам! Беспечность правительства и посредственность Шерера поставили французскую армию в тяжелое положение. Во-первых, она была разделена противником на три части и, во-вторых, не могла ожидать поддержки, так как французская Неаполитанская армия находилась на расстоянии 200 лье к югу.
«Сорок тысяч восставших пьемонтцев, — вспоминал позднее Моро, — перерезали нам все возможные пути отхода во Францию. Шестьдесят тысяч русских и австрийцев преследовали нас по пятам. Гарнизоны наших командных пунктов в Мантуе, Ферраре и др., запуганные или подкупленные, сдавались без единого выстрела, как, например, Чева, которая прикрывала единственную дорогу, по которой я мог достичь Генуи, сдалась на милость простых крестьян. Соединение с нашей Неаполитанской армией оказалось практически невозможным. Надо было быть сумасшедшим, чтобы взвалить на себя такую ношу».
Но Моро не колебался. В сражении при Кассано (28 апреля 1799 г.), в котором даже он не смог противостоять семидесятитысячным австро-русским войскам под командованием Суворова, Моро прежде всего начал с перегруппировки отдельных частей армии, представлявшей собой четыре разрозненных отряда, которые Директория через Шерера «подарила» ему в последний момент перед битвой, оказав тем самым Моро медвежью услугу. Генерал направил срочный приказ Макдональду в Неаполитанскую армию, поставив ему задачу прибыть к нему в Тортону, а сам с имевшимися под рукой силами и средствами двинулся навстречу врагу. С этой испытанной в боях армией он путем неимоверных усилий проложил себе дорогу сквозь Апеннины, собрав по пути корпус из 18 000 человек, и в целости и сохранности привел его в Геную. Итак, одна армия была спасена, но Моро предстояло спасти еще и другую.
Однако прежде, чем рассказать об этом, послушаем отрывки из рассказа советского историка А.Н. Боголюбова, повествующего о сражении при Кассано, правда, с одной оговоркой: все даты в этом рассказе соответствуют юлианскому календарю, существовавшему в России до 14 февраля 1918 года. Эта разница в 13 дней между старым и новым стилем наделает много бед и внесет сумятицу в период катастрофической кампании 1812 года в России и не только: «Положение французских армий в Италии в середине апреля 1799 г. оставалось критическим. Вступив в командование, Моро быстро оценил обстановку и нашел, что растянутое положение французских войск создает угрозу прорыва обороны в любом пункте атаки. Установив главные силы суворовской армии, Моро принял решение: сосредоточить главные силы французов в районе Треццо, Кассано, Инцаго, удерживая фланги незначительными силами.
С этой целью он приказывает:
1) дивизии Серюрье, оставив прикрытие переправ у Лекко и Бривио, сосредоточиться в районе Треццо;
2) дивизии Гренье занять район Ваприо, Инцаго;
3) дивизии Виктора, сдав свой участок отряду Лабуасьера, сосредоточиться в районе Кассано;
4) отряду Лабуасьера занять оборону на участке вилла Пампеана, р. По.
Это целесообразное решение, будь оно принято на сутки раньше, могло создать серьезные трудности для Суворова.
Тогда русскому главнокомандующему на форсирование р. Адды пришлось бы затратить больше усилий или же искать решения на другом участке фронта. В этом случае главное сражение произошло бы на линии Треццо — Кассано с главными силами французских войск; учитывая при этом слабую боеспособность австрийской армии, Суворову пришлось бы производить соответствующую перегруппировку. Но дело в том, что решение это физически не могло быть принято сутками раньше, так как генерал Моро получил приказ о своем назначении только 15 апреля, как раз за сутки до отданного им приказа.
Обстановка к исходу дня 15 апреля складывалась для французов в целом неблагоприятно. Решение Моро, принятое вечером 15 апреля, по времени уже не могло быть выполнено, так как для того чтобы дивизия Виктора смогла прибыть в назначенный район, а дивизия Гренье — соответственно занять новый, потребовалось бы больше суток. Только к утру 17 апреля войска могли выйти на позиции, предусмотренные планом Моро».
Тем не менее, как мы увидим далее, перегруппировка французских войск по плану Моро сказалась на ходе сражения, помогла вывести главные силы из боя и в достаточной степени истощить австрийские войска.
«О перемене командования французской армии узнал и Суворов. Он много слышал о генерале Моро, находясь еще в ссылке в селе Кончанском. Выводы его в связи с назначением Моро как всегда были лаконичны и многозначительны: “Мало славы разбить шарлатана; лавры, которые похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть”.
Итак, в ночь с 15 на 16 апреля началась наводка понтонного моста через реку Адда у Треццо, занимаемого одним батальоном дивизии Серюрье. Признавали, по условиям местности, переправу в этом пункте невозможной, французы чувствовали себя настолько в безопасности, что на ночь не оставили на берегу никакого прикрытия; даже не было отдельных постов наблюдения.
Трудность наводки моста у Треццо заключалась в том, что очень крутой восточный берег р. Адда в этом районе представлял собой почти непреодолимое препятствие для спуска понтонов и войск. В то же время этот район переправы являлся удобным для высадки войск на другом берегу, и ширина реки в этом месте была незначительной.
Суворов учел все эти данные и, рассчитывая на элемент внезапности, приказал ускорить наводку моста именно у Треццо.
В полной темноте и тишине понтонеры австрийской дивизии Отта приступили к работам. К утру 16 апреля мост был готов. Первыми переправились авангардные батальоны дивизии Отта, за ними — казачьи полки Денисова, Молчанова и Грекова, затем остальные силы дивизии Отта, наконец, последней должна была переправляться дивизия Цопфа.
Как и следовало ожидать, появление передовых частей дивизии Отта и казаков у Треццо явилось полной неожиданностью для французского батальона. По существу, батальон этот мог бы быть окружен и уничтожен, но благодаря “врожденной” медлительности и неповоротливости австрийцев французы успели все же изготовиться к бою непосредственно за Треццо.
Дело решили русские казаки, которые частично переправились по мосту. Они быстро обошли Треццо с севера и ударили на французов. Последние не выдержали этого натиска и в беспорядке начали отступление на Поццо, преследуемые австрийцами.
Таким образом, уже утром 16 апреля район переправы у Треццо был освобожден от французов, и в дальнейшем переход войск через р. Адда не представлял трудностей.
В течение ночи с 15 на 16 апреля главные французские силы производили перегруппировку по плану генерала Моро. В этот план было внесено только одно изменение: дивизия Серюрье, которая должна была сосредоточиться в районе Треццо, в связи с угрозой прорыва фронта у Бривио была остановлена у Вердерио (в этой дивизии осталось всего 3000 чел. и 8 орудий; остальные силы были разбросаны: у Лекко — отряд генерала Сойе и у Треццо — один батальон). В остальном план Моро остался без изменений.
Утром 16 апреля дивизия Гренье сняла к югу от Ваприо свои части и сосредоточила их к Ваприо, оставив одну 106-ю полубригаду для обороны предмостного укрепления у Кассано (между каналом Риторто и р. Адда).
Дивизия Виктора, в связи с запозданием смены ее частями Лабуасьера, сумела снять с фронта только одну бригаду Арго, которая находилась к утру 16 апреля на марше в 20 км к югу от Кассано; остальные силы этой дивизии могли выступить на север во второй половине дня 16-го.
Таким образом, положение французов к утру 16 апреля, учитывая при этом потерю участка у Треццо, складывалось явно неблагоприятно. Кроме того, Моро ожидал главной переправы неприятеля у Ваприо и соответственно готовил оборону, теперь же в связи с потерей Треццо ему пришлось разочароваться и пожалеть, что в районе Треццо по его приказу нет дивизии Серюрье.
Решение приходилось принимать исходя из сложившейся обстановки. Дивизия Гренье сосредоточилась у Ваприо только одной бригадой Кенеля, другая, Кистера, была еще на подходе.
Между тем события катастрофически нарастали. Четыре батальона и четыре эскадрона дивизии Отта преследовали один французский батальон, отходивший от Треццо на Ваприо. Три русских казачьих полка закончили переправу и сосредоточились в районе Треццо; начала переправу и дивизия Цопфа.
Утром 16 апреля 1799 г. Суворов приказал и резерву — австрийским дивизиям Фрелиха и Кейма (13 000 чел.) — перейти в наступление от Тревилио на Кассано, с ближайшей задачей во что бы то ни стало переправиться у Кассано через р. Адда, захватить Кассано и наступать дальше на Горгонцоллу.
Этот удар приводил бы к окружению главных сил французов. Однако французы успели одной бригадой дивизии Гренье занять оборону на линии Ваприо — Поццо фронтом на север и организованно встретить части дивизии Отта. Закипел упорный бой. Австрийцы пытались несколько раз сбить французов с занимаемых ими позиций на участке Ваприо — Поццо, но безуспешно. Между тем в процессе боя французы укрепляли свое положение и с подходом в середине дня 2-й бригады дивизии Гренье перешли в наступление. За это время и австрийская дивизия Отта успела подкрепиться частями дивизии Цопфа.
Сражение разгоралось с новой силой. Несмотря на поддержку Цопфа, австрийцы не выдержали удара французов и начали отступать на Треццо. Появись здесь вовремя дивизия Виктора, французы безусловно имели бы успех, и тогда обстановка сложилась бы по-другому. Теперь же у французов не было резервов для подкрепления своего успеха и обеспечения себя от неожиданностей. А обстановка настоятельно требовала усиления сражавшихся войск.
Моро осознавал сложность своего положения; он понял, что ему пришлось столкнуться с волей более твердой и решительной, что он вступил в единоборство с гениальным полководцем, не знающим поражений. Моро разгадал маневр Суворова, заключавшийся в том, чтобы ударить от Треццо на Горгонцоллу и от Кассано на Горгонцоллу; окружить и уничтожить главные силы французов, но изменить что-либо было уже поздно. Сил и средств для изменения обстановки в свою пользу не было. Напрашивался вывод, что в сложившейся ситуации целесообразно начать отступление всей французской армии на Милан».
Но не так прост был Моро. «Увлеченный успехами дивизии Гренье у Ваприо, надеясь на подход дивизии Виктора и 24-го конно-егерского полка, следовавшего форсированным маршем из Милана, французский главнокомандующий принял решение продолжать сражение. В нем жила надежда на положительный исход битвы. Эта надежда основывалась на том, что главная опасность угрожала ему с севера от Треццо, где были русские войска, где был Суворов. Со стороны Кассано опасность угрожала ему в меньшей степени: там “наступали” австрийцы, которые с утра уже вели безуспешный бой за переправу у Кассано. 13 000 австрийских солдат в течение 7 часов сражались с одной 106-й полубригадой французов (около 2000 чел.) и не имели успеха. Это козырь в руках французов, это определенный успех!
Моро правильно оценил это обстоятельство, но не учел одного: что в руках великого полководца плохие войска начинают драться по-настоящему, по-суворовски. Суворов доказал это генералу Моро в этот же день.
По-видимому (документальных данных, подтверждающих это положение, нет), генерал Моро, основываясь именно на такой оценке обстановки, и мог решиться на продолжение боя у Ваприо.
Около часа дня 16 апреля французы вели успешный бой в 2 км севернее линии Ваприо — Поццо; австрийцы на этом фронте ввели в бой почти полностью дивизии Отта и Цопфа, но остановить наступательный порыв французов не могли.
В это время в районе деревни, в 2 км северо-западнее Поццо, сосредоточились казачьи полки Денисова, Молчанова и Грекова. Атаман Денисов быстро оценил обстановку на фронте, объединил все три казачьих полка под своим командованием и принял решение атаковать французов в их левый фланг в направлении на Поццо.
Стремительная атака казаков сразу повлияла на исход боя. Левый фланг французов (бригада Кистера) не выдержал бурного натиска русских войск и был отброшен к юго-востоку от Поццо.
Конный отряд Денисова после удачной атаки на Поццо вынужден был оставить этот фронт и атаковать подходивший от Горгонцоллы 24-й конно-егерский полк французов.
В результате жаркой схватки русских казаков с французами 24-й конно-егерский полк бьш разбит; остатки его, преследуемые по пятам казаками Денисова, бросились в бегство на Горгонцоллу.
Положение французов резко ухудшилось. В течение трех часов шли ожесточенные бои за Ваприо и Поццо. Отряд Денисова у Горгонцоллы угрожал окружением, и путь отхода французов на Милан оказался под угрозой.
Около 4 часов пополудни генерал Моро приказывает дивизии Гренье отходить на фронт Кассано — Инцаго. К 5-ти часам дня 16 апреля дивизия Гренье в порядке отходит на назначенный ей рубеж, бригада Кистера — в район Кассано, бригада Кенеля — в
Инцаго. Австрийские дивизии Отта и Цопфа вяло преследовали отходившие части французов.
Как было сказано выше, генерал Моро оставил для обороны Кассано одну 106-ю полубригаду из дивизии Гренье. Эта часть заняла выгодные позиции между каналом Риторто и р. Адда, имея позади себя вполне исправный мост.
Вялые атаки австрийских дивизий Фрелиха и Кейма французами с успехом отбивались. В то время когда на фронте Ваприо — Поццо французы понесли поражение и отходили на линию Кассано — Инцаго, 13 000 австрийских войск не могли справиться с одной полубригадой французов и, по существу, сводили на нет успехи на севере.
Суворов, находясь в первой половине дня 16 апреля у Треццо, торопил генерала Меласа, командовавшего южной австрийской группировкой (дивизии Фрелиха и Кейма), взять Кассано во что бы то ни стало.
По-видимому, безуспешные действия австрийцев у Кассано вынудили Суворова лично прибыть около 4 часов дня на позиции Меласса. Почти одновременно к этому месту подошла бригада Арго из французской дивизии Виктора и заняла позиции вместе со 106-й полубригадой.
С прибытием Суворова австрийские войска мгновенно изменились. Исчезла пассивность, нерешительность. Русский полководец воодушевил войска. Умело распоряжаясь австрийскими дивизиями, он перегруппировал их и выставил более 30 орудий, сосредоточив их в одну батарею, после чего отдал приказ к атаке.
Теперь уже французы не выдержали натиска австрийцев и постепенно стали отходить на западный берег р. Адцы, не успев взорвать мост у Кассано.
На плечах отходящих французов австрийцы около 6 часов пополудни ворвались на мост и заняли Кассано.
Прояви австрийцы такую активность часа на два раньше, французская армия Моро могла быть уничтожена, так как все войска, находившиеся в это время в районе Ваприо, Кассано, Горгонцолла, были бы окружены и взяты в плен. Теперь же Моро имел возможность отойти на Мельцо.
После потери Кассано генерал Моро, не теряя времени, отдал приказ войскам отходить на Мельцо и далее на Милан.
Генералам Виктору и Лабуасьеру с войсками он предложил отходить на Меленьяно (20 км юго-западнее Кассано) и далее на Милан.
За день боя 16 апреля австрийские войска так измотались, что не в состоянии были преследовать отходивших французов. Эту задачу выполняли казачьи полки русских.
Одновременно на другом участке фронта у Лекко, Бривио, Вердерио к утру 16 апреля сложилась следующая обстановка. В районе Лекко действовал пятитысячный отряд генерала Сойе, против него наступал отряд русских войск под командованием Багратиона. Участок у Бривио должен был оборонять отряд генерала Гийе из дивизии Серюрье, усиленный 39-й полубригадой, прибывшей из Тироля. На этом фронте против французов были сосредоточены австрийский отряд Вукасовича и остатки русского корпуса Розенберга. Кроме того, трехтысячный французский отряд Серюрье (остатки его дивизии) в ночь с 14 на 15 апреля двигался на Треццо (еще по приказу Шерера), затем с 15-го на 16-е (уже по приказу Моро) обратно на Бривио; остановленный (вновь по приказу Моро) утром 16-го в районе Вердерио, он расположился там, заняв “своеобразную” позицию Падерно — Вердерио фронтом на запад, тылом к реке Адда, и стал ожидать новых распоряжений, не приняв необходимых мер к выяснению общей обстановки.
Еще вечером 15 апреля (до прихода Гийе) австрийский отряд Вукасовича сбил слабое охранение французов у Бривио и к утру 16-го полностью переправился на западный берег р. Адды.
В течение дня 16-го этот отряд вел бой с французскими войсками Гийе в районе Бривио и в результате отбросил их на Ольджинате, 7 км севернее Бривио.
Гийе, не имея связи с войсками Серюрье, решил, что дальше бой вести бесполезно, обстановка неясна, и поэтому начал отход в северо-западном направлении на Комо. Отряд Вукасовича не преследовал французов и дал им возможность свободно уйти.
К исходу дня 16-го австрийский отряд Вукасовича дислоцировался в районе Имберсаго, Бривио, предполагая с утра 17-го продолжать наступление на Вердерио и далее на Милан. В то время когда у Бривио происходили бои местного значения, интересные события стали разворачиваться у Леко. Французский генерал Сойе, определив подготовку атаки русскими войсками и получив сведения о неудачных действиях генерала Гийе у Бривио, счел за благо не ждать атаки русских, а заблаговременно ретироваться в северном направлении. Под рукой на озере Комо оказались речные суда; использовав их для перевозки своего трехтысячного отряда, генерал Сойе “благополучно” отплыл с театра военных действий.
Через реки, озера и горы севернее озера Комо этот отряд, в конце концов, вышел в район Арона, 60 км северо-западнее Милана, когда сражение при Кассано уже закончилось.
С утра 17 апреля главные силы суворовской армии продолжали преследование французской армии и к исходу дня сосредоточились в районе Милана. В тот же день 17 апреля русские войска у Вердерио совместно с австрийскими войсками покончили и с дивизией Серюрье.
Вукасович, остановившись вечером 16-го на ночлег в районе Бривио, Имберсаго, не знал, что в нескольких километрах от него находился французский отряд Серюрье. Не знал ничего о событиях на фронте за 16-е и генерал Серюрье, беспечно ожидавший “новых” распоряжений Моро.
Бесцельное топтание Серюрье в районе Вердерио привело к тому, что уже вечером 16-го французский отряд был окружен; ему предоставлялась единственная возможность в ночь на 17-е прорваться на запад. Эта возможность была упущена.
Утром 17-го разведка Вукасовича обнаружила французский отряд, занимавший позиции у Падерно и Вердерио. Вукасович, обойдя Вердерио с запада, развернул свои войска и перешел в наступление. На предложение Вукасовича сложить оружие без боя Серюрье ответил отказом.
Начался бой, в котором особенно отличился казачий полк Поздеева, лихой атакой захвативший Падерно.
Серюрье заметил подход к Чернуско (4 км северо-западнее Вердерио) колонны русских войск, развертывавшихся в боевой порядок. Серюрье понял безнадежность своего положения и сложил оружие. Так печально окончился эпизод с Серюрье». Моро был крайне недоволен сдачей этого генерала, хотя и не знал тогда, что через несколько лет судьба сведет их снова, но уже не в Италии, а в Америке и по совершенно иному поводу.
«17-го вместе со всеми остатками французской армии отошел и отряд Лабуасьера, дислоцированный в течение 15—17 апреля на фронте Лоди, р. По».
У Пицегитоне находился еще один небольшой французский отряд Лемуаня. Но в связи с отходом французов с фронта р. Адды снялся и Лемуань; он переправился на южный берег р. По у Пьяченцы и разрушил за собой мост.
«Так закончилось знаменитое сражение при Кассано, — заканчивает свой рассказ А.Н. Боголюбов. — Моро спас армию от неминуемого разгрома, хотя исход сражения, возможно, был бы иным, получи Моро командование заблаговременно. Для Суворова это было первое сражение на территории Италии, и оно показало, что в его лице французы имеют серьезного противника, и что он заставил драться австрийцев по-иному, по-суворовски».
* * *
Но вернемся к Моро, которого мы оставили в Генуе. Отсюда генерал двинулся на Тортону, где не оказалось Неаполитанской армии. Она была всего в 80 км от города, когда путь ей перерезал все тот же «старый скиф» Суворов. В кровавом сражении на реке Треббии, которое продолжалось три дня, русский генералиссимус наголову разбил армию Макдональда. Это произошло 17—19 июня 1799 года.
Макдональд начал движение на соединение с Моро 8 мая 1799 года. Весь путь от Неаполя до Тортоны занимал 40 дней, что в среднем составляло по 15 км в день, причем ему предписывалось двигаться форсированным маршем! Однако путь Макдональда пролегал через местность, охваченную народным восстанием против французских завоевателей. Эта партизанская война была прообразом народной войны в Испании в 1808 году.
Шампьоне, генерал кристальной честности, редко встречавшейся среди генералитета того времени, завоевавший эту часть Италии в январе 1799 года, был вдруг отозван Директорией за то, что выдал ее гражданских комиссаров, среди которых был небезызвестный Фаипуль, занимавшийся мародерством, как сейчас бы сказали, в особо крупных размерах. Шампьоне заменили Макдональдом, человеком более сдержанным в подобных вопросах, услужливость которого по отношению к гражданским комиссарам была хорошо известна в Риме. Однако никакого форсированного марша не получилось, так как вместе с армией Макдональда шел обоз, нагруженный золотом, «экспроприированным» у местного населения, который сопровождал Фаипуль. Одновременно с предметами искусства, оцениваемыми в 800 000 франков, господин Фаипуль имел собственный фургон, нагруженный коваными сундуками, в которых находились 75 000 луидоров (так, по крайней мере, свидетельствует Тьебо, в то время полковник Неаполитанской армии). Эта добыча, следовавшая под охраной армии, делала ее уязвимой для нападения разъяренных банд крестьян и ремесленников, фанатично настроенных местными священниками. Отдельные солдаты, стоило им чуть удалиться в сторону от основной колонны, тут же становились жертвами герильясов. В лучшем случае им заживо перерезали глотки. Были случаи, когда армия входила в деревню, где воздух был наполнен запахом настоящего крематория: это партизаны жгли солдат из французского авангарда. С армией воинов, а не конвоиров награбленного, Макдональд мог бы быть в Тортоне уже к концу мая 1799 года. Это дало бы возможность Моро немедленно перейти в контрнаступление. Однако Макдональд прибыл лишь к концу июня, когда Моро разбил австрийцев в районе Генуэзской Ривьеры, попытавшихся преградить ему путь на соединение с Макдональдом. Встреча двух армий, разбитых каждая по отдельности, не вызвала особого энтузиазма у Моро, ибо вся тяжесть ответственности за опоздание лежала на двух мародерах — Фаипуле и Макдональдс Как ни странно, это двойное поражение только увеличило славу Моро. В глазах военных специалистов отступление, которое Моро проводил вместо Шерера, было эффектнее, чем аналогичное — в 1796 году в Баварии. Тогда Моро стоял во главе непобедимой армии — лучшей армии республики, численностью 70 000 человек. Здесь же ему досталась разбитая армия — и от неспособного командира. Но эта маленькая армия, ослабленная поражением и численно уступающая противнику, превосходила его самоотверженностью, силой духа и патриотизмом, примеров которого мало найдется в десятилетней истории войн Великой французской революции. Моро сделал все, на что были способны его гений, талант, опыт и любовь к простым солдатам, чтобы спасти от неминуемого разгрома и бегства французскую армию и в полном порядке вывести ее из-под удара.
Позднее глупцы и завистники назовут Моро «отступающим генералом». Это будут мадам Жюно, супруг которой герцог д'Абрантес, герой поражений при Вимейро и Синтре, и Бонапарт, в своих высказываниях на о. Святой Елены, который и сам часто дезертировал из собственной армии как в Египте, так и в России и, по выражению А. Сореля, «оставляя ее гибель на совести других».
Но для Моро было важно то, что он сохранил для Франции жизни 18 000 молодых людей — сынов республики, которую, увы, в тот период недостойно представлял Баррас, презиравший ее, и который лишил Моро поста главнокомандующего после событий фрюктидора. Предназначение нашего героя состояло в том, чтобы служить идеальной республике и солдатам, которые умирали за нее, а не ее руководителям, которые в ней жили!
«Правительство направило мне на замену генерала Жубера, — вспоминал Моро, — и я должен был отправиться на Дунай. Однако события, связанные с битвой при Нови, заставили меня задержаться в Италии вплоть до вандемьера». На самом деле Моро предстояло еще раз спасти Итальянскую армию, которую Баррас счел за благо у него отобрать, хотя она продолжала существовать только благодаря Моро. Позднее, на процессе Кадудаля, адвокат Моро, мэтр Бонне, подчеркнет этот акт республиканского самопожертвования, который недооценит природная скромность генерала: «Сейчас этого человека обвиняют в честолюбии (Бонне напишет эти строки в 1804 году в ходе процесса Моро. — А. 3.), а тогда, в термидоре VII года, он безропотно передал командование спасенной им армии генералу Жуберу, который был до слез тронут не только наведенным в ней идеальным порядком и дисциплиной, но и той благородной простотой, с которой этот скромный генерал передавал свой пост главнокомандующего, за что Жубер публично выказал искренние знаки уважения и признательности. Генерал Моро принял предложение своего преемника участвовать в предстоящем сражении, не имея при этом ни назначения, ни должности, а просто в качестве наблюдателя… Сражаясь в знаменитой и несчастной баталии при Нови, когда храбрый Жубер пал при первой же атаке, Моро бился как настоящий воин; под ним было убито три лошади, но он творил чудеса, чтобы отсрочить поражение, которое предвидел, и принял на себя по общей просьбе всех офицеров и солдат опасную честь возглавить разбитую армию, ощетинить ее штыками, вернуть ей уважение врагов, да так, чтобы они не смели преследовать ее более; вернуть ее под защиту укреплений Генуи и продолжать удерживать ключевые пункты Италии, а также подготовить успешную почву для генерала, который придет ему на смену. Наконец, передать армию по приказу Директории генералу Шампьоне, покинуть ее, вновь вернуться, передать командование с послушанием ребенка на прихоть тех, кто был его судьями, когда он находился во главе преданной армии, и, несмотря на все это, суметь противостоять вдвое превосходящему врагу, благодаря своим талантам и сыновней любви солдат, которые уважают его как своего спасителя и отца».
Лучше и не скажешь.
Незадолго до описываемых событий Жубер женился на падчерице Семонвиля — того самого, который, по выражению Талейрана, был хитрым «старым котом», голосовавшим после первого отречения Наполеона против предложения Александра I о реабилитации генерала Моро и предусмотрительно отправившего одного из своих зятьев, генерала де Монтолона (по утверждению Бена Вейдера, отравителя Наполеона на о. Св. Елены), в ссылку за Бонапартом, а другого — в ссылку за королем Людовиком XVIII в Гент.
Но медовый месяц Жубера был коротким. Через десять дней после свадьбы он отправляется на театр военных действий для того, чтобы принять командование Итальянской армией. Почти все историки, и мы вскоре в этом убедимся, сходятся во мнении, что Жубера на пост главнокомандующего выдвинул Сийес. На самом деле это утверждение спорно. Хид де Невиль в своих мемуарах пишет, что этим человеком был маркиз Шарль-Луи Юге де Семонвиль, а не Сийес. Жубер долго колебался, стоит ли ему брать на себя командование, чтобы противостоять грозному Суворову. Французскому генералу надлежало принять армию у Моро, которая находилась в процессе переформирования после поражений и численно все еще оставалась меньше, чем армия Суворова. В конце концов, Жубер согласился, но попросил Моро повременить с отъездом в Рейнскую армию (приказ о назначении Моро был подписан Директорией 17 мессидора VII года, т.е. 5 июля 1799 года). Жубер нуждался в советах Моро, он знал характер, честность и прямоту этого до мозга костей республиканского генерала, он также знал, что Моро хорошо зарекомендовал себя в ходе последней кампании в Италии, и, как писал Пьер Лафре, «отступление армии было проведено бесподобно с использованием всех имеющихся ресурсов, их комбинации, правильных диспозиций, верных решений, при хладнокровии и стойкости, достойных истинного гения».
Жубер осознавал насущную необходимость иметь при себе гениального Моро, по крайней мере, при проведении первых боевых операций, которые позволили бы ему начать отвоевывать Италию, опираясь на Александрию. Однако, как расскажет Моро Бонапарту в ходе их первой встречи в ноябре 1799 года, Жубер потратил месяц на подготовку, тем самым предоставив австрийцам и русским возможность существенно увеличить свои контингента. Так, в своем рапорте Директории, опубликованном в «Мониторе» № 7, 1799, Моро пишет: «Много причин привели к потере сражения (речь идет о Нови. — А. З.): прежде всего это численное превосходство сил противника — по пехоте на одну треть, по кавалерии — на три четверти».
Первое свое сражение Жубер решил дать у северных отрогов Апеннин под прикрытием реки Скривии. Это сражение произошло у местечка Нови 15 августа 1799 года. Моро не советовал Жуберу принимать бой, так как напротив стоял Суворов, лучший генерал коалиционных войск. Суворов по образу своих действий чем-то напоминал Наполеона, но только был значительно старше последнего. «Старый скиф», как и Бонапарт, любил стремительные атаки. Суворов искусно применял смешанный боевой порядок (колонна — линия). «Пуля — дура, штык — молодец», — говорил он. Суворов, как и Бонапарт, преодолевал суровые Альпы и отдавал предпочтение фронтальным атакам. Кроме того, у Суворова были казаки. Эти «дикие люди» наводили ужас на французов, а длинные казачьи пики могли достать любого неприятельского кавалериста и не только. Более того, Суворов получил подкрепление в 12 000 австрийцев барона фон Края, высвободившихся в связи с капитуляцией Фуассак-Латура в Мантуе.
Сийес тревожно следил за первыми шагами генерала Жубера по ту сторону Альп. «Он не сводил глаз с этого сверкавшего на горизонте клинка, от которого могло прийти спасение», — писал Альберт Вандаль.
Как мы уже упоминали, назначенный в июле 1799 г. командующим вновь формируемой Рейнской армии, Моро был заменен Жубером в Италии, но последний, желая иметь при себе столь опытного советника, попросил Моро задержаться. Движимый патриотическими чувствами, Моро согласился. Этот патриотизм, как мы увидим ниже, сослужит ему плохую службу.
Жубер прибыл в Итальянскую армию 17 термидора (4 августа 1799 г.). Он тотчас же двинул ее вперед и в силу врожденной своей решительности, и сообразуясь с установленным планом. К тому же французские солдаты, изголодавшиеся в суровых апеннинских ущельях, надеялись вновь найти изобилие во всем на равнинах Ломбардии. Жубер знал, что Суворов близко, но надеялся, что осада Мантуи удержит вдали от него часть австрийских войск, действовавших совместно с русскими. Однако Мантуя, как оказалось, сдалась уже пять дней тому назад, и австрийцы форсированным маршем спешили на помощь Суворову.
Первое столкновение произошло 26 термидора (13 августа); а на рассвете 28 термидора, т.е. 15 августа, в день рождения Наполеона, перед французами открылась вся русская армия, развернувшаяся перед Нови. Жубер немедленно устремился в атаку на линию аванпостов. С обеих сторон уже началась перестрелка. С виноградников и из предместий, которыми была изрезана местность, раздавалась ружейная стрельба, еще слабая и редкая, Жубер несся вперед, увлекая за собой слабеющую колонну; вдруг он упал с лошади, истекая кровью, раненный пулей в грудь навылет. Его отнесли в тыл на носилках, прикрытых холстом, чтобы вид умирающего вождя не деморализовал солдат, и еще до полудня он скончался. Делать было нечего, и Моро пришлось взять на себя командование плохо подготовленным и плохо организованным сражением против грозного и непобедимого Суворова. Пальба разгоралась; битва завязывалась серьезная и жаркая. В течение 12 часов республиканские войска стойко держались под артиллерийским и ружейным огнем, защищая свои позиции, отбивая постоянно повторявшиеся атаки русских. Под Моро было убито две лошади (по другим сведениям три). Но в конце концов, когда подоспевшие в полдень австрийцы обошли французов с левого фланга, их шеренги расстроились, и армия отступила, хотя в порядке, но потеряв свою артиллерию, несколько генералов и много пленных. Моро снова увел ее за Апеннины и мог прикрыть только Геную, оставив во власти неприятеля весь полуостров, кроме узкой кромки Лигурийского побережья.
* * *
Первая весть об этой катастрофе была получена 9 фрюктидора. Парижу сообщили, что в Италии произошло кровопролитное сражение, что потери неприятеля огромны, значительно больше, чем у французов, но что Жубер погиб. «Как ни равнодушно стало большинство французов к славе родины, — писал Альберт Вандаль, — предчувствие несчастья и смерть Жубера повергли в уныние общество».
Впечатление катастрофы еще усиливалось тем, что полученные сведения были облечены какой-то таинственностью; так называемые «осведомленные» люди отвечали на вопросы сдержанно, с недомолвками, иные как будто не смели сказать всего, что знали. «Глухо циркулировал слух, — продолжает Вандаль, — будто Жубер, сраженный в самом начале боя, был ранен вовсе не вражеской пулей, но кем-то из предателей-якобинцев, прокравшихся в ряды армии или в обоз; что это гнусная фракция, искавшая в каждом народном бедствии удовлетворения своим зверским аппетитам и мести за свои обиды, недавно только пытавшаяся среди Марсова Поля умертвить двух членов Директории, подло преследовала по пятам молодого генерала с целью убить в лице его надежду всех честных людей во Франции». Можно ли было этому верить? Многие думали, что это было убийство. Перед отъездом в армию Жубер получил довольно безграмотное письмо, в котором его земляк настоятельно просил свидания. Жубер, по-видимому, не соглашался. Возможно, его хотели предупредить об опасности и посоветовать быть настороже. Как бы то ни было, правительство, объявив в стране траур, оказало памяти Жубера необычайные почести.
* * *
При Нови Моро снова пришлось пожертвовать своей репутацией. «Наши несчастья вновь назначили меня главнокомандующим», — так говорил он о себе сам, и так говорили о нем его солдаты. Он сдерживал Суворова столько, сколько мог. Выведя из строя 8000 солдат «старого скифа», Моро отвел армию в полном порядке на безопасный рубеж Генуи. В отчете Директории, опубликованном в «Мониторе» № 6 от 6 вандемьера VIII года (28 сентября 1799 г.), Моро пишет: «Мне представляется важным, чтобы республика знала правду об этом несчастном событии, но которое делает честь мужеству и храбрости Итальянской армии… В тот момент я узнал о гибели бесстрашного генерала Жубера, и, хотя я не имел никакой должности в этой армии, все стали обращаться ко мне за приказаниями. Я полагал, что судьба армии требует, чтобы я взял на себя командование». Потери австрийцев убитыми, ранеными, пленными были значительны и составили 205 офицеров и 5845 солдат. «Потери русских еще не были опубликованы в Вене, — писал Шатонеф, — но имея в виду, что они трижды атаковали центр французской боевой линии и трижды их атаки были отбиты, то не будет преувеличением сказать, что их потери вдвое превышают австрийские. После этой кампании вся Франция и, что особенно славно, зарубежные нации стали называть Моро французским Фабием».
* * *
Сийес, давно планировавший государственный переворот и делавший ставку на Жубера, понял, что его планы рушатся. Тем не менее экс-аббат упорствовал, срочно пытаясь найти замену Жуберу на роль организатора переворотов в пользу революционеров, пристроившихся к власти и надеявшихся окончательно укрепить ее за собой. Моро, посланный командовать войсками на Рейн, должен был по пути проехать через Париж; это был удобный случай прозондировать его настроение и развеять сомнения. Если он уклонится, его, вероятно, можно будет заменить Макдональдом (впоследствии женившимся на вдове Жубера), или Бернонвилем. Вообще генералов был большой выбор. Все они обладали военными талантами, но в политике быстро терялись, начинали колебаться, робеть, не решались взять на себя инициативу. Сийес минутами просто впадал в отчаяние: «Где та сила, что осуществит мои планы?» — восклицал он.
Внешняя опасность надвигалась все грозней, чреватая всеми другими. Правительство понимало, что как только австрийцы перейдут через Альпы и вторгнутся во Францию, в стране начнется гражданская война. Власть погибнет, раздавленная между анархистами и роялистами, если только Суворов не подоспеет вовремя, чтобы примирить всех революционеров, повесив их рядышком. Среди этой жестокой неурядицы умы инстинктивно обращались к отсутствующему герою, к великому покровителю, и вглядывались вдаль, ища его на горизонте. Призывали меч, уже поднятый однажды на защиту революции и Франции. «Нам недостает Бонапарта», — писала газета «Le Surveillant» от 12 фрюктидора VI года. Порой распространялись слухи о его возвращении; газетчики выкрикивали эту новость на улицах, и весь Париж приходил в волнение (см. донесение Генерального штаба от 5—6 термидора VI года о ложной высадке генерала Бонапарта в Генуе: «Archives Rationales», A.F. t. Ill, p. 168). Ho разочарование не заставляло себя ждать, и снова росло недовольство правительством, которое отправило его в почетное изгнание в Египет. Но где он сейчас? Вязнет в песках Сирии или стоит под Сен-Жан-д'Акром, прижатый к стене турецким пашой? Иные уверяли, что Бонапарт ранен, что пришлось сделать ампутацию. За четыре месяца ему не удалось переслать во Францию ни одного бюллетеня — хотя бы весточку, письмо, два-три слова! Сведения о нем черпались из корреспонденции частных лиц и английских газет, и то редкие и тревожные.
Тем временем положение на границах Франции становилось угрожающим. Речь шла о потере Швейцарии. Тридцать тысяч русских под командованием Римского-Корсакова, двадцать пять тысяч австрийцев под начальством Готце и Елачича стремились блокировать Массену между Цюрихом и Люцерном. Суворов же, наступавший от Милана к северу с двадцатью четырьмя тысячами человек, должен был обойти французскую армию через Альпы и атаковать ее с тыла. Если бы ему удалось поставить Массену между двух огней, разбить его и соединиться с Римским-Корсаковым и Готцем, ничто уже не остановило бы его победоносного шествия: вступив в Люцерн, «старый скиф» на другой день был бы в Базеле, на третий — на пороге Эльзаса и через Бельфор проник бы во Франшконте, где роялистская партия была многочисленна, хорошо организована и нетерпеливо ждала его. Пограничные департаменты Франции чувствовали опасность. «Суворов и русские, особенно казаки, — писал Альберт Вандаль, — страшно действовали на народное воображение; их представляли себе гигантами-варварами, непобедимыми, неотразимыми, великим резервом юга, обрушившимся на Францию». Несмотря на грозную опасность, нигде не замечалось общего движения, ни следа того душевного подъема, который в 1792 и 1793 годах сделал Францию, восставшую на иноземца, великой и грозной. А между тем в душе французского народа таился глубокий запас жизненных сил, сокровища скрытой энергии; но эти силы дремали, не направляемые, не управляемые, под гнетом унижающего, опозоренного режима. «Классы, некогда богатые или зажиточные, — писал Альберт Вандаль, — страдая под этим ненавистным гнетом, ждали иноземца, быть может, призывали его; в Марселе женщины ввели в моду уборы а ля Суворов, ленты и шляпки а ля Шарлот, в честь эрцгерцога Карла; в Совете пятисот один оратор с трибуны обличал марсельцев, которые обучались русскому языку, чтобы удобнее беседовать со своими избавителями». Париж отвык от вестей о победах.
Но постепенно Фортуна поворачивается лицом к Франции. 1 вандемьера столица была обрадована блестящим военным подвигом: в Голландии Брюн, атакованный англо-русскими войсками близ Бергена, дал им яростный отпор и заставил отступить с большим уроном. Успех этот, однако, не был решительным. Армия герцога Йоркского, хотя и сильно потрепанная, держалась стойко, прикрытая своими редутами и плотинами; и победоносному Брюну предстояло через несколько дней отступить, эвакуировав Алькмаар, и отвести свои войска на другую позицию, поближе к Амстердаму.
Кстати, в этой бесславной для русского оружия голландской экспедиции сражались 17 000 солдат Павла I, две трети из которых провели зиму 1799/1800 гг. на британских островах Джерси и Гернси, расположенных в проливе Ламанш. Британская газета «The Mirror of The Times», хорошо осведомленная о положении дел в Нидерландах, информировала своих читателей 6 октября 1799 г., ссылаясь на 5-ю статью соглашения между Англией и Россией: «…в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, в результате которых Его величество король Великобритании будет вынужден прекратить войну,…стороны договариваются, что при неуспехе экспедиции в Голландии 17 000 русских солдат будут зимовать в Англии. Это положение, однако, не обязывает нас принимать упомянутых иностранцев именно в Англии, поскольку они, скорее всего, будут отправлены на острова Джерси и Гернси, если вдруг злая судьба прибьет их к нашим берегам… Имеется еще одно небезынтересное обстоятельство, о котором следует упомянуть. Англо-русское соглашение обязывает российского императора предоставить 17 000 солдат для экспедиции в Голландию. Однако оно не обязывает его поддерживать первоначальную численность. Сейчас, когда в результате неудачной кампании, личный состав его войска уменьшился до 12 000 чел., российский император не в состоянии отложить (чтобы потом вернуть Англии. — А. З.) примерно треть от 40 000 фунтов ежемесячно перечисляемых Петербургу на содержание первоначальной численности корпуса. Кроме того, в приложении к соглашению имеется отдельная статья, обязывающая императора всероссийского предоставить корабли для транспортировки наемных войск».
Вот это заявление! Здесь мы, пожалуй, впервые узнаем, что русские, оказывается, были наемниками, а не союзными войсками, объединенными одной целью и действовавшими в интересах коалиции. На самом деле Англия в то время была готова на все, лишь бы уничтожить республиканскую Францию. Позднее Павел I скажет, что он «подает помощь своим союзникам, а не торгует наемными войсками и не продает своих услуг.».
* * *
Все понимали, что решительное сражение должно состояться в Швейцарии. Что же делал Массена с полученными им подкреплениями и многочисленной армией? Почему он не решил оттеснить Римского-Корсакова и Готце, прежде чем Суворов обойдет его через перевал Сен-Готард и выйдет ему в тыл? Напрасно Бернадот, военный министр республики, подбодрял и подстрекал его. Директоры, в конце концов, решили отправить Бернадота в отставку, не оглашая этого сразу. Как вдруг 7 вандемьера с театра войны прибыл гонец с известием о вторичном взятии Цюриха и выигранном сражении — на этот раз настоящем большом сражении, одном из самых славных в истории революционных войн. Французские войска, переправившись через р. Лиммат, отбросили русских и заперли их в городе. Им с трудом удалось спасти свою пехоту. Кавалерия, артиллерия и обоз были потеряны. Армия Римского-Корсакова была наголову разбита. Потери составили 12 000 убитыми, ранеными и взятыми в плен, кроме того, французы захватили все знамена, штандарты, 150 орудий и много зарядных ящиков. В тот же день был убит фон Готце, и его войска в беспорядке отступили, теснимые Сультом.
Победа Массены порвала цепь неудач французского оружия. Все последующие дни приходили только приятные известия. В Швейцарии Суворов, героически преодолев Сен-Готардский перевал в Альпах, столкнулся с французами, которые теперь не опасались удара со стороны Цюриха. С трудом оттеснив Лекурба, он схватился с Молитором — и это были битвы великанов. Суворов должен был соединиться с Елачичем в Швице, но на пути стоял Массена; точно так же был закрыт путь в Гларус, а на Люценском озере не было австрийских судов, чтобы переправить на другой берег его войска. Обманутый в своих ожиданиях, со всех сторон задерживаемый и гонимый, он блуждал в хаосе гор, в трудном бою с грозной природой. Казалось, предсказанию Лекурба суждено сбыться и «старый скиф» найдет свою смерть в горах Швейцарии.
Париж издалека с замиранием сердца следит за всеми подробностями этой агонии. По телеграфу передаются неполные, неточные сведения о суворовской армии, выдающие, однако, тревожные надежды. В газетах напечатан отрывок депеши, приписываемый Массене: «Он защищается как дог, но я держу его крепко». Сегодня сообщают о гибели Суворова, завтра опровергают это известие. Факт состоит в том, что Суворов ведет отчаянную борьбу и в конце концов прорывается; он находит убежище в Куре, но приводит туда только 6000 человек из 24 000, лишь остатки армии, и «…Швейцария все же является могилой его славы», — пишет Вандаль.
Тем временем победы французов продолжаются: Брюн присылает Директории пять знамен, захваченных под Бергеном, имперские войска остановлены на правом берегу Рейна и не решаются атаковать более. Наконец приходит известие от Бонапарта из Египта — победа при Абукире. Суворов уходит в область Гризон. И, наконец, Брюн, снова атакованный англо-русскими войсками, наголову разбивает их под Кастрикумом. Победа на севере, на юге, на востоке; всюду и везде только победы. Газета «La Publicite» от 15 вандемьера сообщает: «…в Швейцарии число трофеев победы все растет и растет; …размеры австро-русской катастрофы оказываются крупнее, чем думали вначале; теперь, говорят, уже 30 000 солдат выведены из строя. Через Базель проводили целые колонны русских пленных, и они вовсе не смотрят людоедами. Проводили и пленных гренадер, в шапках с изогнутыми металлическими бляхами спереди, и красавцев белых гусар и казаков с бородами до пояса».
* * *
Вскоре после этих событий генерал Шампьоне был восстановлен в должности и принял командование Итальянской армией, которую Моро передал ему в сентябре 1799 года. Однако наш герой не собирался немедленно отправляться в Рейнскую армию, главнокомандующим которой он был назначен еще в июле. Моро решил подлечиться и с этой целью, получив разрешение на отпуск, вернулся в Париж. Статус-кво на Рейне был обеспечен генералом Лекурбом, прибывшим из Гельветической армии в Швейцарии, где он поклялся своему шефу Массене, что «заставит Суворова сдохнуть в горах», что, впрочем, ему не совсем удалось. После второй битвы при Цюрихе, в которой Массена наголову разбил войска Готце и Римского-Корсакова, Суворов, как мы уже упоминали, отрезанный от своих баз снабжения и преданный австрийцами, привел остатки своего отряда в г. Кур, где дал ему небольшой отдых. Французский генерал Жак-Леонар Мюллер удерживал эрцгерцога Карла со значительными силами под Филиппсбургом, обеспечивая и в этом районе необходимый статус-кво.
Генерал Моро прибыл в столицу Франции 15 вандемьера (7 октября 1799 года), за несколько дней до возвращения Бонапарта из Египта, оставившего Восточную армию на попечение Клебера.
Моро нашел Париж в еще более худшем состоянии, чем то, в котором он увидел его в 1798 году. В «низах» царила удручающая бедность, а «верхи» и их приспешники купались в роскоши и предавались всевозможным радостям жизни. Заговоры и контрзаговоры, якобинцы, умеренные республиканцы, роялисты, да и другие политики всех мастей сплелись в один запутанный клубок, который своими сетями опутал не только Париж, но и всю Францию. Ситуация была близка к революционной и предвещала очередной государственный переворот. Мы полагаем, что Моро не просто так взял отпуск на несколько недель и вернулся в столицу. Осень 1799 года предвещала большие перемены в политике.
Глава III. ЗА БОНАПАРТА!
Пока заговорщики якобинцы и заговорщики роялисты, одинаково рассеянные и разбросанные, оспаривали друг у друга свою страну, растерзанную и в то же время инертную, республика искала себе правительство. Директория, сама подтачиваемая изнутри заговором ревизионистов, не была таковым, несмотря на находившие на нее приступы энергии. Она и не помышляла о том, чтобы мерами успокоения и удовлетворения обиженных попытаться привлечь к себе симпатии массы граждан, не принадлежавших ни к какой партии. Альберт Вандаль писал: «Ей и в голову не приходило быть справедливой, смело умеренной, отменить законы о культах и эмиграции, разбить эти орудия пытки, отозваться на национальные упования, войти в соприкосновение с душой Франции. Замкнувшись в своей односторонности, она защищалась плохо рассчитанными ударами против разнообразных врагов; нанеся удар вправо, она спешила нанести такой же и влево, ибо опасность грозила и с этой стороны, и притом нужно было искупить удар, нанесенный влево. Директория оставалась нетерпимой и немощной, трусливой и злой, уже по своей прирожденной немощности обреченной на произвол, гонимой и гонительницей».
Единственным директором не без дарований и проницательности был президент Сийес, но он-то и не хотел, чтобы Директория продолжала существовать. В ожидании, пока шпага Жубера освободит его от большинства коллег, он ограничивался тем, что намечал свою программу. В одной из речей он говорил: «Во Франции не должно быть больше ни террора, ни реакции; справедливость и свобода для всех», но на деле о свободе речь как раз и не шла. Франция мучительно билась между террором и реакцией.
Кроме того, члены Директории были бессильны сделать что-либо полезное уже потому, что их было несколько, что они не доверяли друг другу и боялись запятнать себя в глазах своих коллег пороком умеренности, и еще потому, что во Франции собирательные единицы совершенно лишены политического чутья. «Таким образом, — заключает Вандаль, — коллективное правительство VII года республики не могло придумать ничего, кроме инквизиционных строгостей и исключительных мер, чтобы защитить себя от различных заговоров, включая наиболее опасный из всех — роялистский. По всей стране проводились аресты, не прекращались гонения и на священников. Революция пожирала своих героев».
Еще находясь в Акке (Сен-Жан д'Акр), к Бонапарту прибыл посланец Директории с депешами и газетами от февраля 1799 г. Наполеон узнал, что два австрийских генерала, Мак и Саксен, стали во главе Неаполитанской армии и собирались идти на Рим. Одна из австрийских дивизий фактически уже начала враждебные действия, вступив в Граубюнден и, таким образом, нарушив нейтралитет союзной с Францией Швейцарской республикой. Между Россией, Турцией и Австрией был заключен союз, по которому Россия обязалась направить свои войска на защиту турецкой столицы и помочь завоеванию Италии австрийцами. Французы, в свою очередь, выставили на театр войны две полевые армии. Единственный первоклассный французский полководец, генерал Моро, подозревался в сочувствии к Пишегрю, и потому не был назначен главнокомандующим, а получил лишь разрешение добровольно состоять при Итальянской армии. Журдан, доказавший, в качестве члена Совета пятисот, искренность своих демократических воззрений, снова вошел в милость и командовал армией на Дунае. Место Бонапарта в Италии должен был занять Жубер. Что касается самого Наполеона, то его не стесняли никакими инструкциями. Директория предоставляла ему на выбор три варианта действий. Он мог или остаться в Египте, чтобы завершить организацию этой колонии, или же двинуться в Индию, с целью низвержения там английского владычества, или же, наконец, идти прямо на Константинополь и атаковать русских. Одновременно тон правительственных депеш свидетельствовал о том, что члены Директории были не на шутку встревожены и озабочены положением внутри страны. На Бонапарта действительно глубокое впечатление произвели известия о поражениях, понесенных французами под Требией и Нови, о смерти Жубера, о падении итальянских республик и тщетных попытках Моро держаться под прикрытием пьемонтских крепостей. Сильнее всего на него повлияло, вероятно, известие о том, что прежняя Директория фактически пала уже 30 прериаля и что для соблюдения внешних приличий в ее члены был избран Сийес, который уже продолжительное время разрабатывал новую конституцию. Во время отсутствия Бонапарта Директория совершила ту же ошибку, которую она пыталась совершить во время первой итальянской кампании, но которую Наполеон не позволил ей сделать. Она распылила армии. Испуганная неожиданным возобновлением военных действий, она начала энергично готовиться к войне, но эти спешные приготовления оказывались не во всех случаях целесообразными. Так, Шампьоне был направлен в Неаполь, Брюн назначен главнокомандующим в Голландии, Бернадот — на среднем течении Рейна, Журдан — в Центральной Германии, Массена — в Швейцарии, Макдональд — в Неаполе и Шерер — в Северной Италии. На основании нового закона о конскрипции были призваны под знамена 200 000 человек. Эти конскрипты пополнили ряды республиканских армий, которым суждено было сражаться с неодинаковым успехом. Брюн и Массена показали себя искусными полководцами и вели войну достаточно успешно, остальные же военачальники, назначенные Директорией, потерпели жестокие поражения. «Верхом недальновидности, — писал Альберт Вандаль, — следует признать назначение Шерера на такой важный пост, каким является командование армией в Северной Италии. Он уже и ранее проявил полнейшую неспособность управления войсками на итальянском театре, а на этот раз только подтвердил сложившееся в армии мнение, что он не понимает основ военного искусства. Журдана, который к концу марта месяца был разбит эрцгерцогом Карлом под Острахом и Штокахом, сменил Лемуань, но ему пришлось немедленно уйти из Северной Италии. Шерер, отступивший вначале за р. Минчо, а потом за р. Ольо, был разбит в апреле месяце под Маньяно и добровольно сдал начальство над войсками генералу Моро. Он сложил с себя командование армией среди общего негодования не только со стороны офицеров, но и простых солдат».
Наполеон принимает решение покинуть Египет и следовать прямо во Францию, а не в Италию, куда он, по словам Бурьена, вначале намеревался отправиться (вот откуда родились слухи о высадке Бонапарта в Генуе), чтобы восстановить там славу французского оружия.
17 вандемьера (9 октября) Бонапарт высаживается в Сан-Рафаэле, близ Фрежюса. Не дождавшись призыва Директории, он уже 47 дней назад покинул Египет на фрегате Мюирон, в Аяччо столкнулся с английским флотом, крейсировавшим вдоль берегов Прованса, и чудесным образом ускользнул от него. Париж узнал об этом уже вечером 21 вандемьера.
А между тем Сийес судорожно искал генерала, который мог бы взять на себя роль спасителя отечества. Шампьоне скомпрометировал себя тем, что после взятия Неаполя, 23 января 1799 г., разрешил своим солдатам неограниченный грабеж и насилие, вследствие чего его армия пришла в состояние полнейшей дезорганизации. И хотя Шампьоне оказался честным человеком, ничего не бравшим для себя лично, сменивший его Макдональд не без труда восстановил порядок и дисциплину, но его армия была разбита Суворовым в трехдневном бою под Требией. Мы уже упоминали, что армия Жубера, назначенного вместо Моро, также была разгромлена под Нови, 15 августа 1799 г., соединенными австро-русскими войсками, а сам ее главнокомандующий — убит. Мантуя оказалась к тому времени вынужденной сдаться на милость победителя, но тем не менее Моро с остатками войск Жубера продолжал упорно держаться в Приморских Альпах. Австрийцы под начальством эрцгерцога Карла разбили Массену в первой битве под Цюрихом, но затем ушли из Швейцарии и таким образом доставили французскому главнокомандующему возможность одержать в сентябре месяце на том же месте победу над русским генералом Римским-Корсаковым во второй битве при Цюрихе. Брюн, в свою очередь, разбил 19 сентября того же года под Бергом англо-русскую армию герцога Йоркского и принудил его подписать в Алькмааре капитуляцию, в силу которой эта армия обязалась уйти из пределов Батавской республики. «Бернадот, — пишет Вандаль, — назначенный военным министром, подвизался в этой должности успешнее, чем на дипломатическом поприще. Он и Жозеф Бонапарт были женаты на родных сестрах (Бернадот — на Дезире Клари, кстати, первой любви Бонапарта, а Жозеф — на Жюли), но тем не менее Бернадот не мог считаться бонапартистом по той простой причине, что всегда и везде оставался бернадотистом». Под его контролем Журдан разработал и провел новый закон о конскрипции, позволявший без труда заполнять бреши в рядах армии. Эта энергичная мера явилась естественным следствием закона Карно, по которому все французские граждане, способные носить оружие, были объявлены подлежащими воинской повинности, но призывались под знамена лишь в случае недостатка в добровольцах.
Закон о конскрипции, принятый 5 сентября 1798 г., предоставлял в распоряжение военного ведомства всю молодежь мужского пола в возрасте от 20 до 25 лет, причем оно, разумеется, могло брать из этого запаса именно такое число людей, которое действительно требовалось. Этот закон практически без изменений дошел до нашего времени и существует почти во всех странах Западной Европы. Вместе с тем он создал наполеоновские армии, которые отличались от прежних, республиканских, тем, что пополнялись уже не добровольцами, а по жребию. Эти армии, подразделявшиеся на дивизии, бригады и полубригады, сражались с таким же восторженным мужеством, как и прежде, потому что французская молодежь усматривала теперь для себя в войне кратчайший путь к славе. Обращаясь к новобранцам, Бернадот говорил им: «Между вами, ребята, без сомнения, найдутся и великие полководцы». В этих словах высказывалось искреннее убеждение всей тогдашней честолюбивой молодежи.
Сундуки государственного казначейства удалось пополнить с помощью принудительного займа, прикрывавшегося маской дополнительных таможенных пошлин. Кроме того, был принят чрезвычайно строгий закон о заложниках, на основании которого ни в чем не повинные родственники какого-нибудь эмигранта или шуана оказались ответственными за его поступки.
Все эти меры, особенно закон о заложниках, указывали на существование нового, более усилившегося якобинского течения, которое, располагая большинством в Совете пятисот, имело в самой Директории своими представителями Гойе и Мулена. Главным его очагом служил клуб террористов, заседавший в Берейторской школе, где в былые времена проводил свои совещания Конвент. Люди, которым жилось хорошо, как, например, Талейран, Реньо де Сен-Жан д'Анжели и Редерер, а также философы вроде Камбасереса, Семонвиля, Бенжамена Констана и даже Дону, возлагали надежды на Сийеса и Барраса.
В связи с такой тревожной обстановкой многие задавали себе вопрос: «Где найти необходимого для Франции в данный момент государственного деятеля?» Якобинцы по-прежнему рассчитывали, что счастливый случай выдвинет такого деятеля из их рядов. Что касается полководца, то они могли по желанию выбрать себе либо хладнокровного Журдана, либо пылкого Ожеро. Программа их состояла в том, чтобы вернуть республиканским знаменам победу и закрепить в новой конституции, какую бы форму она ни приняла, демократические принципы. Сийес и его сподвижники, разумеется, обратились бы к завоевателю Италии, с которым они уже и прежде состояли в контакте, но он пока отсутствовал, и, кроме того, они нуждались в орудии власти, а не во властелине. Известно, что они сделали попытку договориться с Моро, предлагая ему разделить диктатуру с Бонапартом, но он, по словам В. Слоона, сошелся тогда с роялистами и не обнаружил достаточной смелости и решимости. Утверждают, что если бы Наполеон Бонапарт не вернулся тогда в Париж, то Массена, очень походивший характером на Монка, вероятно, сыграл бы во Франции роль этого генерала. Несомненно, что сторонники ограниченного монархического правления соглашались, в крайнем случае, даже на возвращение Бурбонов в качестве конституционной династии, хотя и питали к ним такое недоверие, что Сийес, в бытность свою послом в Берлине, серьезно подумывал найти для Франции короля, например из Брауншвейгского дома.
Таким образом, Бонапарт, по возвращении в столицу, встретился лицом к лицу с хитросплетенной сетью побед и поражений, интриг и заговоров, задававшимися прямо противоположными целями.
Странная сцена разыгралась в то время в Люксембургском дворце. Сийес у себя в кабинете ждал Моро, только утром прибывшего из Италии. Захватив Моро тотчас же по приезде, пока он не успел еще осмотреться, Сийес рассчитывал победить его колебания и уговорить стать во главе планируемого переворота. Одновременно ему принесли депешу о высадке во Фрежюсе победителя Египта. «Он ждал Моро—дождался Бонапарта», — писал Альбер Вандаль. Сийес послал за Бодэном Арденнским, членом Совета старейшин, одним из его друзей и поверенных. Ярый патриот и убежденный республиканец, Бодэн Арденнский верил в необходимость героических средств для спасения республики и преобразования государства; он был посвящен в планы Сийеса и активно содействовал их осуществлению. В кабинет директора он вошел одновременно с генералом Моро. Сийес сообщил обоим грандиозную новость. Лицо Бодэна выразило растерянность, удивление, безумную радость; он был, видимо, глубоко потрясен; в его глазах это был неожиданно возвратившийся преобразователь республики, человек, с которым дело спасения отечества не может не увенчаться успехом. Он слышал, как Моро сказал Сийесу: «Вот тот, кто вам нужен; он вам устроит переворот гораздо лучше меня» (Moniteur, 23 vandemier, an VII).
* * *
Для того чтобы ясно представить себе ход грандиозных событий, которые произошли вскоре после возвращения Наполеона из Египта, необходимо вкратце описать расстановку политических сил в Париже накануне переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.).
К этому времени генерал Моро обладал высочайшей военной репутацией. В Рейнской армии под его командованием служили закаленные в боях ветераны, представлявшие собой реальную силу, в сердцах которых, несмотря на похвалу со стороны завоевателя Италии, было нечто личное по отношению к генералу, который исправил ошибки и неудачи Шерера в Германии, т.е. к Моро. Да это и понятно: нет ничего плохого в том, когда солдат гордится победой, к которой лично причастен. Генерал Бернадот, слывший ярым республиканцем, был военным министром, во время Египетской экспедиции Наполеона и только за три недели до возвращения последнего во Францию оставил свой пост.
Моро и Бернадот пользовались неоспоримым авторитетом в армиях, которыми командовали, и могли бы считаться их представителями.
Преданными себе Бонапарт считал своих соратников, с которыми он разделил славу побед в Италии, а также тех, кого позже называл «мои египтяне». Моральный дух армии был республиканским, в то время как прогнившая Директория превратилась в средство для осуществления политических интриг и заговоров. И хотя путь Бонапарта в Париж был не из легких, следует признать, что его сопровождал невиданный доселе народный энтузиазм. Однако чтобы быть законно избранным в новый политический орган, который должен был прийти на смену Директории, требовалось нечто большее, чем громкие крики толпы.
Из возможных политических оппонентов серьезно приходилось считаться с Моро и Бернадотом. «Моро слыл вторым после Бонапарта военачальником республики, — писал Альбер Вандаль, — но он совершенно лишен был личного обаяния, дара пленять и вызывать энтузиазм; у него была репутация, но не было популярности. Да он и сам… сразу стушевался перед Бонапартом, признавая необходимым действовать лично и не желая взяться за это дело. Но так как вне поля битвы он был человек боязливый и неустойчивый, а имя у него было крупное, его все же следовало покрепче привязать к себе и даже заручиться его сотрудничеством».
Не таков был Бернадот, этот генерал-политик, который недавно блеснул таким ослепительным метеором в военном министерстве, на миг, казалось, воплотив в себе национальную защиту. Он действительно был популярен; его выгодная внешность, умение говорить, приветливое обращение, жизнь на широкую ногу, пышные приемы — все это привлекало к нему людей и покоряло сердца. Хотя его и причисляли, как прежде, к якобинцам, с виду он, казалось, больше, чем кто бы то ни было, должен был быть предан Бонапартам, так как был женат на свояченице Жозефа, брата Наполеона. Однако, по сути, на этого «квазиродственника» можно было положиться меньше, чем на кого бы то ни было. Бонапарт тянул его к себе, стараясь играть на его чувствительных струнках, или дразнил и подтрунивал над ним, называя его то шуаном, то якобинцем. Он старался также скомпрометировать его, афишируя свою близость, напрашиваясь к нему на завтрак или же являясь в гости на «чашечку кофе». Бернадот никогда не уклонялся; бывал на всех семейных сборищах и пикниках, оплачивал вдвойне и втройне за любезность, устраивал у себя, на Цизальпинской улице, обеды для Бонапартов, был любезным хозяином и болтал без умолку. Но на всякое откровенное предложение уклонялся от ответа, прячась, как за щитом, за громкими словами и республиканскими принципами. На руке у него красовалась татуировка: Смерть тиранам!
Жозеф и Наполеон устроили за ним домашний надзор, приставили к нему альковную полицию в лице его жены, которую он очень любил. Жена, душою преданная Бонапартам, старалась взять его лаской, но Бернадот, хотя и любил супругу, не доверял ей и постоянно ускользал из сети, которой его пытались опутать. Никто не знал наверняка, как он поступит, и сам он с его упорным честолюбием, мучительной завистью и неопределенностью желаний тоже не знал этого. Пока он оставался в стороне, тревожно следя за всем происходившим, слишком нерешительный, чтобы пойти наперекор, слишком честолюбивый, чтобы подчиниться.
Именно в этот момент сторонники Бернадота захотели, чтобы будущий маршал вновь принял пост военного министра, а главной целью Бонапарта стало помешать осуществлению этой цели. Вот что говорил Наполеон Бурьену на второй день после своего прибытия в Париж из Египта: «Я полагаю, что Бернадот и Моро будут против меня. Но я не боюсь Моро. Он предпочитает военную, а не политическую власть. Он будет с нами, если мы пообещаем ему командование. Но вот Бернадот… В его жилах течет южная кровь. Он дерзкий и предприимчивый. Он не любит меня. И я уверен, он будет против. С его амбициями он способен на все. Кроме того, его ничем не соблазнишь. Он хитер и коварен… Впрочем, мы только приехали. Поживем, увидим…»
Первоначальной целью Бонапарта было стремление получить место в Директории, но позднее влиятельные люди убедили его объединиться с Сийесом и Роже Дюко и упразднить Директорию, установив Консулат.
Бонапарт и Моро еще не были знакомы лично. Это случилось 30 вандемьера в салоне одного из членов Директории Гойе, куда они оба были приглашены. Современник так описывает их первое свидание: «Оба молча смотрели друг на друга. Моро был на полголовы выше Бонапарта (1,76 м против 1,66 м. Наполеону приходилось поднимать голову, чтобы говорить с Моро. — А. З.). У него был высокий лоб, а ясные большие глаза смотрели прямо перед собой. Выражение лица Моро отражало врожденную скромность его личности».
Бонапарт первым прервал молчание.
— Я очень давно хотел с вами познакомиться, генерал, — сказал он Моро, — многие из ваших сослуживцев были со мной в Египте. Это отличные офицеры. — Он назвал Рейнье и Дезе.
Так началась их первая беседа. Она дружески продолжалась и весьма занимала гостей Гойе. Вскоре их приятельские отношения были скреплены подарком Бонапарта Моро — кинжалом из дамасской стали, осыпанным брильянтами ценой в десять тысяч франков. Газета «Le Journal de Paris» от 2 брюмера VIII года писала по этому поводу: «Вот уже несколько дней, в то время как публика говорит о Бонапарте, Бонапарт говорит о Моро, о его скромности и патриотизме». Эта статья Редерера, несомненно, была инспирирована Бонапартом. Тонкая лесть, разумеется, но весьма примечательная, особенно в момент, когда корсиканец собирался сыграть «ва-банк» с политикой; ему нужна была поддержка этого уже знаменитого бретонца. Вскоре ему представится случай в этом убедиться. Моро доверял Бонапарту и заявлял, что явится по первому сигналу на переворот, как на службу. Таким образом, избегая всякой инициативы, он тем не менее добровольно соглашался помогать. Вандаль писал: «Это не значит, чтобы он не завидовал Бонапарту, но он завидовал ему по-своему, не посягая на его гражданское первенство. Втайне он надеялся, что Бонапарт, бросившись в политику, где он легко мог, как столько других, запутаться и погибнуть, избавит его от опасного соперника в начальствовании армиями». В тот момент Моро понимал, что Директория обречена, и решил поддержать Бонапарта, веря в его республиканские принципы.
А вот Бернадот, который сопротивлялся амбициям молодого покорителя Италии и Египта, говорил Моро: «…а если Бонапарт под видом наведения порядка вознамерится задушить республику?» Моро отвечал: «…мы сможем ему помешать».
15 брюмера был устроен торжественный ужин в честь генералов Бонапарта и Моро членами двух палат — Советом старейшин и Советом пятисот. Ужин проходил в стенах церкви Сен-Сюльпис, уже называвшейся храмом Свободы. Богатые драпировки и трофейные знамена украшали стены интерьера. Тысячи свечей освещали внутреннюю часть храма. В этой огромной оскверненной церкви, где было холодно, как в погребе, и где ноябрьская сырость паром оседала на стенах, пировали, или вернее, пытались пировать, семьсот человек: пятьсот депутатов и двести гостей, в числе которых были испанский адмирал Мазаредо и руководитель Польского восстания 1794 года Тадеуш Костюшко. Парижская газета «La Publicite» от 17 брюмера сообщала: «В верхнем конце стола восседал президент Совета старейшин, посредине, справа от него — президент Директории, слева — генерал Моро, возле него — Люсьен Бонапарт, президент Совета пятисот, и рядом — его брат, генерал Наполеон Бонапарт. Люсьен предложил тост “за французских Сципиона и Фабия”. Бонапарт, поднимая свой бокал, воскликнул: “За единство всех французов!” Этот тост был уже правительственной программой. А Моро выпил “за всех преданных друзей республики”. Между тем церемония выглядела одинаково грандиозно и холодно. Все чувствовали канун великой политической драмы. Отсутствие Журдана, Ожеро, Бернадота бросалось в глаза. Бонапарт ел мало, едва дотрагиваясь до яств, вероятно, опасаясь отравления. Он встал из-за стола одним из первых, прошелся вдоль огромного стола, безмолвно подбадривая друзей, и вскоре скрылся через боковую дверь, уводя с собой своих адъютантов и увлекая Моро».
На следующий день дома у Бонапарта, на ул. Шантерен, за обеденным столом собрались Моро, Журдан и Бернадот. Бонапарт изложил свои намерения:
— Я хочу избавить республику от тех, кто так плохо руководит страной.
— В этом, — заявил Журдан, — мы все вас поддержим. А что потом?
— Да, да, что потом? — настаивал Бернадот. Только один Моро не произнес ни слова.
— Рассчитывайте на меня… — ответил Бонапарт.
* * *
К этому времени Сийесу удалось обеспечить положение, при котором самые консервативные члены Директории — Гойе и Мулен — не смогли бы образовать кворума из трех директоров, необходимого для принятия исполнительного решения. Многие колеблющиеся перешли на сторону заговорщиков, когда 8 ноября 1799 г. сам Моро бросил свою шпагу на чашу весов: «Я устал от ига этих адвокатов, которые губят республику; предлагаю вам поддержку для ее спасения». Бонапарт с облегчением стал благодарить его, но достойный воин повернулся и ушел, не дав ему докончить пышные и не совсем искренние фразы. «Трудности его взаимоотношений с генералом Моро — наиболее серьезным соперником в народной популярности, — писал Дэвид Чандлер, — были еще впереди, но пока отношения эти складывались удачно».
* * *
Подробности переворота 18 брюмера хорошо известны; напомним только, что Моро поддержал Бонапарта в этот критический момент, а вот Бернадот, как и предсказывал Наполеон, отказался.
Дело было так. Утром 18 брюмера Моро находился в составе группы генералов, которая сопровождала Бонапарта в Совет пятисот. В приказе по войскам парижского гарнизона, отданным в этот день, Ланн был назначен начальником караула в Тюильри, Серюрье — в Пуан-дю Журе, Мармон — в Военном училище, Макдональд — в Версале, а Мюрат — в Сен-Клу. Что касается Моро, то ему был поручен самый выдающийся пост, а именно начальника караула в правительственной резиденции. Моро рассуждал, что если Бонапарт станет государственным деятелем предстоящей революции, то его самого, несомненно, сделают полководцем нового правительства. Чувствуя себя польщенным почетным назначением на выдающийся доверенный пост, каким являлось в данную минуту командование войсками в Люксембургском дворце, он охотно туда отправился. Но проза жизни оказалось несколько иной, чем он ее себе представлял. Жан-Виктор слышал, как Наполеон произносил свою знаменитую краткую речь. После этого Бонапарт вышел и обратился к Моро: «Генерал, я приказал прибыть сюда 300 солдатам из 96-й полубригады. Возьмите их, окружите Люксембургский дворец и держите под домашним арестом директоров Гойе и Мулена до тех пор, пока эти два упрямца не подадут мне прошение об отставке».
Как только 300 человек прибыли, Бонапарт представил их Моро: «Вот ваш командир. Я не смог выбрать для вас более достойного».
«Он нам не нужен, — воскликнули солдаты, — этот человек не патриот».
Бонапарт был вынужден их успокоить, отчитав за предвзятую подозрительность. Солдаты были людьми Ожеро. Вполне понятно, что им не нравился бывший друг Пишегрю.
В конце концов, они успокоились и последовали за Моро. Люксембургский дворец был блокирован. Из вежливости генерал Моро захотел лично вручить Мулену и Гойе ордер на их арест, содержание которого тех поразило. Сначала Моро явился к Мулену. Тот принял его в приемной и сказал: «Итак, генерал, вы теперь выполняете функции жандарма?» После чего, хлопнув дверью перед носом посетителя, вернулся в свои апартаменты.
Для Моро это было уже второе оскорбление в течение дня. Чтобы избежать третьего, Моро не колебался в апартаментах Гойе. Солдаты бесцеремонно наводнили дворец, ходили по всем комнатам, заколачивали входы, запирали двери на задвижки. Гойе и Мулен написали и отправили советам протест, само собой перехваченный по дороге. После этого их еще более стеснили: лишили общения между собой и запретили разговаривать. Часовой, приставленный к Гойе, не отставал от него ни на шаг. «Вечером, — писал бедный негодующий президент, — он хотел остаться возле моей кровати и сторожить даже мой сон». Внизу заперли большую входную дверь, открывавшуюся наружу, что завершило тюремный вид директорского дворца, превратившегося в арестантский дом. Солдаты строжайшим образом выполняли приказ никого не впускать и не выпускать, не делая исключения даже для лиц, желавших говорить с их начальником. Приходили генералы, офицеры; ответ всем был один и тот же: Entrée interdite — «вход воспрещен».
— Но ведь мы депутаты. — Вход воспрещен. — Позвольте, по крайней мере, расписаться у привратника. — Вход воспрещен. — Могу я видеть генерала Моро? — Вход воспрещен. Моро не смел сойти с места и, казалось, был несколько смущен навязанной ему ролью. Сторожа своих пленных, он сам был пленником этих людей.
Выполняя роль тюремщика в Люксембургском дворце, Моро тем самым не участвовал в завершающей части государственного переворота на следующий день. Он не видел, как гренадеры генерала Леклерка входили в оранжерею Сен-Клу и выгоняли оттуда членов Совета старейшин. Не интересуясь событиями за пределами Люксембургского дворца, он весь день упорно курил свою трубку и лишь вечером наконец лег и уснул в тяжелой атмосфере табачного дыма, отравившего все соседние комнаты.
Что бы ни писали в своих мемуарах герцогиня д'Абрантес и Баррас, Моро не стыдился и не раскаивался в той незавидной роли, которую ему пришлось сыграть по поручению Бонапарта. Он ненавидел режим Директории и полностью положился на преданность идеалам республики молодого корсиканца.
В 3 часа утра 19 брюмера власть во Франции перешла в руки трех консулов: Сийеса, Роже Дюко и Бонапарта. На заре нового дня Наполеон отправил своего брата Луи с приказом об освобождении бывшего директора Гойе. Мотивом такой поспешности, как полагают, было желание Бонапарта самому поскорее занять Люксембургский дворец. Моро безоговорочно выполнил приказ своего шефа, и в тот же вечер Бонапарт переехал во дворец.
Так республиканский генерал Моро, сам того не подозревая, способствовал установлению новой политической власти — единоличной власти Наполеона.
* * *
Между тем после брюмера все шло хорошо. Взаимопонимание двух генералов было полным. Моро часто обедал на улице Шантерен, которая стала называться улицей Победы и где жили Бонапарт и Жозефина. В «Монитере» даже сообщалось, что Моро собирается жениться на одной из родственниц Бонапарта.
Речь шла о сестре Первого консула — красавице Каролине — женщине с перламутровой кожей.
То, что Каролина Бонапарт вышла замуж за Мюрата, лишь только подтверждает тот факт, что Моро, шокированный публичной манерой сватовства, не дал хода этому делу.
* * *
Достигнув власти, Наполеон прежде всего позаботился об армии. Успех государственного переворота обуславливался в значительной степени также и участием, которое принял в нем генерал Моро. В. Слоон пишет: «Означенное участие приходится, по-видимому, объяснить личными честолюбивыми замыслами этого генерала. Надо полагать, он думал, что единственный его соперник на военном поприще, а именно Бонапарт, сойдет со сцены, сделавшись главой государства». Действительно, в плане предстоящей кампании генералу Моро предоставлялось командование главной французской армией, предназначавшейся для операций на центральноевропейском театре военных действий. В состав ее входили две армии: прежняя Рейнская и Швейцарская, усиленная дополнительными подкреплениями. Сама она получила название Рейнской армии. Генерал Массена, смягчивший своими блестящими победами в Швейцарии тяжелое впечатление, вызванное предшествовавшими поражениями французских армий в Италии, был назначен главнокомандующим войсками, носившими прославленное битвами при Лоди, Арколе, Кастильоне и Риволи имя Итальянской армии. Первый консул как будто совершенно отказался от лавров полководца, чтобы всецело стать государственным деятелем. К тому же новая конституция не позволяла главе государства быть верховным главнокомандующим. Уже цитированный нами В. Слоон вспоминает: «Властолюбивому и завистливому, но благоразумному Моро предоставлено было распоряжаться по собственному усмотрению на главном театре военных действий, а Массена, выказавший уже свои блестящие способности на швейцарском театре войны, заступил теперь место прежнего своего победоносного главнокомандующего». Кроме того, существовала еще и третья армия, формирование которой осуществлялось в Дижоне скрытно под неусыпным оком Бертье. Эта армия называлась Резервной и состояла из новобранцев, зачислявшихся в кадры, составленные из отборных ветеранов. Отдельные части этой армии собирались в различных пунктах, оставаясь при этом как бы разрозненными. Вместе с тем организация, обучение этих частей и приведение их в боевую готовность производилось незаметно. Большинство подразделений Резервной армии формировалось на территории Франции и было готово выступить в поход по первому приказанию. Главная квартира этой армии размещалась в Дижоне, но некоторая часть войск была выдвинута в район Женевы, чтобы «поддерживать в Швейцарии уважение к французскому имени».
Следует заметить, что французский народ желал мира, а не войны. Список талантливых администраторов, назначенных правительством первого консула, сам по себе служил уже доказательством, что управление внутренними делами во Франции будет осуществляться надлежащим образом. Качественная реорганизация армии позволяла в свою очередь прогнозировать, что предстоящая война закончится для Франции почетным миром. Однако необходимо было сделать такой шаг, который поселил бы у французов убеждение в том, что их первый консул одушевлен самыми миролюбивыми стремлениями. По возвращении Бонапарта из Египта обстоятельства сложились таким образом, что ему оказалось нетрудно найти решение и этой задачи. Русский император Павел I был возмущен политикой английского короля Георга III за то, что русским войскам, включенным в Алькмаарскую капитуляцию, был оказан весьма холодный прием в Англии и что их фактически держали почти как под домашним арестом на Британских островах Джерси и Гернси. Русский государь рассчитывал стать гроссмейстером Мальтийского ордена, и когда вслед за тем англичане осадили Мальту, он был готов обвинить Великобританию в измене. Еще сильнее было недовольство Павла Австрией. Часть русских войск, как мы уже упоминали, под командованием Римского-Корсакова была разбита по вине австрийцев близ Цюриха 25 сентября 1799 года. Суворов, с другим крылом армии, был тогда полным хозяином Пьемонта и, в соответствии с предписаниями своего монарха, пригласил короля Карла Эммануэля IV вернуться из Сардинии в Туринский дворец. Австрийский эрцгерцог Карл, одержав в июне 1799 г. победу над Массеной в первом бою под Цюрихом, ушел со своими войсками из Швейцарии в Центральную Германию и оставил русских на произвол судьбы. Император Франц, в свою очередь, стремился завладеть всей Северной Италией, а потому, не желая возвращения туда Савойского дома, предписал Суворову немедленно передислоцироваться в Швейцарию и идти на соединение там с русскими войсками. Однако наш полководец обнаружил, что австрийцы не сделали никаких приготовлений для перехода его армии через перевал Сен-Готард. Отсутствие мулов для перевозки артиллерии и обоза серьезно затрудняло его движение и обусловило в такой же степени, как и энергичные действия французов, неудачу швейцарского похода. Сам Суворов приписывал эту неудачу равнодушию или, скорее, недоброжелательности австрийцев. Суворовские войска, которым приходилось переходить через вершины Альп, занесенные снегом, и дикие ущелья из одной долины в другую, терпели жесточайшую нужду, вследствие неудовлетворительной организации обозов, и понесли большие потери. Положение их казалось совершенно безнадежным, когда выяснилось, что Римский-Корсаков, к которому они шли на соединение, был разбит и вынужден уйти из Швейцарии. Суворов, без артиллерии, боеприпасов и продовольствия, окруженный со всех сторон победоносными войсками Массены, с трудом проложил себе путь на восток. Остатки русского отряда собрались в г. Куре, откуда проследовали в баварские пределы. И тем не менее Массена впоследствии говорил с завистью, что «отдал бы все за один швейцарский поход Суворова». Император Павел был взбешен результатами кампании. Суворов получил приказ вернуться в Санкт-Петербург. Царь потребовал, чтобы всем итальянским монархам были возвращены их престолы и чтобы, в доказательство искренности австрийской политики, Тугут был уволен в отставку. Тем временем до Павла дошло, что по взятии Анконы соединенными австрийскими, русскими и турецкими силами его собственный штандарт, поднятый над крепостью, был снят и над ее стенами оставлено лишь одно австрийское знамя. Восторженный энтузиаст, жаждавший снискать себе славу царственного великодушного рыцаря, признал такой поступок австрийцев кровной обидой для себя и принял решение в декабре 1799 г. выйти из коалиции. Бонапарт тотчас же воспользовался этим благоприятным обстоятельством и оказал ему честь, отпустив на родину 6000 русских пленных со знаменами и с полным вооружением. Этот благородный поступок Бонапарта повлиял на настроения Павла Петровича, который проникся восторженным сочувствием к первому консулу и его проектам, включая разработку плана совместной франко-русской экспедиции в Индию. Он даже установил бюст Бонапарта в Зимнем дворце и всякий раз, проходя мимо, приветствовал его словами: «Вот великий человек!» С выходом России из коалиции единственными грозными противниками Франции оставались Англия и Австрия.
Глава IV. ДВА ЯБЛОКА РАЗДОРА
В знак признания услуг, оказанных первому консулу в день 18 брюмера, Бонапарт назначает младшего брата Моро — Жозефа членом Трибуната, который до этого исполнял должность мелкого окружного судьи в Бретани.
Когда об этом назначении было объявлено в «Мониторе», Моро уже покинул Париж. Он мчался в Страсбург формировать новую мощную Рейнскую армию, командование которой было ему поручено сначала Директорией, а затем и первым консулом.
Фактически Моро принял командование 3 фримера VIII года (25 ноября 1799 г.). Однако он остается в Париже еще на три недели. Мы узнаем об этом из его письма к сестре Маргарите: «…милая моя сестричка, посылаю вам 6000 ливров, о которых вы просили… мне ничего не надо взамен, кроме вашей искренней дружбы…» И добавляет на полях: «через три дня я уезжаю в армию». Таким образом, Моро оставил столицу только 15 декабря 1799 г. Эти три недели он потратил на то, чтобы обеспечить всем необходимым свою новую армию — добиться финансирования, организовать поставки продовольствия и обмундирования, амуниции, боеприпасов, словом, всего того, в чем остро нуждалась Рейнская армия, созданная на бумаге еще в мессидоре VII года. Ни один из его предшественников на посту командующего — Мюллер, Ней и Лекурб — так и не смогли справиться с постоянной нуждой солдат в самом необходимом. Решение консулов придать этой армии еще и Дунайскую только ухудшило общее положение 150 000 воинов, из которых только 108 000 были готовы сразу начать кампанию.
Бонапарт дал указание новому военному министру Александру Бертье выделить Моро на нужды армии 1 300 000 франков, и когда 2 нивоза VIII года (23 декабря 1799 г.) Моро прибыл в армию, в ее штаб-квартиру в Бале, он нашел войска в самом плачевном состоянии и в полной дезорганизации. Три недели спустя Бонапарт выделил дополнительное финансирование в объеме 1 100 000 франков, а также распорядился направить французское зерно на пограничные участки демаркационной линии со Швейцарией. Таким образом, к концу плювоза полученные для армии субсидии составили 6 200 000 франков, что позволило Моро выплатить жалование личному составу и обеспечить его продовольствием на месяц вперед. Однако, по словам начальника штаба Рейнской армии генерала Дессоля, для того чтобы начать кампанию, требовалось минимум 12 миллионов франков.
* * *
Наступал рубеж веков, а с ним богатый на события 1800 год.
«Цель республики при ведении войны — это завоевание мира», — писал Бонапарт, обращаясь к Моро и в прокламации, датированной 8 марта 1800 г.; та же тема вновь повторялась для сведения народа: «Французы, вы желаете мира — и ваше правительство желает его же с еще большим стремлением; но для достижения мира нам нужны деньги, сталь и люди».
Растущая централизация высшей власти в лице первого консула уже давала свои ощутимые результаты в организационном плане. Она имела огромное значение для стратегического планирования общевойсковых операций и для ведения войны в целом. Впервые Бонапарт имел возможность полностью проявить свой военный гений. Он мог предписывать «тип войны, которую должна вести каждая армия… определял роль каждой части», тем самым обеспечивая наиболее рациональное использование ресурсов, находившихся в распоряжении государства. Правда, в последующие месяцы реальность его власти все-таки была несколько меньше ее внешних атрибутов. Однако, несмотря на это, Бонапарт отныне стал, по меткому выражению Д. Чандлера, «настоящим Generalissimo», т.е. верховным главнокомандующим, и мог наиболее выигрышно и эффективно координировать военные усилия Франции.
С момента триумфа Массены во второй битве при Цюрихе военная инициатива перешла в руки французов. Еще задолго до окончательного крушения мирных переговоров Бонапарт разрабатывал альтернативные планы, ставившие целью военное поражение Австрии и возврат всех французских завоеваний в Италии, утраченных в 1799 году. Он намеревался при необходимости добиться быстрой, решающей победы посредством стратегического наступления; он был твердо настроен избегать повторения длинного ряда операций, подобных тем, что он предпринял в Италии четырьмя годами ранее. Сейчас же, в 1800 году, германский и итальянский фронты должны будут иметь более тесную координацию, чем прежде, и будет максимально использована бесценная стратегия центрального положения, которое создавала Швейцария. Победа должна быть завоевана в результате масштабных концентрических наступательных действий, рассчитанных на нанесение удара по тылу, вынуждающего противника либо принять сражение, либо капитулировать.
Первый план кампании 1800 года был сформулирован еще в декабре 1799 года. В нем Бонапарт намечал, что Германия станет главным театром войны. Это было логичным решением, так как в Германии дислоцировалась самая большая неприятельская армия и через эту страну пролегал кратчайший путь к Вене, после того как будут устранены препятствия на Дунае и в Шварцвальде. «Обладание Швейцарией давало нам возможность зайти в тыл операционных направлений противника в Италии и в Швабии. Моей первой мыслью было оставить армию Массены в обороне на Апеннинском полуострове, а Резервную и Рейнскую армии направить в долину Дуная. Конституция VIII года не позволяла консулу лично командовать армией; поэтому моим намерением было передать командование Резервной армией заместителю и оставить главную армию под командованием Моро; но, следуя за штабом последнего, я мог бы координировать действия обоих. Я желал, чтобы Моро переправился у Шафхаузена, нанес удар по генералу Краю с тыла и оттеснил его в угол между Рейном и Майном, отрезав от Вены; другими словами, чтобы он выполнил против левого фланга австрийского генерала ту же операцию, которую пять лет спустя я провел против правого фланга Мака у Донауверта; после этого мы могли бы беспрепятственно двигаться по Австрии, чтобы в Вене возвратить себе Италию…», — вспоминал Наполеон.
Некоторые военные историки оспаривают подлинность последующих объяснений бароном Жомини первоначальных намерений Наполеона. Они утверждают, что с самого начала Италия была предназначена для Резервной армии. Одна выдержка из Correspondence de Napoleon I-ier (Paris: 1858), Vol. XXX, p. 399, особенно подтверждает этот взгляд. Резервной армии предстояло «двинуться на помощь Рейнской армии, если возникнет такая необходимость, затем позднее выйти через Швейцарию на рубеж р. По, чтобы нанести удар в тыл австрийской армии». При первом прочтении действительно может показаться, что приоритет отдается итальянскому фронту, но более вероятным можно считать, что такая формулировка данной фразы рассчитана на тактический намек, а именно, Резервная армия не должна без приказа вмешиваться в проводимые Моро главные операции, за исключением случаев форсмажорных обстоятельств.
Генерал Моро получил массу инструкций, детально регулирующих выполнение этого плана. Бонапарт думал о славе, а Моро — о людях и о спасении республики. В своих посланиях к Моро Бонапарт обращается к генералу если не как к заурядному капралу, то как к командиру роты капралов. Вот выдержки из некоторых приказов, адресованных генералу Моро первым консулом: «Военный министр сообщил мне, что вы, гражданин генерал, направили ему доклад о состоянии армии на 20 нивоза. Я не могу принять ни одно из ваших предложений, так как они давно устарели. Прошу вас направить мне точную численность личного состава, а также проект новой организации армии, о которой вы говорили министру…» Далее в Инструкции по составу дивизий Рейнской армии от 26 плювоза VIII года Бонапарт пишет: «Я желаю, чтобы вы сформировали дивизии по следующему принципу: в наиболее сильных дивизиях вам надлежит иметь четыре полубригады и одну легкую; в слабых — только четыре. Каждая дивизия должна иметь не более двух бригадных генералов и одного генерал-адъютанта. Наиболее сильные — на одного бригадного генерала или генерал-адъютанта больше. Вам надлежит также придать каждой дивизии максимально возможное количество кавалерии, минимум один полк гусаров и конных егерей. Вся ваша кавалерия также должна быть разделена на дивизии, в каждой из которых по 5—6 полков и т.д.». Разве это терминология главы правительства? Сколько же терпения должен был иметь Моро, чтобы игнорировать эти придирки и несправедливости! Видя, что Моро не реагирует, Бонапарт 10 вентоза (1 марта 1800 г.) направляет ему новые инструкции по организации пехоты в соответствии с десятичной системой: «Генералу Бертье, военному министру. Прошу вас, гражданин министр, сообщить генералу Моро специальной эстафетой, что мое намерение состоит в том, чтобы вся его пехота была подразделена на 10 дивизий по 10 000 человек в каждой с образованием четырех армейских корпусов. Первый корпус из двух дивизий, общей численностью 20 000 чел. Второй корпус — из трех дивизий, общей численностью 30 000 чел. Третий корпус — из двух дивизий, общей численностью 20 000 чел. И четвертый корпус — из трех дивизий, общей численностью 30 000 чел. Всего 100 000 чел. Четвертый корпус будет называться резервным и должен находиться под командованием генерала Лекурба, и т. д…» (цитировано по General Philebert, «le General Lecourb d'apres ses archives, sa correspondance et d'apres documents», P., 1895).
Однако, как мы вскоре сможем убедиться, Моро имел свои планы по реструктуризации армии, которые полностью отвечали целям предстоящей кампании.
К 25 апреля 1800 г. численность армии Моро была доведена почти до 140 000 человек. Правым крылом командовал генерал Лекурб. В его корпус, фактической численностью 31 797 человек, входили дивизии Вандамма, Монришара, Лоржа, Нансути и артиллерийский парк. Центром командовал дивизионный генерал Гувьон Сен-Сир. Его корпус, численностью 26 356 строевых, имел в своем составе дивизии Бараге д'Илье, Тарро, Нея, Саюка и артиллерийский парк. В левое крыло, численностью 20 624 человека, под командованием Сен-Сюзана входили дивизии Коло, Суама, Леграна, Делаборда и артиллерийский парк. И, наконец, под собственным командованием Моро имелись дивизии Дельма, Леклерка, Ришпанса и одна кавалерийская дивизия. В сумме 29 400 человек. Кроме того, с учетом контингента крепостей и укрепленных пунктов, а также так называемого Гельветического обсервационного корпуса, численность армии Моро составляла 137 619 человек, включая 137 батальонов пехоты и 143 кавалерийских эскадрона.
Начальные операции должны были задержать растянутые силы барона фон Края ложной демонстрацией наступления на Шварцвальд силами одного корпуса. Одновременно остальная часть армии должна была обрушиться на австрийский тыл через Шаффхаузен и захватить его склады в Штокахе, Энгене, Месскирхе и Биберахе. При успехе этих начальных операций Моро должен был выделить корпус под командованием генерала Лекурба, для того чтобы удержать Швейцарию, соединить германский и итальянский фронты и в любых последующих операциях действовать совместно с Резервной армией. Тем временем Массена должен был удерживать внимание Меласа в области Генуи. По своему замыслу это, безусловно, был наполеоновский план. «Наведение четырех мостов одновременно в такой высокой точке на Рейне, как Шаффхаузен, даст возможность всей французской армии переправиться за одни сутки. После прибытия в Штоках французы обойдут левый фланг неприятеля, и их армия сможет атаковать с тыла все австрийские войска, дислоцированные на правом берегу Рейна среди дефиле Шварцвальда. В течение 6—7 дней после начала кампании армия подойдет к Ульму Уцелевшие австрийцы будут отброшены назад в Богемию» (Correspondance de Napoleon I-ier (Paris: 1858), Vol XXX, p. 399). После этого французы могли бы захватить перевалы через Тирольские и Карнийские Альпы и этим перерезать линии коммуникаций Меласа; при необходимости Резервная армия затем могла бы продвинуться в Италию, завершая полную победу на обоих фронтах, и австрийскому правительству пришлось бы признать свое поражение и принять мир, продиктованный первым консулом, — другого выхода не было.
* * *
Наполеон направил генерала Массену принять командование Итальянской армией и по этому поводу издал общий приказ, который существенно укрепил моральный дух войск. Массена пользовался заслуженным авторитетом в солдатской среде; и после его прибытия в Геную даже дезертиры начали возвращаться под знамена своих полков. Одновременно Бонапарт приказывает генералу Моро, как мы уже упоминали, принять командование двумя корпусами, дислоцированными в долине Дуная и в Швейцарии, и сформировать из них так называемую Рейнскую армию. И, наконец, Резервная армия должна была сосредоточиться в районе Дижона, заняв тем самым центральное положение, при котором как Массена, так и Моро могли быть поддержаны и усилены в зависимости от сложившейся обстановки, что послужило бы основой для достижения главной цели — успеха операции в целом.
К этому времени Бонапарт совместно с Карно разработал самый смелый и самый искусный план всех военных кампаний. А так как выполнение последнего зависело и от самого Наполеона, то план оказался на редкость удачным.
Вторая Итальянская кампания началась.
Бурьен вспоминает: «Поставив Моро во главе 150 000 армии, без сомнения самой многочисленной и наиболее дисциплинированной армии республики, Бонапарт превозмог в себе чувство личной зависти. Репутация этого генерала была почти равна его собственной, а боевые успехи доказали незаурядные полководческие таланты Моро. Первый консул думал только об одном — как наилучшим образом добиться целей совместной кампании.
Моро, однако, был уязвлен тем, как Бонапарт относился к ответственности, возложенной на него. Моро получал депеши, приказывающие ему немедленно начать наступление на Ульм, рискуя оказаться один на один с многочисленной австрийской армией под командованием генерала Края и оставляя тем самым незащищенной протяженную границу с Францией. Кроме того, Моро предписывалось отрядить 15 000 корпус его лучших войск для перехода через перевал Сен-Готард в качестве подкрепления Итальянской армии Бонапарта. Одновременно Моро вменялось в обязанность ни в коем случае не допустить проникновения Края в Италию через Тироль. В этих обстоятельствах генерал, имеющий над собой такого начальника, вынужден был проявлять большую осторожность, чем та, которая соответствовала гигантским замыслам ничем не скованного Наполеона. Хотя следует признать, что Моро имел репутацию скорее осторожного, чем отважного командира».
Здесь невольно вспоминаются слова генерала Ламарка, сказанные им в отношении Моро: «Я часто видел, как он, не задумываясь, совершал благородные поступки, совершенно не придавая этому значения, как если бы это было само собой разумеющееся».
* * *
Именно в этой кампании наиболее ярко проявилась «великая тактика Наполеона» и оправдала себя разработанная им система армейских корпусов, которую по праву можно считать «секретным оружием Наполеона». Остановимся на этих элементах наполеоновской стратегии и тактики чуть подробнее.
Со стратегической точки зрения Наполеон предпочитал «la manoeuvre sur les derhers» — или широкий охват, при наличии у него превосходящих сил и, напротив, при превосходстве противника — использовал хорошо отработанный маневр, основанный на центральном положении. При этом он пытался разделить своих оппонентов на части, а затем с превосходящими силами обрушиться на каждого в отдельности и одержать, таким образом, двойную победу.
Стратегия центрального положения была далеко не нова. Так, еще в апреле 1796 г. Бонапарт построил начальную фазу своей первой кампании в качестве главнокомандующего на тех же принципах, которые намеревался применить сейчас. Метод состоял в максимальной внезапности, скорости и точно скоординированном маневре с задачей сведения к минимуму недостатков, связанных с необходимостью вести боевые действия с численно превосходящим противником. Так было всегда в его искусстве ведения войны, когда Наполеона численно превосходили, либо когда Бонапарт настаивал на смелом перехвате инициативы у противника. В 1796 г. диспозиция его войск была неудачной — с тылом, примыкающим к Средиземному морю, и с минимальным оперативным пространством на узкой равнине Лигурийского побережья. Его войска находились перед лицом двух неприятельских армий — пьемонтской и австрийской, которые, вместе взятые, численно значительно превосходили французскую и, более того, занимали все господствующие высоты горной гряды, тянувшейся вдоль побережья. Сейчас же, в 1800 г., армии первого консула не были столь неудачно расположены с географической точки зрения. Перед началом военных действий в первые месяцы 1800 г. линия французских позиций в Италии тянулась от Генуи вдоль берега через Савону к Тендскому горному проходу. Ее занимала тридцатитысячная армия Массены, и, кроме того, 10 000 человек охраняли проходы в Альпах. Перед этой линией стояла австрийская армия численностью 80 000 человек под командованием Меласа, полководца старой школы, воспитанного на уважении к мелочным формальностям и традиционным правилам, и, кроме того, связанного по рукам и ногам распоряжениями венского гофкригсрата. В укрепленных городах Тосканы, папских владений и Пьемонта разбросано было еще до 20 000 французских солдат. На Рейне стоял Моро с армией по разным оценкам в 120 000—150 000 строевых против столь же многочисленной австрийской армии, которой командовал генерал барон фон Край, являвшийся еще менее способным полководцем, чем Мелас. Имперская армия была расположена вдоль линии от рейнских водопадов до Кинцига, имея главную штаб-квартиру в Донауэшингене. Лучший из австрийских полководцев эрцгерцог Карл (впоследствии крестный отец дочери Моро) оставался не у дел. Впечатлительный эпилептик, он чувствовал себя оскорбленным постоянным и неуместным вмешательством венских штабистов в его распоряжения и временно числился в отпуске. Император Франц и его министры выработали следующий план военных действий: они рассчитывали оттеснить численно слабую армию Массены, а затем, с помощью английского флота (прибывшего к берегам Италии в марте 1800 г. под командованием адмирала Кейта), овладеть Генуей, заставив Массену перейти к глухой обороне. Затем планировалось перейти через реку Вар и, соединившись в Провансе с роялистами под командованием Пишегрю, только что бежавшего из Гвианы, заручиться таким численным перевесом, который позволил бы австрийской армии вторгнуться во Францию, пока Край будет удерживать перед собой армию Моро.
Но вернемся к стратегии центрального положения Наполеона. Она состояла в дислокации французской армии (меньшей по численности) на такой позиции, в которой она могла сражаться и разгромить приблизительно равные по численности неприятельские войска по очереди, с достаточным местным перевесом сил, необходимым для обеспечения успеха на каждом последующем поле боя. Конечно, легко сказать, чем сделать, но практический гений Наполеона и его, выражаясь современным языком, компьютерный ум идеально подходили для того, чтобы предпринять инициативу, которая позволила бы победить большинство полководцев того времени. Для достижения успеха необходимы были две важнейших предпосылки — внезапность и секретность. Если бы неприятель смог предугадать его намерения, то он бы сосредоточил все свои силы и противопоставил бы единый фронт атаке Наполеона. Французское нападение, следовательно, должно было проводиться внезапно. В равной степени было важно не допустить, чтобы противник имел точные сведения о численности противостоящих ему французских войск.
Наполеону, следовательно, нужно было концентрировать свои войска в обстановке максимальной секретности и выбирать правильное место и время атаки. Для точного выбора последних он полагался на достоверную информацию и военную разведку — шпионов, патрулей, перехваченную вражескую корреспонденцию и донесения. Для обеспечения скрытной передислокации собственной армии непосредственно перед нанесением удара он использовал естественные укрытия местности — горные гряды, долины рек и леса, а также постоянно перемещающиеся кавалерийские завесы, чтобы сбить неприятеля с толку относительно действительного места предполагаемой атаки.
Цель Наполеона в такой операции, следовательно, состояла в перехвате инициативы с самого начала с тем, чтобы занять центральное положение между неприятельскими силами, из которого он мог бы разгромить противника по частям. Для достижения этой цели требовалась очень точная координация всех передислокаций войск. Французская армия в такой кампании была организована следующим образом: кавалерийская завеса (являющаяся авангардом), два крыла (каждое состоящее из нескольких корпусов — все на дистанции, позволяющей оказать взаимную поддержку) и резерв, находящийся несколько позади основных войск. Кавалерии в авангарде отводилась в основном разведывательная роль сбора донесений о точном месторасположении главных сил неприятеля и доставки этих сведений в штаб армии.
Как только эти сведения были нанесены на карту, Наполеон отдавал приказ командующим каждым крылом атаковать ближайшего к нему неприятеля, независимо от первоначальных планов. Таким образом, начинались два боевых столкновения, зачастую отстоящие друг от друга за многие мили.
Для того чтобы понять, что последует далее, необходимо оценить качество и степень организации французского армейского корпуса, которое можно описать как секретное оружие Наполеона.
Хотя отдельные корпуса существенно отличались друг от друга по численности, они имели одну общую черту: каждый представлял собой сбалансированную силу, состоящую из пехоты, кавалерии и артиллерии с обозом и штабом, т.е. на самом деле представляли собой миниатюрную армию. Следовательно, несмотря на недостаточную численность, такие силы, действуя по отдельности или вместе, могли за короткий промежуток времени объединиться в группировку, которая по численности могла в несколько раз превосходить численность отдельного корпуса. Позднее, в 1809 г., в письме к своему приемному сыну Евгению де Богарне, Наполеон напишет: «…корпус в 25 000 — 30 000 человек может действовать самостоятельно. При умелом управлении он может принять сражение либо избежать его… неприятель не заставит его принять бой, но если корпус решится на сражение, то он в состоянии действовать самостоятельно в течение длительного времени». Именно в этом состоял основной секрет военного искусства Наполеона: он мог использовать такие самостоятельные корпуса для выявления сил противника, в то время как сам с оставшимися силами осуществлял подготовку к нападению и уничтожал оппонента.
Армейский корпус мог, следовательно, самостоятельно передислоцироваться, существенно облегчая движение по дорогам, живя за счет сельской местности, распределяя тем самым нагрузку по тыловому обеспечению на значительном расстоянии. Это было одной из причин, позволявшей французам быстро перемещаться с места на место при ведении кампании.
Значение системы армейских корпусов в стратегии центрального положения теперь становится более понятным. Наполеон, внезапно войдя в боевое соприкосновение с противником, мог использовать небольшую часть от общего числа своих войск для того, чтобы связать и отвлечь внимание неприятеля, все еще обладавшего боевой силой. Затем, удерживая инициативу, он мог выдвинуть свой резерв и, если необходимо, часть крыла с тем, чтобы организовать местное превосходство в силах на том или ином поле боя. Далее, разгромив первого оппонента, Наполеон оставлял небольшой контингент для преследования разбитых войск неприятеля и совершал контрмарш с оставшимся крылом и резервом, повторяя то же самое на другом поле боя. Естественно, точный расчет времени имел существенное значение. Если слишком много времени пройдет до того, как резерв передислоцируется ко второму полю боя, то свежее французское крыло может оказаться отрезанным, так как неприятель предпримет наступление с целью охвата французских тылов. Однако Наполеон рассчитывал время так, что при условии, если он сможет поддержать командующего своего крыла в течение 24 часов с момента начала сражения, то его план непременно удастся. Здесь следует заметить, что Наполеон был скорее практиком войны, чем ее теоретиком. Им при жизни нигде последовательно не была сформулирована ни его стратегическая доктрина, ни концепция тактических приемов. За него это сделали другие. Клаузевиц и Жомини были первыми, кто облек его систему войны в стройную и понятную концепцию.
Что касается Моро, то его тактику и стратегию отличала большая методичность и обоснованная осторожность. Он был храбр, но иногда ему не хватало решительности. Вместе с тем, говоря о кампании 1800 г., Дельбюк писал: «Современники не могли еще установить различие в существе достижений Моро и Бонапарта. Правда, говорили о какой-то итальянской и какой-то немецкой “школе” стратегии (имея в виду, что Бонапарт командовал французской армией в Италии, а Моро — в Германии)… — однако не могли еще распознать ни истинной природы противоречия между ними, ни абсолютного превосходства одной “школы”, т.е. личности, над другой». Век спустя французский историк Лор де Сериньян в своей работе «Наполеон и великие генералы Революции и Империи», опубликованной в 1914 г., то есть уже значительно позже фундаментальных работ Клаузевица и Жомини, сравнивая “итальянскую” и “немецкую” школы военного искусства, ставит Моро если не выше, то, по крайней мере, на уровне Бонапарта. Понятно, что историку, очарованному харизмой Наполеона и вековым забвением Моро, очень трудно оказаться в позиции непредвзятого судьи. Тем не менее такие люди находились, и, на наш взгляд, они были правы — так как на рубеже веков, а именно в конце 1800 г., Бонапарт и Моро были равноценными генералами, причем победы последнего, как мы увидим ниже, были знаковыми для судеб Франции периода революционных войн.
К началу второй итальянской кампании всем действующим главным армиям было приказано принять систему армейских корпусов. В принципе это нельзя было считать нововведением, так как революционные генералы, в том числе Моро, уже пробовали внедрять эту систему, но сейчас был случай ее всеобщего применения. Каждый французский корпус содержал элементы всех родов войск и был способен вести самостоятельные боевые действия с численно превосходящими силами противника в течение определенного времени. Каждый корпусной и дивизионный командир имел свой штаб, включающий, во всяком случае, в более крупных частях, представителя генерального штаба, исполняющего роль связующего звена.
Имея в виду, что Моро не спешил раскрывать Наполеону свой план наступления, Бонапарт намеревался предложить ему собственный план и даже хотел приехать в Рейнскую армию, чтобы наблюдать за его исполнением. «Вполне возможно, — писал первый консул генералу Моро, — я буду у вас через несколько дней…» На что Моро отвечал: «Я поведу в бой только ту армию, которую я сформировал лично и, которая будет действовать в соответствии с моей диспозицией, так как я считаю, что лучше всего исполняются планы, которые ты сам разработал».
Бонапарт имел мудрость не настаивать на своем намерении. Теперь, когда на нем лежало бремя ведения крупной европейской войны, единственным препятствием оказывались таланты генерала Моро и несговорчивый гордый характер этого полководца. «С проницательностью истинного гения, — пишет авторитетный английский историк Дэвид Чандлер, — Бонапарт сразу же правильно оценил взаимное положение Австрии и Франции и, отбросив мелочные придирки, решил предоставить Моро полную свободу действий». В соответствии с первоначальным планом Бонапарта французская армия, разбив Края, могла дойти до Вены и заставить Австрию подписать мир, прежде чем Мелас успеет что-либо предпринять в Италии. В этой связи Бонапарт намеревался собрать у Шаффгаузена отдельные части Резервной армии, которую удалось организовать в обстановке строгой секретности, и под прикрытием Рейна соединиться с Моро, а затем, пользуясь существенным превосходством в силах, обойти Края с левого фланга, отрезать ему пути отхода и атаковать его армию с тыла, а затем взять в плен или уничтожить. Одержав, таким образом, полную победу над Краем, можно было бы перейти с частью армии через Альпы и, атакуя австрийские войска в Италии с тыла, поставить их в безвыходное положение даже и в том случае, если бы им удалось перед тем одержать верх над армией Массены. Эта грандиозная комбинация сама по себе уже доказывала гениальность своих авторов — Бонапарта и Карно. В ней приведены следующие пять великих стратегических принципов: единство наступательного движения по одной операционной линии; целью действия избирается главная неприятельская армия; операционная линия направлена неприятелю во фланг и тыл; охват производится того крыла, через которое проходит главная линия коммуникаций противника; и, наконец, собственные пути сообщения оказываются надежно защищенными.
Проект Наполеона оказался, однако, слишком грандиозным для того, чтобы его можно было применить при тогдашних условиях. Моро не соглашался играть второстепенную роль, а Бонапарт как нельзя лучше сознавал свое политическое положение недостаточно упроченным для того, чтобы ссориться с таким влиятельным соперником. Этот проект Наполеона будет блестяще исполнен им самим несколько лет спустя. Теперь же Моро, считая себя лучшим полководцем республики, не желал пользоваться советами первого консула, даже относительно организации переправы через Рейн.
«Ответственность за неисполнение первоначального плана кампании почти полностью ложится на генерала Моро, — пишет Д. Чандлер. — Несмотря на все свои способности и хладнокровие, он был слишком осторожен по темпераменту и выучке, чтобы провести такую мощную и, по его мнению, опасную серию операций. Безусловно, часть его возражений продиктована и чувством личного соперничества. Он был старше и ему совсем не улыбалось подчиняться приказам молодого корсиканского ловкача”. Вот что вспоминал по этому поводу сам Наполеон: “Было невозможно преодолеть упрямство Моро, желавшего играть какую-нибудь блестящую роль от своего имени. Вначале он отказался быть моим заместителем, если бы я прибыл в его армию, затем он стал возражать против моих планов, утверждая, что переправа у Шаффхаузена опасна”. Моро считал, что маневрировать и прокормить армию на столь ограниченном пространстве невозможно, и, нарушив план Бонапарта, нанеся этот удар по ключевой идее его стратегии, спокойно предложил, чтобы тот “следовал принципам прежних кампаний” и переправился бы через Рейн в четырех удаленных друг от друга пунктах. Этим предложением он хотел перечеркнуть концепцию первого консула — мощного удара по рейнскому выступу, — заменив ее на стратегию широкого фронта с некоторым усилением правого фланга, так как два корпуса он все-таки согласился переправить у Шаффхаузена. Удивительно, что Бонапарт как бы сквозь пальцы посмотрел на такое неповиновение Моро; во всяком случае, тон его писем оставался вполне дружелюбным».
Согласно Жомини, в последующие годы Наполеон более не скрывал своих мотивов и объяснял, почему он не снял Моро с должности командующего Рейнской армии: «Мое положение тогда было еще недостаточно прочным, чтобы идти на открытый разрыв с человеком, имевшим многочисленных сторонников в армии и которому только не хватало энергии, чтобы попытаться занять мое место. С ним необходимо было обходиться как с самостоятельной силой, какую он, собственно, и представлял в то время».
Однако в разговоре с генералом Дессолем, начальником штаба упорствующего Моро, Наполеон дал волю подавленному негодованию, заметив: «Я выполню этот план, который он не может понять, в другом месте театра войны. То, что он не осмеливается сделать на Рейне, я сделаю там, за Альпами». Бонапарт в какой-то мере был отмщен пятью годами позже, в 1805 г., когда блестяще провел Ульмскую операцию.
При таких обстоятельствах пришлось предоставить Рейнской армии полную свободу действий и ограничиться лишь присылкой ей из Парижа инструкций относительно немедленного перехода в наступление с задачей отбросить неприятеля в Баварию, за р. Лех, и прервать прямое его сообщение с Миланом через озеро Констанц и Гризон (Граубюнден). Генерал Лекурб с двадцатитысячным отрядом должен был наблюдать за горными проходами, расположенными в северной части Альпийского хребта.
В связи с необходимостью предоставить Моро полную свободу действий, Бонапарт решил перенести стратегический акцент предстоящей операции в Италию, использовав для этой цели Резервную армию. Он полагал опасным поручить командование этой армией такому талантливому генералу, как Моро, потому что одержанные с ее помощью успехи могли бы, пожалуй, пошатнуть политическое положение самого Бонапарта. Первому консулу не хотелось, чтобы единственный его соперник на военном поприще мог восстановить свою репутацию, пострадавшую, с одной стороны, вследствие подозрений в том, что Моро был причастен к заговору Пишегрю, а с другой — вследствие неожиданно принятого этим генералом участия в государственном перевороте 18 брюмера, не согласовывавшимся со всеми его прежними принципами.
В течение двух недель Бонапарт детально разработал второй план, согласно которому главным театром военных действий должна была стать Италия, а генералу Моро отводилась второстепенная роль. Во многих отношениях этот альтернативный план менее удачен, и он был совершенно не типичен для обычной наполеоновской стратегии фронтального удара, но и он отражает гибкость гения Бонапарта. По новому плану, утвержденному 25 марта 1800 года, все бремя завоевания победы больше не возлагалось на Рейнскую армию — «наилучшую армию, какую Франция не видела долгое время». Моро было поручено начать второстепенное наступление между 10-м и 20-м апреля с целью оттеснить генерала Края обратно к Ульму, чтобы обеспечить прикрытие коммуникаций Резервной армии, идущих через швейцарские перевалы. В ходе этих предварительных операций Резервная армия будет вначале прикрывать передислокации Моро тремя дивизиями, прибывшими из Дижона в Женеву и дислоцированными на расстоянии равного удара как от Шаффхаузена, так и от Сен-Готардского перевала. Остальные 30 000 солдат этой армии двинутся к Цюриху в последних числах апреля. Когда Моро оттеснит Края на расстояние десятидневного перехода и перережет австрийские коммуникации, идущие к Милану через Гризон и озеру Констанц (Боденское озеро), половина Резервной армии направится в Италию, используя Сен-Готард или Симплон, и оставит Швейцарию на остальную часть своей армии. Более опытные войска генерала Лекурба, состоящие в основном из ветеранов и выделенные из Рейнской армии, будут двигаться ускоренным маршем для соединения с Бонапартом в долине р. По. Расстояние от Цюриха до Бергамо составляет 192 мили, что при благоприятном стечении обстоятельств означает двенадцатидневный марш. Когда Лекурб преодолеет это расстояние, французы смогут обрушиться значительными силами на коммуникации Мел аса и зажать его меж двух огней: Массена — перед ним и Резервная армия — у него в тылу.
Однако представляется маловероятным, чтобы разгром Меласа был бы достаточным сам по себе для завершения войны. Ему мешали те же географические причины, что и в 1797 году: долина р. По слишком удалена от Вены, и Альпы служат защитной преградой. Так же маловероятно, чтобы Моро добился решительного разгрома Края на Дунае, и в результате этого война почти безусловно должна была бы затянуться. Другими недостатками плана было то, что новая кампания основывалась на использовании двух операционных направлений, тогда как первая схема требовала только одной оси; отрицательно сказалось на результате кампании то, что австрийская армия, выбранная для разгрома, не являлась главной силой противника; и, наконец, успех плана сильно зависел от полного взаимодействия с Моро, который должен был выделить отряд Лекурба в критический момент. Тем не менее новый план был реалистичен, смело задуман и обещал успех, даже если в нем не хватало блеска и молниеносности оригинального замысла Бонапарта. Даже Моро нехотя согласился с этим планом. Бонапарт, видя войну в целом, был намерен прорвать австрийский центр через Швейцарию, используя центральное положение резерва для того, чтобы разгромить одну из двух главных армий австрийцев.
Однако прежде чем Моро согласился на план Бонапарта, между двумя соперниками разразилась настоящая война депеш, в которых каждый настаивал на своем плане. 6 вентоза Моро представил первому консулу разработанный им план кампании в Германии, целью которого являлся полный разгром армии Края. Для выполнения поставленной задачи Моро предполагал серией маршей и контрмаршей, а также форсирования Рейна в различных пунктах, ввести Края в заблуждение относительно истинных своих намерений и заставить его оттянуть силы на тот участок Рейна, где его форсирование не предполагалось, а только имитировалось. Подобную операцию проводили многие военачальники. Не был исключением и сам Наполеон, если вспомнить переход Великой армии через Березину в 1812 году.
Моро планировал провести ложные демонстрации форсирования Рейна в районе Келя, Брайзаха и Баля, чтобы отвлечь левое крыло фон Края от Шаффхаузена, где Моро планировал переправу. Для осуществления этих операций на участке Страсбург-Майнц (нижнее течение Рейна) предусматривался армейский корпус под командованием Сен-Сюзанна, а именно 18 000 пехоты, 2000 кавалерии и 20 орудий. На левом фланге — от Страсбурга до Баля — корпус Гувьона Сен-Сира: 26 000 пехоты, 4000 кавалерии, 40 пушек. В центре сосредотачивался резерв под личным командованием Моро (со штаб-квартирой в Кольмаре): 28 000 пехоты, 7000 кавалерии, 40 пушек. Правое крыло (верхнее течение Рейна) контролировал корпус Лекурба: 28 000 пехоты, 2000 кавалерии и 40 орудий.
На полях этого плана, представленного первому консулу, Бонапарт написал: «В этом плане не только нет недостатков; более того, мы считаем, что генерал Моро произведет необходимые изменения, которые он сочтет необходимыми, для формирования армейских корпусов». Звучит лестно! Но откуда взялся этот любезный тон главы государства? Все просто: пока Бонапарт выводил свои каракули на полях этого документа, он уже знал, что собирается отобрать у Моро лучшую часть его армии — армейский корпус Лекурба, и поэтому источал лесть в адрес Моро. Но, как мы вскоре сможем убедиться, Моро никогда не расстанется с Лекурбом, ибо он верил ему, давно знал этого командира и их связывала давняя дружба — чувство, не знакомое тирану.
Возвращаясь к войне депеш между двумя соперниками, заметим, что по мере того как приближалась дата начала кампании, Бонапарт упорно продолжал навязывать Моро свой план действий. Через военного министра Бертье он сообщает Моро в письме от 10 вентоза (1 марта 1800 г.) о необходимости выделения IV корпуса (Лекурба) для оперативной поддержки Итальянской армии и защиты Швейцарии; три других корпуса должны объединиться в единый кулак на участке между Балем и озером Констанц и одновременно переправиться через Рейн в районе Шаффхаузена, отбросив Края на рубеж реки Лех. Бонапарт пишет, что он планирует прибыть в Рейнскую армию 10 жерминаля и поддержать ее Резервной армией, в настоящее время находящейся на пунктах сбора между Шалоном и Лионом (здесь Бонапарт впервые упоминает о существовании этой секретной армии). Затем, возложив на себя командование, Бонапарт тронется со всеми силами преодолевать Альпы. «Вполне возможно, — продолжает первый консул, — если здесь дела пойдут хорошо, я приеду к вам в армию на несколько дней».
Моро, полагая, что Бонапарт собирается оказать поддержку Рейнской армии, как это первоначально планировалось, направляет главе правительства галантную депешу (17 вентоза из Баля), в которой сообщает, что армия будет сконцентрирована в соответствии с его указаниями и что «я буду счастлив передать вам армию на вершине морального духа, которая, находясь под вашим командованием, добьется блестящих успехов». Бонапарт взбешен, но, так как ему пока еще нужны услуги генерала Моро, он одинаково любезно отвечает, что направил Моро 10 вентоза свой план, так как к этой дате еще не получил плана Моро. Тогда генерал пишет развернутое письмо первому консулу от 24 вентоза (15 марта 1800 г.), в котором излагает свой план стратегических операций на Рейне в предстоящей кампании. Он считает нецелесообразным концентрацию трех армейских корпусов в районе Гельвеции, на которую нельзя положиться и которая немедленно сообщит противнику о наших намерениях. Более того, форсирование Рейна в районе Шаффхаузена всей армией опасно еще и тем, что противник сосредоточил ударную группировку в этом пункте. Важно ложными демонстрациями держать неприятеля в полном неведении о месте нашей главной атаки.
Предлагаемый план Моро был не нов. Он представлял собой модифицированный вариант плана кампаний 1796 и 1797 гг. Вместе с тем его следует признать реалистичным и единственно возможным, учитывая форсирование широкой реки под огнем окопавшегося на другом берегу противника. Вместо того чтобы перебросить три новых моста через Рейн на участке от Шаффхаузена до озера Констанц, Моро предлагал использовать прекрасные предмостные укрепления, находящиеся в руках французов в Майнце, Келе, Брайзахе и Бале. 20 000 чел. форсируют Рейн в Майнце, 20 000 — в Келе и Брайзахе. Эти 40 000 солдат оттянут на себя такое же число войск противника. У Края останется только 40 000 чел. в районе Шаффхаузена, против которых Моро выставит 60 000 французов (т.е. большую часть от его 100 000 армии), тем самым обеспечив численное превосходство в районе переправы. Короче говоря, Наполеон, как истинный Лев (по гороскопу), предлагал стратегию мощного лобового удара, а Моро, как настоящий Водолей, — стратегию маневра. Обе стратегии были одинаково хороши и обе могли удаться. Все зависело от искусства исполнения и, конечно же, от Фортуны. Хотя следует заметить, что лобовой удар, всегда так выручавший Наполеона, подведет его при Ватерлоо… впрочем, пока до этого дня было еще далеко…
Итак, Моро направляет своего начальника штаба генерала Дессоля в Париж к первому консулу с задачей донести до главы государства детали разработанного плана и сообщить, что если Бонапарт отклонит его план, то Моро будет просить о назначении нового главнокомандующего Рейнской армией. Можно только представить себе ярость Наполеона, увидевшего перед собой несгибаемого человека — одинаково неподкупного и смелого. Тем не менее Бонапарт продолжал настаивать на своем плане кампании. Он в течение трех дней убеждал Дессоля, что его плану гарантирован успех, что Край будет отброшен на правый берег Леха за две недели. Благородный Дессоль отвечал Наполеону в своей обычной манере. Он признавал превосходство наполеоновского плана, однако, имея строгий наказ не уступать ни по одному пункту, отвечал: «Ваш метод ведения войны превосходит все ныне известные. У Моро есть свой, вне всякого сомнения, слабее вашего, но не менее блестящий. Позвольте ему действовать. Он выполнит свой план, возможно, медленнее, чем хотелось, но надежно, что гарантированно обеспечит исполнение ваших главных целей. Напротив, если вы будете настаивать на своем, то выбьете его из колеи, даже обидите, и не добьетесь ничего, вместо того, чтобы добиться многого». Как прав был Дессоль! Как глубоко он изучил свободолюбивую душу Моро, этого стопроцентного Водолея, его добрый характер, его медлительность, возможно, где-то лень, но вместе с тем благородство, честь, свободу от любого давления извне и главное — исполнительность! «Вы правы, — ответил Бонапарт, — пусть поступает как знает. Возможно, со временем ему придется пожалеть о славе, которую он мне оставил».
И все равно, даже после визита Дессоля Бонапарт продолжает в своих письмах терроризировать Моро. Так, в инструкциях от 1 жерминаля (22 марта 1800 г.) первый консул фактически отнимает у Моро 3 дивизии из IV корпуса Лекурба. Одна из них будет прикрывать проходы в Райнеке (Швейцария), другая должна отправиться маршем на перевал Сен-Готард и третья — в Цюрих. Об этом Моро сообщает новый военный министр Карно, сменивший Бертье, занявшего фиктивную должность командующего Резервной армии. Предписание Бонапарта лишает Моро численного превосходства над Краем и ставит под угрозу выполнение разработанного им плана. В той же депеше первый консул обозначает дату начала наступления — 20—30 жерминаля (12—22 апреля 1800 г.).
Моро начинает действовать. Он отдает приказ починить все мосты на Рейне между Балем и Шаффхаузеном. Разведка докладывает, что Край значительно подкреплен резервами в Шаффхаузене, где он ожидает главную французскую атаку. Но Моро разубеждает противника. Пусть австрийцы думают, что Моро атакует их с тыла, из района Черного леса. Атака дивизии Сен-Сюзанна в Келе отвлечет австрийские силы в долину Кинцига. Наступление Гувьона Сен-Сира в районе Брайзаха оттянет на себя австрийские части в район Валь-Данфер. И, наконец, две дивизии из резервного корпуса — Леклерка и Дельма произведут атаку вдоль оси Баль — Шлинген. Как только Край существенно ослабит свой левый фланг, правое французское крыло сосредоточится напротив Шаффхаузена. В час «X» Сен-Сюзанн и Гувьон подтянут свои дивизии и обрушатся на Края в районе Вутаха.
Этот детальный и окончательный план Моро направляет Бонапарту. Последний, в свою очередь, направляет Бертье к Моро в его штаб-квартиру в Базеле (Швейцария) для совместной координации действий Рейнской и Резервной армий. Соглашение подписано между двумя генералами 23 жерминаля. Оно войдет в Историю под названием Базельского соглашения, малоизвестного современному читателю. В соответствии с этим документом Моро соглашался отрядить пятую часть своей армии, а именно корпус Лекурба, для поддержки операций Резервной армии в Италии лишь после того, как он разобьет армию Края и войдет в Ульм.
В итоге получалось, что первый консул не отказывался от своего плана от 10 вентоза — он лишь модифицировал его.
Однако гонения на Моро на этом не прекратились. Эстафет привозит новую депешу от первого лица государства: «Рейнская армия должна начать наступление 25 апреля 1800 г.». Через Карно Бонапарт требует (24 апреля) «…издайте приказ для генерала Моро атаковать неприятеля: заставьте его почувствовать, что дальнейшее промедление компрометирует спасение Республики».
Много позднее (через сто лет после описываемых событий) в архиве Лекурба было обнаружено письмо Моро, в котором, в частности, сообщалось о секретных демаршах французского правительства на предмет возможного перемирия с австрийцами. «Мой дорогой генерал, прилагаю к настоящему письму депешу французского правительства Венскому двору, которое я направляю генералу Краю с предложением о перемирии до получения ответа, но для наших армий, полагаю, оно не будет принято».
Таким образом, время, отведенное на подготовку сложнейшей военной операции, было потрачено генералом Моро на отстаивание разработанного им плана кампании, на бесполезную борьбу с придирчивым, амбициозным и завистливым соперником в лице главы французского правительства. Этой борьбе уже не суждено будет прекратиться вплоть до жестокого урока, который преподнесет диктатору австрийский генерал Мелас при Маренго. Эта борьба еще более обострится: она станет подобием кровной мести корсиканца особенно после триумфа Моро при Гогенлиндене и с тех пор вплоть до самой смерти нашего героя не прекратится ни на минуту, не пощадив ни его самого, ни его семью.
В первых числах марта 1800 г. существование армии, державшейся до тех пор в секрете, обнаружилось отданным ей приказом передислоцироваться к Цюриху и быть готовой к переходу через Альпы. Удачные действия Массены в предшествовавшем году передали всю Швейцарию в руки французов. Швейцарская территория не была уже нейтральной, а потому имелась полная возможность воспользоваться ею для наступательных операций против неприятеля. Массена получил первые инструкции несколькими днями раньше, чем Моро. Ему предписывалось сосредоточить Итальянскую армию для обороны Генуи и путей, ведущих из Италии во Францию. Мелас, без сомнения, последует излюбленной австрийской тактике наступления тремя колоннами для концентрического нападения на противника. Французскому главнокомандующему следовало маневрировать так, чтобы уклониться от двух из этих колонн и ударить всеми силами на третью. В апреле месяце Массена был проинформирован об изменениях в планах верховного командования и ему предписано ограничиться обороной до тех пор, пока Резервная армия не перейдет через Альпы. «Для полководца, располагающего меньшими силами, чем неприятель, военное искусство состоит в том, чтобы выиграть время», — говорил Бонапарт. Массена, бывший и сам талантливым полководцем, собирался выполнить этот приказ, когда неожиданно 6 апреля 1800 г. Мелас атаковал его во главе шестидесятитысячной армии. Французам неоднократно удавалось в частных стычках одерживать верх над неприятелем, значительно превосходящим в силах, но тем не менее через каких-нибудь две недели активное сопротивление оказалось невозможным, и к 21-му апреля весь центр французской армии был вынужден укрыться за стенами Генуи. Положение становилось для французов тем опаснее, что Геную блокировал с моря Британский королевский флот, продовольствия в городе было мало, так что при максимальной экономии его могло хватить не более чем на месяц.
Тем временем генерал Сюше с левым крылом французской армии, численностью в 10 000 человек, отступил вдоль берега, преследуемый Меласом с 28 000 австрийцев, и вынужден был 14 мая 1800 г. переправиться через р. Вар. Австрийский генерал Отт, с 24 000 солдат, остался осаждать Геную, где Массене удалось продержаться до 4 июня. Эта оборона считается одной из самых упорных в военной истории.
* * *
При Директории военное министерство работало настолько плохо, что Консулат не имел возможности оперативно и быстро исправить все недостатки и просчеты. Армия Моро не была в достаточной степени снабжена всем необходимым, и ее полководец согласился перейти в наступление лишь месяцем позже, чем это было первоначально установлено.
Только уступая настоятельным требованиям Бонапарта, Моро рискнул 25 апреля двинуться вперед, несмотря на все еще недостаточное снабжение своей армии, и принялся за выполнение своего, как утверждали, осторожного плана переправы через Рейн четырьмя колоннами, а не всей армией вместе в одном пункте, как советовал первый консул. Следует признать, что план Моро являлся менее рискованным, чем план Бонапарта, но зато не обещал привести к таким же ожидаемым блестящим результатам. Несмотря на свою сложность, он был выполнен великолепно. Делая вид, будто намеревается занять Шварцвальд, Моро сумел обмануть Края относительно действительных намерений Рейнской армии и побудил его покинуть сильную позицию под Донауэшингеном. После целого ряда маршей и контрмаршей отдельные части французской армии переходили с одного берега Рейна на другой. Дивизия Сен-Сюзанна, например, трижды форсировала эту мощную водную преграду, причем в разных местах, чтобы ввести в заблуждение австрийцев. В итоге вся армия Моро оказалась сосредоточенной к востоку от Шварцвальда, удачно обойдя не только этот удобный для обороны горный хребет, но также и неприятельскую армию, которая все еще занимала позиции перед ущельями гор, сквозь которые, по мнению Края, надлежало пробиваться французам. Прекрасно продуманные контрмарши Моро напоминали искусные ходы превосходного шахматиста.
«Так ловко завязанная партия, — писал Дэвид Чандлер, — счастливо закончилась быстрым наступательным движением французов, спешившим первыми нанести удар австрийцам, прежде чем они успеют отступить на новую безопасную позицию». Моро при этом разбросал свои войска так, что в последних числах апреля оказался лишь с 25 000 человек лицом к лицу с главной австрийской армией, сосредоточившейся под начальством самого Края близ Энгена. В тылу Моро, южнее, находилась на расстоянии нескольких переходов дивизия Сен-Сира. Рассчитывая на ее скорое прибытие, главнокомандующий атаковал 2 мая неприятеля, значительно превосходившего его в численности. Однако ожидаемое подкрепление не прибыло. Тем не менее французы после ожесточенного боя одолели австрийцев, хотя сами понесли большой урон в живой силе и артиллерии. Сен-Сир прибыл только на следующий день. Австрийцы, узнав, что Штоках, с заготовленными там складами провианта, захвачен другой французской дивизией под начальством Ле-курба, отступили к северо-востоку, по направлению к Дунаю. Моро одержал блестящую победу (3 мая 1800 г.). Путь отступления к Тиролю через Швейцарию и Форарльберг австрийцам был отрезан. Они потеряли 3000 убитыми и 7000 пленными, а также большое количество пушек, зарядных ящиков и продовольственных запасов.
Несмотря на постигшую неудачу, барон фон Край не падал духом и спустя двое суток решился дать французам бой под Месскирхом. Сражение было очень упорным и кровопролитным, длилось 13 часов, но оказалось одинаково неудачным для австрийцев. Победа, одержанная французами, несомненно, была бы еще более решительной, если бы Сен-Сир вновь не уклонился со своей дивизией от участия в бое. Говорили, что Сен-Сир был недоволен тем, что Моро не назначил его командующим резервным корпусом, и в отместку провел, как сейчас бы сказали, «итальянскую забастовку», т.е. находился на поле боя, но ничего не делал. На справедливые упреки в свой адрес он отвечал: «Ах, я не двигался с места лишь потому, что был уверен в том, что генерал Моро с имеющимися у него резервами сумеет сам легко выйти из дела». Однако произведенное следствие пришло к выводу, что этот генерал строго придерживался буквы приказа, но не обнаружил должного усердия и доброй воли при его истолковании. Вот почему вялость действий Сен-Сира не была поставлена ему в вину. Вскоре после этого выяснилось, что австрийцы вновь собрались в значительных силах с намерением защищать Биберах, где у них имелись большие провиантские склады. На этот раз Сен-Сир повел себя по-иному. В бою он проявил мужество и отвагу, нанеся удар прямо в центр линии австрийцев, значительно превосходивших его численностью, и сбил их с позиций. Воодушевленный победой, он вызвал на помощь другую дивизию, под начальством Антуана Ришпанса, атаковал главные силы австрийцев, дислоцированных на склонах Метенберга, и принудил их к отступлению. Блестящая победа армии Моро при Биберахе 9 мая 1800 г. вписала новую строку в летопись побед республики. Два дня спустя Лекурб овладел Меммингеном и взял 1800 пленных, вследствие чего 10 мая австрийцы отступили в укрепленный лагерь под Ульмом, где решились ожидать нападения французов.
* * *
Историки Моро полагают, что дня через два-три он овладел бы и Ульмом, если бы у него не отобрали две дивизии из корпуса Лекурба. Дело обстояло следующим образом. Как уже упоминалось, Бонапарт одобрил план операций Рейнской армии в конце концов, представленный Моро, и 16 мая написал последнему: «Я бы с удовольствием променял пурпурную мантию первого консула на эполеты командира бригады под вашим командованием». Но мы уже знаем, что пока Бонапарт писал эти строки, прошло уже двадцать дней, как Моро начал масштабное наступление. 25—26 апреля он форсировал Рейн четырьмя армейскими корпусами под командованием Лекурба, Гувьона Сен-Сира, Сен-Сюзанна и своим собственным. Одержав победы при Энгене, Штокахе, Месскирхе, Зигмарингене, Биберахе и Хохштадте, Моро обогнул Шварцвальд и достиг верхнего течения Дуная.
Именно в Биберахе к Моро внезапно прибыл Карно, в то время военный министр, и попросил отрядить 18-тысячный корпус (в исследованных нами источниках цифры разнятся от 15 000 до 35 000) для Итальянской армии Бонапарта. Карно рассказал, что австрийцы обложили Массену в Генуе и 23 апреля, поставив запруды на акведуке, питавшем водой городские мельницы, стали ожидать его капитуляции. Массена заявил, что с имевшимися запасами хлеба он сможет продержаться от силы две недели. Бонапарт, узнав об этом, немедленно приказывает Резервной армии выступить в поход. Одновременно консулы издают два декрета (оба от 5 мая 1800 г.), предписывающие генералу Моро, не дожидаясь взятия Ульма (как предусматривалось Базельским соглашением), отрядить 25 000 чел. трех родов войск и немедленно направить их через перевалы Сен-Готард и Симплон. Второй декрет переводил область Вале под контроль Резервной армии, а вместе с ней и дивизию Монсея, которую Моро планировал использовать в дальнейших операциях на Рейне. Таким образом, Моро был обязан выделить 35 000 чел. из своей армии. С тяжелым сердцем думал Моро, расставаться или нет со своей лучшей дивизией. В конце концов он вынужден был согласиться и принял соломоново решение отправить две дивизии: одну под командованием генерала Лоржа, а другую — под начальством будущего маршала Монсея на помощь Бонапарту в Италию через перевал Сен-Готард.
Победоносное движение Рейнской армии, хотя численно урезанной до 85 000 чел., продолжалось. Барон фон Край, планировавший в июне вступить в Париж, оказался отброшенным далеко на восток от Мюнхена. Моро искусными маневрами вокруг Ульма сумел убедить австрийского командующего в том, что стоит у города со всей своей армией (хотя ее численность была далека от заявленной Бонапартом 151 000 чел.). По поводу Ульмской операции генерала Моро Массена позднее напишет: «Его метод ведения войны достоин изучения, как шедевр стратегии».
Моро удалось сохранить при себе Лекурба. И не зря. Это был не просто прекрасный боевой генерал. Он обладал исключительным чутьем и тонким умом, зачастую позволявшим ему справиться с противником даже в одиночку. Вот случай из жизни этого прославленного, но, увы, как и Моро, одинаково забытого прекрасного французского генерала. Говорят, один в поле не воин. Клод-Жак Лекурб доказал обратное. Дело было при Меммингене. Этот французский командир в свои 40 лет страдал мужской болезнью — задержкой мочеиспускания, или, как сейчас бы сказали, простатитом, поэтому перемещался в двуколке. Внезапно он наткнулся на многочисленный австрийский отряд. «Ну вот я и в плену!» — подумал он. Однако, приободрившись и собрав всю свою волю в кулак, он встал, превозмогая боль, и уверенным, громким голосом воскликнул: «Сдавайтесь! Вы окружены». И они сдались. Вот так один Лекурб разоружил целую австрийскую дивизию.
* * *
Тем временем Резервная армия под номинальным начальством Бертье с увеличенной численностью до 50 000 человек, а в действительности под командой самого первого консула, должна была соединиться с дивизией Лекурба, маневрировавшей в промежутке между Швейцарией и правым флангом армии Моро. Образовавшуюся таким образом массу в 75 000 человек имелось в виду двинуть из Цюриха через удобный Шплюгенский перевал в Италию. Присоединив к себе войска Массены, Бонапарт полагал обладать там 100-тысячной армией, вполне достаточной, чтобы одолеть Меласа. В действительности, однако, громадное преимущество сил, оказавшееся в продолжение всего апреля месяца на стороне австрийского главнокомандующего, позволило ему тем временем отрезать все сообщения Массены, и храброму французскому полководцу надо было опасаться самого печального исхода. При таких обстоятельствах, прежде чем Моро начал кампанию, было решено ради выигрыша времени перейти с Резервной армией через Альпы как можно западнее. Бертье было поручено тщательно осмотреть перевалы сначала Сен-Готард и Симплон, а затем Большой и малый Сенбернар (первый из них ошибочно считался путем, по которому Ганнибал проник в Италию). Следует признать, и на этом сходятся многие военные историки, что способность так гибко изменять планы применительно к создавшейся обстановке служит еще одним доказательством гениальности первого консула. План наступления на Милан был вскоре оставлен, так как наступление через Тортону могло скорее принудить австрийцев снять осаду с Генуи. Через четыре дня, накануне операции, военный министр Карно прибыл в ставку первого консула с докладом о своей миссии к Моро. Новости, сообщенные им на следующее утро, не были неожиданностью для Бонапарта, хотя значение их могло быть убийственным. «Я намереваюсь собрать в Швейцарии, — беззаботно писал Моро, — двадцать батальонов и столько же эскадронов как можно скорее вместе с пушками, о которых просил министр. Эти силы будут находиться под командованием генерала Монсея» (Correspondance de Napoleon I-ier (Pahs: 1858), Vol XXX, p. 354).
Из подробного приложения выяснилось, что вместо того, чтобы передать прекрасно обученный ветеранский корпус Лекурба, Моро, по выражению уже цитированного нами Д. Чандлера, «собрал все отбросы своей армии, желая отделаться от них, в количестве 18 714 пехотинцев и 2803 кавалеристов. Эти цифры были обозначены на бумаге, в действительности оказалось лишь 11 000 солдат. Мудрое решение Бонапарта довести численность войска Бертье до 50 000 полностью оправдалось, Моро показал себя в истинном свете, но, по крайней мере, хоть какое-то подкрепление отправилось в путь».
К 9 мая все приготовления были завершены. Близ Женевского озера была сосредоточена армия численностью 42 000 строевых. Прибыв 10 мая в Лозанну, Бонапарт нашел в Мартиньи, у подошвы Большого Сенбернара, генерала Ланна с 8000 человек, продвинувшихся уже на несколько километров вверх по долине р. Роны. Четыре других дивизии общей численностью 25 000 человек стояли в верховьях озера между Лозанной и Вильневом. Пятитысячная дивизия Шабрана находилась в Савойе, у подошвы Малого Сенбернара. Кроме того, Тюрро с 5000 человек, составлявших вначале часть правого крыла Массены, находился у южного спуска с Монсенисского перевала. Пятнадцатитысячный корпус, взятый из армии Моро, подходил уже под начальством Монсея к северному подъему на Сен-Готардский перевал. Монсей тогда еще не знал, что к Бонапарту в Италию он приведет только 11 510 человек; остальным суждено было либо погибнуть в мелких стычках, либо отстать, не выдержав трудностей перехода.
К 13 мая положение австрийцев и французов в Италии материально не изменилось и все еще оказывалось в пользу Меласа. Массена находился в Генуе, имея под ружьем 12 000 человек и, кроме того, 16 000 больных и раненых. В этом стратегическом пункте его осаждал 24-тысячный корпус Отта. Мелас с 28 000 человек стоял на берегах Вара в полной уверенности, что французская Резервная армия соединится с находившимся в Провансе 10-тысячным корпусом генерала Сюше и атакует его с фронта. Пять дней спустя он убедился в ошибочности своих предположений и, оставив 17-тысячный корпус охранять Ривьеру, поспешил с остальными войсками в Турин, куда и прибыл 25 мая 1800 года. Десять тысяч австрийцев занимали позицию в Беллинцоне, наблюдая за Сен-Готардским перевалом. Три тысячи находились в долине Доры-Балтеи, чтобы держать под контролем южные спуски с Сенбернардского перевала и близлежащих к нему горных троп. Пять тысяч были расположены в долине Доры-Рипарии и одна тысяча в долине Нуры для обороны спуска с Монсенисского перевала. 16-тысячный корпус шел на соединение к Меласу из Тосканы, где был оставлен 3-тысячный австрийский отряд. Кроме того, в Романьи, Истрии и в укрепленных городах Северной Италии было разбросано еще до 16 000 австрийских солдат.
14 мая 1800 года началась операция, которую военные специалисты признают одной из самых смелых и блестящих комбинаций Бонапарта. Первый консул, тщательно выработав в общих чертах стратегический план действий, резонно предоставил своим подчиненным разработку деталей столь масштабного предприятия. При подготовке этого перехода каждый солдат получил запас продовольствия на девять дней и сорок патронов. Остальная часть армии за авангардом Ланна была разделена вплоть до Женевского озера на пять колонн, которые выходили в поход поочередно с интервалом в один день. Самый тяжелый отрезок пути ожидался за деревней Сен-Пьер, где, по данным рекогносцировки, дорога была непроходима для тяжелых колесных повозок. «Наибольшей трудностью была переправа пушек. Большой Сенбернарский перевал был покрыт глубоким снегом, и дороги шли под крутым уклоном. Командующий артиллерией генерал Мармон использовал два приема. Первый состоял в том, что в корытообразно выдолбленные бревна укладывали восьмифунтовые пушки и мортиры. Впрягалось сто человек на каждую пушку, которую в течение двух дней перетаскивали волоком через Сенбернар. Второй способ состоял в использовании саней на катках, изготовленных бригадиром Гассенди в Оксонне. Лафеты разбирали на части и поочередно переносили, за исключением приборов к восьмифунтовым пушкам, которые переносились целиком на носилках десятью солдатами. Повозки разгружались и пускались вперед пустыми, а грузы несли в ящиках на спинах людей и мулов» (Correspondance de Napoleon I-ier (Paris: 1858), Vol XXX, N 4846, p. 314).
Войска Резервной армии, имея в авангарде дивизии Ланна, не без труда взобрались по другую сторону перевала и подошли к Аосте.
* * *
Бонапарт оставался тем временем позади войск, в Лозанне, так как его присутствие в армии могло бы повредить успеху предприятия. В противном случае австрийцы моментально бы сообразили, что имеют дело не с простой демонстрацией, а с весьма опасным для них наступательным движением.
Переход в верхнюю долину Аосты не представлял серьезных затруднений, и к 16 мая головные части колонны Шабрана благополучно прибыли туда, в свою очередь перевалив через Малый Сенбернар. Однако любое рискованное предприятие имеет свой критический момент, от которого зависит успешный исход. На пути у Бонапарта оказался неприступный форт Бард.
* * *
19 мая 1800 года, когда Ланн достиг этой небольшой крепости, у него начались первые осложнения. Форт оказался грозным препятствием. Деревня стояла на единственной дороге, но главная неприступность этой позиции обуславливалась маленькой крепостью, которая была построена на крутой скале в самом узком месте долины. К 21 мая австрийцы были вытеснены почти из всей деревни, но командир форта капитан Бернкопф, со своим гарнизоном в 400 хорватских гренадер полка Кинского и 26 разнокалиберными пушками, легко отбивал все отчаянные атаки Ланна. Эта кучка хорватов чем-то напоминала даков, защищавших свои горы от римлян.
Ставка Бертье находилась в шести милях от Барда, и на какое-то время стало казаться, что эта безнадежная задержка загубит весь расчет времени и значение наступления. Если бы Мелас стал действовать с надлежащей быстротой, имея эти сведения, очевидно уже дошедшие до австрийского штаба, он вполне бы мог еще остановить французское вторжение. К счастью для Бонапарта, неприятель не сумел вовремя правильно оценить эту информацию. Двадцатого мая первый консул стал подниматься к перевалу верхом на муле. Впереди шел проводник Антонио. Была пурга. Бонапарт ненадолго остановился в монастыре и отправился дальше в путь к ставке Бертье, которую достиг вечером того же дня. Часть своего путешествия вниз он совершил необычным способом. Согласно официальному бюллетеню, «первый консул спустился от Сенбернарского перевала, скользя и катясь в облаке снега на крутых местах и замерзших горных потоках».
Бонапарт был обоснованно встревожен продолжавшимся сопротивлением форта Бард. У Ланна хватило предприимчивости обойти крепость с частью своих войск и пробиваться дальше на Ивреа. В следующие дни еще несколько дивизий прошли этим же путем по тропинке для мулов, прижимающейся к самой горе Альбаредо. Однако такое путешествие было совершенно невозможно для пушек и кавалерии, несмотря на все усилия саперов генерала Мареско улучшить дорогу. Пехота, которая должна была сосредоточиться вокруг Ивреа, не смогла бы обойтись без артиллерии, но единственным способом переправить пушки была дорога через форт Бард под носом у австрийцев, которую намеревались использовать в самые глухие часы ночи. Первые две попытки были замечены и окончились неудачей. Однако ночью 24 мая удалось успешно совершить опасную перевозку двух четырехфунтовых пушек и одного зарядного ящика. «Артиллеристам удалось провезти свои орудия через город в полной темноте, чуть ли не под прицелом пушек форта; они устлали улицы соломой с навозом и обмотали колеса, чтобы не выдать себя ни малейшим звуком» (Jomini, General Baron A.H., Histoire des Guerres de la Revolution, Paris: 1838, vol. I, p. 247).
На следующую ночь таким же способом провезли еще две восьмифунтовые пушки и две гаубицы. Непосредственный кризис был преодолен. Эти шесть орудий явились тем, что превращало возможную неудачу в успех. Оставив дивизию Шабрана с остальными пушками, чтобы вынудить крепость к сдаче, остальная часть армии поспешила к Ивреа, которую Ланн занял 22-го, вытеснив из города 3000 австрийцев. Храбрый гарнизон форта Бард продержался до начала июня, и «мы опираемся на авторитет Наполеона, утверждая, что, если проход артиллерии через Бард был бы задержан до падения крепости, все надежды на успех кампании рухнули бы» (Jomini, General Baron A.H., Histoire des Guerres de la Revolution, Paris: 1838, vol. I, p. 247). С похожей ситуацией Бонапарт встречался в предыдущем году у Эль-Ариша на границах Сирии, но форт Бард не задержал его так долго и столь решающе, потому что его сопротивление предвиделось.
К 24 мая 1800 года большая часть сорокатысячной армии уже находилась в долине р. По; другие части были также неподалеку, и получено известие, что отряд Монсея приближается к Сен-Готардскому перевалу. Рискованная игра была выиграна; вся Резервная армия переправилась через Альпы и разумно сосредоточилась на итальянской стороне, не встретив особого сопротивления противника. Моро отбросил австрийцев к Ульму, Массена в Генуе выполнил, по крайней мере, часть предназначенной ему роли, Мелас уже совершил колоссальную ошибку, и первый консул мог свободно обдумывать свой следующий ход.
Второго июня Бонапарт прибыл в Милан. В тот же день Ланн вошел в Павию после форсированного марша вдоль р. По, захватив ценнейшие трофеи в городе. «Каждую минуту мы находим нечто новое, — сообщал он Бонапарту, — вы удивитесь, узнав, что мы обнаружили около 300—400 орудий, осадных и полевых, вместе с лафетами». Некоторые из них были включены в армейский артиллерийский парк, который до сего времени состоял только из шести первоначально имевшихся пушек и еще четырех, захваченных у Ивреа; но вскоре добавились и долгожданные пушки, задержанные осадой форта Бард.
Первый консул оставался в Милане почти неделю, отнюдь не отдыхая, как намекали некоторые критики. Главной его задачей было образование зоны безопасности в междуречье Ольо и Треббия на востоке и юге города с целью оградить Милан от австрийского нападения со стороны Мантуи. Третьего июня генерал Дюэм был отправлен с двумя дивизиями с задачей захватить освященный славой мост Лоди, а на следующий день генералы Мюрат и Буде выступили в Пьяченцу для организации плацдарма на реке По. Одновременно Ланн направился к Бельджози для подготовки второй переправы для дальнейшего движения армии на Страделлу. Пятого июня произошли важные события: получено сообщение о нападении австрийцев на Верчелли. Своевременно перенеслись коммуникации. И в этот же день головные части корпуса Монсея из Рейнской армии Моро, преодолевшие 29 мая перевал Сен-Готард, вошли в Милан и были включены в состав новой дивизии под командой генерала Гарданна. За ними вскоре последовали дивизии Лапуапа и Лоржа. За несколько дней до этого, 1 июня, форт Бард прекратил сопротивление за недостатком продовольствия, при этом высвободилась большая часть артиллерии Резервной армии, которая к 5 июня стала прибывать в Милан. Дивизия Шабрана двинулась к югу в качестве охранения на левом берегу По.
Примерно к этому времени относится автограф Наполеона, хранящийся в Государственном историческом музее Российской Федерации и датируемый маем 1800 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 166 (Г.В. Орлов). Оп. 1. Ед. хр. 2. № 93. Л. 131—132). Две строки, написанные рукой Наполеона и заверенные Г Маре, герцогом Бассано, государственным секретарем, скорее всего, представляют собой часть письма, адресованного военному министру, в котором речь идет о боевых операциях, проведенных Моро 21 и 22 мая 1800 г. В приписке, сделанной рукой государственного секретаря к этому редкому документу, значится: «В то время он (Бонапарт. — А. З.) был первым консулом и отмечал даты и боевые действия, предпринятые генералом Моро и взятые из его депеши в период кампании Гогенлинден». Его же рукой написано, что даты 21 и 22 относятся к маю месяцу.
Упоминание кампании Гогенлинден герцогом Бассано навело нас на мысль проверить те же самые даты (21 и 22 число), но относящиеся к концу ноября и декабря 1800 г. Наши исследования не увенчались полным успехом: кампания Гогенлинден началась 26 ноября и закончилась 25 декабря 1800 г., т.е. продолжалась один месяц. 21 и 22 декабря 1800 г. боевые действия не велись или носили локальный характер. Однако возобновление военных действий австрийцами после перемирия, подписанного Моро в Парсдорфе, относится к 22 ноября 1800 года. Запись рукой госсекретаря датируется периодом 1830—1839 гг., то есть сделана минимум через 30 лет после события, о котором идет речь, что может означать неточность или забывчивость герцога Бассано. Возможно также, что в 1830 г. он всю кампанию 1800 г. называл кампанией Гогенлинден (включая и 2-ю итальянскую Наполеона). Последнее обстоятельство на наш взгляд представляется маловероятным, учитывая, что госсекретарь в правительстве первого консула был директором его кабинета, то есть своего рода начальником штаба по гражданским делам, как Бертье — в военной области, а раз так, то все должен был помнить и знать очень хорошо. Вполне вероятно, что в этой записке речь идет о военных действиях, относящихся к 21—22 ноября или декабря 1800 г.
Если же предположить, что эти две строки, несомненно, написанные самим Наполеоном, относятся к действиям Резервной армии при переходе ее через перевал Сен-Готард и относятся к 21 и 22 мая 1800 года, то они, скорее всего, связаны с осадой форта Бард, на что указывает очень похожее слово Bard во второй строке записки. В таком случае данный документ не имеет никакого отношения к генералу Моро.
Приведенные в приложении к этой книге несколько писем известных французских генералов, относящихся к периоду перехода Резервной армии через Альпийские перевалы в мае 1800 г., поражают не только лаконичностью стиля и точностью исполнения приказов главнокомандующего, но и захватывают читателя (владеющего французским языком) удивительной атмосферой военного времени той эпохи.
* * *
Тем временем австрийский главнокомандующий назначил сборным пунктом для своей армии укрепленный город Алессандрию. Болотистые низменности, пересеченные множеством речек и ручьев, делали этот город, при тогдашнем состоянии артиллерии, почти такой же неприступной крепостью, как Мантуя. Сосредоточив там свои силы, Мелас принял энергичное решение прорваться сквозь центр французской армии. Одновременно Массена, оборонявшийся с геройским упорством до последней возможности в Генуе, был вынужден начать переговоры о сдаче. Если бы он продержался еще три дня, Отту пришлось бы снять осаду и спешить на соединение с Меласом, ввиду решительного сражения, в момент которого австрийцам надлежало во что бы то ни стало прорваться сквозь неприятеля, отрезавшего им сообщения с Австрией. При таких обстоятельствах Массена без труда выговорил себе очень выгодную капитуляцию и 4 июня выступил из Генуи на соединение с Сюше, без всякого обязательства не сражаться с австрийцами. Два дня спустя Отт оставил позиции у Генуи и направился к сборному пункту своей армии. 12 июня он соединился с Меласом в Алессандрии, что представлялось с точки зрения стратегических соображений первого консула вполне естественным. Главная ставка французской армии находилась под Страделлой, когда туда 11 июня прибыл Дезе, вызванный Бонапартом из Египта. Он сразу же был назначен командиром одного из трех корпусов. Двумя другими командовали Ланн и Виктор.
* * *
Между Тортоной, лежащей на берегах Скривии, и Алессандрией, расположенной на берегах Бормиды, было много полей, удобных для битвы. Лучшее из них находилось близ большой дороги, которая, направляясь с востока, соединяет Тортону с Алессандрией, а затем идет далее на запад, через Асти в Турин. Две других важных дороги идут из Алессандрии и Тортоны на юг, к Нови, где они сливаются в одну, которая направляется затем к Генуе. В треугольнике, составленном этими тремя дорогами, всего лишь в шести километрах от Алессандрии, лежит деревня Маренго, которая и была занята Виктором 13 июня. Ланн стоял несколько позади, в Сан-Джулиано, чтобы поддержать Виктора в случае, если бы Мелас захотел выступить из крепости и атаковать его. Дезе был оставлен со своими войсками южнее Маренго к Нови, чтобы пресечь австрийцам возможность обхода левого фланга французской армии. Бонапарт находился в Тортоне с консульской гвардией и отборным отрядом из 1200 надежных ветеранов. Бонапарт полагал совершенно невероятным, чтобы австрийцы осмелились атаковать первыми, и, вследствие этой ошибочной уверенности, упустил возможность должным образом сосредоточить свои войска.
Мелас был полководцем старой школы, воевавший методически и не спеша, но при этом отличался личной храбростью и, сражаясь в 1799 году под начальством Суворова, знал цену энергичной решимости и внезапности на поле боя. Утром 14 июня он начал переправляться через Бормиду Австрийский авангард оттеснил передовые посты французов к Маренго и развернул свои войска на восточном берегу этой реки. Виктор получил приказ держаться во что бы то ни стало за Маренго, чтобы выиграть время для сосредоточения разбросанных французских колонн вправо и влево от его позиции, которая должна была служить центром боевой линии. Ланну было приказано занять позиции вправо от Виктора, а Мюрату — поддерживать своей кавалерией развертывание боевой линии и вместе с тем препятствовать обходному маневру австрийцев. Если бы Дезе успел вернуться вовремя, то его корпус составил бы левое крыло. Тем не менее Келлерман-младший со своими драгунами должен был прикрывать открытый левый фланг Виктора.
Дэвид Чандлер так описывает начало этой знаменитой битвы: «В воскресное утро 14 июня 1800 года погода была солнечная после необычайно дождливых предшествовавших дней. К шести часам утра армия Меласа уже переходила по мостам через р. Бормиду на узкий плацдарм, который в течение всей ночи удерживал генерал О'Рейли, и “утренней зарей для французов послужил гром пушек”, когда начали стрелять первые батареи. При поддержке сотни орудий австрийцы начали медленно развертываться в три колонны на ограниченном пространстве. О'Рейли возглавил наступление отряда в 3000 человек, сразу оттеснил боевые посты Гарданна из Петербоны и повернул к югу от главной дороги, чтобы образовать правый фланг австрийцев. Меласс лично возглавлял вторую колонну со своим начальником штаба Цахом и 18 000 солдат генералов Хаддика, Каина и Эдсница, образующими центр боевого порядка, который должен был начать главную атаку на деревню Маренго. Третья колонна, численностью 7500 человек под командой генерала Отта, осторожно передислоцировалась влево, к Кастель-Черильо, где, как ошибочно полагал Мелас, находятся крупные силы французов». Получилось так, что неожиданное выступление Меласса застало французское командование врасплох. В течение нескольких часов весь удар наступления принимали на себя дивизии Гарданна и Шамбарлака из корпуса Виктора, которых поддерживали всего 5 орудий. Эти дивизии были подтянуты к глубокой речке Фон-танове перед деревней Маренго, и, к их чести, они не отступили ни на шаг, по крайней мере до полудня. Тем временем первый консул, все еще находившийся в Торре-ди-Гарофоли, продолжал упорно считать, что агрессивные маневры неприятеля — не более чем прикрытие, рассчитанное на то, чтобы облегчить отход Меласа к Генуе или по второму направлению — река По. Около 9 утра он подтвердил свой приказ по дивизии Лапуапа отойти на север — к Валенце, тем самым ослабив резерв еще на 3500 человек, и отправил адъютанта к Дезе с приказом дивизии Буде наступать от Ривальты к Поццоло-Формиджозо. Но не прошло и часа после отдачи этих распоряжений, как Бонапарт начал понимать серьезность положения. К 10 часам утра Ланн, Мюрат и их войска подошли на поддержку Виктору, увеличив численность французов в бою до 15 000 человек, но у австрийцев все еще было двукратное превосходство в силах. Дивизия Ватрена заняла позиции справа от Маренго, но вскоре против нее Мелас направил сильную фронтальную атаку, в то время как корпус Отта угрожал нападением на его неприкрытый правый фланг. Бонапарт прибыл на поле боя в 11.00 и сразу понял необходимость усилить свой правый фланг, так как в случае захвата австрийцами Кастель-Черильоло под угрозой оказывалась коммуникационная линия французов. Сразу же были отправлены адъютанты к Лапуапу и Дезе, с приказом немедленно вернуться. Послание Бонапарта к Дезе содержало мольбу: «Я хотел атаковать Меласа. Он напал на нас первым. Ради Бога, подходи скорей, если можешь». К счастью, Дезе, задержанный разлившейся рекой, находился недалеко и получил послание в час дня, но до Лапуапа этот приказ дошел только к шести вечера, и он не смог принять участия в сражении даже на последнем его этапе.
Первые атаки австрийцев были отражены, но с большим трудом и со значительными потерями со стороны французов. Войска Отта продолжали напирать на левый фланг Ланна. Бой становился все жарче и отчаяннее, а между тем от Дезе было получено известие, что он не сможет прибыть на поле боя ранее 16.00. Бонапарт отправил на подкрепление Ланну небольшой резерв — 72-ю полубригаду под командованием Монье, но все усилия оказались тщетными. Мармон вспоминал: «Приняв боевое построение, атакованная большим отрядом кавалерии и полностью окруженная, она не проявила ни малейшего страха: две первые шеренги стреляли прямо перед собой, а третья, повернувшись кругом, вела огонь по наседавшей кавалерии, прикрывая свой тыл. Тем не менее к полудню французы были выбиты из деревни Маренго, и их боевая линия оказалась прорванной. Началось полное отступление французской армии по всему фронту. Их войска шли к востоку по направлению к Сан-Джулиано. В отчаянии первый консул двинул в бой свой последний резерв, консульскую гвардию, в составе всего 800 человек, чтобы хоть как-то сдержать натиск австрийцев и прикрыть отступление главной армии. Смятение французов было всеобщим, почти паническим. Этот драматический момент сражения хорошо описывает А. Тьер: “800 солдат консульской гвардии, построенные в каре, отражают атаки драгун Лобковица, подобно “гранитному бастиону, возведенному посреди равнины”, как позднее скажет Наполеон. Но эти храбрецы могли лишь на короткое время замедлить движение австрийцев и под огнем орудий были вынуждены отступить.
Бонапарт, сидя на насыпи у большой дороги, держал свою лошадь за поводья и хлыстом откидывал маленькие камушки. Ядер, летящих над дорогой, он как бы не замечал и тихо напевал арию из комической оперы “Пленники”, бывшей тогда в моде. Тем временем мимо него, справа и слева, в сильном беспорядке отступала пехота. Некоторые батальоны шли толпой без всякого строя». Капитан Куанье в своих мемуарах писал, что «видел слева колонну беглецов, удиравших со всех ног». Жорж Санд приводит отрывок из письма своего отца, участника сражения при Маренго: «Одних мы старались удержать ударами сабель плашмя, других увещевали словами, так как среди бегущих было немало храбрых солдат. Не успею я выстроить одну шеренгу, но, пока начинаю строить вторую, первая пускается наутек».
Кстати, такое поведение будет характерно для французской армии периода Наполеоновских войн. Храбрые в атаке, ее солдаты поддавались какому-то стадному чувству при отступлении. Вспомнить хотя бы Ватерлоо, когда захлебнувшаяся атака Средней гвардии привела к паническому бегству всей армии, охваченной паническими криками: «спасайся, кто может!»
К 15.00 вся двадцатитрехтысячная французская армия стала откатываться назад к Сан-Джулиано, так как не было надежды на то, что Дезе с войсками подойдет ранее пяти часов.
Тем временем Мелас находился в полной уверенности, что одержал решительную победу. Быть может, если бы бремя семидесяти лет и легкая рана, полученная в бою, не надломили сил храброго австрийского главнокомандующего, он, несмотря на жару, пыль и усталость, заставил бы победоносные свои войска преследовать разбитого врага и совершенно рассеял бы главные силы французов. Вместо этого Мелас, уехав в Алессандрию, чтобы отдохнуть и собраться с силами, поручил начальнику штаба, генералу Цаху, преследовать расстроенные боевые порядки французов. Войска Цаха, построившись в походную колонну, наступали на пятки удиравшим французам. Другая, менее сильная колонна, под начальством генерала Отта, направлялась несколько левее, угрожая Бонапарту обходом и таким образом вынуждая его продолжать отступление.
Итак, одна битва при Маренго была проиграна и не кем-то, а самим Бонапартом. Но оставалась другая — выигранная Дезе.
Около трех часов пополудни забрызганный грязью генерал Дезе примчался к французскому командующему и доложил, что дивизия Буде со своими 8 пушками следует за ним. Некоторые авторы сходятся во мнении, что Дезе уже «повернул обратно на грохот пушек», встретив на пути приказ Бонапарта о возвращении. В любом случае несомненно одно — его помощь подоспела в самый решающий момент. «Ну что ты об этом думаешь?» — спросил его Бонапарт. Посмотрев на часы, Дезе ответил, согласно Бурьену: «Это сражение потеряно полностью, но сейчас только два часа (на самом деле было уже три), — еще есть время выиграть второе сражение». Ободренные этой своевременной поддержкой, усталые солдаты вновь преисполнились решимости. Бонапарт, проезжая между ними, воскликнул: «Солдаты, вы далеко отступили; вы знаете мою привычку делать бивак на поле боя». — «Головы вверх!» — скомандовал сержант консульской гвардии.
Не прошло и часа, как начали подходить подкрепления за разбитым корпусом Виктора, и вскоре был готов новый план сражения, требующий теснейшего взаимодействия всех трех родов войск. Мармон сосредоточил в одном месте пять оставшихся дивизионных орудий, 8 орудий Буде и еще 5 пушек из резерва, образовав одну батарею, и открыл сильнейший двадцатиминутный огонь по австрийцам, повредив много австрийских пушек и прорвав большие бреши во фланге медленно приближавшейся колонны Цаха. Затем Дезе повел в атаку своих солдат поэшелонно правым уступом, сочетая линейный и смешанный боевой порядок. Последовал какой-то момент колебания, когда, выйдя из клубов дыма, эти войска увидели перед собой отборный батальон австрийских гренадер, но рядом уже был Мармон с 4 легкими пушками, быстро снятыми с передков, чтобы дать четыре залпа прямой наводкой по солдатам в белых мундирах. Вперед вырвались солдаты Буде, готовые схватиться врукопашную. И как раз в это мгновенье взорвалась повозка с зарядными ящиками, на момент парализовав пришедших в ужас австрийских солдат. Уловив это мгновенье, Келлерман-младший повернул 400 своих кавалеристов, неожиданно бросившихся на ошеломленный левый фланг шеститысячной колонны Цаха. Этот эпизод мгновенно превратил поражение в победу. «Одной минутой раньше или тремя минутами позже, и ничего бы не вышло, но выбор момента был идеально точным, и Северная Италия была возвращена Французской республике», — писал английский историк А. Дж. Мак-Дональд в 1950 г.
Вскоре после девяти часов вечера, после двенадцатичасового сражения, замерли звуки выстрелов. Французы одержали полную победу, но в этот момент триумфа, осуществиться которому он так помог, Дезе уже лежал мертвый, с простреленной грудью, около деревушки Винья-Санта. «Его смерть лишила армию великолепного генерала, а Францию — одного из самых достойных ее граждан» — такова была эпитафия А. Тьера павшему герою. Бонапарт никогда не забывал о своем долге перед горестно оплаканным товарищем. «Я погружен в глубочайшее горе по человеку, которого любил и ценил больше всех», — напишет он на следующий день своим коллегам-консулам.
* * *
В ту же ночь потрясенный генерал Мелас решил просить перемирия, и в течение суток было подписано соглашение в Алессандрии. Австрийцы обязались отвести все свои войска к востоку от реки Тичино и сдать остающиеся крепости в Пьемонте и Ломбардии и Миланскую цитадель, а также согласились воздерживаться от всех операций до получения Бонапартом ответа из Вены на свое предложение мира. Это не был тот полный триумф, который первый консул представлял себе в декабре предыдущего года, но пока было достаточно и этого. В. Слоон писал в этой связи: «Не было битвы, более тщательно объясненной целому народу, как сражение под Маренго. Оно всесторонне комментировалось и современниками, и в последующие времена. Можно было опасаться, что временная неудача в этом бою затмит во мнении несведущих людей грандиозностью главного плана и его выполнения. Надлежало предотвратить возможность всякого неправильного истолкования. С помощью реляций, а также официальных статей в газетах, бесед с репортерами, писем из армии и т.п., распространялись в народе сведения, приписывающие всю заслугу блестящей стратегической комбинации тому, кому она принадлежала по праву, а именно самому главе государства. Совместно с победами Моро, комбинация эта восстановила французские финансы. Моро, занявший к тому времени Мюнхен, взял сразу контрибуцию в сорок миллионов франков с Южной Германии. Бонапарт, в свою очередь, восстановив Лигурийскую и Цизальпинскую республики, обязал их ежемесячно выплачивать французскому казначейству контрибуции, долженствовавшие доставлять в течение года такую же сумму».
События, непосредственно ведущие к Маренго и к тому, что произошло в тот роковой день 14 июня 1800 года, имеют более существенные основания для критики полководческого искусства Наполеона. Целый ряд осложнений и ошибочных расчетов чуть не погубил всю кампанию. Так, переход через Альпы был более простой операцией, чем считают некоторые историки, несмотря на действительно неблагоприятное время года и трудности, связанные с перевозкой артиллерии. Бонапарт недооценил оборонительного значения форта Бард, и, несмотря на искусный маневр у Страделлы, Резервная армия продолжала испытывать недостаток в артиллерии с середины мая до 12 июня 1800 года. В свете имеющейся теперь информации, отделение части войск Шабрана, Дезе, а затем и Лапуапа от общих сил накануне сражения при Маренго выглядит обоснованным с точки зрения стратегии, но ослабление Резервной армии до 23 000 человек перед лицом более мощного противника с тактической точки зрения весьма сомнительно, если не опрометчиво. Последовавшее чуть ли не поражение вызвано навязчивой идеей Бонапарта о нежелании Меласа вступать в бой. Это заключение было основано на непроверенных разведывательных данных, недооценки боевых качеств Меласа как полководца и чрезмерной уверенности Бонапарта в магии собственного имени и репутации, способной внушить страх врагу. Военные историки также критикуют Бонапарта и за то, что он оставил корпус Виктора незащищенным от нападения и первоначально изолированным и т.п.
Говоря о стратегических итогах кампании Маренго, крупнейший немецкий специалист по стратегии граф фон Шлифен писал: «Бонапарт не уничтожил своего противника, но устранил его и сделал беспомощным, и в то же время он достиг цели кампании — завоевания Северной Италии». Маренго, несомненно, явилось важным поворотным пунктом в карьере Наполеона Бонапарта; если его победа сама по себе не выиграла войну, она прочно утвердила первого консула в его главенствующей роли. Он вернулся в Париж 2 июля и был встречен как герой. Однако многие свидетели отмечали, что празднование победы при Маренго не вызвало такого воодушевления, как можно было бы ожидать. «В годовщину 14 июля (день взятия Бастилии. — А. З.), — записала маркиза де Латур дю Пэн, — мы отправились на прогулку… на Марсово поле. После парада национальной гвардии и войск гарнизона показалась небольшая колонна около сотни воинов, одетых в рваные и грязные мундиры; некоторые с руками на перевязи, другие с забинтованными головами. Они несли знамена и штандарты, захваченные у австрийцев при Маренго. Я ожидала бурных, вполне заслуженных аплодисментов, но вопреки моим ожиданиям не было ни одного восторженного возгласа, ни знака радости. Мы были изумлены и возмущены». Несмотря на то что Наполеон назвал свою лучшую верховую лошадь Маренго, а бесчисленные обедающие и по сей день неосознанно почитают его успех, заказывая любимое блюдо Бонапарта — «цыпленка а ля Маренго», в июле 1800 года многие французы понимали, что это сражение не принесло мира. Первому консулу еще предстояло заслужить свою репутацию «миротворца».
Но мир никак не давался Наполеону в руки, несмотря на все усилия. Тогда он решил прибегнуть к дипломатии. С поля боя у Маренго он отправил обращение к австрийскому императору: «Коварство англичан нейтрализовало то действие на Ваше сердце, какое могли бы иметь мои простые и искренние предложения. Война стала актуальной. Тысяч французов и австрийцев уже не стало… Перспектива продолжения этих ужасов настолько угнетает меня, что я решил еще раз лично обратиться к Вам… Дадим нашему поколению мир и спокойствие».
* * *
Следует заметить, что к этому времени со смертью Дезе и Клебера (оба погибли в один день: первый от австрийской пули, другой от кинжала фанатика в Каире) Моро оказывался единственным, остававшимся еще в живых, великим представителем революционных традиций в военном деле.
Несмотря на быстрое ухудшение военной обстановки, обе главные австрийские армии были вынуждены принять только два перемирия — Мелас в Алессандрии и Край в Парсдорфе после того, как Моро взял Мюнхен и Ульм. Австрийский император продолжал сопротивляться всё возраставшему давлению в пользу принятия мира. Переговоры тянулись в Леобене почти все лето, но затем новый договор о денежной субсидии Англии в обмен на военную помощь, подписанный с премьер министром Питом, вынудил Австрию продолжать военные действия. Они были возобновлены 22 ноября 1800 г., и через шесть дней Моро получил приказ начать наступление на Вену.
* * *
Однако до начала новой кампании в судьбе нашего героя произошли счастливые изменения. После подписания перемирия в Парсдорфе 15 июля 1800 года, вначале Карно, а затем и первый консул ратифицировали его, и по декрету от 1 термидора VIII года была отчеканена медаль «в целях увековечения завоевания Баварии Рейнской армией». Моро мог гордиться своими солдатами, а они — своим генералом. Чувство глубокого патриотизма охватило всех — от простого солдата до генерала. Им была свойственна скромность, и в отличие от солдат Итальянской армии они пренебрегали излишним изобилием военной атрибутики — расшитых золотом мундирами, отороченных мехом ментиками, роскошными плюмажами и другими украшениями, которыми не брезговали солдаты, офицеры и генералы других армий, особенно Итальянской. Им были чужды всякие выскочки, такие как ожеро, мюраты и им подобные.
Примером скромности служил сам Моро. Он был очень храбр, но обладал свойственной ему сдержанностью. От него не слышали ни пафосных слов, ни жестов, ничего театрального. Моро отдавал приказы спокойно, четко и ясно, понятным и лишенным бесполезной напыщенности языком. В противоположность Бонапарту, который в гордом одиночестве своего гения разрабатывал планы и буквально диктовал свои победы, война для Моро была всегда плодом совместных усилий его подчиненных. Перед боем он обычно не пренебрегал мнением своих советников, особенно прислушиваясь к словам начальника штаба — генерала Дессоля, мнение которого он очень ценил. Моро спорил по поводу планов предстоящих сражений, давал высказаться каждому, но во время боя его решения не обсуждались, и он нес за них всю полноту ответственности.
За столом у генерала-аншефа всегда царил дух свободы и отсутствовал даже намек на высокомерие. По окончании трапезы все направлялись в салон выкурить по сигаре или выпить по стаканчику ликера. Здесь свободно высказывались по политическим вопросам, иногда даже слишком свободно, чего, пожалуй, не следовало бы делать. Генерал Гувьон Сен-Сир иногда был просто шокирован крамольными мыслями, которые здесь озвучивались, а вот генерал Леклерк их записывал и по секрету передавал своему шурину — первому консулу. «Вашей славе, — писал он Бонапарту, — мешает только Моро! Он любит повторять, что Итальянская армия сражалась, как армия школяров, тогда как он, Моро, воевал, опираясь на методы военной науки… Лекурб вас не любит… То, что вызывает ревность у Моро — у Лекурба вызывает ненависть…»
В течение нескольких месяцев, казалось, первый консул не обращал внимания на домыслы Леклерка. В письмах победителю при Энгене и Хохштатте он не скупился на комплименты. Почему же тогда министр Карно в письме к Моро от 24 августа 1800 года предупреждает: «Вам следует остерегаться интриг, целью которых является испортить чувства взаимной симпатии, столь необходимые для новых побед, которые мы ожидаем от армии под вашим командованием». Вероятно, у столь информированного в государстве человека, каким был Карно, уже были причины думать, что дружба первого консула и командующего Рейнской армией не столь крепка, как кажется на первый взгляд. Много позже, на острове Св. Елены, Наполеон скажет: «Моро ни в коем случае не был человеком, обладавшим исключительными способностями, как полагали англичане… Он был неплохим генералом для командования дивизией, но совершенно не подходил по своим данным для командования большой армией…»
Перемирие, подписанное 20 сентября 1800 года, подтвердило Парсдорфское соглашение, и военные действия были приостановлены на 45 дней с целью проведения переговоров о мире между Австрией и Францией.
В сопровождении генерала Лаори Моро вернулся в Париж. По приезде он был принят первым консулом во дворце Тюильри. В конце приема Бонапарт наградил его парой именных пистолетов, на которых были выгравированы названия побед, одержанных командующим Рейнской армией. «Не все, конечно…, — заметил Бонапарт, —…просто не хватило места».
* * *
23 октября 1800 г. гражданка Жозефина де Богарне и гражданин первый консул давали ужин в честь генерала Моро в Мальмезоне, на котором присутствовали и два других консула. Еще раз Моро обедал в Мальмезоне 2 ноября. Некоторые историки часто ссылаются на анекдот, рассказанный генералом Деканом и повествующий о том, что именно в этот день Бонапарт предложил в завуалированной форме, но вполне ясно — руку своей приемной дочери, Гортензии де Богарне, генералу Моро. На что тот воскликнул: «Мне жениться? Увольте, я не желаю. Говорят, это приносит несчастье. Посмотрите на Жубера!» Но и Декан, и историки, конечно же, ошибались. Нетрудно догадаться, что в анекдоте речь шла не о Гортензии, а о Каролине Бонапарт, сестре Наполеона, рука которой уже предлагалась бретонскому генералу семьей Бонапарт. Кроме того, Моро не мог так ответить первому консулу 2 ноября, так как жениться он как раз собирался, и его невеста была известна Жозефине.
Ту, на которой собирался жениться Моро — звали Эжени Уло. Она была дочерью госпожи Уло, покойный муж которой состоял в должности главного казначея острова Иль-де-Франс (о. Св. Маврикия). Эжени Уло была светлой шатенкой с голубыми глазами и красивым, чуть худощавым лицом. Она была очень грациозной, одухотворенной и наделенной от Бога талантом истинного музыканта.
* * *
Гражданская свадьба состоялась 8 ноября 1800 года в мэрии 3-го муниципального округа Парижа. Учитывая религиозные убеждения Эжени и ее матери, нет сомнений в том, что имела место и другая, религиозная церемония (венчание), которая произошла либо до, либо после гражданской свадьбы. Однако История не оставила нам никаких письменных упоминаний об этом.
17 ноября 1800 года Моро покидает Париж и направляется в Баварию. В Нимфенбурге его любезно принимает генерал Декан, который спрашивает:
— Ну и как дела у нового правительства?
— Как никогда лучше, — отвечает Моро, — только Бонапарт сможет спасти Францию и вывести ее из того трудного положения, в котором она оказалась.
* * *
Перемирие, достигнутое после сражения при Маренго, в течение некоторого времени соблюдалось как французскими Рейнской и Итальянской армиями, так и австрийскими имперскими армиями. Однако Венский кабинет, получив финансовую поддержку Великобритании в размере 2 миллионов фунтов стерлингов, выдвинул условие, что полномасштабный мирный договор может быть заключен только с обязательным участием Англии. До сего времени Австрия придерживалась одной и той же политики: после очередного поражения на поле боя она заключала перемирие и была готова на значительные уступки. Однако, получив малейшее преимущество, всегда находила способ обойти данные ею обещания. Этот случай не был исключением. Сейчас она была готова возобновить войну на английские деньги. Господин Сен-Жульен, полномочный представитель австрийской стороны, подписал в Париже прелиминарные условия мира, но Венский двор дезавуировал их.
Мишель Дюрок, который по поручению Бонапарта вез в Вену на ратификацию подписанный договор, не был пропущен через австрийские аванпосты. Это неожиданное происшествие, естественно, спровоцированное Англией и показавшее, каким влиянием она обладает, до глубины души возмутило первого консула, который только что представил доказательства своих мирных намерений. Раздраженный Бонапарт приказывает Моро расторгнуть перемирие и возобновить военные действия с целью захвата мостов на Рейне и на Дунае и взятия крепостей Филиппсбург, Ульм и Ингольштадт. Узнав об этом, Австрия предложила начать новый раунд переговоров, но уже с участием Англии. Однако первый консул не желал одновременно вести переговоры с участием этих двух стран. Англия и слышать не хотела ни о каком перемирии на море по образцу того договора, который Франция только что заключила с Австрией на суше. Великобритания считала, что Франция получит большие выгоды от перемирия, подобного тому, которое Австрия уже заключила на суше. Первый консул соглашался принять другие предложения Англии и склонялся к тому, чтобы разрешить ей принять участие в переговорах в ходе Люнвильского конгресса, при условии, что она подпишет с Наполеоном сепаратный договор, то есть без участия Австрии. Но Англия отказалась.
Силы Австрии были почти истощены, но, несмотря на это, она быстро собрала новые войска. Вместо барона фон Края главнокомандующим австрийской армией в Германии был назначен эрцгерцог Иоанн. Что касается Меласа, то его место занял Бельгард, генерал молодой, но менее пригодный командовать крупными силами. Эрцгерцог имел под своим начальством восьмидесятитысячную армию, не считая резервного корпуса под командой Кленау. Генерал Иллер с тридцатитысячной армией стоял в Тироле, а у Бельгарда, в долине реки Минчио, сосредоточено было 90 000 человек. Продление перемирия, необходимого для того, чтобы вести переговоры, Австрия купила уступкой генералу Моро трех крепостей.
Однако, принимая во внимание неуверенность и колебания Австрии, все еще находившейся под влиянием Англии, а также учитывая, что затягивание переговоров может привести только к обострению обстановки и утрате достигнутых преимуществ, Бонапарт решает окончательно расторгнуть перемирие. Он уже смирился с тем, что достигнутые им успехи в Италии не оправдали себя. Только одна надежда на немедленный мир заставила его потерять из виду те громадные преимущества, которые дала ему победа при Маренго.
Приказы о возобновлении военных действий были отправлены с эстафетами в Германию и Италию; и война разгорелась с новой силой. Началась кампания, вошедшая в Историю под названием Гогенлинден.
К этому времени армия Моро была дислоцирована близ Мюнхена, вдоль лесов, окаймляющих небольшую реку Изар. Австрийская армия занимала весьма сильную позицию, прикрываясь другим притоком Дуная, довольно широкой рекой Инн. Войска Моро были усилены новыми подкреплениями, которые довели численность его армии до 100 000 человек, и, кроме того, отдельный двадцатипятитысячный корпус под начальством Ожеро стоял на Майне. Массена в Италии был заменен Брюном, Мюрат стоял в Центральной Италии для наблюдения за Неаполем, а Макдональд с отличным пятнадцатитысячным корпусом находился в Граубюндене (Гризон), занимая тем самым центральное положение и готовый выступить по приказу: на юг или на север.
Моро занимал очень выгодную позицию между реками Изар и Инн. Она представляла собой плоскую лесистую возвышенность, простиравшуюся от Мюнхена до Вассербурга и понижавшуюся к Дунаю. В этом месте она разделялась многочисленными оврагами, частично поросшими деревьями, либо густыми кустарниками, либо переходящими в заболоченные низины. Таким образом, подступы к этой позиции со всех сторон представляли собой естественные препятствия. Из Мюнхена, где находилась штаб-квартира Моро, на восток, к реке Инн, вели две дороги: одна шла прямо на Вассербург через Эберсберг; другая — левее, через Гогенлинден (в современной транскрипции Хоэнлинден), Хаац Ампфинг и Мюльдорф. Обе дороги пролегали через мрачный пихтовый лес, окаймлявший это возвышенное плато. Остальные дороги на данном участке были очень узкими и предназначались в основном для вывоза леса.
* * *
Юный австрийский эрцгерцог Иоанн, сменивший Края на посту главнокомандующего австрийской армии, был полон свежих идей и не желал предпринимать фронтальную атаку столь выгодной позиции Моро, а хотел обойти ее с фланга через мосты в Мюльдорфе, Эринге и Бранау. Оставив двадцатитысячный корпус, состоящий в основном из баварцев, вюртем-буржцев и французских эмигрантов принца Конде, защищать подступы к реке Инн, он с основной армией в 60 000 человек полагал предпринять наступательное движение по довольно болотистой местности. Целью Иоанна было осуществить сложный обходной маневр через города Фельден, Ноймаркт и Вильсбибург и выйти на рубеж реки Изар в Ландсхуте. Затем, по долине, поднявшись вверх по течению до Фрайзинга и миновав цепь холмов в районе Дахау, ударить на Мюнхен или западнее столицы Баварии, угрожая перерезать главную линию коммуникаций армии Моро. Подобный маневр, если бы он удался, заставил бы Моро оставить район междуречья Инн — Изар и срочно передислоцироваться на другой рубеж — реку Лех, сдав Мюнхен австрийцам. Однако для реализации столь масштабной стратегической операции необходимо было тщательно рассчитать средства для ее выполнения и, начав ее, суметь преодолеть возможные угрозы — труднопроходимые участки местности, отсутствие дорог, пригодных для движения многотысячной армии, неудачно выбранное время года (зима), и самое главное — одолеть противника, который, по мнению австрийцев, хоть и слыл медлительным и осторожным, тем не менее был опытнее, умнее, решительнее и, что самое главное, не позволил бы просто так обвести себя вокруг пальца.
Войска обеих наций снялись с позиций 26 и 27 ноября (5 и 6 фримера IX года), и 28 ноября начались военные действия. Австрийский генерал Кленау на Дунае противостоял небольшому корпусу Ожеро и, кроме того, пытался оттянуть на себя силы французского генерала Сен-Сюзанна, командующего IV корпусом армии Моро. Занятые наблюдением друг за другом, они находились далеко от вероятного театра военных действий и предстоящего генерального сражения: Сен-Сюзанн — в районе Инголыитадта, а Кленау — у Ратисбона (Регенсбург).
Моро, тщательно изучивший тактические преимущества своей позиции на плоской возвышенности, неохотно расставался с ней и лишь скрепя сердце начал готовиться к наступлению, тем более что погода стояла холодная и сырая.
А между тем его противник, горя желанием отличиться и показать себя вторым Бонапартом, двинул свои войска тоже вперед. В пылу юношеской самоуверенности он добровольно отказался от преимуществ занимаемой им очень сильной оборонительной позиции.
Моро приказал своему левому крылу численностью 26 000 человек под командованием генерала Гренье занять позицию вдоль большой дороги, ведущей из Мюнхена в Мюльдорф через Гогенлинден, Хааг и Ампфинг, а также на склонах той части плато, которая простирается между двумя реками. Центр, под его личным командованием, численностью свыше 30 000 человек (на самом деле 35 000, включая польскую дивизию Княжевича, влившуюся в корпус генерала Декана, и резервный артиллерийский парк) оседлал прямую дорогу из Мюнхена в Вассербург, проходящую через Эберсберг. Правое крыло под командованием генерала Лекурба, численностью 26 000 человек заняло позиции вдоль верхнего течения Инна, в районе Розенхайма, причем одна дивизия была отряжена для наблюдения за Тиролем. Таким образом, у Моро под рукой были его левое крыло и центр, то есть около 60 000 человек.
Он привел свою армию в движение, чтобы провести разведку боем на всем протяжении участка от Розенхайма до Мюльдорфа и с целью заставить противника дезавуировать свои намерения. «Моро, который не умел, как генерал Бонапарт, разгадывать планы своего противника, — пишет Адольф Тьер, — или навязывать свои собственные, перехватывая инициативу, вынужден был осторожно прощупывать своего оппонента, чтобы выяснить его намерения». Моро наступал всегда с большой оглядкой, но если его заставали врасплох, он с достоинством и величайшим спокойствием всегда находил выход из создавшейся ситуации.
29 и 30 ноября 1800 года прошли в рекогносцировке местности. Французы провели разведку вдоль реки Инн, а австрийцы попытались форсировать реку и продвинуться далее, с целью пересечь низменность, ограниченную Инном, Дунаем и Изаром. Но Моро удалось отбросить австрийские аванпосты и передислоцировать свое правое крыло под командованием Лекурба в Розенхайм, а центр — в Вассербург; при этом левое крыло под командой Гренье заняло высоты Ампфинга. Эти высоты господствовали над местностью, но находились на значительном расстоянии от берегов реки Инн. Левое крыло армии Моро несколько удалилось, так как продвинулось вдоль долины этой реки вплоть до Мюльдорфа и оказалось в 15 лье (66 км) от Мюнхена, тогда как остальная армия находилась всего лишь в 10 лье (44 км) от баварской столицы. Моро решил усилить левое крыло одной дивизией под командованием генерала Гранжана. Историки считают, что ошибкой Моро было то, что он начал наступление тремя отдельными и далеко отстоящими друг от друга корпусами, вместо того чтобы выйти на рубеж реки Инн всеми силами одновременно, проведя при этом несколько ложных демонстраций. Однако эта ошибка, к счастью для французов, не привела к серьезным последствиям.
Следуя своему первоначальному плану, австрийская армия прошла через Бранау, Нойёттинг, Мюльдорф и начала пересекать низменность в восточной части плато. К австрийцам подошло подкрепление — маршевые батальоны, которые, не имея возможности отдохнуть, влились в армию и вынуждены были вместе с ней преодолевать препятствие, которое представляло понижающееся плато в этом месте. Артиллерии и многочисленным обозам было особенно трудно преодолевать небольшие реки, такие как Фильс, Ротт, Изен, а также многочисленные овраги, тянущиеся до берегов Дуная. Кроме того, заболоченная местность существенно затрудняла движение повозок, колеса которых местами по ступицу проваливались в снег и грязь. Возникшие обстоятельства, а также постоянные стычки с передовыми частями левого крыла армии Моро, угрожавшие отрезать австрийцев от реки Инн, привели юного эрцгерцога и его генеральный штаб в некоторое замешательство. Они явно не продумали всех деталей столь масштабной операции. Австрийцы хотели атаковать Моро и вместе с тем опасались сами быть атакованными. При планировании такого маневра необходимо было предусмотреть организацию резервной операционной базы на Дунае в районе Регенсбург — Пассау и соответствующей запасной коммуникационной линии. Но в спешке ничего подобного сделано не было. В создавшихся условиях австрийский генеральный штаб был вынужден срочно вносить коррективы в первоначальный план кампании. Вместо широкого охвата французского фланга с целью нанесения удара в тыл армии Моро австрийский главнокомандующий принимает решение остановиться, развернуть свои войска на запад и немедленно атаковать французов. Однако и здесь ни эрцгерцог, ни его советники не учли того обстоятельства, что Рейнская армия в течение нескольких месяцев занимала данную позицию, провела необходимые рекогносцировки и знала ее как свои пять пальцев. Для австрийцев, как мы увидим ниже, эта позиция станет настоящим лабиринтом.
* * *
На рассвете в понедельник, 1 декабря 1800 года, генерал Моро с основной армией готовился форсировать реку Инн, когда вдруг был внезапно атакован своим новым соперником при Ампфинге. Эрцгерцог Иоанн развернул шестидесятитысячную армию у подножия Ампфинга и атаковал дивизию генерала Тренье, у которого в строю было только 26 000 человек. Австрийцы одновременно наступали тремя колоннами: 15-тысячный корпус взбирался вдоль долины реки Изен, вторая колонна наступала по главной дороге, ведущей в Мюльдорф и далее в направлении Гогенлинден — Мюнхен. И, наконец, третий отряд форсировал Инн в Крайбурге, занял Ашау и атаковал во фланг армию Моро. Французы из дивизий Гренье и Нея не смели верить своим глазам, когда их левое крыло было вначале остановлено, а затем оттеснено назад, очевидно натиском главных сил неприятеля. Так оно и оказалось: 40 000 австрийцев одновременно атаковали 26 000 французов. На помощь последним пришла дивизия генерала Гранжана, предусмотрительно отправленная Моро, чтобы прикрыть разрыв. Частично потерпев поражение в этом бою, но отступив в полном порядке, Моро приказывает всем своим дивизиям занять позиции у деревни Гогенлинден, фасом к западной кромке леса Изен перпендикулярно дороге из Мюльдорфа в Мюнхен, проходящей через лес. Это была ловушка, рассчитанная на пылкость неопытного и юного эрцгерцога. Последний, опьяненный своим успехом при Ампфинге, попался на «крючок». Адольф Тьер писал в этой связи: «…хладнокровию и энергии Моро предстояло встретиться лицом к лицу с неопытностью эрцгерцога, окрыленного своим первым успехом». Вечером, накануне сражения Моро ужинал в компании офицеров, когда ему принесли депешу. Прочитав ее, он повернулся к гостям и с гордостью (которая не была свойственна его характеру) произнес: «Меня поставили в известность о передвижении армии эрцгерцога. Это то, что мне нужно». В депеше речь шла о том, что главные силы австрийцев направляются по главной дороге Мюльдорф—Гогенлинден—Мюнхен. Дело в том, что это шоссе идет через густой пихтовый лес практически на всем своем протяжении, и только в районе Гоненлиндена лес немного расступается, образуя небольшую поляну, на которой расположены деревня Гогенлинден, почтовая станция и несколько ферм. Моро рассудил здраво: раз уж эрцгерцог ввязался в бой с левым французским крылом, он непременно захочет атаковать и его центр; а раз так, его надо заманить на равнину Гогенлинден и уничтожить, тем более ничего особенного и делать не надо — он сам идет к нам в руки.
Моро развернул на этой равнине дивизию Гренье, дивизию Гранжана, а также резервную кавалерию и артиллерию. Эти силы составляли левое крыло его армии. Справа от дороги и деревни он поставил дивизию Груши, а слева — дивизию Нея. Непосредственный удар эрцгерцога должны были принять на себя дивизии Леграна и Бастуля, как только первые австрийские колонны выйдут по дороге из леса. Артиллерийский и кавалерийский резерв находился в тылу этих четырех дивизий. Центр Рейнской армии, сведенный до двух дивизий Ришпанса и Декана, при этом находился в нескольких лье от поля предстоящего сражения, на дороге, проходящей значительно правее, в районе Эберсберга. Уже цитированный нами А. Тьер пишет: «Моро направил в эти две дивизии туманно сформулированные, но верные приказы, суть которых сводилась к тому, чтобы быстро передислоцироваться с одной дороги на другую и прибыть в район Маттенбот (нем. Майтенбет. — А. З.), с задачей атаковать тыл австрийской армии, зажатой в лесу. Эти приказы не были ни точными, ни ясными, ни детально проработанными, то есть не такими, как у генерала Бонапарта. В приказах ничего не говорилось о том, по какой дороге нужно идти и какие угрозы могут возникнуть при совершении маневра. Эти депеши были рассчитаны на смекалку и сообразительность генералов Декана и Ришпанса. И они на свое усмотрение могли сделать то, о чем не говорилось в приказах главнокомандующего».
* * *
Тьер писал эти строки в середине XIX века, когда легенда Наполеона уже захватила умы многих людей. Но вот перед нами свидетельство непосредственного участника сражения — в то время генерала Груши: «Приказ главнокомандующего был абсолютно ясный и четкий — всем генералам предписывалось занять позиции в лесу Гогенлинден и на склонах близлежащих холмов, прекрасно выбранного поля боя». Вероятно, Тьер прав, говоря о Наполеоне периода революционных войн, но, говоря о Наполеоне периода войн империи, с ним можно не согласиться — Наполеон, как правило, отдавал общие приказы, а исполнение доверял своим подчиненным. Так случилось, например, при Ватерлоо, когда маршал Ней бесцельно израсходовал лучшую кавалерию Северной армии. Многие из тех, кто читает эти строки, возможно, вспомнят кадры из фильма Сергея Бондарчука и Дино де Лаурентиса «Ватерлоо» (1970), когда Наполеон, видя неудачи французской кавалерии, с негодованием восклицает: «Ней! Что делает Ней? Что он делает?»
Но вернемся к нашему герою. Несмотря на замечание А. Тьера, Моро тем не менее предписывает Лекурбу, который образовывал правое крыло Рейнской армии в районе Тироля и Сен-Сюзанну, с его левым крылом, дислоцированном на Дунае, немедленно начать движение к месту, где должно было состояться решающее сражение всей кампании. Однако один находился в 15 лье от Гогенлиндена, а другой — в 25-и, и на своих помощников, следовательно, нельзя было рассчитывать. Не так действовал Бонапарт накануне больших сражений, снова скажет нам Тьер; Наполеон никогда бы не позволил половине своей армии находиться на таком расстоянии. И, кроме того, надо обладать даром высшего предвидения, чтобы суметь в решающий момент собрать в кулак разрозненные корпуса армии. Сейчас же Моро собирался дать генеральное сражение семидесятитысячной австрийской армии, имея под рукой менее шестидесяти тысяч французов. Но это было даже больше, чем ему требовалось. Ведь за его спиной стояли закаленные в боях лучшие легионы французской армии. Это Моро хорошо понимал.
Но этого не понимал эрцгерцог Иоанн. Опьяненный успехом 1 декабря, восемнадцатилетний главнокомандующий, видя, что перед ним отступает лучшая французская республиканская армия, которую не смогли победить многочисленные австрийские генералы, решает подготовиться к генеральному сражению и ничего не предпринимает весь день 2 декабря. Он даже представить себе не мог, чтобы Рейнская армия оказала бы ему хоть какое-то сопротивление на дороге, по которой он собирался наступать. Самое большее, на что он рассчитывал, так это на то, что французы запрутся в Мюнхене и будут оборонять город. Он рассчитывал дать бой французам либо на ближних подступах к баварской столице, либо в самом городе; в крайнем случае он полагал окружить город и приступить к осаде. Вот почему он вез за своей армией многочисленные обозы и осадную артиллерию.
Эта неоправданная передышка дала Моро время сделать необходимые диспозиции и подготовить «капкан для Иоанна». Французский главнокомандующий провел тщательную рекогносцировку местности и полагал, что у него достаточно времени, чтобы все дивизии успели подойти к полю предстоящего сражения.
Австрийская армия состояла из четырех корпусов. Главный, или центральный, представлял собой многочисленную, растянувшуюся вдоль мощеной дороги Мюльдорф — Гогенлинден колонну, в состав которой входили венгерские гренадеры, баварская пехота и кавалерия, резервы, артиллерийский парк (около 100 пушек) и большая часть армейской кавалерии. Кроме того, за колонной тянулся многочисленный обоз с боеприпасами, походными палатками, кузницами, лазаретом и т.п., насчитывавший свыше 300 повозок. Именно ему суждено было первым выйти из густого леса на небольшое плато Гогенлинден и принять бой. Слева от главной австрийской колонны по направлению движения шел двенадцатитысячный корпус генерала Райша, который форсировал реку Инн в Крайбурге 1 декабря и в задачу которого входило оказывать поддержку австрийскому центру. Этот корпус должен был выйти на плато Гогенлинден слева от австрийцев и атаковать правый фланг французов. Справа от главной колонны наступали еще два австрийских корпуса: первый, под командованием Байе-Латура, должен был выдвинуться из долины реки Изен и идти по направлению Кронаккер и Прайзендорф, а второй, под начальством Кинмаера, шел через Ленгдорф на Хартхофен. Оба корпуса должны были наступать параллельно друг другу и поочередно выйти на плато Гогенлинден. В целях экономии времени, имея в виду короткий световой день в зимнее время года, им было приказано оставить позади всю артиллерию, включив ее в состав главной колонны, а также обозы с провиантом, из которого приготавливался так любимый солдатами походный суп.
Получилось, что все четыре австрийских корпуса, сформированные в такое же число походных колонн, шли на значительном расстоянии друг от друга, пробираясь сквозь густой лес по плохим лесным дорогам и просекам. Лишь центральная колонна шла в относительно благоприятных условиях — по мощеной дороге на Мюнхен. К этому времени подошло баварское подкрепление, и численность австрийской армии превысила 70 000 человек.
В ночь со 2-го на 3-е декабря генерал Груши получил приказ от начальника штаба Рейнской армии генерала Лаори, который гласил: «Генерал Моро поручил мне сообщить вам, что генерал Ришпанс имеет приказ передислоцироваться завтра на дорогу Хааг — Мюльдорф и выйти на шоссе в районе деревни Рамеринг, чем может обнаружить себя на участке до реки Инн. Одновременно генерал Гренье должен следовать за неприятелем по равнине Лайтен. Намерение главнокомандующего состоит в том, чтобы вы действовали в соответствии с маневром генерала Ришпанса, с задачей быть готовым занять позицию с частью вашей дивизии в деревне Ашау, а другую часть оставить в Райхершайме. Если генерал Декан также выступит по направлению на Хааг, то у него есть приказ прикрывать маневр Ришпанса на дороге, ведущей в Вассербург, и иметь резерв, чтобы атаковать в направлении на Мюльдорф в зависимости от ситуации. Главнокомандующий просит вас зачистить лес Гогенлинден и взять в плен солдат противника, которые могут там оказаться». Как видно из этого приказа Моро, действия его подчиненных расписаны достаточно детально, и хотя в нем не упоминаются ни точное время начала атак или передислокаций отдельных частей, ни возможные угрозы, способные помешать осуществлению его планов, каждому генералу было ясно, что от него ожидает главнокомандующий.
* * *
В среду утром, 3 декабря 1800 года в условиях снежной метели эрцгерцог направил всю свою армию четырьмя параллельными колоннами на деревню Гогенлинден. Понимая важность светлого времени суток, столь короткого в этот зимний день, как для марша, так и для сражения, войска двигались быстро, насколько позволяли дороги и начавшийся снег. Он падал густыми хлопьями и не позволял различать предметы даже на близком расстоянии.
Моро был верхом на коне во главе своего штаба и всей армии. На отдалении генералы Ришпанс и Декан выполняли маневр, предписанный им — передислоцироваться с дороги в районе Эберсберга на шоссе, проходящее через Гогенлинден.
Эрцгерцог Иоанн во главе центральной колонны углубился в лес, простиравшийся от деревни Майтенбет до Гогенлиндена, и уже начал выходить из него значительно раньше генералов Байе-Латура и Кинмаера, застрявших на плохих дорогах, фактически на бездорожье. Его передовые части показались на опушке леса прямо напротив дивизий Гранжана и Нея, построенных в боевой порядок, к востоку от деревни Гогенлинден. Австрийцы развернули свои части и бросили в бой 8 батальонов венгерских гренадер. 108-я полубригада из дивизии Гранжана находилась в развернутом строю, тогда как 46-я и 57-я полубригады стояли плотными колоннами, готовые сразиться с врагом. Их тыл прикрывали 4-й гусарский и 6-й линейный полки. С обеих сторон началась интенсивная артиллерийская подготовка. Первоначально австрийцам удалось оттеснить 108-ю полубригаду, которая, оказывая жестокое сопротивление, начала медленно отступать. Атака велась по всему фронту, обороняемому 108-й полубригадой, а также вдоль дороги, ведущей в Гогенлинден. На помощь храбрым французам был направлен 4-й гусарский полк и три орудия под командой генерала Буайе (не путать с Байе-Латуром). Это подкрепление помогло сдержать наседающих австрийцев. Но ненадолго. Командир 108-й полубригады генерал Марконье («отличившийся» позднее при Ватерлоо) был ранен и взят в плен. Потеряв своего командира, полубригаде вновь пришлось отступить, оставив часть позиции. Тогда на помощь ей поспешила 46-я полубригада, которая в течение всего этого времени стояла под интенсивным картечным огнем австрийской артиллерии и сама понесла значительный урон. Эту полу бригаду вел в атаку генерал Гранжан. Пол батальона этой полубригады, примкнув штыки, ворвался в лес, где среди елей и пихт завязалась кровавая рукопашная схватка. На правом фланге была аналогичная картина: несколько рот 57-й полубригады атаковали левое крыло австрийцев и также мужественно дрались как у кромки леса, так и в самом лесу. Этот упорный, но славный бой принес победу французам на данном участке поля боя. Много австрийцев сдалось в плен, среди них и генерал-майор Спаночи, возглавлявший атаку венгерских гренадер. Этот успех не позволил австрийцам полностью развернуть свои силы на выходе из леса Гогенлинден.
Воспользовавшись временным замешательством австрийцев и с целью закрепления достигнутого успеха, Моро отдает приказ генералам Гренье и Груши немедленно атаковать всех, кто окажется на их пути.
46-я и 57-я полубригады были построены в колонны к атаке, а несколько потрепанная утром 108-я полубригада должна была служить одновременно и резервом атаки, и наблюдать за движением неприятеля на правом фланге в лесу. Эта атака увенчалась блестящим успехом. Австрийцы были отброшены обратно в лес.
Тем временем эрцгерцог возобновил атаку на центр французской боевой линии. Удар пришелся на дивизию Гренье. Однако и эта атака была отражена 57-й и посланной ей на помощь 108-й полубригадой, а также двумя эскадронами 11-го полка конных егерей и 4-м гусарским полком, которые, отбросив австрийцев, захватили пять пушек. Одновременно точный огонь французской дивизионной артиллерии довершил разгром австрийцев на этом участке сражения.
* * *
В три часа пополудни французы заметили, как на их левом фланге показались первые колонны корпуса Байе-Латура. На выходе из леса они готовились к построению в боевые порядки, но ожидали, пока подойдут остальные дивизии. К этому времени снег прекратился, и австрийцы оказались видны как на ладони. Французы (дивизии Бастуля и Леграна) немедленно приготовились встретить новую атаку неприятеля.
Вдруг в центральной австрийской колонне, которая еще не успела выйти из леса на плато Гогенлинден, послышался какой-то шум, и началось хаотичное движение. Похоже, что-то серьезное произошло у них в тылу. «Моро, со свойственной ему проницательностью, что делает честь его военному опыту, — писал А. Тьер, — обратил внимание на это обстоятельство и сказал Нею: “Настал момент решающей атаки. Похоже, что Декан и Ришпанс напали на тылы австрийцев”». Немедленно он приказывает дивизиям Нея и Гранжана, дислоцированным справа и слева от Гогенлиндена, построиться в колонны и атаковать австрийцев, развернутых у кромки леса; загнать их обратно в лес, из которого они вышли и уничтожить. Ней ударил в лоб, а Груши с дивизией Гранжана (накануне сражения эта дивизия была переподчинена генералу Груши) атаковал с фланга. Атака увенчалась полным успехом: австрийцы оказались загнанными в «бутылочное горло» и откатились туда, откуда вышли — на единственную дорогу посреди огромного леса, и, смешавшись, бросили пушки и побежали назад, где в районе деревни Майтенбет был единственный выход на открытое пространство. Однако в этом месте происходили еще более грандиозные события, которые Моро заранее предвидел и подготовил. Дивизии Ришпанса и Декана, следуя приказам своего главнокомандующего, пробивались по бездорожью от Эберсберга к шоссе, проходящему через Гогенлинден. Генерал Ришпанс, ближе всех находящийся к деревне Майтенбет, не дожидаясь генерала Декана, смело бросился вперед, с трудом преодолевая препятствия на местности — овраги, болота, густой лес. Ветви елей хлестали в лицо, шел снег и дул порывистый ветер. Но Антуан Ришпанс был не робкого десятка, смел и предприимчив. Он прилагает огромные усилия, чтобы тащить за собой шесть орудий мелкого калибра, которые приказал взять, но колеса которых увязают по ступицу в болотистой, покрытой коркой льда, но еще не замерзшей земле. Ришпанс шел «на гром пушек» и правильно делал. Он успел миновать деревню Санкт-Кристоф до того, как там объявился австрийский корпус генерала Райша, прикрывавший центральную колонну. С целью задержать фланговый марш австрийцев, Ришпанс решает оставить бригаду Друэ на подступах к Санкт-Кристофу с задачей задержать Райша, а сам с одной-единственной бригадой продолжает форсированный марш на Майтенбет. Военное чутье подсказывает ему, что именно здесь должна решиться судьба сражения. Это же чутье говорит ему, что Декан придет на помощь бригаде Друэ в случае опасности. И вот, наконец, Ришпанс с двумя полубригадами (8-й и 48-й) и единственным кавалерийским полком (1-м конно-егерским), а также шестью пушками, почти на руках доставленных к полю боя, оказывается у Майтенбета—с другой стороны «бутылочного горла», чтобы захлопнуть «мышеловку для Иоанна». Ришпанс неожиданно видит перед собой отряд австрийских кирасир. Они стоят, спешившись, и держат под уздцы своих лошадей. Вот удача! Он стремительно бросается на них и всех берет в плен. Ришпанс слышит, как Ней атакует голову колонны. Он понимает свою задачу: надо ударить в хвост колонны — тогда австрийцам конец. Генерал разворачивает свои немногочисленные войска на опушке, рядом с Майтенбетом, у выхода из леса. Поставив 8-ю полубригаду слева, а 48-ю справа от себя, он бросает в бой 1-й полк конных егерей против восьми австрийских эскадронов, которые изготовились к атаке, увидев, что французский генерал вышел им в тыл. Первая отчаянная атака конных егерей отбита, и они возвращаются под прикрытие 8-й полубригады, чтобы перестроиться. Последняя, примкнув штыки, отбивает атаку австрийской кавалерии. Положение Ришпанса становится критическим. Оставив вторую бригаду наблюдать за корпусом Райша, он ослабил себя и теперь, окруженный со всех сторон врагами, решает не дать австрийцам почувствовать свою слабость. И здесь его осеняет новое блестящее решение. Он оставляет генерала Вальтера с 8-й полубригадой и 1-м полком конных егерей продолжать бой с австрийцами, а сам с единственной оставшейся 48-й полубригадой берет левее и устремляется в лес вдоль дороги, по которой австрийцы шли на Гогенлинден. И хотя это решение можно считать довольно опрометчивым, Ришпанс полагал, что австрийцам, уже в панике отступавшим перед главной французской армией, можно нанести еще больший вред, ударив в тыл и создав впечатление, что армия Иоанна окружена. Так оно и получилось. Построив 48-ю полубригаду в колонны к атаке, генерал Ришпанс со шпагой в руке и во главе своих гренадеров пошел вперед, сметая все на своем пути. Не обращая внимания на залп картечью, он входит в лес и видит, как навстречу ему бегут два венгерских батальона с задачей остановить его порыв. Призывными криками и жестами он старается приободрить своих храбрых солдат, но они в этом не нуждаются. «Сейчас мы с вами разделаемся!» — кричат французы. Атака продолжается. Шеренги сходятся. Залп и в штыки! Наступает короткая рукопашная схватка, и оба батальона опрокинуты. Австрийцы разбегаются кто куда. Французы идут вперед. На пути у них пробка на дороге из орудий, зарядных ящиков, многочисленных фур, повозок и всевозможных колесных средств передвижения. В этот момент Ришпанс слышит крики о помощи и мольбы о пощаде на другом конце дефиле. Пройдя еще несколько десятков метров, раздаются другие крики уже на родном, французском языке. Это храбрый Ней теснит австрийцев навстречу Ришпансу, а он, в свою очередь, тоже теснит австрийцев навстречу Нею. Наконец, увидев друг друга, они бегут, обнимаются и пьяные от счастья радуются победе! Зажатая как в клещах в глубине огромного заснеженного леса, центральная австрийская колонна превратилась в бесформенную разрозненную массу людей, попавших в капкан и отчаянно метавшихся в разные стороны, надеясь отыскать несуществующий выход из этой западни. Австрийцы начинают сдаваться массами. Взяты тысячи пленных, захвачена вся артиллерия и весь обоз.
Оставив Нею заботы по сбору своих солдат, Ришпанс возвращается в Майтенбет, где он оставил генерала Вальтера с единственным полком кавалерии и пехотной полубригадой. Он находит генерала раненным пулей; его несут несколько солдат; превозмогая боль, он улыбается; лицо полно радости и счастья от того, что он тоже внес свой вклад в дело общей победы.
Но Ришпанс скачет дальше, в деревню Санкт-Кристоф, где оставил бригаду Друэ — одну противостоять целому корпусу Райша. Он видит, что все принятые им решения оказались правильными в этот счастливый день 3 декабря 1800 года. Как оказалось, генерал Декан подоспел вовремя, поддержал бригаду Друэ и отбросил корпус Райша, взяв у него много пленных.
Три часа пополудни. Центр австрийской армии окружен и более не существует как реальная боевая сила. Левое крыло австрийцев, под командованием генерала Райша, прибыло слишком поздно, чтобы суметь остановить порыв Ришпанса. Декан отбросил австрийцев, понесших большие потери, к тому месту, откуда они пришли — на рубеж реки Инн. С такими результатами в центре и на левом фланге австрийцев исход дня был предрешен. Но у австрийцев оставались еще две многочисленные колонны на правом фланге. Бой с ними шел одновременно с событиями, происходившими в центре. Примерно в половине четвертого пополудни дивизии Бастуля и Леграна приняли на себя весь удар пехотных частей австрийского правого крыла, состоявшего, как мы уже упоминали, из корпусов Байе-Латура и Кинмайера. Австрийцы вдвое превосходили численность французских дивизий, кроме того, они находились на возвышенности, господствующей над равниной Гогенлинден, что позволяло им вести навесной огонь по французам. Однако генералы Бастуль и Легран, под командованием своего храброго командира — дивизионного генерала Поля Гренье и отважных французских солдат, стойко отбивали все атаки наседавших австрийцев. Тем не менее, уступая двойному численному превосходству, французы стали медленно сдавать свои позиции. Тогда им на помощь поспешила кавалерия д'Отпуля и вторая бригада из дивизии Нея, так как первая была задействована непосредственно в лесу и шла навстречу Ришпансу Французы отошли от кромки леса и быстро перестроились под огнем противника. «С редкой самоуверенностью и настоящим героизмом, — пишет Адольф Тьер, — две полубригады из дивизии Леграна, а именно 51-я и 42-я, противостояли в районе деревни Хартхофен целому австрийскому корпусу Кинмайера и приданной ему полновесной кавалерийской дивизии».
То открывая плотный огонь по наседавшей пехоте противника, то быстро перестраиваясь в каре, чтобы штыками отбить кавалерийскую атаку, эти две полубригады проявляли чудеса храбрости и героизма, чтобы отстоять за собой Хартхофен. Именно в этот момент Гренье, узнав о разгроме австрийского центра, приказывает построить дивизию Леграна в колонны подивизионно и ведет их в бой, поддерживая уже начавшуюся новую атаку кавалерии д'Отпуля. Эта блестяще организованная атака заставляет весь корпус Кинмайера сначала остановиться, а затем отступить к лесу и в беспорядке раствориться в нем. Одновременно генерал Бонне с бригадой из дивизии Бастуля атакует австрийцев и опрокидывает их, загоняя в ложбину, из которой они только что пытались выйти.
Тем временем гренадеры бригады Жоля (вторая бригада Нея) опрокидывают корпус Байе-Латура. Импульс победы как лесной пожар проносится над всей Рейнской армией, удваивая ее храбрость и силы. Левое крыло французов начинает организованное преследование отступающих австрийских корпусов. Корпус Байе-Латура они гонят в долину реки Изен, а корпус Кинмайера — в район Ленгдорфа, на пересеченную и болотистую местность, которую они с таким трудом недавно преодолели. В этот момент из глубины леса, со стороны главной дороги, появляется Моро во главе отряда из дивизии Гранжана, чтобы оказать поддержку своему левому крылу. Но здесь он видит своих бравых солдат, уже ликующих по поводу всеобщей победы. Они обнимают друг друга, подбрасывают вверх шляпы, стреляют в воздух. Это — настоящий триумф!
Австрийцы в ужасе разбегались в разные стороны и, блуждая по лесу, не находя выхода, попадали в руки французов, бросали оружие и сдавались в плен. Было пять часов вечера. Короткий зимний день подходил к концу. Сумрак приближавшейся ночи медленно накрывал поле боя.
Противник потерял от семи до восьми тысяч убитыми и ранеными, двенадцать тысяч было взято в плен, а также восемьдесят семь орудий и весь обоз из трехсот повозок. По тем временам редко кому удавалось достичь таких результатов в ходе одного сражения. За один день австрийская армия потеряла свыше 20 000 солдат, почти всю свою артиллерию с зарядными ящиками, багаж, провиант и многое другое. Но самое главное было то, что эта армия потеряла свой моральный дух — основное условие любой победы.
* * *
Сражение при Гогенлиндене явилось жемчужиной в карьере Моро, и оно по праву считается самой яркой битвой эпохи революционных войн и не только.
Слава Моро! Он одержал победу, которая по своей значимости в анналах истории Консулата и Империи сравнима, пожалуй, только с победой Наполеона при Аустерлице. «Снег Гогенлиндена достоин солнца Аустерлица», — скажет позднее Эрнест Доде, биограф Моро.
Многие говорили, что настоящими победителями при Маренго были Дезе и Келлерман, а при Гогенлиндене — Ришпанс. Последний, имея на руках довольно общий приказ, сумел осуществить блестящий маневр, приведший к победе. Но и при Маренго, если бы не точно выверенная по времени атака кавалерии Келлермана, Бонапарт мог проиграть свою знаменитую битву.
По окончании сражения к Моро стали поступать рапорты от командиров дивизий с просьбой о поощрении и награждении героев сражения. В этом смысле особый интерес представляют выдержки из мемуаров Груши, в которых он ссылается на обмен депешами с Моро сразу после битвы. Вот одна из них: «5 декабря 1800 г. Я еще не успел узнать все факты подвигов и героизма солдат и офицеров моей дивизии, — пишет Груши, — проявленных в этом сражении, которые делают ей честь, но не могу не похвалить моего адъютанта Гримальди, суб-лейтенанта 23-го конно-егерского полка, который был ранен пулей в руку навылет. Прошу представить его к званию лейтенанта… Одновременно прошу представить к очередному званию второго адъютанта Бретона, также суб-лейтенанта из 19-го драгунского полка, приписанного к моему штабу…
Сообщаю, что моей дивизией взято в плен свыше 1200 пленных, среди которых генерал-майор Спанокки, а также 6 орудий… Предварительно доношу, что наши потери составили от 500 до 600 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести».
Отвечая на это донесение, 6 декабря Моро пишет: «Гражданин генерал, я получил ваш рапорт о деле при Гогенлиндене. Прошу передать всем солдатам и офицерам вверенной вам дивизии, что я восхищен их храбростью и доблестью, проявленными в этот прекрасный день. Полагаю, что в храбрости дивизия превзошла сама себя. Вне всякого сомнения, наградой будет служить признание ее заслуг республикой и лично мною. Жду от вас подробный отчет о боевых действиях и представление о награждении с указанием фамилий отличившихся, которое я с удовольствием поддержу».
В рапорте от 8 декабря, после описания боевых действий дивизии, Груши пишет: «…В 46-й полубригаде, сражавшейся с великим мужеством, отличился гражданин Сакре, старший аджюдан, который, увидев, что тиральеры его части заколебались и начали было отступать, собрал вокруг себя многих из них и с воодушевлением кинулся на неприятеля и, ударив во фронт, обратил его в бегство. Лейтенант Тюрпель захватил гаубицу; капитаны Одебо и Дардар шли во главе лишь части своих рот, но тем не менее принудили сложить оружие 160 венгерских гренадер и их офицеров; и, наконец, гражданин Фовар, фузилер, взял в плен генерала-майора Спанокки и, по просьбе последнего, любезно разрешил оставить ему кошелек с деньгами, чертежный прибор в бархатном футляре и прочие вещи. Прошу наградить этого храбреца почетным оружием». Напомним читателю, что до учреждения ордена Почетного легиона во французских революционных армиях было принято награждать отличившихся почетными саблями, кинжалами, пистолетами и другим оружием, как правило, с дарственной надписью. Далее Груши продолжает: «В 11-м полку конных егерей отличился гражданин Дюлембур, командир эскадрона, а также капитаны Морлан и Шевро. Прошу для них повышения в звании за проявленную отвагу. Бригадир Жиле, в ходе кавалерийской атаки, предпринятой его полком, прорвался в центр батальонного каре неприятеля, увлекая за собой конных егерей Шолена, Франсуа, Россиньоля и Лерсеваля, изрубил саблями всех, кто стоял на его пути, и первым взял гаубицу; другие его товарищи также захватили одну пушку. Этот батальон и пикет венгерских гусар прикрывали австрийскую батарею, но в результате стремительной атаки неприятельское прикрытие обратилось в бегство. Конный егерь Лефевр взял в плен баварского генерала и сопроводил его в наш штаб. Конный егерь Марвиль попал в плен, но убежал и, потеряв лошадь, весь день отважно сражался в пешем строю в составе 8-й полубригады. Этот факт подтверждает командир 2-го батальона 8-полубригады гражданин Обер. Ходатайствую о награждении вышеуказанных конных егерей 11-го полка почетными карабинами, а капитана Марвиля прошу представить к очередному званию — командир эскадрона.
4-й гусарский полк, беспримерная храбрость которого внесла существенный вклад в дело общей победы, представляет гражданина Жиро, суб-лейтенанта, который трижды ходил в атаку во главе своего взвода и захватил 13-фунтовую пушку у кромки леса Гогенлинден, получив ранение картечной пулей в ногу. Гражданин Плюмелен, трубач, первым помчался в атаку и захватил 7-фунтовую пушку с гаубицей, которые противник замаскировал в кустах, на выходе из леса. Эти и другие орудия защищал австрийский батальон, который также был опрокинут и рассеян. И, наконец, гусар Леклерк один захватил 7-фунтовую пушку, которую противник пытался спасти и вывезти по лесной дороге. Прошу, мой генерал, представить к повышению по службе суб-лейтенанта Жиро, а гражданина Плюмелена наградить почетной трубой.
108-я и 57-я полубригады, мужество которых вам хорошо известно, просили передать, что они лишь выполняли свой долг. Полагаю, вы, несомненно, оцените их скромность. Кроме того, вы уже выразили им свою благодарность в письме, адресованном всей дивизии.
Что касается меня, скромного от природы человека, то я не говорю ничего о себе лично в официальном рапорте. Замечу только, что во главе 46-й полубригады я имел счастье атаковать корпус противника, состоящий из 3000 венгерских гренадер, которым вначале сражения удалось оттеснить правый фланг моей дивизии. Груши бросился в штыки на этих солдат и всех взял в плен, вместе с их командиром генерал-майором Спанокки. Последний, в знак глубокой признательности за доброе обращение с ним, любезно попросил принять генералом Груши в подарок великолепный набор чертежных инструментов в бархатном футляре, который ваш покорный слуга с благодарностью принял».
* * *
Сражение при Гогенлиндене подробно разбиралось многими историками, но редко сравнивалось с Маренго. Несмотря на победу Моро, такие историки, как А. Тьер, В. Слоон и некоторые другие, ставили ему в вину то, что он наступал вдоль долины реки Инн от Кюфштайна до Мюльдорфа без какого-либо конкретного плана, не выбрав поля предстоящего сражения, не сконцентрировав в ключевом пункте все свои силы, а лишь ограничивался простыми демонстрациями. 1 декабря Моро подставил под удар левый фланг своей армии. Однако именно этот «просчет» явился выгодным преимуществом Рейнской армии, так как, отступая, этот француз как русский Иван Сусанин заманивал австрийцев в глубь лабиринта, который представлял собой лес и деревню Гогенлинден, расположенную на небольшой равнине и окруженную холмами и лесом. Кроме того, главнокомандующий перебросил часть войск из центра ближе к левому флангу, чтобы организовать поддержку сражавшимся дивизиям, и осуществил один из самых удачных маневров, известных в военной истории, перебросив войска Ришпанса из района Эберсберга на Майтенбет, что решило исход сражения. Находясь на острове Св. Елены, Наполеон говорил, что Ришпанс действовал без приказа, на свое усмотрение. Однако это не точно. Письменный приказ существовал, хотя, по мнению тех же историков, был сформулирован в общих чертах. Ничего из того, что произошло, в нем не было оговорено. Моро приказал Ришпансу и Декану предпринять фланговый марш из района Эберсберга через деревню Санкт-Кристоф, не указав, по какой дороге нужно следовать, не предугадав возможное присутствие в этом районе корпуса Райша, не приняв в расчет возможные угрозы и риски, связанные с наличием войск неприятеля непосредственно в лесу. Те же историки считают, что Моро без напористости и смекалки Ришпанса вместо триумфа вполне мог потерпеть поражение. Но удача всегда сопутствует смельчакам. Что касается данного случая, то, по утверждению А. Тьера, ее роль в этом деле была из ряда вон выходящей. Мы не беремся здесь оспаривать суждение столь уважаемого историка Наполеона, но заметим, что роль фортуны в сражении при Маренго была не меньшей, если не сказать большей. Моро ставили в упрек то, что при Гогенлиндене он сражался всего с шестью дивизиями против двенадцати у противника, оставив три — под командованием Сен-Сюзанна в районе реки Дунай и три — под командой Лекурба в верхнем течении Инна. Вот почему левое крыло под командованием генерала Гренье сражалось в пропорции один против двух. Пожалуй, только этот упрек можно заслуженно приписать Моро. Но справедливости ради заметим, что, как в любом гениальном произведении, написанном человеком, на бумаге остаются пятна от чернил, также и в самом блестящем сражении, выигранном человеком, могут быть ошибки, которые иногда исправляет фортуна.
Кстати, вот как сам Наполеон описывает это сражение: «1 декабря, в понедельник, на рассвете, эрцгерцог Иоанн развернул шестидесятитысячную армию у подножья Ампфинге и атаковал дивизию генерала Гренье, у которого в строю было только 25 000 человек. Другая австрийская колонна, миновав мост у Крайбурга, наступала по направлению к Ахау, намереваясь атаковать тыл и правый фланг Гренье. Генерал Ней вынужден был вначале отступить под напором превосходящих сил неприятеля, но сгруппировался и перешел в контрнаступление, смяв восемь австрийских батальонов. Однако противник вводил в бой все новые и новые полки и, атакуя вдоль реки Изар, вынудил Гренье отступить. Этот маневр австрийской армии был правильно исполнен, и первый успех австрийцев предвещал новые, более значимые победы.
Однако эрцгерцог не смог воспользоваться полученным преимуществом, не провел стремительной атаки на корпус Гренье, который потерял лишь несколько сотен пленных и два орудия. На следующий день, второго декабря, австрийский главнокомандующий произвел незначительные изменения в диспозиции своих войск и дал время французской армии перегруппироваться и собраться с силами после первого удара. Эрцгерцог дорого заплатил за свою ошибку, которая явилась главной причиной его поражения на следующий день. 2 декабря Моро провел тщательную рекогносцировку местности и полагал, что у него достаточно времени, чтобы все дивизии успели подойти к полю завтрашнего сражения.
Эрцгерцог Иоанн, хотя и совершил грубую ошибку, потеряв весь день 2 декабря, не собирался упустить свой шанс 3-го. На рассвете австрийцы начали атаку, и диспозиции, сделанные французским генералом (здесь Бонапарт не называет имя Моро. — А. З.) с целью обеспечения соединения своей армии, оказались бесполезными. Ни корпус Лекурба, ни корпус Сен-Сюзанна не могли успеть к началу сражения, а дивизии генералов Ришпанса и Декана сражались поодиночке. Они прибыли слишком поздно, чтобы оборонять лес Гогенлинден. Австрийская армия наступала тремя колоннами: левая, численностью 10 000 человек (здесь Наполеон имеет в виду, что правая колонна, состоявшая из двух корпусов, представляла собой единое целое. — А. З.), атаковала в промежутке между рекой Инн и Мюнхенской дорогой по направлению на Альбахинг и Санкт-Кристоф. Центральная колонна, 40 000 строевых, двигалась по дороге, ведущей из Мюльдорфа в Мюнхен, через Хааг на Гогенлинден. По той же дороге следовали артиллерийский парк и обозы. Это была единственная дорога с твердым покрытием в данной местности. Правая колонна, 25 000 строевых, под начальством австрийского генерала Латура, наступала на Бурграйн. Дороги представляли собой сплошное месиво — обычное явление для декабря месяца в этой части Германии. Но правая колонна австрийцев шла практически по бездорожью, увязая в грязи. Снег падал большими хлопьями. Центральная колонна, за которой двигался артиллерийский парк и обозы, имея преимущество в скорости марша по шоссе с твердым покрытием (римская дорога, мощенная камнем. — А. З.), вскоре обогнала остальные и углубилась в лес Гогенлинден. Ришпанс, который должен был оборонять лес в Альтенпоте (Наполеон часто путал названия. Эта деревня не исключение. На самом деле речь идет о Майтенбете. — А. З.), не прибыл. Тем не менее колонна была остановлена у деревни Гогенлинден, которая служила опорным пунктом левого фланга Нея и расположением дивизии Груши. Французская боевая линия, полагая, что она находится под прикрытием, приняла первый удар на себя; несколько батальонов были опрокинуты и начали беспорядочное отступление. И тут на выручку поспешил Ней. Стремительная атака принесла смерть и смятение в авангард колонны, состоявшей из рослых венгерских гренадер. Генерал Спанокки был взят в плен. В этот момент авангард правой австрийской колонны начал спускаться с высот Бурграйна. Ней галопом поскакал на свой левый фланг, чтобы принять удар на себя. Его усилия были бы недостаточны, если бы генерал Латур поддержал свой авангард, но тот был в десяти километрах от него. Тем временем дивизии Ришпанса и Декана, которые должны были до рассвета выйти на исходный рубеж к деревне Альтенпот (Майтенбет. — А. З.), большую часть ночи блуждали в потемках по плохим дорогам и при падающем снеге, так что к утру оказались только у края леса Гогенлинден.
Ришпанс, прибыв со своей дивизией: 8-й, 48-й полки линейной пехоты и 1-й конно-егерский полк (эти строки Наполеон писал на Св. Елене и полки уже не называл на старый манер — полубригадами. — А. З.), оказался в тылу у неприятеля, то есть именно там, где находился весь артиллерийский парк и обозы главной австрийской колонны. Миновав деревню, он занял близлежащие высоты и развернул войска к атаке. Восемь эскадронов австрийской кавалерии из арьергарда также приготовились к атаке. 1-й полк конных егерей стремительно атаковал, но был отброшен. Положение генерала Ришпанса становилось все более критическим. Ему сообщили, что он не сможет рассчитывать на генерала Друэ, который был остановлен превосходящими силами австрийцев. Сведений от Декана у него не было. Находясь в безвыходном положении, Ришпанс принимает отчаянное решение. Оставив генерала Вальтера с его кавалерией с задачей не упускать из виду австрийских кирасир, он во главе 8-го и 48-го полков линейной пехоты вошел в лес Гогенлинден. Три батальона венгерских гренадер из состава охранения артиллерийского парка построились к атаке и двинулись на Ришпанса в штыки, думая, что его солдаты — нерегулярные войска. 48-й полк опрокинул их. Этот небольшой бой решил судьбу дня. Хаос и паника распространились по всему артиллерийскому парку и обозу. Возницы рубили упряжь и в беспорядке бежали, оставив 87 орудий и 300 повозок. Паника от арьергарда распространилась на авангард. Те колонны, которые далеко продвинулись по дефиле, расстроили свои шеренги — они были напуганы катастрофической летней кампанией (здесь Наполеон имеет в виду сражение при Маренго. — А. З.). Кроме того, большую их часть составляли рекруты. Ней и Ришпанс соединились. Эрцгерцог Иоанн отступил в полном расстройстве на Хааг с остатками своей армии. Вечером 3 декабря штаб-квартира Рейнской армии была перенесена в местечко Хааг. В этом сражении, которое решило исход всей кампании, шесть французских дивизий, которые составляли половину армии, связывали почти всю австрийскую армию. Силы, участвовавшие непосредственно в битве, были почти равны — по 70 000 с той и другой стороны. Эрцгерцог Иоанн не смог бы собрать больше, в то время как Моро мог выставить на поле боя в два раза больше солдат. Потери французской армии составили 10 000 человек убитыми, ранеными и пленными, как в деле при Дорфене, Ампфинге, так и в сражении при Гогенлиндене. Потери противника составили 25 000, исключая дезертиров. Семь тысяч пленных, в том числе два генерала, 100 пушек и большое число фургонов обоза — стали трофеями этого дня. Надежды Австрии вновь были рассеяны в результате фатального для нее сражения при Гогенлиндене. У этой страны более не оставалось надежды на иные альтернативы, кроме заключения мира на лучших условиях, которые она сможет себе выторговать. Окончательный договор был подписан в Люневиле 9 февраля 1801 года».
Мы привели здесь почти полностью описание сражения при Гогенлиндене, сделанное самим Наполеоном значительно позже события. И хотя нам не приходится удивляться его гению, феноменальной памяти, военному профессионализму и т.д., тем не менее в его словах угадываются оттенки если не зависти, то, по крайней мере, явной критики Моро (…использовал только половину армии; …не было связи между дивизиями Ришпанса и Декана;
…французские войска блуждали всю ночь со 2-го на 3-е декабря и поэтому не все дивизии успели подойти к началу сражения; …лишь благодаря усилиям Нея, а также импровизированной атаки Ришпанса была добыта победа и т.п.).
Здесь невольно вспоминается проигранное в 16.00 и выигранное через час сражение при Маренго. Вот как описывает драматические минуты этой легендарной битвы уже цитированный нами Адольф Тьер: «…каре смыкает ряды, но еще держится. Наконец, расстреливаемый со ста шагов в упор, этот “гранитный редут”, консульская гвардия, ведет стрельбу до последнего патрона и затем под огнем вражеской артиллерии отступает… Бонапарт, сидя на насыпи у большой дороги …видит, как мимо него, справа и слева, в сильном беспорядке отступает пехота. Некоторые батальоны шли толпой, без всякого строя…
16 часов. Французы продолжают отступать…» Куанье писал в своих мемуарах, что «…видел колонну беглецов, удиравших со все ног…»
16 часов 30 минут. В рядах австрийцев раздаются уже ликующие победные крики. Непобедимый Бонапарт разбит! Раненный в руку Бертье считает сражение проигранным.
17 часов. Генерал Дезе во главе шеститысячной дивизии Буде показывается перед Сан-Джулиано-Веккьо. Он с ходу вступает в бой, опрокидывает ошеломленных австрийцев, часть из которых уже села готовить себе суп, и погибает, сраженный пулей в сердце, принеся победу Наполеону.
Хотя в анналах Истории сохранилось описание ошибок, совершенных Наполеоном в сражении при Маренго, мы не беремся анализировать здесь действия великого человека, ведь победителей не судят, да и, по словам самого Наполеона, «победа всегда достойна похвалы, независимо оттого, что ведет к ней — удача или талант главнокомандующего». На наш взгляд, этот афоризм справедлив как для Маренго, так и для Гогенлиндена.
* * *
Итак, перед нами два сражения, отделенных исторически ничтожным промежутком времени — 5,5 месяца. Оба равны на чаше весов. Или все же нет? И да и нет. Да — потому что ими руководили два великих французских полководца. Напомним читателю, что Бонапарт и Моро как военачальники в общественном мнении французов в конце 1800 года воспринимались равными, и Наполеон еще не был тем, кем он станет через 5—10 лет. Да — потому что оба сражения были выиграны, хотя исход их висел на волоске.
Нет — потому что, во-первых, Гогенлинден был грандиознее Маренго, хотя бы по численности противоборствующих сторон, которая в 2 —3 раза превосходила Маренго. Во- вторых, Гогенлинден на некоторое время затмил своей славой Маренго, и если бы не наполеоновская пропаганда, ограничение свободы печати, сейчас о Гогенлиндене говорили и писали бы больше, чем о Маренго. И, наконец, в-третьих, что самое главное — политические последствия Гогенлиндена были куда более значимыми для судеб Французской республики, чем последствия Маренго. Именно Гогенлинден Моро, а не Маренго Бонапарта привел к краху второй коалиции и подписанию Люневильского мирного договора. И здесь своей победой Моро вновь помог Бонапарту. И если бы не жестокая цензура, введенная Наполеоном, то сражение при Гогенлиндене считалось бы жемчужиной в череде побед республиканских армий, и о нем и о Моро писали бы куда больше!
Однако, как мы вскоре сможем убедиться, Наполеон не простит этой победы ни Ришпансу, ни Гренье, ни многим другим способным офицерам, кто был вместе с Моро в этот знаменательный день, ни самому Моро. Пользуясь своей властью, Наполеон постепенно удалит из окружения Моро его сподвижников. Так, Гренье отправится с экспедиционным корпусом в Сан-Доминго, Ришпанс — в Гваделупу, Декан — в Индию, Иль-де-Франс и на Сейшельские острова, Лекурб будет смещен, а затем вовлечен в какую-то аморальную аферу.
* * *
Маренго и Гогенлинден — эти два блестящих сражения в истории революционных войн, увы, явятся для двух великих полководцев двумя яблоками раздора. Причины, полагаем, понятны.
Через шесть лет в битве при Ауэрштедте маршал Даву разобьет почти всю прусскую армию, имея под рукой только один корпус, а «бог войны» при Иене уничтожит лишь фланг пруссаков. Маршал превзойдет императора, зажав в тиски войско короля прусского; и это будет не менее ярко, чем Аустерлиц. Но об этом мало кто знает!
«Редкие существа не подвержены зависти, — пишет А.Ю. Иванов в своей книге «Двенадцать Бонапартов» (М.: Вече, 2006, с. 128), — Наполеон из них. Но кто может гордиться свободой от ревности — чувства, которое он теперь будет испытывать к Даву? Хотя о подвиге “паладина” и существенных деталях событий узнают избранные, а вся слава вступления в Берлин достанется императору!»
Испытывал ли Бонапарт в 1800 году зависть к Моро за Гогенлинден? Полагаем, что да. Испытывал ли Моро зависть к Бонапарту за Маренго? Думаем, да, но недолго. Гогенлинден затмил Маренго и вознес Моро на вершину славы. Однако так повелось, что всегда выигрывает тот, кто стоит у руля власти. И Бонапарт не переживает, он уже знает, как сделать так, чтобы потомки запомнили только Маренго Наполеона, а не Дезе, а про Гогенлинден вообще забыли. Но этот успех Моро Бонапарт обязательно использует в своих целях.
* * *
После короткой передышки Моро идет на Вену. Никто и ничто уже не в силах остановить победоносную Рейнскую армию. Эрцгерцог Карл, сменивший своего неудачливого брата, вынужден просить о перемирии. «Надеюсь, вы ему откажете, — ведь мы в восьми переходах от Вены, — говорит Декан, — вы же не лишите нас славы победоносно завершить кампанию?»
«А разве завоевание мира не важнее?» — отвечает ему Моро. И в Рождество, 25 декабря 1800 года перемирие было подписано в Штайре (Австрия). Французские аванпосты действительно появились в 100 километрах от Вены, вот почему первый консул, наученный горьким опытом, и слышать не хотел об окончании войны до тех пор, пока Австрия не подпишет сепаратный договор с Францией. Отброшенная на свой последний оборонительный рубеж, отделявший ее от собственной столицы, Австрия была вынуждена выйти из союза с Англией. Британский кабинет, заплативший 2 миллиона фунтов за эту войну, ничего не мог сделать. Раздражение первого консула по поводу уклончивой политики Австрии и заговоров, творимых Англией с целью восстановления правления Бурбонов, о которых Бонапарт был хорошо осведомлен, нельзя было скрыть. Вот почему его радость от победы при Гогенлиндене была велика, так как именно эта победа перевесила чашу весов в его пользу. И помог ему в этом его соперник — скромный генерал Жан-Виктор Моро.
Глава V. ЗАГОВОР XII ГОДА
Наполеон был информирован о победе при Гогенлиндене 6 декабря, в субботу, вернувшись из оперы. Вот что вспоминает об этом Бурьен, его личный секретарь: «Я вручил Наполеону депешу, прочитав которую он подпрыгнул от радости. Должен заметить, что первый консул не ожидал такого успеха Рейнской армии. Эта победа дала новый импульс переговорам и способствовала открытию конгресса в Люневиле 1 января 1801 года».
Супруга генерала Моро, получив от мужа известие о победе, поспешила в Тюильри, к гражданину первому консулу и к гражданке Бонапарт. Однако они не удостоили ее своим вниманием. Эжени Моро ждала очень долго и приезжала неоднократно, но все было напрасно. Последний раз она приехала со своей матерью, мадам Уло, на этот раз к Жозефине. Снова бесполезно прождав в приемной, ее мать не смогла сдержать чувств и громко произнесла в присутствии окружающих, в том числе Бурьена: «Плохо быть женой победителя при Гогенлиндене и танцевать в приемной, ожидая аудиенции…»
Эта ремарка дошла до ушей тех, кому предназначалась. Генерал Декан дает по этому поводу следующее объяснение: «Жозефина была занята — она принимала ванну…» Пусть так. Но почему не послала одну из своих фрейлин с извинениями?
Вскоре мадам Моро отправилась к своему мужу в Германию. Позднее теща генерала Моро, мадам Уло, вновь приехала в Мальмезон просить о повышении для своего старшего сына, который служил на флоте и который, увы, вскоре погиб. Жозефина очень ласково приняла ее и пригласила к обеду вместе с господином Карбоне, другом Моро, который сопровождал ее. Мадам Уло приняла приглашение. Но первый консул появился только к обеду и был весьма холоден с ней: говорил, но мало, и, отобедав, тут же удалился. Эта явная грубость была заметна и настолько враждебна, что Жозефина сочла своим долгом извиниться за мужа, который вел себя так из-за того, что «был расстроен по пустяковому поводу».
Нельзя сказать, что Бонапарт относился к Моро с неприязнью, так как не боялся его. После битвы при Гогенлиндене первый консул говорил о нем в возвышенных тонах и не скрывал, что обязан Моро в связи с последствиями, которые имела эта победа. Однако глава государства не выносил семью его жены, а именно супругу и тещу Моро, которых считал компанией двух больших интриганок.
В самом конце 1800 года на жизнь Бонапарта было совершено покушение, что привело к серьезным изменениям в рядах республиканской партии. Среди сравнительно малочисленных уцелевших до тех пор якобинцев, террористов и анархистов был организован заговор с целью ликвидации человека, внушавшего им такой искренний страх. Однако все планы заговорщиков стали известны министру полиции Фуше, и хотя сама организация заговора не разрушилась, тем не менее оказалась совершенно несостоятельной. Многие, в том числе и сам Бонапарт, думали впоследствии, что хитрый министр полиции вел двойную игру и умышленно приберегал шайку заговорщиков, чтобы пустить ее в дело, если это будет в его собственных интересах. Одновременно существовал другой, еще более опасный заговор. Роялисты уже давно вели с Бонапартом тайные переговоры, начатые еще в то время, когда занималась заря его славы. В первое время Бонапарт заигрывал с роялистами. «Утверждали даже, — писал В. Слоон, — будто он дал понять претенденту на французский престол, что его собственное честолюбие вполне удовлетворится независимым княжеством в Италии». Возникшие таким образом надежды привели к усилению роялистской партии, но по мере того как она становилась многочисленнее, в ее рядах стали обнаруживаться серьезные разногласия. В результате эта партия распалась на несколько фракций, одна из которых, наиболее сильная и придерживающаяся особенно строго принципов легитимизма, осталась верной проживавшему тогда в Варшаве претенденту, именовавшемуся королем Людовиком XVIII. Другая фракция, желавшая возвести на престол графа д'Артуа, интриговала в Англии в его пользу, а третья, признавая обоих упомянутых претендентов слишком слабохарактерными, чтобы управлять Францией, только что пережившей революционную бурю, благоприятствовала молодому герцогу Энгиенскому и с каждым днем усиливалась в Париже вследствие перехода в ее ряды многочисленных сторонников обеих других фракций.
Вожди партии герцога Энгиенского неутомимо интриговали в его пользу. Вандейская ячейка этой партии организовала из своей среды тайный комитет, стараниями которого вечером 24 декабря 1800 г. была подброшена адская машина перед каретой первого консула, ехавшего по узкой улице Сен-Никез в театр слушать оперу. Кучер своевременно заметил лежавший на дороге необычный предмет, отвернул в сторону и так быстро промчался мимо, что все находившиеся в экипаже не пострадали от ужасного взрыва, произошедшего в следующее мгновенье. «Несколько ни в чем не повинных людей погибло на месте, более 60 человек было ранено и около 40 домов разрушено, или сильно повреждено», — писали газеты того времени. Этот эпизод довольно правдоподобно воспроизведен в эпической ленте Ива Симоно, Жан-Пьера Гюрена и Жерара Депардье «Наполеон» по одноименной книге Макса Галло (2002 г.). Правда, 40 разрушенных домов выглядят явным преувеличением, но тем не менее взрыв был довольно большой силы.
Первый консул и его супруга продолжили свой путь и, бледные от волнения, появились в своей ложе в опере. Театр был переполнен публикой, среди которой мгновенно распространилась весть о случившемся. Затем консульская чета спокойно удалилась. Покушение на жизнь первого консула произвело шокирующее впечатление во всей Франции. Французы отнеслись с самым искренним одобрением ко всем мерам, какие только сочло нужным принять консульское правительство после этого случая.
* * *
Первый консул воспользовался представлявшимися ему благоприятными условиями для усиления своей власти. В. Слоон писал: «Коварство жертвы, счастливо избавившейся от гибели, несомненно, превзошло даже коварство заговорщиков, покушавшихся на его жизнь». Здесь американский писатель, безусловно, прав. В преступлении обвинили сначала радикалов, и Сенат постановил сослать 130 наиболее активных из них на медленную смерть в тропики, на Сейшельские острова в Индийском океане. Кроме того, Фуше, заподозренный в тайном сочувствии якобинству, был отстранен от должности и лишь четыре года спустя снова вошел в милость. Участники заговора — граждане Чаракки, Арена и некоторые из наиболее бойких на язык их товарищей — были осуждены на смерть и казнены. Вскоре, однако, выяснилось, что истинные виновники покушения были вандейцы. Полагали, что при таких обстоятельствах Бонапарт вернет изгнанных радикалов из ссылки, но он этого не сделал, мотивируя свой поступок необходимостью сохранения общественного порядка. Из общего числа действительных соучастников преступления лишь только двое были схвачены и казнены.
Однако самыми негативными последствиями этого покушения, известного под названием «заговор улицы Сен-Никез», или «нивозский заговор», были падение Моро и расстрел герцога Энгиенского, так как первый консул решил раз и навсегда проучить своих врагов, вселив ужас в их собственные сердца.
2 января 1801 года Моро узнает о неудавшейся попытке покушения на Бонапарта в Париже на улице Сен-Никез. Он немедленно пишет Наполеону:
«Спешу сообщить вам, гражданин первый консул, что я объявляю по армии о новых попытках покушения на жизнь первого лица в республике. Рейнская армия с самым живым негодованием узнает об этом преступлении. Уверен, я предвосхищу ее чувства, если скажу, что она в любой момент готова встать на вашу защиту…» Вот проза жизни! Письму явно не хватает теплоты. Откуда взялся этот протокольный тон, эта сухость выражений вместо сердечной взволнованности, которая в данном случае была бы вполне уместна. Почему? Зададимся этим вопросом и мы. Да потому, что у Моро есть много причин быть недовольным. Первая и самая важная состоит в том, что он перестал быть главным в деле продвижения по службе офицеров и солдат Рейнской армии. Большинство его рапортов, адресованных на имя военного министра (к тому времени эту должность уже занимал Александр Бертье) либо задерживались, либо отклонялись по причине того, что содержали излишне хвалебные характеристики. Именно поэтому Моро, несмотря на свои настоятельные просьбы, не смог добиться присвоения очередного звания—дивизионного генерала своему подчиненному и другу, генералу Лаори. Напротив, офицеры, исключенные из рядов Рейнской армии за незаконные поборы или неподчинение, получали в военном министерстве весьма снисходительный прием. Вот что пишет Моро в своем письме от 13 фримера (13 декабря 1800 года) военному министру Бертье: «…Я серьезно озабочен тем, что продвижения по службе и награждения, которыми я считал своим долгом поощрять за таланты, храбрость, доблесть, мужество и былые заслуги моих подчиненных, не утверждаются правительством… Если это касается меня лично, то, полагаю, было бы лучше снять с меня командование армией, чем заставлять терять уважение, которым я заслуженно пользуюсь…»
К этому протесту Бертье остался глух, либо, и это Моро хорошо понимал, в данном случае Бертье означало — Бонапарт. Короче говоря, теперь все зависело от Парижа, как если бы первый консул хотел продемонстрировать всем армиям республики, и особенно Рейнской, что у них теперь только один начальник — он сам.
Другой причиной черного юмора Моро было то, что он по прошествии целого месяца со дня победы при Гогенлиндене все еще не получил личного поздравления от Бонапарта, которое, как он считал, тот должен был выразить.
Это поздравление, в конце концов, пришло с письмом от 5 января 1801 г. Оно было одновременно и теплым и запоздалым: «Не буду говорить вам, с каким интересом я узнал о ваших блестящих успехах. Вы превзошли самого себя в данной кампании. Эти несчастные австрийцы очень упрямы; они рассчитывают на снег и лед; они вас еще не знают. Примите мои наилучшие пожелания…» Но Бонапарт поступил еще лучше. 2 января 1801 г. он объявил Законодательному собранию о победах Рейнской армии в самых пламенных и восторженных выражениях. Расточая похвалы армии, он расточал похвалу ее главнокомандующему. «Победа при Гогенлиндене раскатилась эхом по всей Европе; она войдет в анналы Истории в числе самых славных побед французского оружия… Рейнская армия, форсировав реку Инн, вела ежедневные бои, и каждое сражение — было ее триумфом…»
Нельзя отрицать красоты и величия этих слов почитания и уважения.
Моро, однако, не позволил себе растрогаться — холодность по отношению к Бонапарту превалировала. Именно в это время он узнает из писем жены очень неприятные факты о том, как госпожа Моро ездила в резиденцию первого консула, приятно надеясь получить там тысячи комплиментов в адрес своего великого мужа. Но Бонапарт ее не принял. Он не произнес даже имени Моро. Какое разочарование!
* * *
После подписания перемирия в Штайре Моро устраивает свою главную квартиру в Зальцбурге. Отсюда он наблюдает за оккупацией различных стратегических пунктов, которые Австрия предоставила Франции в качестве залога. Когда это было сделано, он рекомендует своим подчиненным не обременять слишком тяжелыми требованиями население оккупированных территорий.
Моро позволяет себе небольшой отдых. Вместе с генералом Деканом они посещают соляные шахты Берхтесгадена. Моро было приятно проводить время в компании с Деканом, так как их объединяло как землячество, так и общность взглядов. Декан отказался от карьеры адвоката в своем родном городе Кане так же, как и Моро — в Ренне. И тот и другой проклинали эксцессы революции, но оба оставались верными ее главным и великим принципам. Наконец, их объединяла крепкая мужская дружба: такая же, которую они питали к Клеберу, у которого Декан был адъютантом в Майнце. Оба, узнав об убийстве в Каире славного сына Эльзаса, погрузились в глубокую печаль. Бедный великий Клебер!
Несколько дней спустя после посещения соляных шахт в Берхтесгадене в Зальцбург пришло известие о подписании Люневильского мирного договора. Освободившись впредь от забот стратегии, Моро с радостью сообщает своей жене, что едет встречать ее во Францию, чтобы привезти к себе, в Баварию. Он назначил ей встречу в Люневиле и тут же отправился в путь.
* * *
Он так спешил к ней, что остановился в Страсбурге всего на одну ночь и отказался от почестей, которые ему приготовили власти города. В Люневиле, не выходя из коляски, он принял в свои объятия милую Эжени. Она устремилась к нему, ослепленная славой Гогенлиндена, которая, казалось, лучами исходила от ее супруга. Он усадил ее рядом, приказал кучеру развернуть коляску, и, воссоединившись, супружеская чета помчалась по дороге, ведущей в Германию. Это было настоящее свадебное путешествие. Через несколько долгих, но восхитительных этапов пути они наконец прибыли в улыбающийся Зальцбург, но прожили там ровно неделю, так как был получен приказ о «репатриации», то есть возвращении во Францию Рейнской армии. И вот они на обратном пути домой. Остановка в Мюнхене, Аугсбурге и, наконец, в Страсбурге. На этот раз Моро с удовольствием принимает в присутствии своей жены почести от муниципалитета города. Именно в Страсбурге им попались на глаза два номера «Монитёра», в которых, не называя имени генерала Моро, делался намек на его финансовую политику во время последней кампании. Анонимный автор писал: «…что с Германией слишком бережно обошлись» и что в Рейнской армии имеется задолженность по выплате денежного довольствия офицерам и солдатам от 8 до 10 месяцев.
Моро не сомневался в том, что это происки правительства и извращенный способ предъявить ему счет. 19 мая 1801 года он пишет письмо военному министру, которое по форме представляет собой и протест, и способ оправдания. В этом письме Моро заявляет, что «на завоеванные страны была наложена контрибуция в размерах, не ущемляющих жизненно важные интересы населения» …что «в сумме вся контрибуция составила 44 миллиона франков» …что «из этих 44 миллионов 7 миллионов были изъяты для особых целей» …что «эти 7 миллионов были потрачены на вознаграждения отличившихся в боях солдат и офицеров армии, на возведение памятников заслуженным офицерам и генералам, погибших на полях сражений, банковские расходы, на помощь отдельным корпусам, пострадавшим в ходе боевых действий больше, чем другие, на покупку лошадей, снаряжения и т.п.».
Полный перечень расходов на нужды Рейнской армии существовал еще XI году республики (1803 г.). Затем он был утерян. В связи с отсутствием финансовых документов, История не в состоянии представить на суд читателя полный отчет о расходовании этих средств генералом Моро.
Но давайте зададимся вопросом: было ли это дело противозаконным?
Да, судя по материалам печати того времени. Нет, судя по другим источникам. Оставил ли себе Моро хотя бы часть из этих 7 миллионов? «Минимум — 4 миллиона», — заявляет отличный математик Наполеон Бонапарт. «Ему было нечем даже заплатить долги, сделанные до женитьбы, и расплатиться за имение Гробуа», — возражают его друзья и почитатели.
Участок земли в Гробуа генерал Моро приобрел у Барраса после 18 брюмера за 200 000 франков, из которых он перевел только 100 000. Что касается его холостяцких долгов, то, согласно конфиденциальному свидетельству Декана, они составляли сумму в 30 000 франков и были взяты в долг у того же Барраса.
Прежде чем составить для себя хоть какое-то суждение по данному поводу, следует вспомнить, что большинство генералов Директории не отличалось особой принципиальностью. Существовало мнение, что война должна сама кормить себя. Причем не только война, но и тот, кто ее ведет. Никто не воевал ради того, чтобы обогатиться, но и никто не пренебрегал возможностью обогатиться, сражаясь. В то время велико было число дворянских имений, попавших в липкие руки чиновников от революции, ответственных за раздел национальной собственности. Бывшие дворянские усадьбы затем выкупались республиканскими генералами по возвращении из победоносных кампаний в Германии или Италии.
В любом случае очевидно, что многие генералы, офицеры, унтер-офицеры и даже солдаты получали вознаграждение звонкой монетой из этих семи миллионов франков, и что Моро с целью получения наличных денег для указанных выплат вынужден был оплачивать дорогостоящие банковские операции, и что он, Моро, в целях увековечивания памяти таких генералов, как Бопюи, Дезе, Абатуччи и Клебера, воздвигал в их честь мемориальные памятники и выплачивал жалование солдатам-инвалидам, назначенным для их охраны. В этой почетной миссии миллионы улетучивались мгновенно. Кроме того, несомненно и то, что позиция самого Моро в этих обстоятельствах представляла собой образ действий человека, которого не в чем себя упрекнуть. Не желая замять это дело, он стремился открыто обсудить его с общественностью. Моро обратился во все газеты Парижа с просьбой опубликовать его открытое письмо с разъяснениями. Но консульская полиция запретила публикацию. Таким образом, на это своего рода обвинение, безусловно, сдержанное по форме, но официальное по содержанию, Моро не мог дать публичного ответа. Сей факт, как легко можно догадаться, еще больше раздосадовал победоносного генерала.
Вернувшись в Париж 23 мая 1801 года, супружеская чета Моро решила не останавливаться в столице. Госпожа Уло, теща генерала, ожидала молодоженов в своем замке д'Орсе, который до революции принадлежал откупщику, некоему господину Гримо дю Фору, и который она приобрела через посредника, торговавшего национальной собственностью. Она реставрировала замок и обставила его на свой вкус.
* * *
Мадам Уло пригласила многочисленных родственников, знакомых и друзей в свой замок, чтобы достойно встретить героя Гогенлиндена. В то время рядом с замком был вырыт большой канал длиной 1200 метров, который с обоих концов замыкался прудами. Храм Славы — так все называли этот замок — с восточной стороны канала возвышался примерно на 30 метров, что совместно с регулярным парком и зелеными насаждениями создавало великолепный вид из любой точки дома. Особняк представлял собой просторное здание с жилыми комнатами и залами для приемов. На втором этаже находился салон кубической формы, широкий и объемный, окна которого располагались сразу за фронтоном из четырех ионических колонн. С обеих сторон были спальные комнаты и ванная. На первом этаже располагалась столовая, кухня и комнаты для слуг.
Генерал Моро с супругой появились на гондоле, которая медленно скользила вдоль пруда, ведущего к замку, берега которого украшали аккуратно постриженные деревья, зеленевшие яркой весенней листвой. Когда гондола причалила к террасе, гром оваций и аплодисментов огласил округу.
Моро еще издалека заметил эту великолепную террасу, окрашенную в белый цвет и являвшуюся частью павильона, колонны которого, выполненные в неогреческом стиле, отражались в спокойной воде пруда. Это был поистине настоящий храм славы — шедевр архитектора Клода-Пьера Виньона, — приготовленный самой льстивой из всех тещ своему драгоценному зятю. Как только лодка коснулась берега, Моро с супругой перешагнули через борт и быстро поднялись по ступенькам, ведущим прямо в хоромы замка, где их ожидал помимо моря цветов и мягких звуков скрипичного оркестра опьяняющий прием взволнованных почитателей.
Такой апофеоз мог только навредить победителю, склонному к излишней гордости. Не было необходимости превозносить и еще раз пробуждать в нем чувство «головокружения» от достигнутых успехов. Этого чувства у него и так хватало с избытком. Моро уже считал себя соперником Бонапарта. В беседе с Матье Фавье он говорит: «Что касается разработки концептуальных планов и проведения масштабных операций, Бонапарту нет равных; но если речь идет о методических боевых действиях на конкретном театре, о своего рода шахматной партии, то это совсем другое дело. Здесь я считаю себя выше его». И это действительно так. Будучи определенно слабее Наполеона в области стратегии, он был, по крайней мере, равен ему как тактик. Никто кроме него не смог бы дать сражение с таким мастерством, самообладанием и точным глазомером. Да, это был отличный шахматист, а его шахматной доской являлось поле битвы.
* * *
Моро должен был нанести визит вежливости первому консулу. Он прибыл во дворец Тюильри вместе с начальником своего генерального штаба — генералом Дессолем. Моро предстал перед первым консулом в гражданском платье. Бонапарт, шокированный такой бесцеремонностью, холодно начал беседу; однако постепенно они разговорились, и под конец тон беседы стал настолько добродушным, что можно было поверить в то, что никакой трещины в дружбе корсиканца и бретонца не существовало вовсе.
* * *
Еще только один раз Моро обедал в Мальмезоне, и этот прием оказался последним. Как это обычно бывает со знаменитостями, оставшимися не у дел, — главнокомандующего Рейнской армии увлекла политика. Поначалу, казалось, что он не желает себя защищать. Чтобы избежать просьб различных партий встать на их сторону, он решает жить отшельником. Пока идет ремонт его загородного поместья в Гробуа, он живет у своей тещи в замке д'Орсе. Кроме того, он приобретает особняк на улице Анжу, в который заказывает дорогую мебель от известного мастера Жакоба. Возможно, ему следовало сначала расплатиться с долгами и заплатить Баррасу 130 000 франков, которые он был ему должен. Но Моро поступил по-своему.
* * *
Однажды, в июне 1801 года, группа офицеров Рейнской армии пришла навестить своего шефа. «Правительство не оказало вам достойного приема, которое оно обязано было сделать после вашего возвращения из Германии, — сказали они, — это несправедливо. Мы хотим исправить положение и приглашаем вас на торжественный ужин, организованный в вашу честь». Моро был весьма тронут этим предложением и с удовольствием согласился.
Торжество состоялось в садах господина Рюгьери. Оно было пышным, но ему не хватало оживления. Все ощущали на себе тяжелое око консульской полиции. Моро казался смущенным. Присутствовавший там генерал Декан заявил, что он не увидел ни теплоты, ни радости, за исключением фейерверка, устроенного самим Рюгьери.
Декан для Моро был настоящим другом. Он смело и открыто мог говорить ему всю правду. Узнав, что первый консул сожалеет о неестественном самоудалении героя Гогенлиндена, Декан посоветовал Моро явиться в Тюильри. «Я не хочу унижаться», — ответил Моро. Напрасно старался Декан убедить своего друга, что визит во дворец к Наполеону не будет выглядеть как унижение, но упрямый бретонец не желал ничего слышать. «У Бонапарта дурное окружение. Все идет не так, как задумывалось», — говорил Моро. То, что Бонапарт был окружен дурными людьми, отчасти было верно. Но было ли оно лучшим у Моро? Определенно семья Уло имела большее стремление к завоеванию уважения, чем семья Бонапарта, но у нее были свои недостатки.
Высокомерие, амбиции, зависть с привкусом злословия — вот в чем можно упрекнуть госпожу Уло, уважая при всем при этом ее достоинства, как преданной матери и вдовы. Она изливалась в жалобах на супругу и сестер первого консула, в которых сквозила язвительная досада и зависть. Все это Моро с удовольствием слушал. Но с еще большим удовольствием он выслушивал тех, кто регулярно навещал его — генералов Лаори, Лекурба, Бернадота и командира бригады Фурнье-Сарловеза — все единодушно настроенные против Бонапарта. В этой связи интересна характеристика, которую дает, например, Лекурбу сам Наполеон: «…это скрытный, опасный и злой человек, который связан с нашими врагами…» Много позже за связь с Моро Лекурб попадет в опалу и будет сослан во Франш-Конте, а затем уволен со службы в 45 лет. В период Ста дней Наполеон с трудом уговорит его принять командование небольшим корпусом в департаменте Юра на юго-восточной границе Франции. С горсткой людей (дивизия Аббе и кавалерия Кастекса) Лекурб остановит сорокатысячную австро-германскую армию под командованием Коллоредо, но после второго отречения Наполеона будет вынужден сложить оружие 11 июля 1815 года. Король окончательно отправит Лекурба в отставку, и, ослабев, этот способный генерал умрет три месяца спустя в возрасте 56 лет. Вот какие друзья были у Моро.
Но вернемся в 1801 год. То, что ход событий развивался вразрез с идеалами революции, что Консулат превращался в диктатуру, что гражданские свободы находились под угрозой, что республика агонизировала — все это было бесспорно. Но особенно больно для Моро было то, что он сам помог Бонапарту взойти на олимп власти в день 18 брюмера.
Однако разве Моро не чувствовал, что недовольство, поселившееся в его душе, одновременно и робкое и неуживчивое, недостойно его славы и что в отношении первого консула у него есть только три пути: полный нейтралитет, открытая вражда или сотрудничество.
Здесь следует заметить, что с самого начала мероприятий, путем которых остатки республики начали преобразовываться в неясные еще предвестники будущей монархии, против них стали раздаваться категорические протесты. Обстоятельства складывались, однако, так, что им можно было не придавать серьезного значения. Так, например, даже в судебном ведомстве нашелся смелый патриот, некий гражданин Барнабе, который дерзнул объявить переворот 18 брюмера противозаконным. Некоторые неосторожные люди позволяли так громко высказывать недоверие первому консулу и заявлять о необходимости низвержения диктатуры, что можно было выдвинуть правдоподобное на первый взгляд обвинение в заговоре против правительства в отношении граждан Черакке и Арене, двум корсиканцам, особенно ожесточенно порицавшим своего гениального соотечественника. Услужливая полиция утверждала еще в начале 1800 года, что ей удалось раскрыть все подробности заговора, но в действительности он существовал лишь в ее воображении. Французские войска, в особенности те, которым доводилось сражаться под начальством Моро, держались еще республиканских принципов. Так, например, солдаты и многие офицеры Рейнской армии отнеслись с негодованием и презрением к Конкордату. Искренние республиканцы разделяли инстинктивное их убеждение в том, что восстановление легальным путем католической иерархии угрожает серьезной опасностью существованию республики. Эта иерархия, по сути своей монархическая, должна была сочувствовать восстановлению монархии, с которой в течение тысячи лет была связана взаимной солидарностью интересов.
Первый консул понимал, что попытки реакции следует подавлять в зародыше. Он признал необходимым найти занятие для солдат-республиканцев за границей, подобно тому, как перед тем удалил из Франции политиков-республиканцев. Основываясь на условиях Амьенского мирного договора, обеспечивающего, кроме всего прочего, свободу мореплавания, Бонапарт решает начать осуществление своей колониальной политики. В этой связи он снаряжает экспедицию для завоевания плодородного острова Сан-Доминго, население которого воспользовалось революционными идеями и слабостью республиканской Франции на морях, чтобы объявить себя независимым. Полагают, Бонапарт не отдавал себе полного отчета в опасности такой экспедиции, поставив во главе ее генерала Леклерка, мужа своей сестры Полины.
В противном случае пришлось бы заподозрить его в намерении пожертвовать собственной сестрой, так как он принудил госпожу Леклерк, несмотря на все ее слезы и возражения, ехать вместе с мужем. Войска для этой экспедиции были взяты преимущественно из состава Рейнской армии. Флот, состоявший из тридцати четырех линейных кораблей, двадцати фрегатов и многочисленных транспортов, на которых разместилось свыше двадцати тысяч солдат, покинул берега Франции 14 декабря 1801 года и в конце января 1802 года благополучно достиг места своего назначения. Однако экспедиция закончилась печально. Солдаты, не выдержав тропического климата и сопутствующих ему болезней, стали заболевать и умирать от желтой лихорадки. На острове вспыхнуло восстание, и через пару лет французы утратили всякую надежду удержать за собой эту новую колонию Франции. Генерал Леклерк еще в 1802 году опасно заболел и уехал на Черепаший остров, где и умер от желтой лихорадки 2 ноября 1802 года. Каким бы ни было разочарование первого консула результатами экспедиции, все-таки он освободился от неугодных ему республиканцев-генералов и республиканцев-солдат. Грандиозный проект французской колониальной политики, опорными пунктами которой должны были служить штат Луизиана в Америке и остров Сан-Доминго в Вест-Индии, рушился бесповоротно.
Но вернемся вновь к нашему герою. Моро в политике, начиная с 1789 года, так ничему и не научился, но и ничего не забыл. Он стоял на антиклерикальных позициях конституантов (членов Учредительного собрания Франции в 1789—1791 гг.), а в ходе подписания Конкордата в июле 1801 года его голос звучал в хоре тех, кто был против этого акта национального примирения.
А вот Декан, хотя и был убежденным республиканцем, не был столь непримиримым. Он восхищался созидательной работой первого консула и сожалел о том, что его лучший друг отказывался в ней участвовать.
В первую годовщину сражения при Гогенлиндене — 3 декабря 1801 г. Моро пригласил на обед в свой особняк на улице Анжу ряд генералов и офицеров Рейнской армии, которые в то время находились в Париже и ближайших пригородах. На обеде присутствовал военный министр, и генерал Декан, взяв под руку Моро, спросил:
— Зачем вы пригласили Бертье? Он же не был при Гогенлиндене.
— Да, это так, — ответил Моро, — но я хотел, приглашая его, развеять все подозрения первого консула относительно заговора.
— Что? — воскликнул Декан, — вы полагаете, он вас подозревает?
— Я знаю, что за мной следит его полиция.
— Это потому, что вы живете отшельником… пойдите к нему в Тюильри.
— Мне нечего у него просить.
— Пусть так, но хотя бы ради офицеров, которые служили с вами?
— Достаточно того, что я их рекомендовал, а они ничего не получили.
— Откуда вы знаете?
— Я в этом уверен.
* * *
Весной 1802 года Моро покинул замок Орсе и переселился в свое поместье Гробуа. Декан был очень рад этому событию, полагая, что его друг избавится от прямого влияния госпожи Уло. К сожалению, и вдалеке от своей тещи Моро продолжал неосторожные высказывания. Он не переставая повторял, что семья корсиканца хотела женить его на одной из сестер Бонапарта и что ему удалось избежать этой «порочной семейки». На самом деле выражение Моро было куда более хлестким. Но по соображениям этики мы не можем воспроизвести его полностью. Декан не сомневался, что этот грубый и недостойный эпитет был донесен до ушей первого консула одним из осведомителей. Злой язык Моро жестоко ранил сердце Бонапарта, о чем тот никогда не забывал.
Вместе с тем следует отметить, что и Бонапарт со своей стороны не особенно церемонился ни с семьей Уло, ни с самим Моро.
«Он не меняется, — говорит Бонапарт, — и всегда наповоду у тех, кто хочет им управлять. Вот и сейчас эта сумасшедшая старуха держит его на коротком поводке… Хорошо еще, что ее… не умеет разговаривать, а то бы и она им командовала. Эта теща-капрал с орехоколкой вместо рта — страшней чумы…» Что и говорить, армейский юмор и колкости умели извергать уста обоих уважаемых генералов.
18 апреля 1802 года состоялась торжественная месса в соборе Нотр Дам де Пари, вновь открывшемся для верующих после десятилетнего надругательства над храмами.
Моро, приглашенный правительством на мессу, не только не явился на это торжественное мероприятие, но и позволил себе насмешки по поводу всей церемонии, назвав ее «капуцинадой».
А вот мадам Уло и ее дочь повели себя иначе и пришли в церковь, не будучи туда приглашенными, и даже разместились на трибуне, предназначенной для семьи первого консула.
* * *
В мае 1802 года в связи с учреждением ордена Почетного легиона последовало очередное саркастическое замечание со стороны Моро.
Вот что генерал ответил фельдъегерю, посланному первым консулом в дом Моро спросить, не согласится ли тот быть награжденным новым орденом: «Он, что, с ума сошел? Я уже десять лет как состою в Почетном легионе».
Что до Наполеона, то он смотрел сквозь пальцы на эти выходки популярного генерала в силу слабости характера Моро и отсутствия у него силы воли. Моро много говорил, но был не способен на серьезный поступок.
Так, как полагают, считал Наполеон.
В ходе обеда, который Моро давал в честь своих друзей, многие из них очень хвалили блюда, приготовленные его шеф-поваром. Услышав эти комплименты, генерал велел привести своего главного кулинара и многозначительно объявил, что «награждает повара кавалером ордена кастрюли». Возможно, это выражение Моро не совсем точно, так как в мемуарах доктора О'Мира, опубликованных под названием «Голос с острова Святой Елены», он пишет со слов Наполеона следующее: «Моро высмеивал идею образования ордена Почетного легиона. Когда он от кого-то услыхал, что предполагается награждать орденом Почетного легиона также и тех, кто отличился в области науки, а не только тех, кто совершил ратный подвиг, то насмешливо заявил: “Ну что ж, тогда я представлю моего повара к званию командора ордена, так как его таланты в области поварской науки не поддаются описанию”». Как бы то ни было, сейчас точно нельзя сказать, действительно ли Моро произнес те или иные слова, но вполне естественно то, что их приписывают именно ему, так как они отражают глубину его мысли и тонкого юмора. Мнение Моро, как и мнение всей республиканской партии, состояло в том, что первый консул учреждал этот орден с единственной целью — увеличить число своих сторонников.
В этой связи вполне понятным и более справедливым представляется возмущение генерала, когда Сенатус-консульт в августе 1802 года провозгласил Бонапарта пожизненным консулом с правом назначения себе наследника. Этот факт ознаменовал канун установления диктатуры во Франции. В этом не было ничего удивительного, что могло бы огорчить старого федералиста из Понтиви, который продолжал верить в утопические идеалы своей молодости. Однако Моро был не единственным кадровым офицером высшего ранга, кого поразила трусливая снисходительность Законодательного корпуса. И хотя в Законодательном собрании существовала оппозиция в лице Грегуара, Ганиеля, Малларме, Андриэ, Дюпюи и Констана, вдохновляемая госпожой де Сталь, этот очаг сопротивления был не столь силен, как в армии. Ее профессиональные кадры состояли из убежденных республиканцев. Разве не революции обязаны были генералы и офицеры своим продвижением по служебной лестнице? «То, что они принимали за любовь к Республике, — пишет Токвиль, — являлось скорее любовью к Революции. В самом деле, армия во Франции оказалась единственным организмом, все части которого так или иначе выиграли от Революции, извлекли из нее выгоду». А вот что говорит по этому поводу Жан Тюлар — крупнейший специалист по Наполеоновской эпохе: «…вынужденная праздность, как следствие мира на континенте, зависть к более удачливым или более дерзским командирам, также порождали немало злобы. Недовольные группировались вокруг Моро, Ожеро, Лекурба, Дельмаса и вели подстрекательские разговоры». Среди офицеров и солдат, в основном из числа тех, кто служил в Рейнской армии, начались волнения. Некоторые даже предлагали свергнуть правительство. Стали образовываться заговоры. Наиболее известный из них был раскрыт в Ренне, который в полицейских анналах Консулата назывался «делом пасквилей». Задушенный в зародыше префектом Иль-э-Вилена бывшим членом Конвента Монье, заговор дал ход короткому и незаметному процессу, в который был вовлечен капитан Рапатель, в прошлом адъютант Моро, а также бригадный генерал Симон, действующий адъютант Бернадота. Первый консул поручил Фуше допросить Моро по этому делу, на что министр полиции получил следующий ироничный ответ генерала: «Ваше “дело” — это заговор масляных горшков» (горшки использовались для нелегальной транспортировки антибонапартистских памфлетов из Бретани в Париж. Весь «заговор» памфлетами и ограничился. — А. З.). Ирония этих слов не дошла до наших дней в полной мере, но соль выражения была настолько язвительной, что привела в бешенство Бонапарта, который воскликнул: «Этому надо положить конец!» И он заговорил об отправке своих секундантов к Моро. Дуэль Бонапарта и Моро? Вот это скандал! В этой связи нам представляется интересным привести здесь выдержки из статьи Ирины Данченко, опубликованной в виртуальной газете Заневский летописец (№ 911 от 10 января 2003 г.): «…мятеж в Ванде все никак не утихал. Известно было, что тамошнее население крайне набожно и суеверно. Возможно, как-то удастся сыграть на этом… в конце 1800 года первый консул, известный тщательным подходом к решению любой задачи, потребовал от министра полиции Фуше собрать сведения о суевериях, бытовавших в западных провинциях Франции. В донесении, которое ему было представлено, особое внимание уделялось одному жителю Нижней Нормандии, некоему Капиу. Тот славился тем, что умел предсказывать будущее. “Влияние этого человека так велико, — писал Фуше, — что в ходе последнего восстания в Вандее большинство мятежников действовало против республики лишь потому, что так им посоветовал Капиу. Полагаю, что этот необразованный мужлан чрезвычайно опасен”. Наполеон тотчас оценил пользу, которую мог бы принести ему этот необычный простолюдин, если найти к нему подход. И велел привезти его в Париж. Как только Капиу доставили во дворец, первый консул попросил, чтобы их оставили наедине.
— Знаешь ли ты, зачем тебя привезли сюда? — спросил он. — Догадываюсь, — спокойно ответил Капиу. — Спрашивайте
о чем угодно, но прежде я должен посмотреть вашу левую руку. Наполеон протянул предсказателю свою белую нежную руку. Тот поглядел на нее и вдруг вдохновенно произнес:
— Вы помирите Францию с Папой, гражданин первый консул, — и очень хорошо сделаете!
Этого было довольно, чтобы произвести впечатление на Бонапарта. Он любил все необычное и верил в чудеса, не поддающиеся объяснению.
Вскоре Наполеон действительно заключил Конкордат с Папой, а гражданина Капиу он повелел оставить в покое и обеспечить всем необходимым для жизни. Но сам о нем больше не вспоминал.
Однажды всеми забытый Капиу пришел к Фуше.
— Отпустите меня на родину, гражданин министр, — сказал он, — я чувствую, что более не нужен здесь… А между тем дело республики в опасности.
— Что же тебе известно, любезный друг? — спросил Фуше, стараясь придать своему мертвенно-бледному лицу ласковое выражение. — Если ты сообщишь что-то важное, услуги твои будут щедро вознаграждены. А пока возьми этот задаток. — И протянул Капиу десять луидоров. Спрятав деньги, Капиу сказал:
— Первый консул в большой опасности. Заговорщики есть даже в числе его приближенных. Вчера они собирались, чтобы убрать его, но решили пока отложить это черное дело… — И замолчал.
Пришлось Фуше дать Капиу еще десять луидоров. Тот порылся в сумке и достал несколько прокламаций, в которых Наполеона назвали похитителем власти, корсиканским тираном и т.п.
— Эти бумаги, — сказал ясновидящий, — напечатаны в Ренне и присланы на имя адъютанта генерала Моро — капитана Рапателя.
Фуше отреагировал на известие весьма живо: он тотчас же помчался во дворец Тюильри. Узнав обо всем, первый консул был взбешен. Жана-Виктора Моро, в тридцать лет ставшего генералом и звезда которого восходила по той же крутой траектории, что и его, Бонапарт давно уже считал опасным соперником.
— Этому пора положить конец! — в гневе вскричал первый консул. — Что ж, если Моро в состоянии управлять государством — судьба пойдет ему навстречу. Но Франция не должна страдать от честолюбия двух генералов. — И, не дав опомниться растерянным приближенным, закончил свою мысль: — Завтра в четыре утра сабли решат дело. Я вызываю Моро на дуэль! Сообщите ему об этом, Фуше! Немедленно!
На другой день на рассвете Моро с адъютантом и доктором прибыли в Булонский лес. Наполеон уже был на месте.
— Двум генералам, право, смешно драться из-за сплетен, — прекрасно владея собой, сказал Моро. — Я советую вам, гражданин первый консул, отказаться от этой безумной затеи.
Наполеон, видимо, остыл за ночь, потому что довольно дружелюбно предложил:
— Моро, можете вы дать мне честное слово генерала, что сведения о вашем участии в заговоре — ложны?
— Даю честное слово, — поклялся генерал. В это время приехал Фуше. С ним был Капиу.
— У меня есть новая информация, — сказал Фуше.
— Не нужно, — отрезал Наполеон. — Моро дал честное слово. И я верю ему. — Он подал руку Моро, сказав при этом: — Наша судьба очень странна, и никто не знает, что ждет в будущем. А вот этот малый, — он кивнул в сторону Капиу, — уверяет, что способен его предсказать.
— Ну, этот парень пороху не выдумает, — презрительно бросил Моро.
— Счастьем было бы для вас лет эдак через тринадцать не знать пороху, — загадочно парировал ничуть не смутившийся Капиу.
— Этот негодяй, кажется, хочет испугать меня!
— Я не думал пугать вас, — с достоинством ответил Капиу, — но я точно знаю, что порох принесет вам зло.
— Хорош предсказатель, — хмыкнул Моро. — Да это грозит любому военному.
Но тут Капиу сказал нечто странное:
— И даже ошейник вашей собаки не спасет вас.
Слова эти оставили у присутствующих странный осадок прикосновения к тайне…»
Мы привели здесь почти полностью этот полуфантастический рассказ, в котором, вероятно, есть доля правды, чтобы показать читателю, как много легенд слагалось о наших героях, насколько их соперничество было популярным в то время.
Ходила легенда и о самом Капиу, который в июне 1815 года пешком дошел до Ватерлоо, чтобы предупредить Наполеона не давать сражения в воскресенье, 18 июня, англо-голландской армии. Но его задержали на аванпостах и не пропустили к императору. И Ватерлоо было проиграно.
Однако вернемся к нашим соперникам. На самом деле поединок так и не состоялся. Чтобы избежать скандальной дуэли, Фуше отправился просить своего земляка — бретонского генерала Моро — нанести визит во дворец Тюильри, чтобы миром уладить дело. По свидетельству шефа полиции Демаре, Моро не отказался бы от такого визита и разговор двух соперников мог бы смягчить сложившуюся ситуацию… Ситуацию, возможно, да, но он ничего бы не изменил во взаимной вражде двух генералов.
Отныне Моро перестал реагировать на концентрацию вокруг своего имени надежд всех противников режима.
«Это Брут! Он принесет нам диктатуру», — говорили республиканцы о Бонапарте.
«Это Монк! Он восстановит трон Бурбонов», — пророчили роялисты, высказываясь о Моро.
Мы уже упоминали, что к концу 1802 г. вокруг Моро образовался круг известных генералов, таких как Бернадот, Декан, Лаори и др. В следующем году в некоторых французских городах, в том числе в Ренне, на стенах домов стали появляться афиши с лозунгами: «Да здравствует республика! Смерть ее врагам! Да здравствует Моро! Смерть первому консулу и его приспешникам!»
Некий господин Фош-Борель, из эмигрантов, временно проживавший в Англии, отправился в Париж, чтобы примирить двух других генералов — Моро и Пишегрю. Последний был выслан из страны и не имел разрешения первого консула на возвращение во Францию. В миссию Фош-Бореля, как мы полагаем, входила компрометация Моро, чтобы привлечь его на сторону Пишегрю. Однако со своей задачей он не справился, так как не знал строгих республиканских убеждений героя Гогенлиндена.
В Париже насчитывалось по меньшей мере семь тысяч офицеров, уволенных со службы, которые надеялись на Моро и мечтали привести его к власти, не имея возможности продолжить службу, либо получив отказ первого консула о восстановлении в армии. Кроме того, весь свет Парижа избрал Моро своим кумиром. Однажды на приеме у второго консула Камбасереса гости настолько плотно окружили Моро, что можно было подумать, что это его собственный дом и что он здесь хозяин, а Камбасерес — его церемониймейстер.
Естественно, что Бонапарта не могла не тревожить такая популярность соперника, почти равная его собственной.
В канун нового, 1802 года военный министр давал официальный ужин. Моро был среди приглашенных. Он вновь не надел свой генеральский мундир и явился к министру в гражданском платье. Его скромный драповый сюртук контрастировал с великолепной униформой присутствовавших офицеров. Украшенные золотым и серебряным шитьем мундиры, белые лосины генералов, шелковые чулки и туфли с дорогими пряжками высших должностных лиц Консулата контрастировали со скромным костюмом генерала Моро, что давало повод пересудам и разным комментариям.
* * *
Умышленно ли Моро создал этот контраст? Намеревался ли он таким образом выразить свой протест почти королевской пышности, окружавшей первого консула, мы не знаем; но точно известно, что роялистская и республиканская оппозиция считала, что Моро решил преподать урок скромности приспешникам режима.
На самом деле Моро любил простую и скромную одежду, вернее — свободную и удобную. Ведь его знаком Зодиака был Водолей, а человек, родившийся под этим знаком, ради свободы готов жертвовать многим. Вместе с тем его отличало тонкое чувство вкуса. Он не скрывал, что любил жить на широкую ногу, ценил уют, ему нравилась красивая мебель, и он предпочитал хорошие книги. Моро с удовольствием предлагал своим гостям великолепно украшенный стол с изысканными угощениями. Как и все Водолеи, находящиеся под воздействием непредсказуемой планеты Уран, Моро отличали тонкий юмор (иногда и злой язык, из-за которого он часто страдал), оригинальность мысли и не только, независимость, гордость и непредсказуемость поступков. Вместе с тем он всегда оставался мягким, чутким, вежливым, дипломатичным, спокойным, добрым, симпатичным и ласковым человеком. Он, как и многие Водолеи, не страдал серьезными болезнями. Единственным уязвимым местом — были ноги, особенно голени и лодыжки. Как и все Водолеи, Моро не любил холод зимой и излишнюю влажность летом. Он не любил брать взаймы и никогда не давал в долг большие суммы. Астрологическая наука учит: «Так, как мыслит Водолей сейчас, мир будет мыслить через пятьдесят лет». В этом смысле нельзя отрицать тот факт, что Моро обладал даром предвидения. Как искусный шахматист, генерал просчитывал вперед возможные ходы своего оппонента, и эта его способность не раз оказывала ему услугу в бою.
В своем отреставрированном загородном поместье Гробуа Моро вел жизнь крупного сельского помещика, а в Париже, в особняке на улице Анжу жил как буржуа высокого происхождения.
Даже во время боевых действий генерал не отказывал себе в маленьком комфорте. В этой связи интересна характеристика, которую дал герою Гогенлиндена сам Наполеон, уже находившийся в ссылке на острове Святой Елены: «Моро был смелым человеком, но ленивым и бонвиваном. В своей штаб-квартире он ничего не делал, за исключением того, что сидел, развалясь на диване, или ходил по комнате с курительной трубкой во рту. Его редко можно было застать читающим книгу. По своей природе он обладал хорошим характером, но находился под большим влиянием своей жены и тещи, которые составляли пару больших интриганок… Я рекомендовал Моро жениться на его будущей супруге по настоянию Жозефины, которая любила ее, потому что та была креолкой…»
Дальнейшее повествование покажет, насколько прав был Наполеон, давая такую характеристику нашему герою.
Только у себя дома Моро нравилось быть больше всего, находясь в окружении семьи и друзей; и если он понемногу стал выходить в свет, начиная с зимы 1803 года, то лишь только потому, чтобы не лишать свою супругу радости общения и успеха, который она неизменно имела в парижских салонах как прекрасная исполнительница музыкальных произведений и грациозная танцовщица.
Салоны конкурировали друг с другом за честь пригласить к себе героя Гогенлиндена. Однако супружеская чета Моро отдавала предпочтение салону небезызвестной мадам Жюльет Рекамье.
Жюли Рекамье и Эжени Моро были знакомы с детства, так как их матери были подругами. Поэтому сейчас им было легко восстановить дружеские отношения. В это время Жюли было 24 года, и она была женщиной удивительной красоты. Ее старый муж был банкиром и женился на ней, как если бы приобрел дорогую статуэтку. Он ничего не требовал от нее, кроме одного — позволять восхищаться ею. Он не относился к числу тех эгоистов-любителей, которые, обладая дорогим сокровищем, прячут его в сейф и изредка достают, чтобы в одиночестве полюбоваться им. Он считал, что и другие имеют право созерцать ее грацию. «Бог создал красоту, чтобы все могли любоваться ею», — сказал кто-то из великих. Но банкир также знал, что помимо красоты Жюльет обладала тонким умом и проницательностью. Она разжигала пламя страсти, но сама в нем не сгорала. Пренебрегая любовью, ее сердце билось ради дружбы. Но ее дружба походила на любовь и была пылкой, страстной, всепоглощающей. Счастливы те, кого она избирала.
В их число не входил первый консул. И он об этом догадывался. Ему было небезразлично, что в салоне у Жюльет собирались представители трех оппозиционных партий: роялистской во главе с Сабраном и Монморанси, республиканской во главе с Бернадотом и Массеной и «семейной», возглавляемой Люсьеном Бонапартом.
Позднее, когда Наполеон уже был императором, русский посланник в Париже граф Толстой влюбился в Жюли Рекамье. Вот что по этому поводу пишет Альберт Вандалы «Тщетно привлекал его император в свой интимный круг, тщетно пользовался всеми случаями отличить его и оказать ему почет: русский посланник оставался сумрачным, озабоченным и встревоженным. Он поступал как раз наоборот желаниям Наполеона. Вместо того чтобы посещать то общество, которое было в духе правительства, он обыкновенно искал в Сен-Жерменском предместье забвения от неприятных, удручающих его официальных обязанностей. Можно было подумать, что он нарочно пытался сходиться с лицами, наименее приятными императору. В их обществе он сбрасывал свою холодность и делался любезным. Он дошел до того, что влюбился в мадам де Рекамье как раз в то время, когда император говорил, что на всякого иностранца, который будет посещать эту даму, он будет смотреть, как на своего личного врага. Тем не менее Наполеон не сердился на него за эти поступки. Отчаявшись взять его любезностями, он, наконец, попытался переговорить с ним и счел необходимым сделать, по крайней мере, кажущиеся уступки личной политике посланника».
31 января чета Моро у себя в особняке на улице Анжу давала бал, который оказался на редкость блистательным. Однако на нем не появились ни первый консул, ни Жозефина, и вообще не было никого из семьи Бонапарт, которую в Париже уже называли правящей фамилией. Фабр де л'Од пишет по этому поводу: «Мать Наполеона, госпожа матушка — Летиция ди Буонапарте, уязвленная злословием госпожи Уло (тещи Моро), строго-настрого потребовала от всех членов семьи отклонить приглашение». На самом деле Моро знал, что Бонапарт не приедет, так как и сам прекратил навещать Наполеона в Тюильри. Его больше всего поразил не сам факт отсутствия первого консула, а то, что не пришел никто из министров и высших должностных лиц государства. Он понимал, что находится под подозрением, но не ожидал, что дело могло зайти так далеко. Это открытие одновременно поразило и огорчило Моро. «Каким сильным должно быть самообладание человека, — вспоминал современник, — чтобы в течение всего вечера, не показывая обиды, оставаться внимательным и добродушным к своим гостям. Он спокойно наблюдал за танцующими парами, которые под звуки скрипичного оркестра и слабые колебания многочисленных свечей в великолепных хрустальных люстрах кружились в огромном зале».
Только Жюли Рекамье угадала внутреннее беспокойство Моро. Она взяла под руку Бернадота и увела его в малую гостиную, где, усадив на канапе, произнесла:
— Наш друг огорчен.
— Кто? Моро? Да нет же. Взгляните на него — он счастлив и спокоен.
— Это только с виду. Разве вы не заметили, генерал, что здесь нет ни одного высшего сановника государства? Даже Бертье не пришел. Очевидно, это приказ. Что за удар готовит мстительный корсиканец? На месте нашего друга я бы не ждала удара Бонапарта, а нанесла бы его первой.
В этот момент в малую гостиную вошел Моро.
— Так вот вы где! Я вас застукал, очаровательная подруга и вас, Бернадот, тоже. Ах вы, заговорщики!
Но Бернадоту было не до шуток. Вполголоса, но твердо он произнес:
— Моро, наступил момент действовать. Бонапарт намерен задушить свободу. Только вы можете спасти республику, так как за вами стоит народ. Смелее, мы пойдем за вами.
— Я знаю, какая опасность грозит республике, — ответил Моро, — и я согласен, что за Бонапартом нужен глаз да глаз. Я в полном распоряжении приверженцев свободы. Но разве моя личность настолько важна, как вы считаете?
— Да если бы у меня была такая популярность, как у вас, то я бы диктовал свои условия Бонапарту.
— Так вы хотите, чтобы я выступил против первого консула? Но тогда начнется гражданская война, — сказал Моро.
— Почему вы не хотите взять дело свободы в свои руки? Похоже, вы верите, что Бонапарт не осмелится посягнуть на свободу. Ну что ж, тогда он посмеется и над свободой и над вами. Она погибнет, и вас накроют ее саваном…
После этого разговор пошел на повышенных тонах, и, чтобы он не долетел до ушей какой-нибудь полицейской ищейки, мадам Рекамье сочла за благо его прервать. Она встала и последовала за собеседниками в большую гостиную.
Вообще говоря, существовала какая-то несогласованность между Моро и республикански настроенными генералами. Последние хотели, чтобы он перешел к открытым действиям против первого консула; в то время как сам Моро предпочитал находиться в принципиальной или вербальной оппозиции.
Несчастье состояло в том, что он не смог выйти из этой двусмысленности.
* * *
Наступил 1803 год.
В противовес Бернадоту, Лаори и другим республиканским генералам, которые продолжали разжигать ненависть Моро к Бонапарту, Декан, наоборот, сожалел о том, что два таких достойных человека, как Бонапарт и Моро, перестали быть друзьями, и настаивал на их примирении. Он использовал любую возможность, чтобы рассеять их взаимные предубеждения.
В начале февраля 1803 года Декан, как утверждали некоторые, по его собственной просьбе был назначен командующим военной экспедиции в Индию. Накануне отъезда он явился в Тюильри, чтобы получить последние указания первого консула. В ходе беседы разговор зашел о Моро. Диалог получился настолько интересным, что мы решили привести его здесь почти полностью:
Первый консул: Декан, генерал Моро плохо себя ведет. Я буду вынужден удалить его из Франции.
Декан: Мой генерал, есть люди, которые вводят вас в заблуждение относительно генерала Моро, и есть другие, которые говорят о вас плохо. Все это печально, но я считаю невозможным, чтобы он действовал против интересов республики, которой так верно служил.
Первый консул: В доказательство у меня есть письмо. Его вез некий аббат Давид, который сейчас арестован и находится в тюрьме.
Декан: Я знаю этого аббата Давида. Мне всегда казалось, что он связан с генералом Пишегрю, он очень хотел, чтобы последний вернулся во Францию. Он был у меня дома в прошлом году и говорил об этом… Вероятно, генерал Моро принял к сведению его просьбу.
Первый консул: Генерал Моро оказал Франции неоценимую услугу, но это не дает ему право насмехаться надо мной. Лучше бы у него были амбиции! Чего он добивается? Денег? Я уже отдал ему пятую часть от контрибуций, которые он получил в Германии, и у него осталось еще четыре миллиона франков. Как глава государства я мог бы потребовать от него полного отчета, а записку, представленную им военному министру, считать неудовлетворительной.
Декан: Мой генерал, в Рейнской армии все были весьма удивлены, узнав, что некоторые генералы, которых Моро снял с должности, получили новые назначения сразу по прибытии в Париж… Все знают, что Моро имел много причин быть недовольным службой генерала Гувьона Сен-Сира с самого начала кампании, а вы его назначили командующим в Италию.
Первый консул: Если бы генерал Моро представил официальную жалобу на этого генерала, а правительство проигнорировало бы ее и предоставило ему новую должность, то это замечание было бы справедливым, но Сен-Сир представил письмо, в котором отмечаются его заслуги и что он вынужден покинуть Рейнскую армию по состоянию здоровья.
Декан: Генерал Моро был серьезно раздосадован тем, что многочисленные назначения, которые он произвел в армии, не были утверждены, а представления к награждению были отклонены, и, кроме того, военный министр по своему выбору направлял офицеров на вакантные должности в другие полки.
Первый консул: Мне об этом известно. И в этой связи между военным министром и генералом Моро имела место весьма нелицеприятная переписка. Что касается остального — все прошения Моро были удовлетворены.
Декан: Получив от вас в награду пару почетных пистолетов, генерал Моро снова отправился из Парижа в Германию и остановился в Нимфенбурге. У меня там была штаб-квартира, и он попросил меня остаться. Почти все дни, что мы были вместе, я был единственным его другом и собеседником. Мы часто бывали вместе, охотились… И все это время, пока мы оставались в Нимфенбурге, он говорил о вас с восхищением.
Первый консул: Все, что вы говорите, — правда. Но ситуация изменилась, как только к нему приехала жена в Зальцбург. Однако она не виновата в том, что он изменил свое поведение. Он попал под влияние тещи — известной интриганки — и стал слушать опасные советы трех плутов — Лаори, Френьера и Норманна. Их интриги и гибельные советы — приведут к падению Моро.
Декан: Я уверен, мой генерал, что если бы вы смогли сделать первый шаг к примирению, вы заполучили бы Моро в свой лагерь.
Первый консул: Это зыбучий песок…
Тон, с которым Бонапарт произнес последние слова, означал окончательный приговор Моро, — подумал Декан. На это он ничего не смог возразить. Он чувствовал себя слишком подавленным.
Было ясно, что этот генерал пришел защищать Моро как друга и сделал это мужественно и открыто; и этой дружеской защиты вполне могло хватить, но как много он еще хотел сказать первому консулу…
Вопреки утверждению последнего, несомненно, например, то, что представления генерала Моро о продвижении по служебной лестнице или сохранении в должности многих офицеров Рейнской армии, сделанные в последние месяцы 1800 года и в первые месяцы 1801 года, не были ни утверждены, ни сохранены. Это, в частности, касается генерала Лаори, которому Бонапарт отказал в присвоении звания дивизионного генерала. Кроме того, Лаори не заслуживал эпитета «маленький подлец», которым его наградил первый консул. Да, он действительно был небольшого роста — даже ниже Бонапарта, но подлецом — никогда.
«Его лицо нельзя было назвать красивым, — вспоминает Декан, — но в нем не было ничего отталкивающего, и, кроме того, Лаори был человеком с твердым характером и очень способным офицером. Он не понравился Бонапарту в бытность секретарем генерала де Богарне (первого мужа Жозефины, гильотинированного во время террора) в самом начале революционных войн, так как совершил ряд бестактных поступков по отношению к вдове генерала — Жозефине де Богарне — будущей супруге Бонапарта.
Что касается Френьера, молодого человека, которого Моро взял к себе в качестве личного секретаря, и Норманна — аджюдан-командана, в прошлом члена Совета пятисот, то они также не заслуживают столь грубого эпитета.
Декан считал себя не вправе передать Моро, с которым он уже попрощался, свой разговор с первым консулом. Но в момент посадки на корабль в Бресте он случайно встретил капитана флота Уло, командира корабля «Belier» (брата Эжени, супруги Моро), которому сказал: «Я вам настоятельно советую немедленно написать вашей матери, а также вашей сестре, чтобы они использовали все свое влияние, с целью уговорить генерала Моро измениться и как можно скорее помириться — гражданином первым консулом. Иначе будет поздно. Генерал может оказаться в крайне трудном положении, из которого не будет выхода». Отнесся ли серьезно к этому совету молодой флотский капитан Уло? Передал ли он его своим родным — матери и сестре? Прислушались ли к нему эти две близкие Моро женщины? Точно неизвестно. В некоторых полицейских отчетах сообщалось, что генерал стал более осторожным, а его секретарь Френьер получил строгий приказ «везде и всюду повторять, что генерал не интересуется политикой и даже ее не обсуждает».
Однако Бонапарт не ошибался, когда говорил Декану, что Моро связан с агентом Пишегрю — аббатом Давидом. О! Это была интересная личность — аббат Давид. Он был главным викарием в Оверне, когда свершилась революция и его жизнь висела на волоске. Многие пастыри и непокорные священники, чтобы избежать гильотины, прятались в лесах, жили в землянках, либо пытались покинуть свою неблагодарную родину. Давид нашел лучший выход. Как мы уже упоминали, у него в Северной армии служил племянник — генерал Суам. Давиду удалось устроиться писарем в штаб армии под вымышленным именем. Главнокомандующий Северной армией, в то время генерал Пишегрю, предупрежденный Суамом о подлинном имени нового писаря, не только не выдал его, но пожелал познакомиться с ним лично. Аббат ему понравился, и они подружились настолько, что Пишегрю сделал его своим доверенным лицом. Аббат поддерживал регулярную переписку с уже опальным Пишегрю, когда последний находился в Лондоне (после неудавшегося переворота 18 фрюктидора). Был ли он уполномочен Пишегрю, или же сам взял на себя миссию вычеркнуть бывшего генерала из списков изгнанников — точно неизвестно. Как бы то ни было, для достижения этой цели ему нужны были весомые рекомендации. От кого их можно было получить, если не от бывших соратников Пишегрю, и, в частности, от самого знаменитого из них — генерала Моро. Вот почему аббат решил обратиться именно к Моро. В своем письме он просит о встрече, место и время которой были бы удобны генералу. Моро отправил к нему своего секретаря, которому строго-настрого наказал быть начеку. Давид сделал для себя вывод, что Моро враждебно настроен по отношению к Пишегрю. Он подумал, что последнему не разрешают вернуться во Францию из-за возражений Моро. «Нужно помирить этих двух генералов», — сказал он себе и начал действовать.
Он пишет письмо Жану-Виктору Моро, в котором напоминает, что все несчастья Пишегрю проистекают из-за того, что бумаги Клинглина попали в руки Директории. Моро ответил, что «…он не желает оправдываться в том, что совершил, и что его (Моро) может упрекать только правительство, а не Пишегрю…, что именно он (Моро) желал избавить Пишегрю от осуждения, и более того, положение, в котором находится сейчас Пишегрю, доставляет ему боль, и что если бы власти заявили, что только позиция Моро является единственным препятствием для возвращения Пишегрю на родину, то он бы сделал все, что в его силах, чтобы положить конец этим домыслам». Что ж, это был отличный ответ Моро-дипломата. Понимая, что письма, возможно, перлюстрируются консульской полицией, он пишет так, чтобы к нему невозможно было придраться. Вот где понадобился его талант адвоката. Не зря Моро получил юридическое образовании, и мы увидим ниже, что оно ему еще понадобится.
Однако аббат оказался на редкость упрямым человеком. Он захотел, чтобы Моро принял его лично. И добился своего. Моро, как оказалось, с ним встречался, и не раз. Мы не знаем, о чем они говорили, но ясно одно — после этих свиданий аббат Давид стал выражать страстное желание вновь увидеться с Пишегрю.
Он решает отправиться в Англию и с этой целью запрашивает в полиции паспорт, который был вскоре ему выдан. Полиция знала, что делала. Счастливый аббат сел на грузопассажирское судно, которое шло до Кале, где намеревался пересесть на корабль, следующий в Англию. Но в самый момент посадки он был схвачен двумя жандармами и доставлен в Париж. Все находящиеся при нем бумаги были конфискованы, а сам он взят под стражу и заключен в тюрьму Тампль.
* * *
Но и здесь он не скучал. Неуемная энергия заставляла его рассылать записки своим друзьям о том, что он находится в Париже. Не забыл он отправить весточку и генералу Моро с просьбой способствовать его скорейшему освобождению.
Естественно, что эти записки не нашли своих адресатов. Все они были перехвачены и оказались на столе министра юстиции и главного государственного обвинителя (верховного судьи) господина Ренье.
Эти события происходили в ноябре 1802 года. В мае следующего года Моро принимал у себя очередного эмиссара Пишегрю. Это был некий генерал Лажоле. Изобличенный генералом Моро как сообщник Пишегрю, Лажоле был оправдан судом военного трибунала на следующий день после неудавшегося переворота 18 фрюктидора против Директории. Лажоле был человеком небольшого роста. Косой взгляд (генерал страдал врожденным косоглазием) придавал некоторую загадочность его некрасивому лицу. Он знал об интимной связи своей жены с генералом Пишегрю, которая имела место несколько лет тому назад. Тем не менее выдавал себя за самого преданного друга последнего. Лажоле вручил Моро открытое письмо Пишегрю, в котором тот просил владельца поместья Гробуа оказать своему посланцу благоприятный прием.
Прочитав письмо, Моро спросил:
— Что вы хотите от меня?
— Я хотел бы просить вас, мой генерал, чтобы вы порекомендовали правительству принять мое прошение о восстановлении на службе.
Ознакомившись с прошением, Моро дал свою письменную рекомендацию. Лажоле поблагодарил, и они заговорили, естественно, о Пишегрю. Моро сказал Лажоле то же, что он сказал Давиду, а именно, что настаивает на осуждении поступка Пишегрю, но что он с удовольствием узнал, что тот хочет вернуться во Францию. Раскрыл ли он своему гостю все, что думал о первом консуле? Возможно. Но этого можно было и не делать, так как Лажоле об этом знал. В Париже не было офицера, который, как и Лажоле, был не у дел и который об этом не знал.
Несколько месяцев спустя Лажоле вновь посетил генерала Моро и сообщил, что собирается в Англию. Он признался, что остался в Париже совсем без денег, и попросил у Моро в долг некоторую сумму. Последний, угадав, что это может быть ловушка, отказал.
— Хотите что-либо передать Пишегрю на словах? — спросил Лажоле уходя.
— Да, передайте ему, что я буду рад снова видеть его в Париже.
* * *
В течение осени и зимы 1803 года внимание всей Европы было приковано к Булонскому лагерю. Именно здесь должна была состояться грандиозная по своим масштабам операция — французская армия Океанского побережья готовилась к завоеванию Англии. А что говорят в Париже? Здесь в восторге от грандиозных планов захвата туманного Альбиона и ничего не знают о готовящемся заговоре.
* * *
Однако начало 1804 года ознаменовалось не менее важными по своим возможным последствиям событиями, происходившими внутри Франции — в самом ее сердце — Париже. Эти события, как мы вскоре сможем убедиться, приведут к крупному политическому процессу, связанному с Моро и еще сорока шестью обвиняемыми.
По прибытии в Лондон Лажоле с головой ушел в конфиденциальные встречи и беседы. Он уверял, что Моро недоволен правительством и готов помочь любому, кто попытается его свергнуть.
Пишегрю он говорил:
— Моро ждет вас в Париже.
— Для встречи?
— Да!
Все это происходило в декабре 1803 года. Вот уже более пяти лет Пишегрю угрожала опасность, так как он, рискуя жизнью, избежал каторжной тюрьмы Синнамори и украдкой пробрался в Лондон. Прибыв в этот город, он предложил свои услуги Англии, которая тут же их приняла. Но не английскому народу посвятил свою деятельность бесстрашный генерал Пишегрю. Он стал служить Англии только ради восстановления трона Бурбонов.
* * *
Его настоящими хозяевами были братья Людовика XVI, в частности, младший из них — граф д'Артуа, находившийся в то время в Шотландии.
От них он, под вымышленным именем капитана Фриденка, получал ежегодные субсидии в двенадцать тысяч франков. Пишегрю был готов на все ради реставрации трона Бурбонов во Франции.
— Итак, — спросил Пишегрю Лажоле, — ты считаешь, что мы можем рассчитывать на Моро?
— Определенно да, он ненавидит Бонапарта, — ответил Лажоле.
— Что ж, значит, пришло время пересечь Ламанш.
— Я для этого и приехал за вами.
— И присоединиться к Кадудалю? - Да!
* * *
Уже несколько лет Пишегрю проживал в Англии в ожидании удобного случая для осуществления своих планов. Моро находился в Париже, но не посещал вечера и другие мероприятия, устраиваемые первым консулом. Враждебность обоих генералов по отношению к Бонапарту, особенно открыто демонстрируемая со стороны Пишегрю и маскируемая Моро, ни для кого не была секретом. Но так как дела у первого консула шли прекрасно, то он скорее испытывал пренебрежение, чем страх перед этими двумя генералами. В армии имя Моро значило больше, чем имя Пишегрю. Известный шуан Жорж Кадудаль и роялист Пишегрю планировали свергнуть консульское правительство, но понимали, что осуществление их замыслов невозможно без участия генерала Моро.
К несчастью последнего, они выбрали неподходящий момент. Однако, будучи посвященными в некоторые планы британского кабинета, они знали, что подписанный 25 марта 1802 года Амьенский мирный договор на деле означал лишь перемирие, и поэтому пытались получить максимальную выгоду из этого обстоятельства, которое впоследствии могло обеспечить достижение общей цели.
Природная беспечность Моро, леность и, возможно, тонкий ум толкали его к тому, что он, как истинный Водолей, позволял людям и событиям развиваться по предначертанному сверху сценарию; он считал, что выжидание в политике не менее полезно, чем в войне. Кроме того, Моро был настоящим республиканцем. И если нерешительность и останавливала его, то лишь для того, чтобы открыто продемонстрировать всем, что он никогда не примет участия в восстановлении трона Бурбонов.
Вышесказанное может рассматриваться всего лишь как прелюдия к более важному заговору, который предварял великое историческое событие, отметившее конец Консулата и установление империи. «Заговор XII года» известен также под названием «заговор Жоржа Кадудаля, Пишегрю и Моро», результатом которого стало несмываемое пятно на карьере и судьбе Наполеона — расстрел герцога Энгиенского.
* * *
В ночь на 8 января 1804 года Пишегрю, Лажоле и еще несколько роялистских заговорщиков поднялись на борт куттера (одномачтового судна) под командованием капитана Райта в Диле, неподалеку от Дувра в Англии. Вечером 16 января в густом тумане они ступили на обрывистый берег Бивиля в Нормандии. Это был знакомый берег Франции.
На следующий день, двигаясь вдоль кромки леса Де, они достигли фермы Потери, расположенной в коммуне Сен-Пьеран-Валь. Здесь их ожидал человек, прибывший из Парижа. Он был среднего роста, сажень в плечах, с мощной шеей. Однако тонкие черты его лица говорили о благородстве. Этого человека звали Жорж Кадудаль. Он спросил:
— Братья короля с вами?
— Нет, — ответили ему.
Кадудаль не смог удержаться от гнева и досады. На самом деле он рассчитывал, что граф д'Артуа и его сын прибудут вместе с Пишегрю, чтобы поднять восстание роялистов по всей Франции, в то время как он со своими шуанами одним махом схватит Бонапарта живым или мертвым… но лучше живым.
Разделившись на две группы, заговорщики двинулись по дорогам, которые Кадудаль предусмотрительно заранее выбрал, и вскоре прибыли в Париж.
Шесть дней спустя Лажоле постучал в дверь особняка на улице Анжу, где проживал наш герой. И эта дверь открылась. Эх, неосторожный Моро!
* * *
Бонапарт знал, что против него готовится заговор. «На вас направлены десятки кинжалов», — писал ему Фуше, который к этому времени уже не был министром полиции, но оставался самым информированным человеком в государстве. В чьих же руках были эти кинжалы? Этого Бонапарт еще не знал.
В ожидании, пока жандармы и полиция представят ему полную картину происходящего, он принимает некоторые меры предосторожности. Первый консул назначает своего зятя — Мюрата — губернатором Парижа, а все дела, относящиеся к государственной безопасности республики, он доверяет государственному советнику Реалю, на личную преданность которого и знание юриспруденции он был вправе рассчитывать.
На заседании Сената 16 января 1804 года он говорит о «махинациях британского правительства, готового забросить на побережье Франции кое-кого из тех негодяев-разбойников, которых оно вскормило в течение нескольких лет мира и готовых растерзать отчизну, породившую их».
Сразу после этого выступления были арестованы шуаны Пико, Лебуржуа и Керель. Они были приговорены к смертной казни, но Реаль обещал помиловать их, если они назовут имя своего предводителя и место, где тот скрывается. Пико и Лебуржуа не проронили ни слова и были расстреляны, а вот Керель не обладал таким мужеством и поведал, что их шефом является Жорж Кадудаль и что этот знаменитый лидер шуанов уже шесть месяцев как находится в Париже и скрывается на конспиративной квартире под именем Ларив.
— В Париже? Шесть месяцев? Жорж Кадудаль? Реаль не верил своим ушам.
Бонапарт, которому государственный советник сообщил эту новость, был не менее удивлен.
— Я вам уже говорил, Реаль, что вы знаете только начало этого дела, — сказал ему первый консул.
* * *
13 февраля 1804 года происходит новое разоблачение. Быв ший офицер из эмигрантов, некий Буве де Лозье, несколько дней тому назад заключенный в тюрьму Тампль, польщенный светской манерой общения Реаля, сообщил:
— Жорж Кадудаль не один в Париже. К нему только что прибыл Пишегрю.
14 февраля 1804 года. Новое «театральное» представление. Буве де Лозье в отчаянии за свой подлый поступок повесился на собственном галстуке. Однако тюремный надзиратель, про ходя мимо камеры, услышал шум, увидел его и успел перерезать галстук. Позвав на помощь, охранники вернули несчастного к жизни. Судорожно хватая воздух, с трудом сдерживая икоту, последний произнес:
— Вам нужно было… позволить мне умереть…
Все еще растерянный, с блуждающим взглядом, трясясь в нервных конвульсиях, он воскликнул:
— Отведите меня к Реалю. Я хочу говорить только с ним.
Реаль, получив эту информацию, послал за верховным судьей, и они оба приехали в Тампль. Буве прерывистым голосом заговорил:
— К вам обращается человек, который только что побывал в объятиях смерти и чей саван все еще покрывает его чело. Я должен отомстить тем, кто своим коварством ввергли меня и мою родину в пропасть, в которой она находится. Посланный на поддержку дела Бурбонов, я вынужден сражаться либо за Моро, либо отказаться от операции, которая была целью моей миссии. Я поясню, господа…
Прежде чем прибыть во Францию, чтобы встать во главе роялистской партии, Моро обещал объединиться под знаменем Бурбонов, а когда роялисты прибыли на родину, он отказался. Моро предложил им принять его сторону и провозгласить его диктатором. Генерал Лажоле, который служил раньше в армии Моро, полагаю, был послан им к королевскому принцу в Лондон. Пишегрю являлся посредником. Лажоле от себя лично и от имени Моро в принципе согласился с предложенным планом. Принц начал готовить свой отъезд. Число роялистов во Франции увеличивалось. Однако в ходе бесед, которые состоялись в Париже между Моро, Пишегрю и Кадудалем, первый вполне ясно дал понять, что готов действовать только ради собственной диктатуры, а не ради восстановления королевской власти. Из-за этой позиции Моро возникли разногласия, роялисты заколебались, что привело почти к полной потере этой партии. Я видел Лажоле 25-го или 26 января, когда тот подошел к карете, в которой находились Кадудаль, Пишегрю и я, чтобы проводить их к Моро, ожидавшему в нескольких шагах от нас. Все это происходило на бульваре Мадлен. Рядом, на Елисейских полях, у них состоялась беседа, суть которой мы уже предвидели. В последующем разговоре наедине с Пишегрю Моро открыто заявил, что не может быть и речи о восстановлении трона Бурбонов. Он предложил самому встать во главе государства в качестве диктатора, а роялистам отвести роль его помощников».
Часы пробили полночь, когда Буве де Лозье и верховный судья подписали этот весьма одиозный документ, продиктованный судебному приставу.
Часом позже Бонапарт уже читал эти строки.
— Что! Моро? — удивленно сказал он Реалю. — Единственный человек, который меня тревожил и у которого были все шансы против меня, так неуклюже «вляпался»!
Вот что пишет Мадам де Ремюза в своих мемуарах по этому поводу: «В эпоху, о которой я говорю, Моро был сильно раздражен против Бонапарта. Не сомневались в том, что он тайно виделся с Пишегрю, по крайней мере, он хранил молчание относительно заговора; некоторые роялисты, арестованные в эту эпоху, обвиняли его только в том, что он проявил ту нерешительность благоразумия, которая ожидает успеха, чтобы действовать открыто. Моро, как говорили, был человек слабый и посредственный вне сражений; я думаю, что его репутация не вполне ему соответствовала. “Существуют люди, — говорил Бонапарт, — которые не умеют носить свою славу; роль Монка великолепно шла Моро; на его месте я бы действовал так же, как и он, но более искусно”. В конце концов, я привожу свои сомнения не для того, чтобы оправдывать Бонапарта. Каков бы ни был характер Моро, его слава действительно существовала, ее надо было уважать, надо было извинять старого товарища по оружию, недовольного и раздраженного, и доброе согласие могло бы только быть результатом политического расчета Бонапарта, какой он видел в Августе Корнеле, и это было самым лучшим из того, что можно было сделать. Но Бонапарт имел, как я не сомневаюсь, убеждение в том, что он называл моральной изменой Моро. Он думал, что этого достаточно для законов и правосудия, потому что Бонапарт отказывался видеть вещи в их истинном свете, если они ему мешали; его слегка уверили, что улики найдутся, чтобы узаконить обвинение. Он считал, что обязан это сделать… он чувствовал, что наиболее печальным для него было то, если бы этот интересный обвиняемый был объявлен невиновным. А он, оказавшись в положении скомпрометированного, не мог остановиться…»
* * *
В то же утро, а это было уже 15 февраля 1804 года, Моро возвращался из своей загородной резиденции Гробуа, где отмечал свой 41-й день рождения, в Париж. Подъезжая к мосту Шарентон, его карета была окружена взводом консульских жандармов, которыми командовал шеф эскадрона Анри.
— Вы генерал Моро?
— Да, это я.
— У меня приказ доставить вас в тюрьму Тампль.
— Что ж, исполняйте, — ответил генерал, бросив холодный взгляд на врученный ему документ.
Через два дня мадам де Ремюза была во дворце первого консула. Она нашла Бонапарта, сидящего у камина в комнате Жозефины и державшего на коленях маленького Наполеона (сына Гортензии и Луи Бонапарта).
— Знаете ли вы, что я только что сделал? — спросил он и на ее отрицательный ответ сказал:
— Я издал приказ арестовать Моро.
«Я, очевидно, сделала какое-то движение, — пишет далее де Ремюза. — “А, вот вы удивлены… — продолжал он, — это наделает много шума, не правда ли? Скажут, что я ревную к Моро, что это месть, и тысячу тому подобных пустяков. Я — ревновать к Моро! Ах, Боже мой! Он обязан мне большей частью своей славы; ведь я оставил ему прекрасную армию и сохранил в Италии только рекрутов; я желал поддерживать только добрые отношения с ним. Конечно, я его не боялся; во-первых, я никого не боюсь, а Моро меньше, чем кого бы то ни было. Двадцать раз я помешал ему скомпрометировать себя; я предупредил его, что нас поссорят. Он это чувствовал, как и я, но он слаб и честолюбив, женщины управляют им, партии влияют на него; у меня нет никакой ненависти, никакого желания мести. Я долго думал, прежде чем арестовать Моро; я мог бы закрыть глаза, дать ему время бежать, но тогда сказали бы, что я не решился отдать его под суд. У меня есть достаточно доказательств для его осуждения. Он виноват, я составляю правительство; все это должно пройти просто”».
Однако, несмотря на это заявление, арестовывая Моро, Бонапарт чувствовал себя неловко, более того — он нервничал. Свидельством тому — воспоминания Луи-Констана Вери, камердинера Наполеона: «Первый консул послал меня проследить, не обнаруживая себя, как пройдет арест, и сразу же вернуться, доложив ему лично. Я повиновался. Арест прошел спокойно. Кроме жандармов и полицейских я никого не видел. Вернувшись во дворец, я сразу же прошел к Наполеону: он нервно ходил по кабинету из угла в угол. Я рассказал обо всем, что видел. Он ничего не ответил, т.к. уже все знал… я удалился…»
* * *
Итак, Моро арестован. Карета в сопровождении жандармов продолжила свой путь в Париж. Был почти полдень, когда она остановилась у ворот знаменитой парижской тюрьмы. Она располагалась в бывшем монастыре ордена тамплиеров, основанном в XII веке неподалеку от современной площади Республики. Старый охранник отворил ворота, карета въехала во двор, где и остановилась. Прибыл начальник тюрьмы, гражданин Фоконье, человек лет 50—55, лицо которого не выражало суровости. Он уважительно приветствовал Моро и попросил его следовать за ним, в канцелярию суда. Там, пока экипаж и эскорт покидали Тампль, происходило оформление арестованного. Служитель записал во внушительного вида регистрационную книгу имя, фамилию и приметы Моро, затем перешли к измерению его роста: 1 м 75 см. Далее, в сопровождении Фоконье и двух охранников, Моро вышел из канцелярии через дверь, ведущую в сад. Он увидел перед собой высокую старинную квадратную башню, каждый угол которой украшала маленькая смотровая башенка. Это была главная башня Тампля — знаменитой тюрьмы, из которой король Людовик XVI был отправлен на гильотину. Она возвышалась в центре прямоугольной ограды, состоящей из рядов лип, которые отделяли сад от дворца. Пройдя эту живую ограду, вошли в башню, поднялись по ступенькам наверх. Открылась тяжелая дверь одиночной камеры и тут же закрылась. Скрипнул ключ в массивном замке, и Моро мгновенно оказался изолированным от всего остального мира. Он осмотрел камеру, затем плюхнулся на единственный стул, стоящий рядом с узкой кроватью, и задумался.
Он думал о своей маленькой супруге, которая ждет его с нетерпением дома, на улице Анжу, рядом с красиво сервированным столом. Какими же будут ее чувства, когда она узнает, что ее муж, которого она так любит и восхищается, заключен в тюрьму? Он думал о своем сыне — трехлетнем мальчике, который ничего не поймет и не будет страдать. Он думал о своих братьях, сестрах и друзьях, своих слугах и крестьянах, оставленных в Гробуа. Он думал о своих сослуживцах — офицерах и солдатах Северной и Рейнской армий. Его арест — разве это не оскорбление их славы?
Принесли еду. Он не стал есть. Медленно текло время. Очень медленно. В пять часов вечера принесли еще поесть. Короткий зимний день подходил к концу. Темная камера приняла очертания могилы. Не раздеваясь, Моро лег на кровать. Он ждал, что скоро его поведут на допрос.
Он задремал.
Около десяти часов вечера два охранника, бряцая ключами и держа в руках фонари, пришли за ним и повели в помещение для допросов. Моро последовал за ними, прошел через ряды молодых деревьев, затем сквозь сад и наконец вошел во дворец. Здесь его ждал Ренье, одетый в длинную сутану, на пурпуре которой отражался свет свечей, освещавших зал. Чувствовался резкий контраст в великолепном одеянии судьи и подсудимого, одетого в простое платье синего цвета. Верховному судье помогал гражданин Локре — секретарь государственного совета. Оба, сидевшие за большим дубовым столом, приветствовали Моро кивком головы. Ренье указал ему на стул в центре зала и в присутствии двух охранников, которые стояли на часах у двери, приступил к допросу.
— Ваша фамилия, имя, возраст, род занятий?
— Моро, Жан-Виктор, 41 год, генерал.
— Известно ли вам, что Жорж Кадудаль находится в Париже?
— Я слышал. Об этом говорят в свете.
— Знаете ли вы, что Кадудаль прибыл в Париж во главе банды разбойников, чтобы ликвидировать главу государства?
— Нет.
— Известно ли вам, что Пишегрю также находится в Париже?
— Нет.
— Были ли у вас контакты с Пишегрю, когда тот находился в Лондоне?
— Нет.
— Были ли вы связаны с Пишегрю раньше, с которым затем поссорились?
— Я был связан с ним в то время, когда служил под его командованием в Северной армии.
— Просили ли вы кого-либо вести переговоры относительно вашего примирения с Пишегрю?
— Нет.
— Известен ли вам генерал Лажоле?
— Он служил под моим командованием.
— Часто ли вы виделись с ним в течение XI и XII года?
— Он был у меня два или три раза.
— Знали ли вы о том, что Лажоле недавно был в Лондоне?
— Нет.
— Не говорил ли вам Лажоле о некоем поручении, возложенном на него?
— Нет. Он только попросил, чтобы я дал ему рекомендации о восстановлении на службе в армии.
— Вы никогда не просили аббата Давида о каком-либо поручении к Пишегрю?
— Нет.
На этом допрос закончился. Оказавшись снова в камере, Моро был доволен собой. Он не произнес ни единого слова, за которое следствие могло бы зацепиться. Но это был он, Моро. Другие, казалось, уже многое рассказали и, возможно, еще расскажут.
Другие — это Лажоле и доверенное лицо Пишегрю — некий Роллан, арестованные в один день с Моро и допрошенные Реалем. Именно их заявления послужили доказательной базой последующего обвинения. По словам Лажоле, генералы Моро и Пишегрю трижды встречались с тех пор, как последний скрывался в Париже. Первый контакт у них состоялся 29 января 1804 года на бульваре Мадлен ровно в девять вечера. Вторая и третья встречи проходили в доме Моро на улице Анжу.
* * *
Перед нами официальные протоколы допросов, касающиеся этих трех встреч, в том виде, в котором Лажоле изложил их советнику Реалю.
Первый контакт:
— Сразу после прибытия Пишегрю в Париж я должен был предупредить Моро. Вот почему я пришел в дом генерала Моро утром, чтобы узнать место их встречи, которое он должен был назначить. Он сказал мне, что встреча состоится на бульваре Мадлен на участке между улицей Комартэн и церковью Святой Магдалины ровно в девять часов вечера. Он также сообщил мне, что будет одет в синее платье с круглой шляпой на голове и что в качестве условного знака он несколько раз постучит тростью по мостовой.
Пишегрю мне сказал, что он будет находиться в фиакре на следующей улице, которая окаймляет бульвар.
За секунду до встречи с Моро некий человек, который меня узнал, сказал мне: «Генерал Пишегрю приехал и он там — в фиакре». В этот момент я увидел Моро, которому сказал: «Генерал Пишегрю прибыл». Тогда Моро указал мне на аллею, расположенную рядом с улицей Капуцинов, на которую падал слабый лунный свет, попросив меня провести Пишегрю по ней. Тогда я подошел к дверце фиакра. Пишегрю сидел как раз рядом с ней. Мне показалось, что он был не один. Он открыл дверцу, вышел из экипажа и последовал за мной по другой стороне бульвара, где я их свел вместе, а сам ушел, не зная, пошли ли за ним те люди, которые могли находиться с ним в экипаже.
Второе свидание:
— Вторая встреча произошла в тот день, когда у Моро собирались гости. Встречу мне назначил сам Моро и сказал, что она состоится у него дома. Мы с Пишегрю приехали пораньше. Еще гости не собрались. Мы прошли в гостиную, где я остался, а Моро с Пишегрю уединились в библиотеке, где оставались около получаса.
Третья встреча:
— На этот раз ни я, а секретарь Моро привез Пишегрю на кабриолете Роллана в дом Моро. Степень моего участия в этой их встрече была не больше, чем в двух предыдущих. Возвращаясь с этого свидания, Пишегрю казался мрачным и, против своего обыкновения, немного приоткрылся мне. Он сказал: «Кажется, этот парень тоже с амбициями и хочет править. Что ж, пожелаем ему успеха! Но я полагаю, что он не процарствует во Франции и двух месяцев».
Реаль продолжил допрос и спросил, что он знает об отношении Кадудаля к Моро.
Лажоле показал следующее:
— Два месяца тому назад о том, что Кадудаль находится в Париже, еще никто не знал, и тот решил проверить Моро через посредника — некоего Вильнева, бретонца, земляка Моро. Однако этот Вильнев хорошо знал только секретаря Моро, через которого и пытался установить контакты, но получил лишь уклончивые ответы Моро.
Роллан подтвердил все показания Лажоле.
— Когда Пишегрю приехал к вам по окончании своей последней встречи с Моро, что он вам рассказал? — спросил его Реаль.
— Пишегрю попросил меня отправиться к Моро на следующий день и потребовать от него окончательного ответа, согласен ли он будет, облеченный поддержкой своих людей и захватив власть, передать ее в законные руки и как можно скорее. На что Моро мне ответил: «Я не встану во главе любой партии, целью которой является восстановление Бурбонов. Они настолько дискредитировали себя в глазах народа, что любая попытка возвращения их правления обречена на провал. Если же Пишегрю согласится действовать в другом русле, то я ему заявил, что для этого потребуется устранение консулов и губернатора Парижа. Полагаю, у меня будет значительная поддержка в Сенате, чтобы получить власть. И я воспользуюсь ею, чтобы защитить Сенат. Затем общественное мнение подскажет нам, что следует делать дальше. Но до этого я ни под чем не подпишусь».
29 плювоза (19 февраля 1804 г.) верховный судья вновь отправился в Тампль для того, чтобы во второй раз допросить Моро.
Тот же зал. Такой же торжественный и холодный Ренье. Тот же судебный пристав.
— Чем занимается у вас гражданин Френьер?
— Он мой секретарь.
— Предупреждал ли вас гражданин Френьер о встречах, которые он имел с одним из людей Жоржа Кадудаля? Говорил ли он вам, чего Кадудаль добивается от вас? Просили ли вы вашего секретаря передать через него ваш ответ Кадудалю?
Наступила тишина. Моро размышлял.
— Свой ответ я хочу изложить в письменном виде. Гражданин Локре достал перо, чернила и бумагу. И Моро
начал писать:
«Несколько месяцев тому назад гражданин Френьер рассказал мне, что некто, знавший его в Ренне, но которого Френьер не знал, попросил его узнать у меня, не соглашусь ли я по причине того, что правительство обо мне забыло, либо с моей невостребованностью, послужить принцам королевской крови, в случае, если в правительстве произойдут изменения. Я ответил гражданину Френьеру, что если вы вдруг снова уведите этого человека, передайте ему, что если бы мне и пришлось служить французским принцам, то это было бы лишь в случае, если бы я возглавлял армии; причем такое предложение мне было бы сделано заранее, но никак не после победы французов. Сейчас же, когда правительство консолидировано, а я живу как частное лицо — такое предложение является чистой воды безумием.
Несколько дней спустя гражданин Френьер сообщил мне, что этот некто приходил за моим ответом и что он его получил. При этом речь не шла ни о Кадудале, ни о ком-либо еще. Более того, гражданин Френьер никогда мне не говорил о Жорже Кадудале, а я никогда не просил его передавать что-либо Кадудалю от моего имени».
— Скажите, известил ли вас гражданин Френьер о том, что он виделся с Пишегрю в Париже? — спросил Ренье.
— Нет.
— Сказал ли он вам, что находился в том же экипаже, что и Пишегрю?
— Нет.
— Известно ли вам, что гражданин Френьер встречался с Лажоле в Париже в этом месяце?
— Нет.
— Известен ли вам человек по фамилии Фош-Борель?
— Лично нет, но мне говорили, что он содержится в Тампле.
— Хотите ли вы что-либо изменить, добавить или исключить из ваших показаний на предыдущем допросе? Вот протокол допроса. Прочтите его еще раз.
Моро произнес:
— Пожалуй, я снова отвечу вам в письменной форме, если позволите.
И Моро написал следующие строки:
«Имею лишь одно замечание, относящееся к предыдущему допросу. Оно касается гражданина Давида. В этой связи я хочу добавить, что примерно полтора года тому назад гражданин Давид написал мне письмо, в котором спрашивал, не буду ли я возражать против возвращения во Францию Пишегрю — единственного депутата из числа высланных из страны после 18 фрюктидора, который все еще остается за границей. Я ответил гражданину Давиду, что далек от мысли возражать этому; напротив, я готов свидетельствовать правительству противоположное мнение».
На этом закончился второй допрос Моро, проведенный верховным судьей.
Во второй раз Моро не произнес ни одного имени, которое следствие могло бы использовать как против него самого, так и против других.
В день, когда Моро был заточен в темницу, были схвачены полицией его адъютанты, за исключением капитана Рапателя, который смог избежать ареста. Были арестованы все слуги из дома Моро и в поместье Гробуа. Однако несколько дней спустя, после интенсивных допросов всех их отпустили на свободу.
Взять под стражу Френьера сразу не удалось. Он пустился в бега, как только узнал, что Реаль выписал ордер на его арест.
Чтобы объявить населению Парижа о существовании заговора против первого консула и республики, по поручению правительства на стенах мэрии и других общественных зданий были расклеены списки террористов, направленных Англией для физического устранения первого консула. В этих списках значилось имя Моро вместе с Пишегрю и Жоржем Кадудалем.
Так, в одной из афиш сообщалось: «Пятьдесят негодяев, из числа прославившихся своими зверствами во время междуусобной войны, прибыли в столицу под начальством Жоржа Кадудаля и Пишегрю. Они были приглашены сюда человеком, которого республиканцы считали до сих пор одним из своих друзей и товарищей, а именно генералом Моро, привлеченным вчера за это к ответу перед национальным правосудием». Кроме того, в Законодательный корпус был представлен доклад верховного судьи, в котором, в частности, говорилось: «Преступное примирение сблизило Пишегрю и Моро. Лажоле, друг и доверенное лицо Пишегрю, периодически выезжал из Парижа в Лондон и обратно, донося до сведения Пишегрю мысли Моро, а Моро — мысли Пишегрю». Однако наиболее одиозным в докладе Ренье было то, что в вину Моро вменялось «громадное состояние», которым обладал генерал.
Несколько дней спустя брат генерала — Жозеф Моро — публично выступил в Трибунате с протестом по поводу ареста брата и обвинениями Ренье. Но его протест остался не услышанным.
26 февраля Пишегрю предал «друг», который прятал его на конспиративной квартире. Этот «друг», как утверждали, получил от Мюрата 100 000 франков за свою измену. Генерала схватили ночью, когда тот спал, и хотя он оказал отчаянное сопротивление, жандармы связали его и доставили в Тампль.
Префект полиции Дюбуа и верховный судья Ренье прибыли в тюрьму, чтобы допросить Пишегрю. Раненый, истекающий кровью, но не сломленный духом, в ходе интенсивного допроса давал лишь краткие сухие ответы. Он отрицал любую связь с Моро, кроме чистой мужской дружбы.
В Тампле за ним не было столь строгого наблюдения, поэтому неудивительно, что вскоре все узники этой тюрьмы узнали, что Пишегрю находится в одиночной камере на первом этаже.
Губернатор Парижа Мюрат не стал ждать ареста Кадудаля, чтобы начать судебный процесс. В соответствии с законом, процесс должен был проходить в трибунале округа Сены, в состав которого входили профессиональные судьи и присяжные. Но можно ли было ожидать от простых граждан Парижа, входивших в состав суда присяжных, что они вынесут желаемый жестокий приговор столь популярной личности, каковой являлся Моро? Правительство так не считало. Вот почему по его просьбе Сенатус-консульт приостановил деятельность института суда присяжных сроком на два года. Таким образом, суд над Моро и другими вверялся в руки так называемым «карьерным юристам», которые, как полагали, будут более послушны власти, чем обыкновенные граждане. Формально судебное следствие, основанное на полицейском расследовании, проведенном Реалем, было поручено бывшему члену Конвента, подписавшему смертный приговор королю — гражданину Тюрьо, занимавшему должность председателя трибунала.
7 марта 1804 года Моро был ознакомлен с этим предписанием, что повергло его в шок.
«Что делать? — спрашивал он себя. — Снова длинные ночи и нескончаемые дни в застенках? Снова терпеть унижения на допросах? А почему бы не избавить себя от всего этого? Почему бы не обратиться к справедливости первого консула? Возможно, он еще не забыл об услуге, которую я ему оказал во время 18 брюмера? Возможно, где-то в глубине его сердца сохранилась хоть капля благодарности, а в душе есть еще струны, которых не коснулись жестокие амбиции? Что, если я ему напишу?»
И Моро написал:
«Генерал,
Скоро месяц, как меня держат здесь как сообщника Кадудаля и Пишегрю, и, вероятно, мне суждено предстать перед трибуналом за попытку покушения на устои государства и на главу правительства.
Пройдя через горнило революции и последующих войн, меня трудно обвинить в амбициях или в отсутствии гражданской позиции…
Все это происходит в момент, когда я веду жизнь частного человека, занимаюсь своей семьей и вижу ограниченный круг друзей, а меня обвиняют в таком безумстве…
Я не сомневаюсь в том, что мои прежние связи с генералом Пишегрю могли бы послужить мотивом такого обвинения…»
Опуская историю своих взаимоотношений с аббатом Давидом и Пишегрю, которые мы уже знаем, Моро продолжал:
«Что касается существующего заговора, то смею вас заверить, что к нему я не имею никакого отношения. Предложение, которое мне было сделано, я отверг, полагая его несостоятельным и глупым, и, когда мне предложили уехать в Англию, как наилучший шанс избежать возможных перемен в правительстве, я ответил, что у нас в стране есть Сенат, который обладает всей полнотой власти и под знаменем которого, в случае беды, объединятся все французы, и я буду в их первых рядах, чтобы выполнить любой его приказ…
Подобные предложения, сделанные мне, частному лицу, ведущему уединенный образ жизни, не поддерживающему связи ни с кем в армии, девять десятых из которой служили под моим командованием, ни с одним членом правительства, естественно, могли получить только мой твердый отказ.
Донос — несвойственен моему характеру. Я всегда его осуждал. Он оставляет несмываемое пятно на том, кто его делает, особенно если это касается людей, которым ты обязан или с которыми тебя связывает давняя дружба. Даже долг иногда может уступить зову общественного мнения.
Вот, генерал, это все, что я хотел сказать о моих отношениях с Пишегрю. Я не сомневаюсь, что если бы вы меня попросили, я дал бы вам исчерпывающие объяснения по большинству вопросов и вам бы не пришлось сожалеть, отдавая приказ о моем заточении, а мне — не испытывать унижение, находясь за решеткой…
Я не хочу говорить вам, генерал, об услугах, которые я оказал моей стране; смею верить, они еще не изгладились из вашей памяти. Напомню только, что если бы хоть на миг моей целью было войти в правительство Франции, судьба давала мне весьма привлекательный шанс до вашего возвращения из Египта. И, конечно же, вы не забыли мою незаинтересованность во власти, когда я поддержал вас в ходе событий 18 брюмера…
С тех пор враги отдалили нас друг от друга: вот почему я с сожалением вынужден говорить здесь о себе и о том, что я сделал.
Но сейчас, когда меня обвиняют в том, что я являюсь сообщником тех, кого считают наемниками Англии и действующими по ее указке, то мне, в этом случае, вероятно, придется защищать себя самому от силков, которые она для меня расставляет. Смею надеяться, что та страна понимает, какой вред я могу ей нанести, судя по тому, что я уже для нее сделал…
Если вы удостоите это письмо своим вниманием, генерал, то я больше не буду сомневаться в вашей справедливости, и мне остается лишь ждать решения своей судьбы с чистой совестью невиновного человека, но и не без трепета увидеть триумф наших врагов, которых всегда привлекала неординарность.
С уважением,
Генерал Моро, Написано в Тампле, 17 вентоза XII года».Это письмо заслуживает уважения, но вместе с тем оно написано несколько неосторожно. Моро, пожалуй, не следовало бы с таким самолюбованием говорить о своей воинской славе и популярности в армии. Бонапарт знал об этом слишком много. Более того, Моро, не называя имен заговорщиков, признает, что заговор существовал. Это важный пункт для обвинения. Однако умело или нет, но это послание одним только напоминанием о перевороте 18 брюмера должно было тронуть Бонапарта, который в тот знаменательный день не удержался бы без поддержки главнокомандующего Рейнской армии.
На свое письмо Моро вскоре получил ответ, но не от лица первого консула, а от верховного судьи, в котором говорилось:
«Генерал,
Вчера в 11 вечера, то есть сразу по получении, я передал ваше письмо первому консулу. Он весьма озабочен теми суровыми мерами, которые ему необходимо принимать в целях обеспечения безопасности государства.
Во время первого допроса, пока заговор и ваша причастность к нему не была еще объявлена первым лицам государства и народу Франции, он поручил мне узнать, не проявите ли вы желания немедленно доставить вас к нему для беседы.
Вы могли бы помочь избавить страну от опасности, в которой она все еще находится…
Прежде чем дать делу законный ход, я хотел во время вашего второго допроса убедиться в том, можно ли не связывать ваше имя с этим гнусным делом. Но вы не оставили мне ни единого шанса.
Верховный судья, министр юстиции, Ренье».Разочарование Моро было безграничным. Читая эти сухие строки короткого ответа на свое длинное письмо, росло удивление и негодование генерала. Ничего подобного на то, что Бонапарт ждет его в Тюильри, чтобы поговорить «по-мужски», ни в словах, ни в тоне, ни в поведении верховного судьи не было и в помине.
Смысл последних слов «вы не оставили мне ни единого шанса» — был ясен. Их смысл состоял в том, что «если бы вы унизились, то никакого дела не было бы». Что может быть более естественным? Какой-то Моро признает себя без вины виноватым, взывает о пощаде и просит о милосердии своего соперника — победителя; он больше не представляет угрозы, а Бонапарт, публично прощая его, театрально и без особых усилий играет почетную роль «Августа, дарующего пощаду Цинне».
Однако этот самый «Август» на полях письма Моро поставил резолюцию: «Приобщите письмо Моро к материалам следствия».
Глава VI. КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВОСУДИЕ
Губернатор Парижа Мюрат окружил город кордоном жандармов так, что в столицу не мог проникнуть ни один человек без тщательной проверки его личности.
Париж представлял собой закрытую клетку, внутри которой сновали ищейки шефа госбезопасности Демаре и жандармы Савари. Афиши на улицах французской столицы призывали жителей оказывать содействие властям, и под страхом смерти запрещалось давать убежище заговорщикам. Последние, пытаясь выбраться из города, вскоре один за другим стали попадать в руки полиции.
К этому времени популярнейшей картинкой на парижских улицах была дешевая гравюра с изображением пятидесяти «негодяев», среди которых был помещен портрет человека, очень похожего на генерала Моро. Казалось, теперь Бонапарт дал волю своим насмешкам над Моро. Дуэль двух соперников была в самом разгаре.
* * *
Были схвачены принц де Полиньяк, маркиз де ля Ривьер, Костер де Сен-Виктор и многие другие. 9 марта 1804 года в семь часов вечера после драматической погони был взят Жорж Кадудаль. Во время схватки верный вождь шуанов убил одного и серьезно ранил другого полицейского. Его связали и привели к префекту полиции, где он сразу же был допрошен сначала префектом Дюбуа, а затем верховным судьей Ренье и 12 марта препровожден в Тампль. Кадудаля держали в башне на первом этаже в одиночной камере по соседству с Пишегрю.
Взоры жителей Парижа были обращены на эту башню — полную затворников. Общественное мнение, как это всегда бывает в подобных случаях, разделилось.
Одна часть поддерживала Бонапарта, а другая — Моро. Сторонники тех, кто поддерживал Наполеона, были довольно многочисленны и благодарны Бонапарту за возвращение культовых сооружений верующим и разрешение начать богослужения после десяти лет гонения на церковь. Церковная служба возобновилась не только в главном храме Парижа, но и во всех больших и малых церквах, расположенных во всех городах и деревнях Франции. Народ благодарил первого консула за Конкордат с Римской католической церковью, за установление порядка, за обещания долгого и продолжительного мира с европейскими государствами, за окончание бесконечных войн, которые вела республика с остальным миром в течение последних лет. Бонапарт завоевал много сердец.
Но и другую часть общества нельзя было не принимать в расчет. Помимо личных друзей Моро в нее входили все те, кто был против Конкордата — принципиальные республиканцы и многие генералы. Кстати, за окончание войны с внешними врагами надо было быть благодарным Моро, ведь только после Гогенлиндена, по заключении Люневильского договора, Франция получила наконец долгожданный мир, который продлится ровно пять лет (не принимая во внимание объявление войны Англии в 1803 г.) — вплоть до Аустерлицкого сражения.
Что касается Жоржа Кадудаля, то в Париже у него было мало сторонников. Преданная Бонапарту пресса Парижа регулярно вдалбливала в сознание жителей столицы, что предводитель шуанов — опасный террорист и кровожадный преступник; так что публика содрогалась от ужаса при одном упоминании его имени.
В ответ на хвалебные статьи, публикуемые официальной прессой в адрес первого консула, по рукам стали ходить листовки, а по ночам расклеиваться афиши, объявляющие гражданам Парижа, что «если они будут бездействовать, то французская столица будет сожжена».
В провинции, то там, то здесь, особенно в Бретани, стало проявляться некоторое волнение населения. В Бресте, например, выкрикивали и расклеивали плакаты с лозунгами: «Да здравствует Моро!», «Долой убийц!», «Смерть тирану!».
Не обращая внимания на эти вспышки народного гнева, Тюрьо начал следствие. Число подсудимых и свидетелей достигло 150 человек, а учитывая сложность предстоящего процесса, он обещал быть долгим. Некоторую патетику этому действу придала драма, произошедшая в самом начале следствия. 22 марта узники Тампля узнали, что 15 марта на баденской территории был схвачен герцог Энгиенский и по приказу Бонапарта только что расстрелян в Венсенском замке. Сторонники конституционной монархии, как мы уже упоминали, одно время пытались объединиться вокруг третьего претендента на французский престол — герцога Энгиенского из дома Конде, прославленного знаменитым полководцем Людовика XIV, великим Конде. Молодой принц действительно подавал надежды на соответствие репутации знаменитого своего предка, так как обладал недюжинным умом и бесстрашным мужеством. Ему очень хотелось принять личное участие в войне против революционной Франции, и он обсуждал наилучшие средства к осуществлению своих намерений как с агентами английского правительства, так и с эмигрантами. Однако при этом герцог был совершенно неповинен в заговорах и покушениях на жизнь Наполеона. В течение некоторого времени герцог находился в баденском замке Эттенхайме, расположенном всего в пяти километрах от французской границы. В этом замке проживал кардинал Роган со своей племянницей, принцессой Шарлоттой Роган-Рошфор, в любовной связи с которой и состоял герцог Энгиенский. Говорили, что он был тайно женат на ней, но по политическим причинам об этом браке публично не объявляли. Любовь, а не интриги удерживали герцога в этом замке, и он, несмотря на предупреждения об опасности, никак не соглашался укрыться в Англии или где-нибудь в Европе, подальше от Франции. Однако известия об аресте Моро и заговоре Кадудаля подействовали на герцога, словно неожиданный удар молнии. Сознавая свою полную непричастность к заговору, герцог тем не менее стал готовиться к отъезду во Фрайбург. Желая замаскировать неловкость своего положения, он устроил у себя в замке большую охоту и другие празднества, длившиеся целую неделю.
Полицейские ищейки первого консула, не найдя графа д'Артуа на западной границе Франции, обещавшего вернуться на родину с войском, переключили свое внимание на восточную границу. Они утверждали, будто бы в городе Оффенбурге, куда часто ездил герцог Энгиенский, проживали многие эмигранты, которых на самом деле там не было. Они доносили, что молодой принц приезжал в Страсбург и бывал там в театре. Полицейские агенты в своем рвении явно переусердствовали и объявили одного из приятелей герцога, проживавшего с ним по соседству эмигранта, маркиза де Тюмери (фамилию которого немцы выговаривали неправильно) — генералом Дюмурье, интриги которого против консульского правительства вызывали серьезные опасения. Эти донесения Бонапарт получил 5 марта. Почти одновременно с этим первый консул получил от своего агента в Неаполе выдержку из письма Дюмурье адмиралу Нельсону, в котором заявлялось о необходимости для англичан действовать против французов не оборонительно, а наступательно. При таких обстоятельствах казалось не подлежащим сомнению, что Дюмурье находится как раз на берегах Рейна и вместе с герцогом Энгиенским разрабатывает план вторжения во Францию. Распространялись всевозможные слухи, в которых истина перемешивалась с небылицами. Выяснилось, что старый интриган и заговорщик — генерал Вильо снова появился на юге Франции. Говорили, что герцог Беррийский едет в Бретань, граф д'Артуа, возможно, уже находится в Париже, а герцог Энгиенский с генералом Дюмурье стоят на восточной границе. Первый консул, естественно, чувствовал себя опутанным целой сетью заговоров. Арестованный Жорж Кадудаль показал вначале, что действовал по поручению принцев королевской крови, но на последующих допросах замкнулся и упорно молчал. Его слуга заявил, что Кадудаль виделся при нем, в предместье Шальо, с молодым человеком, производившим впечатление очень знатной особы. Тайная полиция первого консула вспомнила, что в январе месяце герцог Энгиенский хлопотал у французского посла в Вене о выдаче ему паспорта для проезда через Францию. Отсюда она сделала вывод о том, что празднества в Эттенхайме служили только маской, чтобы прикрыть отсутствие самого хозяина, находившегося, без сомнения, в Париже, где тогда и проходило секретное свидание между Кадудалем и таинственным незнакомцем. Такова была цепь якобы фактических доказательств, убедивших Бонапарта в том, что герцог Энгиенский действительно участвовал в заговоре с целью покушения на его жизнь.
Посоветовавшись с Реалем, Фуше и Талейраном, Бонапарт 10 марта отдал приказ незаметно вторгнуться на баденскую территорию и захватить герцога.
Вечером того же дня к Рейну через Страсбург был отправлен отряд, под командованием Орденера, с задачей окружить и занять замок Эттенхайм. Второй отряд, под командой Коленкура, выступил на другой день в Оффенбург. Коленкуру было поручено передать дипломатическую ноту баденскому двору. Ни тот, ни другой командир не знали задачи друг друга. Отряду Коленкура было поручено рассеять вооруженное формирование эмигрантов, находившееся в районе Оффенбурга, и потребовать выдачи известной интриганки, баронессы Рейх. Орденеру было приказано, в свою очередь, арестовать герцога Энгиенского и доставить его в Париж. Узнав, что баронесса уже арестована, а донесение полицейских агентов о существовании вооруженного отряда эмигрантов в Оффенбурге лишено всякого основания, оба генерала немедленно приступили к выполнению подробных инструкций первого консула относительно ареста герцога Энгиенского.
12 марта герцог был предупрежден об угрожавшей ему опасности, но он оказался не робкого десятка и отправил своего человека в Страсбург разузнать, насколько опасность действительно была велика. Проснувшись утром 15 числа, он убедился, что дом окружен французскими войсками.
Герцог сдался, не сопротивляясь, хотя у его кровати лежала пара заряженных пистолетов. В замке был произведен тщательный обыск и все бумаги конфискованы. Вечером герцог, со своими друзьями и домочадцами, был заточен в цитадель Страсбурга, а 20 марта его доставили в Венсенский замок.
Из донесений, полученных от Коленкура 17 марта, первый консул уже знал, что никакого Дюмурье на берегах Рейна и в помине не было, а в бумагах герцога, которые он прочитал лично 19 марта, не содержалось ничего предосудительного. Однако Бонапарт выудил из контекста две фразы, которые сами по себе, без привязки к конкретному тексту, могли послужить основанием для вынесения приговора о смертной казни. В одной из этих фраз герцог объявляет французский народ «своим жесточайшим врагом», а в другой сообщает, что за время «своего двухлетнего пребывания за границей ему удалось войти в контакт с французскими войсками, дислоцированными на Рейне» (то есть с армией Моро. — А. З.).
Бонапарт принимает роковое для себя решение — предать герцога военно-полевому суду. Главным обвинением против него должен был послужить тот факт, что он сражался против своего отечества. На суде предполагалось спросить у герцога, знал ли он о заговоре и подготовке покушения на жизнь первого консула и рассчитывал ли он выступить с вооруженным отрядом в Эльзас в случае, если бы такая попытка увенчалась успехом.
Военно-полевой суд представлял собой прообраз будущих сталинских «троек», когда человека можно было осудить за что угодно, лишь бы угодить настроению высших правительственных кругов. Военно-судебные комиссии, как их еще называли во Франции, были созданы по образцу безжалостных судилищ, созданных революцией и фактически не отмененных ни Директорией, ни Консулатом. Революционное постановление суда, объявлявшее каждого француза, который поднял оружие против отчизны, изменником, заслуживающим смертной казни, тоже не было отменено. Консульское правительство призвало к деятельности военно-судебные комиссии, поручив им решать дела по дезертирам, беглым конскриптам, заговорщикам и шпионам. Председателем суда был назначен генерал Гюлен, который быстро понял, что от него ожидают, и получил конфиденциальное приглашение представить судебный приговор непосредственно на рассмотрение первого консула.
Обе указанные выше фразы были включены в пункты допроса, который должен был вести Реаль. Если герцог Энгиенский старался побудить французские войска к измене республиканскому знамени, то, без сомнения, не требовалось никаких иных доказательств его участия в заговоре.
Гюлен, Савари и Реаль формально должны были решить участь герцога. Когда началось заседание суда, Реаль по какой-то причине отсутствовал, и пунктов допроса, так тщательно подготовленных главой государства, в наличии не оказалось. Председатель суда Гюлен при помощи записки, полученной от Мюрата, самостоятельно составил и довольно неудачно сформулировал пункты допроса. Члены суда намекали обвиняемому на необходимость быть осторожнее в ответах. Однако герцог совершенно искренне заявил, что получал пенсию от английского правительства, и что обращался к английским министрам с просьбой о принятии его на военную службу, что считает свое дело правым, и намеревался сражаться за таковое, собрав в Германии войска, в ряды которых принял бы эмигрантов и всех недовольных консульским правительством. Он добавил, что и раньше ему доводилось сражаться против Франции, но категорически отрицал все контакты с Дюмурье или Пишегрю и заявил о полнейшем неведении относительно подготовки покушения на жизнь первого консула. И хотя могила для герцога была выкопана еще утром, члены военно-полевого суда к протоколу, содержавшему пункты допроса и данные герцогом на них ответы, иронически позволили герцогу приложить просьбу о личном свидании с первым консулом. «Мое имя, положение в свете, образ мыслей и та ужасная ситуация, в которой я оказался, — написал он, — внушает мне надежду, что первый консул не откажется выполнить эту просьбу».
Но члены военно-судебной комиссии хорошо знали законы, в соответствии с которыми действовали такие чрезвычайные суды еще со времен Конвента. Однако у них не было под рукой формулировки приговора, выносимого французам, сражавшимся в неприятельских рядах. Поэтому они оставили в протоколе пробел, который намеревались заполнить позднее, и постановили, что «приговор, определенный законом», должен быть приведен в исполнение немедленно. Исполнив свою обязанность, члены суда занялись составленим прошения о помиловании к первому консулу, когда в зал вошел Савари и, узнав о вынесенном ими решении и о том, чем они сейчас занимаются, выхватил перо из рук Гюлена и, вскричав: «Остальное уже мое дело!» — поспешно вышел.
Пробило 2 часа ночи. Наступило 21 марта 1804 года. «Следуйте за мной, вам потребуется все ваше мужество», — сказал угрюмый тюремщик Гарель. Арестант спустился в ров; прошел по нему несколько шагов и завернул за угол. При свете факелов он увидел взвод солдат, выстроенный рядом с вырытой могилой. Когда адъютант принялся читать приговор, герцог на мгновенье содрогнулся и воскликнул: «Боже мой! За что же это?» — вскоре, однако, он овладел собой. Срезал с себя прядь волос, снял с пальца обручальное кольцо и попросил передать и то и другое своей жене — принцессе Шарлотте. В следующее мгновенье прогремел залп. Все было кончено.
Расстрел герцога Энгиенского наделал много шума в Европе. Однако только русский император Александр I, единственный из европейских монархов, осмелился протестовать против злодеяния. Он прервал дипломатические отношения с Францией и наложил при дворе траур, но вынужден был этим и ограничиться, так как ни одна европейская держава не пожелала присоединиться к нему, чтобы объявить войну первому консулу.
Одно время Наполеон прибегал к уловкам, стараясь доказать, что герцога расстреляли то по недоразумению, то возлагая всю ответственность на Талейрана, но затем оправдывал себя, ссылаясь на государственные соображения, и утверждал, что казнь герцога Энгиенского была актом самообороны. Как бы то ни было, смерть герцога повредила Наолеону в общественном мнении, а в политическом отношении не принесла ему ни малейшей пользы.
Из этого дела узники Тампля сделали вывод, что первый консул занял твердую позицию и что ни Кадудалю, ни Пишегрю, ни остальным «заговорщикам» пощады не будет. Однако храбрость не изменила им. И они продолжали противостоять нападкам судьи, а также самым гнусным угрозам, равно как и лживым обещаниям — либо все отрицая, либо храня молчание.
Самым смелым из всех был Кадудаль. Он насмехался над судьей дерзким образом. Тюрьо заявил ему, что при аресте он застрелил полицейского, отца четырех детей. На что Кадудаль ответил: «На мое задержание надо было посылать холостяков».
Высокий, сильный, все еще величественный Пишегрю, глядя на Тюрьо взглядом, достойным презрения, отвечал решительным «нет» на все задаваемые ему вопросы.
Моро вел себя по-иному. Его положение отличалось от положения Пишегрю. Отказавшись участвовать в заговоре, Моро имел право, а в отношении своей семьи даже был обязан дистанцироваться от опального генерала, скомпрометировавшего себя связью с главными заговорщиками.
В ходе двух первых допросов Моро отрицал, а в письме к Бонапарту от 17 вентоза обошел молчанием факт своих недавних встреч с Пишегрю. Однако это отрицание и замалчивание представляли для Моро большую угрозу, чем он предполагал, принимая во внимание последние показания Лажоле и Роллана. Настаивая на своем, Моро вызывал раздражение судей. Сейчас свобода, да что там свобода, сама жизнь Моро висела на волоске! Однако его порядочность требовала, чтобы в своих показаниях он не бросил тень на других. Как мы увидим ниже — это было одним из главных правил его жизни.
Первая очная ставка Моро с Ролланом состоялась 9 жерминаля (30 марта 1804 г.). Тюрьо дал Моро прочитать протоколы допроса Роллана.
— Что вы на это скажите? — спросил Тюрьо. Моро отвечал:
— Я вспомнил, что однажды действительно принимал Пишегрю у себя дома, которого ко мне привез мой секретарь, не предупредив меня. Пишегрю рассказал мне о надеждах, которые питают указанные французские принцы на свержение правительства.
— Что вы ответили Пишегрю?
— Я ему возразил, сказав, что у этих принцев нет сторонников во Франции. Что правительство настолько консолидировано, что пытаться его свергнуть — было бы самой большой глупостью.
— А о вашей связи с Ролланом?
— Я признаю, что принимал Роллана у себя дома на следующий день после упомянутой встречи с Пишегрю. Пишегрю приехал вместе с ним ко мне, чтобы узнать, буду ли я претендовать на власть. Я ответил Роллану, что это было бы второй большой глупостью; что для того, чтобы я мог иметь подобные притязания, необходимо, чтобы с политической арены ушли: семья Бонапартов, консулы, губернатор Парижа, консульская гвардия и т.д.
Кроме того, я заявил, что если он мне доверяет, то я бы оказал услугу Пишегрю в его стремлении вернуться на родину.
* * *
Очень скоро, благодаря стараниям своей жены и брата-судьи, а также нескольких друзей, Моро было разрешено принимать посетителей. 13 марта он наконец смог обнять своего сына, которого ему привел лейтенант жандармерии.
Эти привилегии, предоставленные только генералу Моро, происходили от Тюрьо. Мы не думаем, чтобы бывший член Конвента мог что-либо заработать на деле столь известного узника. Однако все любезности этого экс-террориста этим и ограничивались, и по отношению к Моро он оставался не просто судьей — он был главным обвинителем. Впрочем, он требовал, чтобы каждое свидание проходило в присутствии двух охранников, назначаемых по его указанию.
Эти свидания происходили вечером, как правило, один раз в неделю, когда госпожа Моро, скромно одетая, чтобы не привлекать внимания других заключенных, приходила навестить своего мужа. В основном она была одна, но иногда являлась со своей матерью. Она обижалась, что им предоставлены столь редкие свидания, хотя, ожидая в толпе среди прочих визитеров у тюремного окна, ей порой удавалось видеть издалека своего драгоценного пленника. В такие дни она одевалась во все белое, чтобы Моро мог узнать ее, глядя с высоты башни. При этом она брала на руки своего сына, чтобы муж мог лучше его рассмотреть. Помахав рукой, она удалялась, благодаря в душе любезность Фоконье за эти прекрасные мгновенья.
Во время этих свиданий Моро, окруженный парой охранников, мог говорить жене лишь простые банальности. Ни слова о предстоящем процессе. Вместе с тем нужно было сделать так, чтобы она поняла, как он собирается строить свою защиту. В этом ему помогали короткие записки и письма на волю. По всей вероятности, посредником между мужем и женой в данной ситуации выступал молодой цирюльник, который ежедневно приходил брить Моро и брал на себя смелость (отнюдь не безвозмездную) передавать корреспонденцию. Если верить роялистскому писателю Лапьеру де Шатонеф, госпожа Моро платила по 40 ливров за каждую, хотя бы и небольшую записку. Для писем, имевших исключительно важное значение, Моро использовал более надежный способ доставки, оставшийся, однако, для нас загадкой (одни говорили, что он каким-то образом использовал свою подзорную трубу, другие утверждали, что записки выносились в ведре для нечистот).
* * *
Повседневная жизнь в башне Тампля, за редким исключением, протекала монотонно и мучительно скучно. В еде отсутствовали разнообразие и утонченность, но по желанию узников с деликатным вкусом пища могла быть приготовлена в соседнем ресторане и доставлялась в тюрьму за дополнительную плату. Прогулки, как правило, совершались один раз в день в целях избежания клаустрофобии. В зависимости от времени года и погоды прогулки проходили либо во дворе, либо в тюремном саду, либо на платформе самой башни. Узникам не разрешалось разговаривать во время прогулок, но они общались, передавая записки с последними новостями из рук в руки. Только Жоржа Кадудаля держали в кандалах. Даже Пишегрю мог свободно ходить по своей камере.
Переносить тяготы заточения Моро помогала его уверенность в собственной невиновности и вера в то, что его преданные друзья на воле старались сделать все возможное, чтобы Моро был оправдан. Кроме того, мысль о своей доброй жене и маленьком сыне вселяла в него еще большую уверенность. Он говорил себе, что когда выйдет из темницы, жизнь наверняка даст ему еще шанс.
Пишегрю, напротив, знал об имеющихся доказательствах своей виновности, но продолжал все отрицать, сохраняя хладнокровие и верность товарищам. Он не сомневался относительно жестокости приговора, который ему готовило беспощадное консульское правосудие. Возможно, если бы удалось упросить Бонапарта, он мог бы заменить эшафот на пожизненное заключение, но Пишегрю не был из числа тех, кто готов был пресмыкаться. Иногда он подумывал о побеге. Но решетки в узком окне камеры были слишком крепки, да и денег у него было недостаточно для того, чтобы подкупить стражников. Впрочем, зачем все это? Стоит ли бороться за жизнь, которая доставила ему столько горя? Он давно уже потерял вкус к ней. Из всей семьи у него остался лишь только старший брат — священник, мягкий и скромный человек, которого всегда огорчала авантюрная и полная опасностей жизнь слишком известного младшего брата.
От госпожи Лажоле — ее муж не получал ни слова. Прячась в глухих закоулках Парижа, она даже не осмеливалась писать. Да и зачем?
А вот Пишегрю читал в своей камере. Реаль принес ему маленькую книгу в кожаном переплете под названием «Мысли Сенеки». Эти мысли выражали благородную твердость духа. Они учили, что человеку со свободным сердцем чуждо рабство, и если он не может с ним бороться, то он вправе избавиться от собственной жизни. Это выглядело как заклинание, как руководство к действию. Пишегрю забыл, что он был христианином. В один «прекрасный день» он крепко обвязал шею своим черным длинным галстуком, отломал ножку стула, просунул ее между шеей и галстуком и стал вращать, как ворот, пока не задохнулся. Только утром охранник обнаружил огромное тело Пишегрю, лежащее поперек кровати. Консульской полиции этот храбрый генерал оставил только свой труп. Ничего больше.
Она оказалась в затруднительном положении. Немедленно были собраны все возможные улики и опубликован протокол о самоубийстве Пишегрю. От трупа она тоже быстро избавилась.
Общественное мнение разразилось настоящей драмой. Никто не хотел верить, что Пишегрю, обладавший огромной физической силой, энергией, высоким моральным духом, мог сам повеситься. Вскоре пошли слухи о том, что в ту злополучную ночь в тюрьму были направлены четыре мамелюка по приказу Бонапарта, чтобы задушить Пишегрю. И как это обычно бывает с очень изобретательным народным воображением, добавили, что первый консул, чтобы спрятать концы в воду, приказал на рассвете расстрелять мамелюков.
Из этих событий был сделан вывод, что ряд пленников башни Тампля вскоре будут приговорены. Мы не знаем, был ли Моро согласен с этим мнением, но очевидно одно — он был поражен, узнав, что этажом ниже, прямо под его камерой, лежит холодное бездыханное тело человека, с которым он разделял славу блестящих побед во времена своей боевой юности.
22 жерминаля (12 апреля 1804 г.) состоялась вторая очная ставка Моро. На этот раз перед ним предстал друг Пишегрю — некий гражданин Кушери, арестованный 8 жерминаля и допрошенный 10-го Реалем.
Тюрьо попросил громким голосом зачитать протокол допроса Кушери, проведенного Реалем.
Вот некоторые выдержки из него:
«В тот момент, когда Моро разговаривал с Пишегрю, то есть в девять часов вечера на бульваре Мадлен, пришел Жорж Кадудаль. У них произошла короткая и холодная беседа…
Лажоле и я сопровождали Пишегрю до дома генерала Моро. Кадудаль нам сказал, когда мы уходили: “Сегодня Моро не будет жаловаться ни на что! Я в этом уверен”.
Разговаривая, мы вошли в гостиную. Пишегрю с Моро уединились в кабинете. Пишегрю пробыл в доме генерала Моро около четверти часа».
Закончив чтение протокола допроса, Тюрьо спросил Кушери, подтверждает ли тот свои показания.
— Да, все так и было, — ответил Кушери. Тогда Тюрьо обратился к Моро:
— Вы только что слышали показания человека, касающиеся лично вас. Что можете сказать по этому поводу?
— Я не мог помешать Кушери и Лажоле привести ко мне домой Пишегрю. Я сказал последнему, что не хочу ни о чем говорить с ним. Через несколько минут он ушел.
Что касается встречи на бульваре Мадлен, то я оказался там случайно.
* * *
Второго жерминаля состоялась последняя очная ставка Моро. На этот раз она проходила в присутствии Лажоле. Были зачитаны все протоколы допроса последнего, после чего Тюрьо потребовал у Моро объяснений.
Пункт за пунктом он отвечал на формулировки Лажоле, подтверждая либо оспаривая их. Наконец, заключил:
— Я постоянно отказывался от встреч, которые мне предлагались, поэтому я был весьма удивлен, когда ко мне домой пришел Пишегрю, сопровождаемый Френьером в первый раз и в компании Лажоле — во второй.
— А разве вы не принимали Лажоле летом прошлого года? — спросил Тюрьо.
— Когда в прошлом году ко мне явился Лажоле, он пришел с одной целью — просить моей рекомендации о восстановле нии в армии. Он попросил у меня некоторую сумму денег для поездки в Эльзас, но я ему отказал. Обращаю ваше внимание, что в бытность мою командующим Рейнской армией правительство, основываясь на моих донесениях в отношении Лажоле, заключила его в тюрьму сроком на 28 месяцев после событий 18 фрюктидора, и, я полагаю, показания Лажоле против меня сделаны из чувства мести.
Тогда Тюрьо обратился к Лажоле:
— Вы настаиваете на своих показаниях?
— Да, чувство мести не имеет к этому никакого отношения.
По правде говоря, официальные протоколы очных ставок, которые мы здесь приводим, не в состоянии описать реальные чувства, которые испытывали эти люди по отношению друг к другу. Протоколы выглядят слишком «спокойными». Но вот записки, которыми тайно обменивался Моро со своей женой, полны трепета и негодования, которые испытывал генерал, сидя лицом к лицу с людьми, которые его обвиняли. «Заявления Роллана разоблачают шпиона…», «эти гнусные допросы мне отвратительны; угрозы чередуются с обещаниями…» или вот еще: «…мне заявляют, что кто-то стоял за дверью и подслушивал, когда я говорил с Пишегрю».
* * *
Вызывает удивление, как мог Моро после 16 жерминаля переписываться с женой и с братом Жозефом, так как после самоубийства Пишегрю в камере Моро постоянно находились два жандарма. Вероятно, опасались или делали вид, что опасаются, что и Моро может прибегнуть к попытке самоубийства.
Однако сам он об этом не думал. Единственной заботой Жана-Виктора в то время было постараться максимально снабдить своих адвокатов всеми сведениями, необходимыми для защиты, а от них получить советы по тактике своего поведения на суде. Главным адвокатом Моро был мэтр Бонне, а мэтры Беллар и Периньон — его помощниками. Именно в это время генерал передал им копию своего письма первому консулу от 17 вентоза, а также краткий перечень кампаний и сражений, в которых он участвовал и которые составляли его славу. Последний документ представляет собой огромный исторический интерес. Эрнест Доде опубликовал обширные выдержки из него в своей книге «Ссылка и смерть генерала Моро», опубликованной в Париже в 1909 году
Пока адвокаты собирали необходимые документы для организации защиты в суде, семья Моро пыталась привлечь внимание сильных мира сего к судьбе знаменитого пленника. Скажем больше — сам Моро просил ее об этом.
«Тот, к кому ты обращалась столько раз, — пишет он супруге, — продажная личность на службе у власти. (Речь, по-видимому, идет о Сийесе. — А. З.). Принимая тебя, он боится себя скомпрометировать. Тебе следует обратиться выше…»
Выше — значит к Бонапарту или, по крайней мере, к Жозефине. Однако первый консул отказался принять мадам Моро. Это сделала Жозефина.
Прием состоялся 18 мая 1804 года, в день, когда Сенатус-консульт провозгласил Наполеона императором всех французов. Жозефина была сама любезность. Сбылось пророчество гадалки, которая еще в детстве предрекла ей, что она станет королевой. В ее словах не было и намека на ссору с госпожой Уло. Жозефина обещала свою поддержку. Но все сказанное ею оказалось пустым звуком.
Отказываясь подвергаться унижениям и признать себя виновным, Моро обрекал себя на публичный процесс. Впрочем, хлопоты мадам Моро оказались запоздалыми. Судебное следствие давно было завершено, и государственный комиссар Жерар уже составил обвинительное заключение. Это был увесистый многостраничный документ в нескольких томах, так как по делу проходило свыше 150 человек, а, кроме того, дела 47 человек — основных обвиняемых, среди которых несколько женщин, были выделены в отдельное производство.
В соответствии с этим документом, Моро, Жорж Кадудаль, принц Арман де Полиньяк и его брат Жюль, а также Шарль д'Озье, Бувэ де Лозье, Роллан, Лажоле, Кушери, аббат Давид и многие другие объявлялись участниками заговора, направленного на свержение устоев республики и на подстрекательство к гражданской войне — правонарушение, предусмотренное статьей 612 закона от 3 брюмера IV года.
Получив этот документ, верховный судья объявил, что заседание особого трибунала округа Сены состоится 28 мая 1804 года для того, чтобы «начать судебный процесс по делу Кадудаля, Моро и др.».
Двадцать шестого мая обвиняемые были переведены из Там-пля в тюрьму Консьержери, расположенную рядом с Дворцом правосудия. Именно из застенков Консьержери французская королева Мария-Антуанетта отправилась на эшафот.
В 10 часов утра 28 мая 1804 года судьи особого трибунала округа Сены, облачившись в красные мантии и предшествуемые судебными исполнителями, одетыми во все черное, во главе с председателем гражданином Эмаром вошли в большой зал Дворца правосудия, позднее названный Первой палатой, и поднялись на эстраду, где находились их кресла.
Перед эстрадой уже сидели адвокаты и стенографы, а за ними стоял пустой ряд кресел, зарезервированный для особо важных персон.
Напротив судей в четыре ряда были установлены скамьи для обвиняемых. Пока они были пусты.
Пространство, предназначенное для публики, было заполнено толпой любопытных, среди которой растворились полицейские ищейки в штатском.
На подступах к Дворцу правосудия и внутри него были приняты беспрецедентные меры безопасности. Многотысячный корпус полицейских, расположенный в этом и прилегающих к нему кварталах города, напрямую подчинялся Савари.
В 10.15 гражданин Эмар приказывает ввести обвиняемых. Сорок семь человек медленно входят в зал, каждый в сопровождении двух жандармов. Моро идет первым: он одет в гражданское платье и выглядит очень спокойно. Вместе с сопровождающими его охранниками садится на крайнюю левую скамью в первом ряду.
Как только все скамьи оказываются занятыми, Эмар быстро приступает к формальной процедуре установления личности каждого из обвиняемых.
— Ваше имя, фамилия, возраст, род занятий и т.д.
Затем секретарь суда гражданин Фремен зачитывает обвинительный акт. Чтение этого документа занимает очень много времени. Оно продолжается до часа дня и затем возобновляется после обеденного перерыва и длится до половины шестого вечера.
Все это время публика могла внимательно рассмотреть обвиняемых. Так, два брата Полиньяк и Шарль д'Озье весело смотрели по сторонам и жестами или кивком головы приветствовали друзей, знакомых и тех, кого узнавали в толпе. Молодой лотарингец Костер де Сен-Виктор, офицер армии принца Конде и подручный Жоржа Кадудаля, смело разглядывал через лорнет молодых дам, занимавших кресла для важных персон. Маркиз де Ривьер что-то писал карандашом на листке бумаги. Позднее узнали, что это был мадригал (небольшое музыкально-поэтическое произведение любовного содержания), посвященный одной из присутствовавших дам, а именно — грациозной герцогине де Ля Форс.
Время от времени Моро улыбался своей супруге, теще и друзьям. Коротко подстриженный Жорж Кадудаль читал, слушал, размышлял, то поднимая, то опуская свою большую голову. Большинство взглядов было сосредоточено на нем. Люди рассчитывали увидеть грубого злодея, а открывали для себя человека с гордыми и благородными чертами лица.
По окончании чтения обвинительного акта председатель приказал увести заключенных обратно в тюрьму Консьержери.
На следующий день ровно в 9 часов утра началось второе судебное заседание. Председатель Эмар монотонно, один за другим задавал вопросы Жоржу Кадудалю, Бувэ де Лозье, бывшему майору Русийону (другу Пишегрю), Этьену Рошелю и братьям Полиньяк.
Много свидетелей выступало против Кадудаля, особенно полицейские. Он им не противоречил. Жорж отвечал как бы наугад то «да», то «нет», не задумываясь, какой вопрос был задан. Если же он решался что-либо ответить, то его короткие фразы были полны иронии. Он делал вид, что ничего не знает. Когда его спросили, где он проживал в Париже, Жорж решительно ответил — «нигде». Вместе с тем, несмотря на демонстрацию своего полного безразличия к происходящему, он был особенно внимательным к вопросам, которые могли хоть как-то скомпрометировать его товарищей-шуанов. Этого он старался избегать.
Вот короткая выдержка из протокола допроса:
Председатель: Обвиняемый Бувэ, на допросе у верховного судьи вы заявили, что Моро обещал присоединиться к делу реставрации Бурбонов. Как вы об этом узнали?
Бувэ де Лозье: Я слышал, как об этом говорил Жорж Кадудаль.
Кадудаль: Гражданин Бувэ, вероятно, ошибается.
Председатель: Кто же вам сказал, гражданин Бувэ, что Лажоле был послан в Лондон генералом Моро для встречи с принцами королевской крови?
Бувэ де Лозье: Гражданин Кадудаль.
Кадудаль: Гражданин Бувэ серьезно заблуждается.
* * *
Утром 30 мая 1804 года состоялось третье судебное заседание. На этот раз на скамье подсудимых находились Шарль д'Озье, маркиз де Ривьер, Луи Дюкор, Луи Леридан (слуга Ка-дудаля), Луи Пико, Виктор Кушери, Роллан и Лажоле.
Заявление Луи Пико произвело настоящий фурор в зале, когда тот сказал, что признательные показания были выбиты из него под пыткой и что теперь он от них отказывается.
Пико: Когда меня арестовали и привели в префектуру полиции, они начали с того, что предложили мне 1500 луидоров, если я выдам место, где скрывается мой хозяин. Я ответил, что не знаю. Тогда гражданин Бертран послал офицера охраны за тисками и отверткой, чтобы сломать мне пальцы. Он связал меня и начал сжимать пальцы в тисках со всей силой. Мне стало ужасно больно, и я заговорил.
Председатель: Вы заявили, что английское правительство снабжало вас деньгами, и что Жорж Кадудаль был главарем заговора, и все финансовые средства были сосредоточены в его руках.
Пико: Нет.
Председатель: Вы сказали, что хотели умереть за веру и короля. Так ли это?
Пико: Полагаю, я мог так сказать. Ведь это был мой долг.
В ходе данного слушания Моро мог отвечать либо возражать. Вот характерный пример:
Председатель: Обвиняемый Моро, в соответствии с показаниями Роллана, вы не желали действовать ради дела Бурбонов, но хотели действовать ради себя самого — ради собственных целей?
Моро: Мой ответ таков: если бы я хотел действовать ради себя, то где же мои сообщники, где те, кого я прельстил или подкупил? Их нет!
И еще во время допроса Лажоле:
Председатель: Гражданин Лажоле, вы показали, что летом прошлого года генерал Моро высказал вам свое пожелание встретиться с Пишегрю?
Лажоле: Это не совсем так. Дословно я не сказал «встретиться». Я родом из Эльзаса и мой родной язык немецкий. Поэтому я мог ошибиться в терминологии.
Председатель: Обвиняемый Моро, хотите ли что-либо возразить по этому поводу?
Моро: Да, хочу. И это очень важно. Гражданин Лажоле был в Париже в июне, а уехал в Англию в декабре. Если бы я его попросил об организации такой встречи и если бы речь шла о таком важном деле, как заговор, то вряд ли он стал ждать с июня по декабрь для того, чтобы съездить в Англию.
И наконец:
Председатель: Обвиняемый Моро, объясните суду, каким образом, зная, что Пишегрю был объявлен предателем в V году, вы тем не менее согласились его принять?
Моро: С самого начала революции люди, которые были предателями в 1789 году, не были ими в 1793-м, и те, кто были предателями в 1793-м, перестали ими быть в 1795-м. То же самое и с теми, кто ими был в 1795-м, перестали ими быть позднее. Равно как и те, кто был когда-то республиканцами, не являются таковыми сейчас.
Эта последняя реплика Моро была явно в пику Бонапарту. Даже здесь, на судебном процессе, его язык оставался его врагом.
Председатель: Обвиняемый Моро, вы не согласны с тем, что Роллан сказал вам по поводу ответа, который вы ему дали?
Моро: Это высказывание Роллана в том виде, в котором он его сделал, смехотворно. Только сумашедший мог подумать, что я способен опереться на самых преданных людей дома Бурбонов, чтобы самому стать диктатором.
Председатель: Вопрос не в том, смешно ли это или нет, а в том, что вы сказали Роллану?
Моро: Я воевал в течение 10 лет и ни разу не совершал смешных поступков. Хочется верить, что и на этот раз я не сделал ничего смешного.
При этих последних словах зал разразился громом аплодисментов.
* * *
Четвертое заседание суда состоялось 31 мая 1804 года и началось со следующего заявления председателя:
— В ходе вчерашнего заседания присутствующие проявили знаки одобрения по отношению к обвиняемым. Впредь каждый, кто проявит неуважение к закону, будет немедленно арестован прямо в зале суда.
Затем начался допрос Моро. Председатель выделил из всех предыдущих показаний и заявлений генерала то, что могло быть инкриминировано Моро, и попытался представить эти его заявления, как противоречащие друг другу. Однако это ему не удалось.
Затем последовал допрос аббата Давида, который в своих показаниях настаивал на том, что выступал в качестве посредника между Моро и Пишегрю с одной лишь целью — примирить их.
Давид: Я хотел еще и другого примирения. Председатель: Какого?
Давид: Помирить Моро и Пишегрю с генералом, который правит сейчас Францией.
Далее последовали допросы остальных обвиняемых.
Четыре жандарма показали, что, состоя в охране Тампля, они слышали, как обвиняемый Роже говорил, что Моро, Пишегрю и Кадудаль являются главарями заговора и что Моро должен был взять на себя командование армией, расквартированной в Булонском лагере, и привести ее в Париж.
Роже: Об этом сообщалось в газетах, приносимых в Тампль. Я лишь повторил то, что там было напечатано.
Бывший майор Русийон заявил на следствии, что Лажоле в Лондоне сказал ему, что Моро заодно с Бурбонами.
Председатель: Обвиняемый Русийон, подтверждаете ли вы это заявление? Русийон: Да. Лажоле: Я никогда этого не говорил.
В этот момент все увидели, как через боковую дверь, ведущую в амфитеатр, вошла женщина и в сопровождении судьи в красной сутане проследовала на места, зарезервированные для особо важных персон. Но прежде, чем опуститься в кресло, она несколько мгновений искала взглядом кого-то, кто сидел на скамье подсудимых. Увидев даму, Моро встал и поприветствовал ее. Все взгляды тут же обратились на нее, и шепот восхищения прокатился по залу. Это была Жюльет Рекамье.
В ходе последующих допросов людей Жоржа Кадудаля: Костера де Сен-Виктора, Ленобля, Эрве де Лозье, Лагримодьера, Девиля, Гэйяра и Дюкора председатель лишь вскользь упоминал имя Моро, не позволяя ему сказать ни слова.
Когда допрос закончился и обвиняемых стали друг за другом выводить из зала суда, Жульет Рекамье подошла к барьеру, отделявшему арестантов от публики. Моро увидел ее движение и, проходя мимо, сказал несколько слов, чтобы выразить ей свое уважение и симпатию. Она же не смогла выдавить из себя ни слова. Комок подкатил к горлу, и Жюльет с трудом сдерживала себя, чтобы не расплакаться.
Пятое и шестое заседания суда прошли без позволения генералу Моро задавать вопросы.
И вот, наконец, в воскресенье 3 июня 1804 года, допросив последнего 151-го свидетеля по делу, председатель Эмар предоставил слово господину Жерару — генеральному прокурору Его Величества императора французов. В зале воцарилась мертвая тишина. «Сколько голов потребует этот человек в красной мантии? И кого именно?» — вертелось в голове у каждого.
* * *
Генеральный прокурор начал свою речь с пространных гипербол. Он напомнил об «ужасном дне 3 нивоза (попытке покушения на жизнь первого консула на улице Сен-Никез 24 декабря 1800 года), который навсегда останется черным днем в истории рода человеческого». Он подтвердил, что английское правительство «хотело разжечь огонь гражданской войны во Франции, покрыв горами трупов наши западные департаменты, а реку Луару наполнить потоками крови соотечественников, разрушив наши деревни, города и порты».
Однако очень скоро пафосный стиль исчез из его речи, и она превратилась в четкую, быструю, несправедливую и жестокую обвинительную речь. В части, касающейся Моро, признательные показания Бувэ де Лозье, Лажоле, Кушери и особенно Роллана были приняты судом в том виде, в каком они были записаны с их слов, без малейшей попытки исправить вольные или невольные ошибки, которые в них содержались. По словам прокурора, несомненным было то, что «Моро дал “добро” Кадудалю и Пишегрю на возвращение из Лондона и некоторым образом обрисовал им момент, который он сочтет наиболее подходящим для совершения задуманного преступления». Прокурор не подверг сомнению и тот факт, что Моро встречался не только с Пишегрю, но и с Кадудалем на бульваре Мадлен. И тот факт, что генерал с таким упорством пытается защищаться, лишь подтверждает то, что он понял, какую грозную опасность представляет для него эта связь. И, наконец, вне всякого сомнения, остается тот «жестокий совет, который дал генерал Моро по физическому устранению трех консулов и губернатора города Парижа».
Было ясно, что подобная обвинительная речь подразумевает безжалостные последствия. Таковыми они и оказались.
Только четверых обвиняемых, в основном второстепенных людей и пару слуг, а именно Эвена, Карона, Галле и его супругу, пощадил прокурор. Он потребовал 43 головы.
В зале суда послышалось столь враждебное негодование, что председатель немедленно объявил перерыв.
Слушания вновь открылись только через два часа. И начались с прений защиты. Первым взял слово адвокат Жоржа Кадуда-ля — мэтр Домманже. Было ясно, что он был назначен слишком поздно, так как пожаловался, что «времени было настолько мало, что я не смог подготовить даже самый простой проект защиты». Однако его выступление, полностью импровизированное, тем не менее оказалось очень теплым и весьма достойным.
Затем выступили мэтр Лебон в защиту Русийона и Бувэ де Лозье и мэтр Гишар в защиту братьев Армана и Жюля де Полиньяк.
* * *
В понедельник 4 июня состоялось следующее заседание суда и началось оно с отказа от своих показаний господина Бувэ де Лозье.
Моро: Прошу господина председателя спросить господина Бувэ де Лозье, отказывается ли он от своих слов, сказанных им во время очной ставки.
Бувэ: Я поясню. В своем заявлении я показал, что Моро позволил родиться заговору. Я так считал. Теперь я так не считаю.
Моро: У меня больше нет вопросов.
Председатель: Обвиняемый Бувэ, разве вы не были на встрече, состоявшейся на бульваре Мадлен?
Бувэ: Я был в экипаже вместе с Кадудалем и с Пишегрю, но я не видел Моро.
По завершении этого инцидента прения продолжились. Когда подошла очередь мэтра Бонне, адвоката генерала Моро, последний поднялся и попросил у председателя разрешения сделать заявление, прежде чем мэтр Бонне начнет прения. Председатель согласился, и Моро начал читать речь, которую он подготовил ночью, сидя в своей камере в тюрьме Консьержери и которую он через посредничество своей жены передал адвокату. Вот когда Моро потребовались его знания юриспруденции. Не зря отец отдал его в юридический колледж и он получил соответствующее образование.
Речь Моро представляла собой своего рода преамбулу к выступлению мэтра Бонне. В ней генерал вкратце описывает всю историю своей жизни. Он говорит, что готовился к карьере адвоката, но революция сделала из него воина. Он описывает свое продвижение по службе, звание за званием, должность за должностью, вплоть до дивизионного генерала и командующего армией. Он говорит о самоотвержении при неудачах и скромности при успехах. Он воскрешает в памяти свою роль, сейчас с радостью забытую, но весьма активную в ходе событий 18 брюмера, и доказывает, что никогда не домогался власти для себя лично и что всем почестям и славе он всегда предпочитал свидетельства собственной совести, радости семейной жизни и уважение друзей.
«…помыслы моей души известны всем. Мои враги не могли найти иных моих преступлений, кроме свободы слова. Мои вольные речи! Они чаще всего были в поддержку правительства. А если иногда они не были таковыми, то что ж из того! Разве это считается преступлением у народа, который так долго боролся за свободу слова, собраний, мнений, шествий, печати и который пользовался ими даже при Старом режиме. Нужно ли судить заговорщиков одинаково строго с теми, кто не согласен или просто не одобряет политику правительства? Если бы я задумал совершить заговор или следовал бы его плану, то я бы скрыл свое недовольство и добивался бы новых назначений, которые поставили бы меня снова в гуще вооруженных сил нации. Я знаю, что Монк оставался в армии, чтобы плести заговоры, и что Кассий и Брут стремились быть в ближнем окружении Цезаря, чтобы поразить его в самое сердце.
Судьи, мне больше нечего вам сказать. Такой была вся моя жизнь. Перед лицом Бога и людей я клянусь в невиновности и честности моих поступков. Исполняйте свой долг. Вас слушает Франция; на вас смотрит Европа и надеются потомки!»
Эта торжественная речь со столь благородным акцентом произвела глубокое впечатление на присутствующих. В тот же вечер ее смогла прочесть парижская публика, так как благодаря заботам адвокатов Моро она была заранее напечатана и, как только он ее произнес, стала широко распространяться по всей столице.
Именно в этот момент произошло событие, которое пересказывают первые биографы Жана-Виктора Моро. Генерал Лекурб, присутствовавший в зале, поднял на руки ребенка Моро и, выйдя с ним на середину зала, воскликнул, обращаясь к солдатам охраны и жандармам: «Смотрите! Вот сын вашего генерала!» Более поздним биографам эта сцена представляется менее правдоподобной, имея в виду строгие меры, которые председатель Эмар ввел в зале суда и каким образом поддерживался порядок в ходе прений.
Как бы то ни было, ясно одно — речь героя Гогенлиндена произвела мощный эффект. Зал содрогался от возмущения, видя, что перед ними в окружении двух жандармов стоит боевой генерал, которому Франция обязана столькими прекрасными победами.
Для судей наступил критический момент. Одного слова, призыва, жеста славного пленника было бы достаточно, чтобы толпа снесла трибунал и растерзала судей. Жорж Кадудаль это сразу почувствовал. «Если бы я был Моро, то сегодня же ночевал в Тюильри!» — сказал он своим соседям.
Но Моро даже не шелохнулся, и председатель смог наконец, подавляя грозу, предоставить слово мэтру Бонне. Последний произнес блестящую речь. У него не было необходимости говорить о прошлом своего клиента. Моро великолепно сделал это сам. Бонне только процитировал поэта: «Посмотрите на мою жизнь, и вы узнаете, кто я» — и тут же перешел к рассмотрению «деяний» Моро, сформулированных в обвинительном заключении.
Он методично, по пунктам, рассматривал каждое обвинение и демонстрировал суду их полную несостоятельность.
— «Незаявление на Пишегрю» после его появления в Париже? Да, но, заявив, Моро опозорил бы себя и свою честь.
— «Предложения», сделанные секретарю Моро — Френьеру? Небылица! Вильнев только что всем ясно показал, что он не знает Френьера, более того, он его никогда не видел.
— «Связи» с Пишегрю через посредничество Давида и Лажоле? Они были только дружеские. Одна деталь это подтверждает — если бы Лажоле входил в заговор и служил Моро, то последний наверняка дал бы ему 12 луидоров на поездку в Лондон.
— «Встречи Моро с Пишегрю?» Той, что на бульваре Мадлен — ее вообще не было: ни Бувэ, ни Лажоле не видели тем вечером, как Пишегрю и Моро разговаривали друг с другом. Что касается двух визитов Пишегрю в дом Моро на улице Анжу, то они были очень короткими и удивили генерала Моро, который их не желал.
— «Пересуды Роллана?» Он извратил суть сказанного. Роллан вообще подозрителен. Почему он помещен отдельно от остальных в тюрьму аббатства, тогда как другие содержатся в Тампле? Почему к нему — особое отношение?
После этого Бонне, израсходовав запас своего красноречия и искусной аргументации, воскликнул: «Ваше решение отразится на самом знаменитом процессе, которое История передаст последующим поколениям. Вся вселенная слушает вас!»
Но председатель суда, как если бы желая развеять пафосный эффект этой замечательной речи, сухо заявил мэтру Бонне: «Хочу заметить, и вы это хорошо знаете, что Моро обвиняется не за то, что не донес на Пишегрю. Это бесполезный аргумент, который вы использовали в своей защите».
В течение еще нескольких дней прения сторон продолжались.
По окончании прений председатель предложил каждому из обвиняемых выступить с последним словом.
— Хотите ли вы еще что-либо сказать в свое оправдание? — спросил он.
Кадудаль холодно исправил некоторые из утверждений генерального прокурора, затем заявил:
— Я не понимаю, есть ли в этом деле что-либо, на основании чего формулируется понятие «заговор»? Я не знаю законов, господа, но вы-то их хорошо знаете: пусть ваше решение останется на вашей совести.
Бувэ де Лозье говорил примерно о том же, но слова его звучали теплее:
— В ходе суда было ясно продемонстрировано, что это дело не стоит и выеденного яйца. Это химера, ведь не было совершено никаких действий. Ваша душа должна успокоиться! Господа, вы более не должны произносить слово «заговор» — в этом деле нет состава преступления; все это — беспредметное разглагольствование, пустая болтовня.
Арман де Полиньяк, старший из двух принцев-братьев, подтвердив, что на самом деле никакого заговора не существовало, добавил следующее:
— У меня есть только одна просьба: если меч, занесенный над нашими головами, должен упасть, спасите моего брата — он еще так молод, и обратите всю тяжесть ваших обвинений против меня одного.
Жюль де Полиньяк в своей речи трогательно описал свое печальное существование как сына эмигранта:
— Мне еще не исполнилось и восемнадцати лет, когда я покинул родину…
Шарль д'Озье и маркиз де Ривьер просто заявили, что, исходя из точного определения слова «заговор», они не являются заговорщиками, какими их здесь представляют.
Роллан подтвердил, что он говорил только правду и протестовал против инсинуаций Моро, которые считал посягательством на его, Роллана, честь.
Лажоле очень лаконично сделал вид, что вообще не имеет никакого отношения к заговору, «если таковой вообще существовал».
Моро уточнил, что против него может быть выдвинуто лишь одно-единственное обвинение — свободная беседа на политические темы между ним и Ролланом, лживо истолкованная последним.
Давид выступил с красноречивым заявлением, углубившись в исторические ассоциации:
— Пелиссон не покинул Фуке в изгнании, и последующие поколения не упрекали его за это… Я выражаю надежду, что моя привязанность к Пишегрю в период его ссылки не содержит большей вины, чем верность Пелиссона — Фуке.
Господа судьи, у первого консула есть друзья. Я полагаю, он мог бы проиграть день 18 брюмера. И был бы, вне всякого сомнения, выслан из страны. Я спрашиваю вас, разве вы бы осудили тех, кто, несмотря на изгнание, поддерживал бы с ним переписку и пытался помочь ему вернуться на родину?
Судьи, моя жизнь в ваших руках. Я не боюсь смерти. Я знаю, что во времена революции я выбрал жизнь честного человека. Вы — тоже. Так поступите со мной честно!
В словах Костера де Сен-Виктора звучали нотки протеста:
— Я удивлен, что здесь позволяют себе насмехаться, в надежде сбить с толку общественное мнение. И пытаются обесчестить не только обвиняемых, но и их уважаемых адвокатов. Я прочитал в сегодняшних газетах, что выступление моего защитника — господина Готье — было искажено самым от вратительным образом…
Речь Ноэля Дюкора, простого слуги, была весьма эмоциональной:
— Господа, если вы меня приговорите, то я прошу об одном — при аресте у меня отобрали 100 экю — остатки моих сбережений. У меня есть бедная мать, которая живет в нищете. Умоляю вас, отдайте ей хотя бы часть моих вещей.
* * *
На следующий день, 9 июня 1804 года, председатель закончил опрашивать подсудимых по поводу их защиты и объявил прения сторон закрытыми.
В этот момент младший из братьев Полиньяк поднялся и произнес:
— Господа, у меня к вам просьба. Пожалуйста, не обращайте внимания на то, о чем вас просил вчера мой брат в отношении меня. Если один из нас должен погибнуть — спасите его. Верните его слезам супруги. Я, как и он, не боюсь смерти. По своей молодости я еще не почувствовал вкус жизни. Как я могу о ней сожалеть?
В ответ на это замечание его брат, Арман, воскликнул:
— Нет, нет, — у тебя еще вся жизнь впереди. Умирать мне! Эта благородная борьба двух братьев расстрогала сердца
присутствующих. Женщины рыдали. Мужчины утирали скупую слезу.
Вообще в ходе слушаний по делу большие симпатии вызвали братья де Полиньяк, Шарль д'Озье и маркиз де Ривьер. Дело в том, что время, прошедшее с момента начала проскрипции дворян Старого порядка, было слишком мало. Вот почему представлялось необдуманным решение выставить перед публикой потомков столь знаменитых дворянских родов, героическое поведение которых перед лицом грозящей им смертельной опасности не могло не вызвать всеобщего уважения. Все обвиняемые были молоды, и это вызывало к ним еще большую симпатию. Даже когда карающая десница правосудия нависла над их головами, преданные сторонники дома Бурбонов при любой возможности стремились явить миру свою признательность и верность королю. «Я вспоминаю, — пишет Бурьен, — что даже на глазах судей появились слезы, когда председатель в качестве вещественного доказательства вины маркиза де Ривьера продемонстрировал золотой медальон графа д'Артуа, который маркиз носил у себя на шее. Де Ривьер попросил разрешения показать ему медальон. Взяв его в руки, он поцеловал его, приложил к сердцу и, возвращая его председателю, сказал, что носил его в знак уважения к принцу, которого любил».
С полным безразличием ко всему происходящему председатель сухо повторил, что прения окончены и что суд удаляется для вынесения решения.
* * *
Было 8.30 утра. Суд вернется в этот зал на рассвете следующего дня после двадцатичасового обсуждения, прерываемого двумя перерывами для приема пищи прямо во Дворце правосудия.
Обвиняемых снова увели в тюрьму Консьержери, где они провели весь день и всю ночь в ожидании приговора, который должен был решить их судьбу.
Кадудаль не строил иллюзий в отношении себя. Он уже ощущал на своей шее удар острого ножа гильотины. Но вместе с тем он надеялся, что императорское правосудие удовлетворится лишь его одной головой, а его друзья, пусть даже не все, будут спасены. Возможно, что и они думали так же. Если у них и оставалась хоть капля надежды, то она основывалась на том, что заговора, как такового, не было; он если и существовал, то только в проекте. Никаких действий предпринято не было. Никто никого не убил. Их руки не испачканы кровью и т.п. Короче говоря, с точки зрения закона, единственное обвинение, которое им можно было бы предъявить, — это подготовку политического покушения, но не само посягательство на власть, так как не была предпринята даже попытка его исполнения.
Люди Пишегрю, а именно Русийон, Кушери, Лажоле, Роллан, старались убедить себя в том, что их сотрудничество со следствием и быстрота признаний даст им право надеяться на милосердие судей.
Во время заседаний суда у Моро не раз возникали видения. Он мысленно представлял, как старик поднимается на эшафот главной площади Бреста. «Неужели мне суждено умереть, как мой отец?» — спрашивал он себя. Но Жан-Виктор быстро брал себя в руки, и прежнее хладнокровие вновь возвращалось к нему. Он убеждал себя в том, что Бонапарт, несмотря на зависть к славе соперника, не позволит срубить голову героя Гогенлиндена. Моро больше всего тревожился за здоровье своей молодой супруги, которая была беременна вторым ребенком и здоровье которой могло ухудшиться от серьезного стресса.
На следующий день, ровно в четыре утра, сразу после восхода солнца, судьи вновь заняли свои места, а обвиняемые сели на скамьи подсудимых. В зале за огороженным пространством находилась публика, которая, чтобы не потерять своего места, не расходилась на ночь. С самого начала судебного процесса масса людей, желающих попасть во Дворец правосудия, с каждым днем только увеличивалась, а не уменьшалась. Процесс приковал к себе внимание всей французской столицы. Вот и этим утром, хотя оглашение приговора ожидалось позднее, люди не расходились, и когда наконец судьи появились для его оглашения, в зале суда яблоку негде было упасть.
При неярком свете нарождающегося дня на лицах судей была видна усталость от бессонно проведенной ночи, а на лицах обвиняемых — волнение ожидания или напряженность неугасаемой храбрости.
Наступил час вердикта.
Председатель поднялся с листами бумаги в руке. Все взгляды в одно мгновенье устремились на него и на эти листы, в которых была заключена пока еще таинственная судьба обвиняемых.
Воцарилась торжественная тишина.
Председатель заговорил.
Он начал с перечисления сорока семи обвиняемых, указывая их возраст, место рождения, род занятий и место пребывания на момент ареста.
И, наконец, прозвучал приговор.
«Суд, принимая во внимание доводы следствия и защиты, установил, что имел место заговор с целью свержения республики, а также, учитывая, что Жорж Кадудаль, Бувэ де Лозье, Русийон, Рошет, Арман де Полиньяк, д'Озье, де Ривьер, Луи Дюкор, Луи Пико, Лажоле, Роже, Костер де Сен-Виктор, Девиль, Арман Гайар, Жуайо, Вурбан, Лемерсье, Пьер Кадудаль, Лелан и Мерит признаны виновными, как участники заговора с преступными намерениями, постановил приговорить поименованных лиц к смертной казни с полной конфискацией имущества».
Моро глубоко вздохнул. Осужденные побледнели. Некоторые из них встали, гордо подняв голову. Жорж Кадудаль сидел с отсутствующим взглядом.
Председатель продолжил:
«Суд признает Жюля де Полиньяка, Луи Леридана, Жана-Виктора Моро, Анри Роллана и Мари Изе также виновными в участии в заговоре. Однако, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, выявленные в ходе следствия и прений защиты, суд приговаривает вышеуказанных лиц к двум годам лишения свободы с уплатой судебных расходов.
Остальные обвиняемые оправданы и освобождаются в зале суда».
Моро не шевельнулся, когда было произнесено его имя, но глаза его наполнились яростью. Большая часть публики разразилась бурным неодобрением. Все поняли жестокость вынесенного приговора. Подсчитали головы для гильотины. Двадцать смертных приговоров только за одно замышление заговора без последствий и результатов. Это было слишком… Слишком много!
Кипение страстей достигло предела, когда жандармы стали выводить осужденных, а судьи удаляться из зала. Кое-кто из современников Моро писал, что последний, воспользовавшись замешательством в зале, спокойно смешался с толпой, вышел из здания суда, нанял экипаж и попросил доставить себя в Тампль.
Однако это не так, и следующее письмо это подтверждает. Оно написано в тюрьме Консьержери и адресовано госпоже Моро, которая по совету своих подруг и, несомненно, самого Моро не присутствовала при оглашении приговора.
Вот это письмо.
«Моя дорогая,
меня только что приговорили к двум годам заключения. Это слишком подло и бесчестно! Если бы я был заговорщиком — то меня должны были казнить. Ясно, что в этом случае ни о каких смягчающих вину обстоятельствах не могло быть и речи. Очевидно, приговор продиктован верховным судьей, чтобы оправдать свою речь. Через час меня доставят в Тампль. Переполняющее меня чувство негодования не дает мне писать тебе более. Мне не нужно помилование. Пришли мне твои советы завтра…»
В одном только Моро не сомневался, пока писал эти строки, — это то, с каким трудом удалось его другу, судье Лекурбу, брату известного генерала, и некоторым другим судьям добиться того, чтобы Моро смог избежать смертной казни.
Вот как описывают судьи Лекурб и Риго скандальное обсуждение судьбы генерала Моро за закрытыми дверями. Вначале семь судей — Лекурб, Дамев, Клавье, Лагийоми, Риго, Демезон и Мартино против пяти — Эмар, Гранже, Сельве, Бургиньон и Тюрьо высказались за оправдание генерала Моро. Но председатель Эмар отказался зарегистрировать это голосование и, поддерживаемый Тюрьо, озвучил следующее:
— Ради общественного блага Моро должен быть приговорен к смертной казни. Впрочем, император конечно же его помилует.
— А кто помилует нас? — возразил ему Лекурб.
Наконец, после продолжительного обсуждения, в ходе которого Эмар и Тюрьо несколько раз покидали совещательную комнату, чтобы переговорить с Реалем и Савари, которые находились в соседнем кабинете, судья Бургиньон выступил со следующим предложением: учитывая смягчающие вину обстоятельства, приговорить Моро к двум годам тюрьмы. За это предложение проголосовало семь судей против пяти.
* * *
Наполеон в это время находился в Сен-Клу и, узнав о приговоре Моро, не пытался даже скрыть свое разочарование.
— Что! — воскликнул он. — Два года тюрьмы для Моро? Мне говорили, что он главный заговорщик, что его жизнь в моих руках. А вы его приговорили как мальчишку, укравшего носовой платок! Что мне теперь с этим делать?
Моро, однако, не успокаивался.
«Мой приговор выглядит смехотворным, — писал он жене из Тампля, — если не понять мотивы, которыми он был вызван. Им нужно было просто подтвердить доклад верховного судьи, перечень заговорщиков и т.д…. Если бы заговор имел место на самом деле и если бы мое участие в нем было бы подтверждено, то меня должны были бы приговорить к смерти как главаря, а не как если бы я играл роль капрала. Я не сомневаюсь, что был приказ приговорить меня к смертной казни. Страх помешал судьям осуществить этот акт жестокости. Если правительство чувствует себя неуверенно, пока я нахожусь в государственной тюрьме, и хочет назначить мне ссылку, то я буду вынужден согласиться на это, так как нет бесчестия в том, что человек подчиняется силе. Но данный вопрос я обсуждать не буду. Мое согласие на подобного рода переговоры означало бы, что я прошу пощады, а я этого не желаю».
Далее генерал пишет:
«…почему ты не прислала ко мне моих адвокатов? У меня всего два дня, чтобы успеть подать кассационную жалобу; мне кажется, что это самый правильный путь. Если приговор будет обжалован, то я смогу вести переговоры, не потеряв чести».
* * *
Вот уже несколько недель Моро думал о ссылке. Как только он оказался под следствием, он тайно написал супруге:
«Полагаю, нам придется согласиться на продажу поместья в Гробуа и особняка на улице Анжу и уехать с глаз долой с остатками нашего состояния как можно дальше из этой страны, где мы найдем счастье и покой…»
Но мадам Моро уже вспомнила о предложении мужа. Она была за эту идею и вскоре начала ее реализовывать. Эжени Моро обратилась не к кому-нибудь, а прямо к Фуше, который поддержал мысль и предложил услуги в качестве посредника между своим земляком Моро и Наполеоном. Фуше решил, что необходимо составить соответствующую бумагу и обратиться с просьбой к императору, чтобы тот позволил Моро удалиться в США.
В ответ на это Моро согласился не подавать кассационную жалобу, но отказался лично написать Наполеону. За него это сделала жена. С помощью адвокатов она подготовила письмо и обратилась к Жозефине с просьбой передать письмо императору. «…мы будем рады оказаться в тех счастливых обстоятельствах, — писала она, — которые позволят вам удостовериться в нашей глубокой признательности родине и вашему правительству».
Эта формулировка, столь не свойственная стилю Моро, вышла из-под пера его супруги и, следовательно, не была унизительной.
Наполеон, впрочем, охотно согласился удовлетворить эту просьбу, которая быстро и надолго позволяла ему избавиться от слишком знаменитого узника Тампля.
Меньше чем через 24 часа после обращения госпожи Моро к императору французов, генерал утром 21 июня получает следующее письмо верховного судьи:
«В соответствии с вашей просьбой, предоставляя вам возможность выехать в Североамериканские Соединенные Штаты, намерение Его Величества состоит в том, чтобы вы более не могли вернуться во Францию, не получив на то особое разрешение…
Господин Анри, который вручит вам это письмо, имеет поручение передать мне ваш ответ на предложение императора».
Моро спал, когда его разбудили, чтобы вручить это письмо. Прочитав его, он просто сказал командану Анри: «Лично я ни о чем не просил. Это сделала моя жена».
Все было именно так, и госпожа Моро ответила верховному судье. Она позаботилась, чтобы роль мужа в этой просьбе была принижена:
«Месье,
Мой муж, не имея возможности написать вам лично, поручил мне довести до сведения Вашего Превосходительства, что господин Анри вручил ему письмо, адресованное моему мужу. Уверяю вас, что только по моей личной просьбе Его Императорское Величество позволяет нам покинуть родину и что моему мужу остается лишь подчиниться принятому решению. Вместе с тем он далек от того, чтобы думать, что ссылка эта окажется неопределенной по времени. Что до меня, то я вижу в этом решении счастливую надежду, которая в соответствии с волей Его Императорского Величества позволит нам вернуться на родину значительно раньше, чем мы думаем».
Удивительно, но по этим нескольким письмам угадывается тот значительный перелом, который произошел в судьбе Франции. За каких-то четыре месяца, пока Моро находился в застенках Тампля, гражданин первый консул превратился в Его Императорское Величество, а Франция из республики превратилась в новое королевство, в котором король именовался императором французов. Возник новый исторический феномен — маршалат Наполеона. Правда, по определению А.С. Трачевского и Е.В. Тарле, «это все-таки были нули, которые составляли крупную сумму лишь при такой единице, как сам Наполеон». Первыми маршалами империи стали 18 генералов, которым Наполеон пожаловал маршальские жезлы декретом от 19 мая
1804 года — на следующий день после того, как он сам занял императорский трон. Из лучших генералов республики тогда за маршальским бортом остались, пожалуй, лишь четверо: Макдональд, Гувьон Сен-Сир, Лекурб и сидевший в тюрьме Моро.
Пройдет еще несколько месяцев, и в стране останется лишь десяток газет: «Le Moniteur», «Le Journal desDebats», «Le Journal de Paris», «Le Bien Informe», «Le Publiciste», «L’Amides Lois», «Le Citoyen Francais», «La Gazette de France», «Le Journal du Soir», «La Clefdu Cabinet». Причем любая из них будет немедленно закрыта в случае появления в ней материалов, оппозиционных правительству. Республиканский календарь будет отменен в 1805 году, а граждане и гражданки снова обретут статус, соответствующий их новому положению. Вот вам и свобода слова, братство, равенство и т.д. и т.п. От республики не осталось и следа!
В то время пока судьба Моро устраивалась наподобие сделки, участь двадцати приговоренных к смерти стала темой для бурных пересудов в обществе и сопровождалась патетическими сценами.
Для Жозефины, сердце которой было кротким, равно как и для сестер Бонапарта, было отвратительно видеть рождение империи, отмеченное кровью.
Жозефина представила императору молодую герцогиню де Полиньяк. Та встала на колени перед Наполеоном и умоляла простить мужа. Видя, что император колеблется, она упала в обморок. Когда она пришла в себя, ей объявили, что муж прощен.
Сестра Бувэ де Лозье, которая тоже бросилась в ноги Наполеону, получила ту же милость для своего брата.
Мюрат настойчиво просил императора заменить смертную казнь осужденным на пожизненное заключение. Но император не стал расточать милосердие до такой степени. Он помиловал маркиза де Ривьера, Шарля д'Озье, надеясь привлечь на свою сторону определенную часть роялистов. Были помилованы также Русийон, Рошель, Лажоле и Арман Гайар, признательные показания которых помогли следствию.
Но Жорж Кадудаль, Костер де Сен-Виктор и еще десять непримиримых шуанов были обречены на гильотину.
* * *
По поводу заговора Кадудаля, или просто Жоржа, как его называли в то время, существуют различные точки зрения. Наша — основывается на воспоминаниях лиц, присутствовавших на процессе и лично слышавших доводы обвинения и защиты. Кроме того, она не противоречит всем остальным. Вместе с тем мы далеки от того, чтобы верить в то, что этот заговор был инспирирован полицией с целью обеспечения первому консулу восшедствие на престол как императора французов. Скорее всего, заговор был спланирован и подготовлен теми, кто был заинтересован в возвращении Фуше на свой пост министра полиции. Чтобы подтвердить сказанное, необходимо вернуться в конец 1803 года и отследить деятельность Фуше и его «команды» в тот период. Осенью и зимой 1803 года некоторые люди из окружения Фуше предпринимали попытки примирения между Моро и Пишегрю. Как полагают, этими людьми были аббат Давид и Лажоле, завербованные Фуше. С 1802 по 1804 год Фуше не являлся министром полиции. Эти функции совмещал председатель верховного суда Ренье, а фактически полицией руководил Реаль.
Фуше, оставаясь не у дел, верил в счастливую звезду Бонапарта и пытался сделать все, чтобы Наполеон не смог без него обойтись. Вот почему он направлял указанных лиц из своего окружения с задачей как бы между прочим повлиять на Моро и склонить его к примирению с Пишегрю. Вначале это был аббат Давид — общий друг Моро и Пишегрю, но вскоре аббат был арестован и заключен в тюрьму Тампль. Тогда, как полагают, Фуше посылает уже известного нам Лажоле, который отправляется в Лондон и убеждает Пишегрю и его друзей вернуться в Париж, а сам докладывает Фуше об их намерениях и берется организовать встречу Мы далеки от мысли думать, что Фуше, затаив злобу на Бонапарта за свое увольнение с поста министра полиции, сам пытался руками Моро и Пишегрю «свалить» корсиканского выскочку, скорее всего он хотел продемонстрировать первому консулу свою незаменимость и куда большую осведомленность во внутренних делах государства, чем Реаль и Ренье.
Единственной основой всей этой интриги было недовольство Моро. Вот что пишет по этому поводу Бурьен, секретарь и близкий друг Наполеона еще со времен Бриеннской военной школы: «В конце января 1804 года я был у Фуше, который сообщил мне, что он был в Сен-Клу на приеме у первого консула и имел с ним продолжительную беседу по данному вопросу. Первый консул заявил ему, что он вполне удовлетворен действиями нынешней французской полиции и что информация Фуше только увеличивает ее значимость. Тогда Фуше спросил его: «Что бы вы сказали на то, что Жорж Кадудаль и Пишегрю уже некоторое время находятся в Париже с целью организации заговора, о котором я вам говорил?» Первый консул сделал вид, что доволен ошибкой Фуше, и с удовлетворением сообщил: «Вы хорошо осведомлены! Ренье только что получил письмо из Лондона, в котором говорится, что Пишегрю обедал с одним из министров короля в Кингстоне, недалеко от английской столицы». Получалось, что Пишегрю никак не мог находиться в настоящее время в Париже. Однако Фуше настаивал на своих доводах, и тогда первый консул вызвал из Парижа председателя верховного суда Ренье, который показал письмо Фуше. Вначале Бонапарт торжествовал, видя ошибку Фуше, однако последний точно и ясно доказал, что Пишегрю и Кадудаль находятся в столице. Ренье даже стал думать, что его обманули собственные агенты: казалось, что его оппонент заплатил им больше. Первый консул, видя, что его бывший министр полиции знает больше, чем действующий, отпустил Ренье и в течение продолжительного времени беседовал с Фуше, который и словом не обмолвился о своем желании вновь быть назначенным министром полиции из-за существовавших подозрений. Он только просил, чтобы это дело поручили Реалю с приказом выполнять все указания и распоряжения, которые могут поступить от него, Фуше.
В самом начале 1804 года произошел ряд событий, которые развивались стремительно и которые в течение длительного времени занимали умы парижан. Любой разумный человек понимал, что заговор Кадудаля, Моро, Пишегрю и некоторых других никогда не был бы осуществлен, не будь он подготовлен или спровоцирован самой полицией. Моро никогда в жизни не желал бы восстановления правления Бурбонов, и, кроме того, Бурьен был слишком хорошо знаком с самым близким другом Моро — господином Карбоне, чтобы не знать убеждений этого до мозга костей республиканского генерала. Представляется абсолютно невероятным, чтобы он обладал теми же взглядами, что Кадудаль, братья Полиньяк, маркиз де Ривьер и другие.
Многие историки, исследовавшие заговор XII года, такие как Е. Гюйон, Ж. Огюстен-Тьери, Г. Велшингер, Юон де Пенансте, Ф. Барби, Ж. Дюрьо и другие, не говоря о многочисленных мемуарах, посвященных этой знаковой в истории Консулата и Империи теме, исследовали проблему с различных точек зрения, в многочисленных аспектах и ракурсах. Попытаемся, однако, остановиться на фактах и выявить истину из клубка интриг и обильной лжи, сопровождавшей это судилище.
Фуше при помощи своих агентов дал понять Пишегрю, Кадудалю и некоторым другим роялистам, что они могут рассчитывать на Моро и что он готов присоединиться к ним. Совершенно очевидным представляется и то, что Моро проинформировал Пишегрю, что его, Моро, ввели в заблуждение и что он не присоединится к делу роялистов. Вот почему имя генерала Моро никак не может быть увязано с этим пресловутым заговором.
14 марта 1804 года Русийон в ходе следствия заявил, что слышал, как Полиньяк сказал кому-то: «Все пропало! Они не понимают друг друга. Моро не сдержал слова — нас обманули!» Господин де Ривьер также заявил, что он вскоре понял, что их ввели в заблуждение и что он собирался вернуться в Англию, как вдруг был арестован.
Все заговорщики, узнав от Пишегрю о заявлении Моро, стали срочно покидать Париж, но были арестованы практически одновременно. Жорж Кадудаль собирался в Вандею, когда был предан человеком (очевидно, агентом полиции), который сопровождал его из Лондона и фактически являлся его телохранителем.
Вышеизложенное уже может обелить Моро, хотя бы потому, что он не примкнул к делу роялистов и тем самым разрушил заговор в самом зародыше. И лишь дружба с Пишегрю, его порядочность и честь не позволили герою Гогенлиндена донести на своего бывшего командира.
Говорят, нет дыма без огня, но даже если гипотетически представить, что Моро невольно был замешан в связях с заговорщиками, то все равно своей принципиальной позицией истинного республиканца — он вновь, как в день 18 брюмера, помог Бонапарту, разрушив планы его врагов. За это его следовало бы сделать маршалом империи, а не приговаривать к двум годам тюрьмы и ссылке в Америку. И тогда, возможно, два соперника примирились бы, и имя генерала Моро было бы навеки выбито золотыми буквами на Триумфальной арке в Париже.
Кроме того, одновременный арест всех заговорщиков доказывает тот факт, что полиции было известно, где их можно было найти. Когда Пишегрю попросили подписать протоколы допроса, он отказался, подозревая, что полиция выведет чернила химическим способом, и его подпись окажется под заявлениями, которые тот никогда не делал. Полиция опасалась, как бы он не сделал разоблачительных заявлений (относительно ее агентов), касающихся связей с Моро, скомпрометировать которого очень хотели, а также методов и средств, используемых полицией в целях подстрекательства заговорщиков.
Бурьен вспоминает: «Вечером 15 февраля я узнал, что Моро арестован и утром следующего дня отправился на улицу Сен-Пьер, на которой проживал личный друг Моро — господин Карбоне со своим племянником. Я пришел в дом Карбоне, чтобы узнать подробности ареста генерала. Каково же было мое удивление, когда я, не успев открыть рта, услышал от слуги, отворившего мне дверь, что господин Карбоне с племянником — оба арестованы.
— Я советую вам, уважаемый господин, — заявил мне слуга, — немедленно уйти, так как за людьми, спрашивающими о господине Карбоне, — следят.
— А сам он еще дома? — спросил я.
— Да, они роются в его бумагах.
— Тогда я поднимусь к ним, — был мой ответ. Господин Карбоне, дружбой с которым я горжусь и чья память мне дорога, больше был озабочен арестом своего племянника и Моро, чем своим собственным. Через несколько часов племянника освободили, а господина Карбоне заточили в одиночную камеру в тюрьме Ла Пелажи».
Таким образом, получилось, что полиция, которой ничего не было известно, вскоре все узнала. Несмотря на обширную сеть полицейских агентов по всей стране, только благодаря признаниям Бувэ де Лозье — того самого, кто пытался повеситься на собственном галстуке и которого удачно реанимировали, стало известно, что были предприняты три последовательные высадки роялистов на побережье Франции и что ожидалась четвертая, но не состоялась, так как Савари был направлен первым консулом с задачей схватить мятежников. Трудно найти лучшее доказательство преданности полиции своему бывшему шефу — Фуше и их совместной «работе» по низложению существующего министра. Кстати сказать, и смехотворный приговор Моро подлил масла в огонь и в известной мере повлиял на решение первого консула вернуть Фуше к своим прежним обязанностям.
Мы уже упоминали, что весь 1804 год был наполнен знаковыми политическими событиями для Франции. После ареста Жоржа Кадудаля и всех заговорщиков в начале 1804 года последовал расстрел герцога Энгиенского 21 марта, затем 30 апреля в Сенат было внесено предложение о создании во Франции государства с единоличной властью. Позднее состоялся референдум, и 18 мая Сенат провозгласил Наполеона императором французов. И, наконец, 10 июня Кадудаль и остальные заговорщики были приговорены.
Таким образом, пролитая королевская кровь Бурбонов и возложение императорской короны на голову «солдата удачи», по словам Бурьена, явились двумя актами, вошедшими в не менее кровавую драму заговора XII года.
Меланхоличная смерть герцога Энгиенского, этого несчастного принца, волею судьбы, или, скорее, по зову сердца к своей возлюбленной, случайно оказавшегося в Эттенхайме, не имеет никакой связи с заговорщиками Кадудаля, готовившими переворот внутри страны. Моро был арестован 15 февраля 1804 года, именно в то время, когда стало известно о заговоре. Пишегрю и Кадудаль также были арестованы в феврале, а герцога Энгиенского не арестовывали до 15 марта. Если бы герцог был действительно замешан в заговоре или если предположить, что он даже знал о нем, разве бы он позволил себе оставаться в Эттенхайме хоть на мгновенье, узнав, что его предполагаемые сообщники арестованы? Пылкий влюбленный юноша был настолько далек от всего происходящего, что когда узнал о происшествии, находясь в Эттенхайме, то заявил, что если бы все это была правда, то отец и дед давно бы известили его ради его, герцога, безопасности. Он мог бы знать об аресте Моро уже через три дня, то есть 18 февраля. Почему же тогда герцог ничего не предпринимал к своему спасению почти целый месяц? Или он полагал, что его не посмеют тронуть на баденской территории, в нескольких километрах от французской границы? Ответ прост — герцог был невиновен.
Смертный приговор Жоржу Кадудалю и его сообщникам был объявлен 10 июня 1804 года, а герцога Энгиенского расстреляли 21 марта того же года, задолго до начала суда над заговорщиками. Это трудно объяснить. Если, как заявлял Наполеон, молодой отпрыск Бурбонов был сообщником заговорщиков, то почему он не был арестован вместе с остальными, пусть даже на три дня позже других, учитывая расстояние от Парижа до Эттенхайма? Почему его не судили вместе со всеми? И почему его имя не фигурирует ни в одном протоколе допроса заговорщиков? Оно ни устно, ни письменно, ни разу не было произнесено никем из обвиняемых в ходе этого кровавого процесса. Или, возможно, ответы герцога могли бы пролить свет на это весьма туманное дело? И что хотел поведать суду Пишегрю?
Как бы то ни было, совершенно очевидно, что любой здравомыслящий человек не может рассматривать герцога Энгиенского как соучастника заговора Жоржа Кадудаля; и Наполеон запятнал свой авторитет перед современниками и потомками атмосферой откровенной лжи и фальшивых слухов, распускаемых не без его ведома, чтобы выпутаться из этого грязного дела, которое навсегда будет связано с его именем за столь жестокий поступок.
Бурьен, кстати, вспоминал: «Когда я входил в число друзей первого консула, я верил, что кровь герцога Энгиенского никогда не запятнает славу Бонапарта. Я считал, что смогу отговорить его от совершения этого фатального поступка, ибо я знал, что целью Наполеона было просто напустить страху на эмигрантов в Эттенхайме, где в то время их было немало».
Говорили, что существовало письмо, написанное герцогом Энгиенским и адресованное Бонапарту, в котором он предлагал свои услуги, желая принять командование одной из его армий, и что письмо было получено Наполеоном, увы, после казни. Все это выглядит абсолютно нелепо.
Офицер, допрашивавший герцога, не упоминает ни о каком письме. Правда состоит в том, что этого письма никогда не существовало. И таких намерений принц не высказывал. Человек, который был все время рядом с герцогом, утверждает, что тот никогда его не писал, да и трудно поверить, чтобы кто-либо мог осмелиться задержать или не вручить Бонапарту письмо, от которого зависела судьба столь августейшей и высокопоставленной особы. Известно, что в своих воспоминаниях, сделанных на острове Святой Елены, Наполеон пытался отмежеваться от этого преступления, заявляя, что он бы простил герцога, если бы получил от него просьбу о помиловании. Но если мы сравним все, что он говорил, и все, что дошло до нас благодаря его преданным последователям, мы обнаружим столь много противоречий, доказывающих, что в правде можно не сомневаться.
* * *
На острове Святой Елены, «когда Наполеон уже лежал на смертном одре, — писал В. Слоон, — один из присутствующих имел неловкость прочесть вслух заметку из английского журнала, где его называли убийцей герцога Энгиенского. Умирающий приподнялся, потребовал свое завещание и, схватив перо, приписал собственноручно: “Я приказал схватить и судить герцога Энгиенского, так как это было необходимо для безопасности, благоденствия и чести французского народа. Это было сделано в то время, когда граф д'Артуа, по собственному его сознанию, держал в Париже шестьдесят убийц, долженствовавших меня умертвить. При таких обстоятельствах я бы и теперь поступил совершенно таким же образом”. При этом Наполеон неоднократно пытался возложить всю ответственность на Талейрана. Так, в беседах с лордом Эбрингтоном, доктором О'Мира, Лас-Казом и Монтолоном император утверждал, будто Талейран всячески старался доказать неуместность помилования, к которому он лично был как нельзя более расположен».
Наполеон так и не признал настоящей причины гибели герцога Энгиенского. Но неумолимая История поведает нам, что Наполеон был провозглашен императором через три месяца после этого убийства, и менее снисходительная, чем его современники, она не свяжет вину ни со случайностью, ни с усердием полиции, ни с интригой.
Но вернемся вновь к судилищу над Моро. Судебный процесс прославленного генерала представлял собой не единственный парадокс того периода, когда обвинительные приговоры за преступления, совершенные против республики, произносились от имени императора, который эту самую республику и уничтожил.
Принимая во внимание деликатность своего нового статуса, Наполеон вначале объявил себя императором республики, как некий переходный титул перед провозглашением себя императором французов. Глядя на обе стороны этой «медали», мы не можем не восхищаться гением Бонапарта, безрассудно стремящимся к достижению поставленной цели и умело использующим как гибкость, так и смелость, принимая любое решение. Эти качества позволили ему, с одной стороны, верить в свою звезду, а с другой — помогали обходить неизбежные трудности, чтобы, преодолев их, взойти на трон не просто Людовика XVI, а на реконструированный трон самого Карла Великого.
Однако вновь обратимся к свидетельству Бурьена, который присутствовал на процессе по обвинению Кадудаля, Пишегрю и Моро. Вот что он пишет: «Я лично слушал все, что было сказано на суде, и из того, что я узнал, могу со всей определенностью сказать, что Моро не был заговорщиком. Как известно, Моро был арестован на следующий день после того, как Бувэ де Лозье дал свои признательные показания. Пишегрю же был схвачен благодаря самому низкому и гнусному предательству, на которое способен человек. Агенты полиции были не в состоянии отследить его возможные пути отхода; тогда они схватили старого друга Пишегрю, который нашел ему пристанище в Париже, и предложили ему «сдать» генерала за вознаграждение в 100 000 крон (история умалчивает, почему это были кроны, а не франки. — А. З.). Тем не менее этот подлый человек дал полиции подробное описание комнаты, которую занимал Пишегрю; в результате полицейские, подобрав ключи, сумели схватить завоевателя Голландии прямо в постели. Предателя звали Леблан, и он был француз.
«Пишегрю был арестован в ночь на 22 февраля, — пишет далее Бурьен. — Я полностью потерял его из виду после окончании Бриенской военной школы, где мы учились вместе с Наполеоном. Пишегрю был также воспитанником этой школы, но так как он был старше нас, то он уже преподавал, в то время как мы были просто учениками. Я очень хорошо помню, как он заставлял Бонапарта повторять четыре основных действия арифметики. Именно отличные знания этого предмета позволили им обоим впоследствии получить эполеты лейтенантов артиллерии. Но как по-разному сложились их судьбы! Пока один готовился взойти на престол Франции, другой томился в одиночной камере тюрьмы Тампль. Через сорок дней после ареста, а именно 6 апреля 1804 года, Пишегрю был найден задушенным в тюремной камере. За это время его десять раз допрашивали, но он не дал ни одного признательного показания и никого не скомпрометировал».
Однако все свидетельствовало о том, что он был готов о многом поведать в суде. Этот бесстрашный боевой генерал говорил: «Когда я предстану перед судьями, мне будет приятнее сказать правду, в том числе и в интересах моей родины». Мы не сомневаемся, что он так бы и поступил, имея в виду твердость духа и решительный характер Пишегрю. Но что же мог поведать суду завоеватель Голландии?
Нет сомнений в том, что Пишегрю был умерщвлен в своей камере, а не покончил жизнь самоубийством, как тогда говорили. Не осталось ничего — ни протокола вскрытия, ни самого трупа, от которого поспешили немедленно избавиться. Полагают, что полиция опасалась громких и нежелательных разоблачений. Многие, знавшие этого узника Тампля, не сомневались в том, что смерть Пишегрю не была самоубийством.
Ровно через десять дней после объявления Наполеона императором начался процесс, о котором подробно написано выше. Заметим только, что до этого Париж не знал такого события, которое могло возбудить столько эмоций и страстей. Возмущение арестом Моро открыто демонстрировалось по всей столице, и полиция ничего не могла с этим поделать. Общественное мнение, успешно направляемое в нужное русло прессой, подвластной новому императору, полагало, что Кадудаль с его шуанами являются подосланными убийцами, содержащимися на деньги Англии. Но в случае братьев Полиньяк, маркиза де Ривьера, Шарля д'Озье и, прежде всего, Моро дело обстояло совсем иначе. Его охраняли, чтобы уберечь от любопытствующих и друзей, готовых за него заступиться, но вместе с тем охрана не была очень строгой на случай, если вождь, столь любимый армией, вдруг позовет ее на свою защиту. Такое вполне могло случиться — некоторые этого желали, другие — боялись. Вполне вероятно, солдаты освободили бы Моро, если бы судьи капитально его приговорили.
Трудно описать энтузиазм народа, заполнившего все улицы и переулки, ведущие к Дворцу правосудия в день начала процесса, и эти людские массы не уменьшались в ходе всего двенадцатидневного заседания. Люди из первых рядов, стоявших на улице, стремились занять хоть какое-нибудь место во Дворце правосудия.
Бурьен не пропустил ни одного заседания суда. Вот что он пишет: «…два факта поразили меня в ходе слушаний по этому делу. Первое — грубость председателя суда по отношению к обвиняемым и второе — невиновность Моро». И это действительно так. Несмотря на опыт и профессионализм судей, в показаниях Моро не было найдено ни малейшего противоречия, и было очевидно для всех, что он не имеет никакого отношения к заговорам и интригам, спланированным в Лондоне. «Я, — пишет далее Бурьен, — ни разу не заметил и оттенка связи между ним и другими обвиняемыми. Ни один из допрошенных свидетелей не показал, что он знает Моро, и генерал со своей стороны заявил, что из обвиняемых он никого не знает и ранее ни с кем не встречался. Его внешность, как и его сознание, выражали спокойствие и уверенность в своей невиновности, и когда он опустился на скамью подсудимых, на него смотрели скорее с удивлением и любопытством, чем на того, кого могут обвинить и приговорить к смертной казни».
В ходе заседаний суда произошло одно событие, о котором мы уже упоминали, но которое имело эффект почти разорвавшейся бомбы. Вот как его описывает Бурьен: «Генерал Лекурб, преданный друг Моро, внезапно вошел в зал заседаний с маленьким мальчиком и, подняв его высоко в своих руках, чтобы всем было видно, громким голосом и очень эмоционально произнес: “Солдаты! Смотрите, вот сын вашего генерала!” Мгновенно все военные, находившиеся в зале, встали со своих мест и инстинктивно схватились за оружие. Зал взорвался аплодисментами. Совершенно очевидно, что энтузиазм аудитории в защиту Моро был настолько велик, что стоило ему сказать лишь слово, сделать одобряющий жест — и трибунал был бы опрокинут, а все узники освобождены. Но Моро сохранял молчание и, казалось, был единственным человеком, кто вел себя спокойно, как если бы все происходящее его не касалось».
По оглашении приговора аудитория наполнилась смятением чувств, и оно вскоре распространилось по всему Парижу, и «я могу смело утверждать, — продолжает Бурьен, — что это был день всенародной печали; и хотя было воскресенье, увеселительные заведения столицы пустовали. К ужасу ситуации, усугубленной тем, что к смерти было приговорено слишком много людей, принадлежащих к высшим слоям общества, добавилась смехотворность обвинения Моро, абсурдность которого лучше всех прочувствовал Наполеон, который заклеймил верховного судью самыми нелестными выражениями».
Хитрый Фуше добился своего.
Императорское прощение не получили Жорж Кадудаль и еще одиннадцать человек. Эти несчастные жертвы кровавой полицейской комбинации были казнены на рассвете 25 июня 1804 года. Храбрость и решимость не покинула их ни на минуту. Жорж Кадудаль, зная, что ходили слухи о его помиловании, решил принять смерть первым, чтобы его товарищи в свой последний миг знали, что он погиб вместе с ними, а не был прощен.
Более поздние историки, в том числе Жан Тюлар, считали этот заговор грандиозным, но плохо организованным. Были еще и экономические причины провала всей интриги. Низкая цена на хлеб и отсутствие безработицы сняли главный побудительный мотив общего недовольства. К тому же главари заговора XII года оказались в роли союзников враждебной Франции страны — Англии. Наконец, двусмысленная роль Моро не понравилась армии. Однако провал заговора не положил конец проискам роялистов (за этим заговором последуют многие другие), но нанес им весьма ощутимый удар. Отныне антинаполеоновское движение будет ограничено рамками тайных обществ, военных масонских лож, спиритуалистическими и благотворительными кружками. В обстановке экономической депрессии 1812 года совместные действия этих организаций подготовят заговор генерала Мале. А пока падение Моро, смерть Пишегрю и казнь Кадудаля с его шуанами объективно сыграли на руку Бонапарту. Революционеры видели в укреплении консульской власти, связавшей себя после расстрела герцога Энгиенского с «ужасами революции», единственный надежный заслон на пути реставрации монархии. К сожалению, они еще не понимали, что в ходе самого процесса участников заговора XII года монархия уже была восстановлена, но на новом, более качественном уровне, и называлась она Империей. Ничего не поделаешь. Эволюция развивается по спирали.
* * *
Российский историк Н.А.Троицкий писал по этому поводу: «Жан-Виктор Моро, герой Гогенлиндена, хотя и терпел поражения от Суворова и эрцгерцога Карла, одержал столько побед, что считался во Франции одним из самых выдающихся полководцев и в отличие от Пишегрю безупречным республиканцем. Суд, как показалось Бонапарту, спасовал перед репутацией Моро и определил ему за косвенное участие в заговоре Кадудаля всего два года тюрьмы. Наполеон заменил этот приговор изгнанием Моро из Франции, что и вызвало в стране волну сочувствия к популярному генералу и антипатии к новоявленному императору. Наполеон считал эту волну вздорной, а свое решение правильным. Узнав, что Моро эмигрировал в США, император изрек фразу, оказавшуюся пророческой: “Теперь он пойдет по дороге вправо и кончит тем, что придет к нашим врагам”».
Глава VII. ИЗГНАНИЕ В АМЕРИКУ
На следующий день Моро объявили, что в ночь на 25 июня 1804 года он должен покинуть страну.
— Отчего такая спешка? — подумал он и быстро набросал жене несколько строк:
«Любимая моя,
Сегодня в ночь я уезжаю. Мне объявили, что скоро ты сможешь присоединиться ко мне… Раз мы уезжаем в страну охотников, то захвати с собой мои ружья… Сделай несколько связок книг. Выбери их на свой вкус, которые могут быть мне интересны.
Генеральная доверенность подписана. Ее можно забрать у нотариуса Эрбелена. В 11 часов мне сказали, что придут за мной в полночь. Мне все равно, для чего принимаются эти меры предосторожности и зачем нужна такая спешка… Я поеду через Байону…Там ты найдешь мои письма для тебя и узнаешь, где я буду находиться…
Прощай, моя милая подруга, шлю тебе миллион воздушных поцелуев и с нетерпением жду, когда смогу поцеловать тебя сам…»
Ровно в полночь, получив постановление об освобождении из-под стражи, Моро вышел за ворота Тампля и сел в экипаж рядом с команданом Анри. Карета тронулась, и вскоре площади и улицы Парижа исчезли из окна экипажа, уступив место черноте ночи. Моро тогда еще не знал, что ему не суждено вновь увидеть этот прекрасный город.
День и ночь карета мчалась по направлению к испанской границе, останавливаясь только в придорожных харчевнях, для того чтобы перекусить или для смены лошадей и кучера. Вдоль дороги за окном простирались красивые холмы, усеянные виноградниками, равнины с мирно текущими реками, великолепные леса, ухоженные поля, плодородные луга с пасущимися на них коровами; то там, то здесь попадались типичные французские фермы — эти бастионы Средневековья, где кипела работа по заготовке сена. Франция жила своей обычной мирной жизнью, несколько лет которой, кстати, подарил ей наш герой, сидевший теперь в карете, которая уносила его в ссылку. «Любуйся этими великолепными пейзажами! Смотри во все глаза, — говорил ему Анри, — ты их больше никогда не увидишь, Моро».
28 июня 1804 года поздно вечером путники достигли испанской границы. История не сохранила для нас места, на котором в последний раз стоял опальный генерал, прежде чем навсегда покинуть родную французскую землю, которую он столько раз защищал от внешних врагов. По непонятной причине Моро было запрещено покинуть территорию Франции морским путем, чтобы из Бреста, Ла-Рошель или Бордо отправиться прямо в Америку. Одновременно и маршрут движения по французской территории также претерпел изменения. Моро везли в Испанию кратчайшим путем, через центральную часть страны, минуя неблагонадежные провинции, кишащие озлобленными шуанами. Скорее всего, правительство опасалось, имея в виду морскую блокаду Франции Британским королевским военно-морским флотом, что Моро могут перехватить англичане и в случае его согласия сделать генерала символом или реальным вождем нового сопротивления Наполеону.
Командан Анри, строгий исполнитель императорских поручений, но человек светский и любезный, с почтением отнесся к своему пленнику. Последний, в момент расставания, поблагодарил его, и они очень тепло расстались.
С 28 июня по 16 июля 1804 года историкам не удалось обнаружить ни одного документа о пребывании Моро в Испании.
Мы же нашли письмо Моро, датированное 14 июля 1804 года и отправленное из Барселоны некоему господину де Форестьеру, проживавшему в замке неподалеку от французского города Брие (ОПИ ГИМ. Ф. 166 (Г.В. Орлов). Оп. 1. Ед. хр. 13. № 16. Л. 21—22.). В этом письме Моро выражает признательность человеку, который нашел слова утешения для него и который, вероятно, присутствовал на процессе. Далее Моро сообщает о своих планах отправиться из Барселоны в Кадис вместе с супругой морским путем, так как Эжени вскоре собирается рожать и ей тяжело переносить испанское бездорожье. К тому же это небезопасно, так как на дорогах свирепствуют шайки разбойников.
* * *
Мы полагаем, что к этой дате Моро уже более недели находился в Барселоне и проживал в отеле «У Золотого фонтана», ожидая прибытия своей супруги. Это была одна из лучших гостиниц Барселоны, где часто обедали иностранцы. Однажды группа французов, узнав генерала, с радостью пригласила его за свой стол. С тех пор каждый вечер, когда подавали десерт, они просили поделиться своими воспоминаниями о проведенных военных кампаниях, принесших ему славу, а генералу, в свою очередь, доставляло удовольствие рассказать им о своей любимой Рейнской армии. Вместе со своими новыми знакомыми он 19 июля участвовал в корриде — бое быков.
Моро сообщил жене, где находится, и она приехала к нему в Барселону 25 июля 1804 года. Она была одна, без сына — маленького Евгения, которого оставила на попечение своей матери — госпожи Уло. Эжени была на восьмом месяце беременности и могла ехать в экипаже только днем, тогда как командану Анри было приказано мчаться без остановок и днем и ночью, чтобы через три дня доставить Моро к пункту пропуска на испанской границе. Этим, вероятно, объясняется тот факт, что супруга Жана-Виктора не могла сопровождать мужа непосредственно из Парижа.
Путешествие по суше из Барселоны в Кадис, откуда семья Моро должна была отправиться в США морем, было небезопасно и не представляло никаких удобств, имея в виду разбитые дороги, грязные харчевни и банды герильясов, свирепствовавших на всем пути.
Моро с супругой решают отправиться в Кадис морем. 2 августа 1804 года корабль «Ля Вьерж дю Кармель» благополучно доставил их в этот большой портовый город.
Им был оказан любезный прием в доме губернатора. Затем, имея в виду скорые роды, семья Моро решила снять квартиру, в которой 14 сентября 1804 года госпожа Моро произвела на свет дочь по имени Изабель. Крестным отцом девочки по доверенности стал эрцгерцог Карл, знаменитый австрийский главнокомандующий, с которым Моро после подписания мирного договора в Штайре из вежливости поддерживал переписку.
Кадис, этот великолепный белый город, с трех сторон окруженный прозрачной голубой водой, в которой отражались стены его домов с синими ставнями, уже с 1801 года был самым оживленным портом Испании. На его улицах кипела бойкая торговля колониальными товарами, а у пирса швартовались корабли из Европы, Африки, Азии и Америки. Город окружал живописный пейзаж: на набережных росли пальмы, а на лотках и тележках продавались дары моря и экзотические фрукты.
Однако, несмотря на целебный климат, Кадис представлял опасность для здоровья. Дело в том, что сюда из Америки недавно была завезена желтая лихорадка.
Чтобы обезопасить свою семью, Моро решает перевезти ее за город, но не слишком далеко. Они поселились в деревне под названием Чиклане. Именно из этого небольшого местечка он пишет письмо госпоже Рекамье, датированное 12 октября 1804 года:
«Мадам,
Надеюсь, вы с удовольствием прочтете эти строки от двух ссыльных, которым вы оказали столько любезностей…
Мы рассчитывали отдохнуть немного в Кадисе, когда вдруг узнали, что сюда была завезена желтая лихорадка…
Кроме того, роды моей жены заставили нас задержаться здесь более чем на месяц. К счастью, нам удалось не заразиться, лишь только один из наших слуг заболел.
И вот мы в Чиклане — очень красивой испанской деревушке. Я не говорю вам о жизни, которую мы здесь ведем, да вы и сами легко можете догадаться — она слишком скучна и монотонна. Тем не менее мы дышим воздухом свободы, хотя и живем в стране инквизиции.
Примите, мадам, искренние уверения моего уважения и привязанности,
Ваш покорный слуга, В. Моро».Кстати, уважаемый читатель, обратите внимание на подпись. Почти все письма Моро подписывал своим вторым именем — Виктор Моро, а не Жан-Виктор. Мы не знаем, почему он это делал, но думаем, потому, что Виктор означает победитель, кем он в действительности и был, сражаясь за республику.
Кстати, образцы подписей Моро и Наполеона удивительно похожи! Интересно, почему? Об этом История умалчивает, да и графология не дает однозначного ответа. Вероятно, дух соперничества выражался и в том, как два прославленных генерала подписывали документы. Пытался ли один быть похожим на другого даже в такой, казалось бы, мелкой детали? Но кто на кого? Возможно, будущие поколения историков найдут ответ и на этот вопрос.
* * *
Тем временем из Франции приходили невеселые вести. 16 июля 1804 года генерал Моро был вычеркнут из списков личного состава офицеров армии, что означало одновременную потерю генеральского звания и соответствующего денежного довольствия.
Несколько дней спустя владение Гробуа и дом на улице Анжу в Париже были приобретены Фуше (к тому времени назначенного министром юстиции) за 800 000 франков, тогда как Моро рассчитывал получить 1 300 000 франков. Кроме того, из суммы 800 000 франков были высчитаны сумма долга Баррасу, которая составляла 130 000 франков, и 100 000 франков на судебные издержки. Таким образом, Моро оставалось всего 570 000 франков.
Затем пришло еще одно неприятное известие: его друг и банкир Делярю разорился, и что стало со сбережениями Моро, которые он хранил у него, — неизвестно.
Некоторые историки, основываясь на «мемуарах» Фош-Бореля и особенно Барраса, утверждают, что по прибытии в Кадис, мечтая отомстить Наполеону, Моро хотел перейти на сторону Англии, стать во главе французских военнопленных, находящихся на территории Великобритании, и с этой армией захватить французскую провинцию Бретань.
На наш взгляд, это утверждение представляется крайне маловероятным и даже абсурдным. Несомненно одно — если Моро сам и не помышлял о столь дерзкой попытке, но вот правительства иностранных держав хотели быстро воспользоваться возможным озлоблением Моро против Наполеона и использовать его в своих целях. Вот почему французскую полицию беспокоила законность пребывания семьи Моро на территории Испании: она подозревала его в интригах с Англией.
Но Моро сам разубедил полицию, написав 3 декабря 1804 года следующее письмо Фуше:
«Месье,
Мне сообщают из Парижа, что вы удивлены моим пребыванием в Кадисе. Дело в том, что в течение 8 месяцев моя супруга находилась в тягости, и у нас почти не было времени, чтобы подготовиться к родам.
Желтая лихорадка начала свирепствовать в этом несчастном месте, где мы находимся: везде устроены жесткие кордоны, чтобы избежать распространения инфекции. Ни один корабль не возьмет на борт семью, болезнь которой может грозить самой жуткой смертью всему экипажу…
Вне всякого сомнения, мне позволят принять все меры предосторожности до посадки на борт, что означает стопроцентный карантин.
У меня нет желания выехать в Англию ни в качестве ссыльного, ни в качестве пленника, а из-за войны, которая только что началась в Испании, закрыт выход в море всем судам.
Мне трудно возразить в том, что, являясь частным лицом, я не подчиняюсь законам войны. Все граждане, даже далекие от знания военного дела, участвуют в настоящей войне. Кроме того, тот, кто командовал французскими армиями в Европе в течение десяти лет, не может более считаться частным лицом для врагов своей родины. Именно это обстоятельство, так явно прочувствованное французским правительством, послужило единственной причиной в отказе мне покинуть Францию через один из ее портов.
И еще одно. Сегодня исполняется четвертая годовщина сражения при Гогенлиндене. Это событие, столь славное для моей страны, обеспечило моих сограждан долгожданным миром и покоем, которого они так долго были лишены. Лишь я один все еще не могу его получить.
Откажут ли мне в нем здесь, находящемуся на самом краю Европы в 500 лье от родины?»
* * *
На самом деле Моро и его семья все еще находились в Испании в конце 1804 года не только из-за желтой лихорадки. Они ждали своего сына.
Только через пять месяцев, а именно 28 апреля 1805 года, Моро смог прижать к своей груди сына, стоя на пирсе Кадиса.
Но кто же привез четырехлетнего мальчика?
Вероятно, это был Френьер, так как этот молодой человек и секретарь Моро решил последовать за своим шефом в Америку. Именно в Кадисе он присоединился к изгнаннику и его семье.
Теперь, когда вся семья была в сборе, ничто более не держало ее в Испании. Однако несчастный случай снова отсрочил отъезд.
5 мая 1805 года, осматривая парусник, который должен был отправиться в США, Моро неудачно зацепился ногой за канат, лежащий на палубе, и упал на самое дно трюма. Искалеченного Моро с трудом вытащили наружу. Он слег в постель. Лечение было длительным, но с перспективой на выздоровление.
Как будто сама судьба была против отъезда генерала в Америку. Видимо, и он, как любой Водолей, верящий в приметы, это понимал. Но делать было нечего.
Только 4 июля 1805 года Моро, его жена, двое детей и секретарь Френьер поднялись на борт корабля «New York», отправлявшегося в Филадельфию.
Блокада атлантического побережья Европы английским флотом во главе с Нельсоном была настолько эффективно организована, что редкому паруснику удавалось прорваться сквозь заслон Британского кролевского военно-морского флота. Той же участи не избежал и корабль «New York».
Его дважды останавливали и дважды подвергали досмотру.
Во время второй остановки Моро стал объектом совершенно иного отношения, чем те суровые меры, о которых он упоминал в письме Фуше.
Совершенно не желая делать из него пленника, английский капитан пригласил его на борт своего судна, представил офицерам команды, предложил ему спиртные напитки и поднял тост за его здоровье, а также приветствовал генерала залпом орудий левого борта, когда Моро покидал английский корабль.
Путешествие прошло без происшествий, и 25 августа 1805 года генерал Моро с семьей прибыл в Филадельфию.
* * *
Министр внешних сношений Франции Талейран направил генерала Тюрро послом в США с инструкцией «избегать любой официальной демонстрации в честь Моро». Но все было напрасно. Тюрро в раппорте Талейрану сам признает этот факт:
«Место жительства вновь прибывшего, — писал он, — было у некой мадам Коттино, сказавшейся родственницей госпожи Моро, дом которой вскоре наполнился людьми разных сословий. Генерал М. казался ошеломленным, получив столько разных приветствий и “how do you do”, а также крепких рукопожатий, от которых у него заболела рука.
На следующий день часть того, что здесь называется армией, а именно две роты городской милиции, были выстроены в почетный караул, чтобы оказать ему почести. Это событие, как и накануне, несколько смутило приезжего, так как он не знал ни слова по-английски и был вынужден ограничиваться приветственными жестами».
Моро не хотел долго оставаться в Филадельфии, где также свирепствовала желтая лихорадка. Он вскоре взял в аренду дом с участком земли в Моррисвиле, расположенном на берегу реки Делавар, и прибыл в этот город 29 августа 1805 года. Но до того как дом приведут в порядок, Моро с семьей остановился у некоего господина Гуэна, бретонца по происхождению, эмигрировавшего в США из Франции.
Устроившись в Моррисвиле, Моро через некоторое время получает от своей тещи, госпожи Уло, некоторую денежную сумму, оставшуюся от продажи поместья Гробуа и дома на улице Анжу в Париже. В сопроводительном письме она сообщала, что Фуше перепродал поместье генералу Бертье, а дом на улице Анжу Наполеон подарил Бернадоту со всей обстановкой и великолепной мебелью, носящей вензель Jacob — знаменитого мебельных дел мастера Жакоба.
Так невесело начиналась ссылка Моро в Соединенных Штатах Америки.
Глава VIII. РУССКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Несколько недель спустя после освобождения Моро из тюрьмы Тампль ее застенки покинул небезызвестный Фош-Борель, который обосновался в Берлине, вновь открыв там книжную лавку. Этот человек, обладавший манией интриги, снова взялся за свое дело и начал забрасывать европейские дворы самыми невероятными предложениями.
Якобы действуя в соответствии с инструкциями, которые ему дал Моро, когда они вместе находились в Тампле, Фош-Борель последовательно трижды обращался к русскому правительству, предлагая ему использовать против Наполеона военные таланты Моро. На самом деле, как ясно показал в своей книге Эрнест Доде «Ссылка и смерть генерала Моро», опубликованной в Париже в 1909 году, Фош-Борель никакой подобной инструкции от Моро никогда не получал. Старый интриган-чернокнижник использовал имя Моро, чтобы придать себе больше «веса».
Н.А.Троицкий пишет в этой связи: «…Александр I, не полагавшийся на своих генералов, решил пригласить из США генерала Моро. Царь при этом ссылался на пример Петра Великого, который перед вторжением в Россию Карла XII приглашал командовать русскими войсками знаменитого английского полководца герцога Д. Мальборо».
Русское правительство ничего не ответило Фош-Борелю, но, казалось, ухватилось за это предложение, так как 9 августа 1805 года русский министр иностранных дел Адам Чарторижский, не зная, что Моро недавно покинул Испанию, отправил графу Строганову, отбывающему на свой новый пост посла Российской империи в королевстве Испания, письмо следующего содержания: «Нам стало известно, что генерал Моро, находясь в ссылке, высоко оценивает политику, проводимую нашим государем, и тот курс, который избрала Россия в критических обстоятельствах, угрожающих Европе. Он неоднократно высказывался с целью дать понять, что если он когда-либо решится поступить вновь на военную службу какой-либо иностранной державы, то он не обойдет вниманием Россию.
Суждение столь заслуженного человека и с такой репутацией, как у генерала Моро, может иметь огромное значение при нынешнем положении дел в Европе, особенно имея в виду то влияние, которое он сохранил во Франции.
Государь поручает вам удостовериться самым деликатным образом в истинных намерениях генерала Моро, и если результат окажется соответствующим нашим ожиданиям, то постараться завоевать его на нашу сторону…
Желательно, вне всякого сомнения, попытаться убедить генерала поступить на службу России, которая, со своей стороны, не только примет его в том же воинском звании, которое он имел во Франции, но и гарантирует ему привилегии и прерогативы, на которые он вправе рассчитывать.
Однако, учитывая принципиальную позицию, на которой стоит генерал Моро, а также, возможно, скорое начало войны против французского правительства, дайте понять генералу, что, поступив на русскую службу, он будет находиться под защитой нашего государя от преследований его врагов и сможет поселиться в любом городе Российской империи по его усмотрению.
Одновременно дайте ему понять, что мы были бы рады предоставить ему возможность применить свои блестящие военные таланты и боевой опыт, чтобы как можно скорее закончить войну, которая, в случае, если она начнется, будет иметь своей целью умерить безграничные амбиции Бонапарта, деспотизм которого одинаково несовместим как с миром в Европе, так и со спокойствием внутри Франции…
Объясните генералу, что наш государь ясно представляет себе разницу между французским народом и удачливым авантюристом, который угнетает французскую нацию… и что Европа борется не с французским народом, а как раз, наоборот, за французский народ с целью свержения ига, под которым он стонет…
Кроме того, постарайтесь убедить генерала в том, что Его Величество Император Всероссийский твердо намерен уважать и соблюдать права личности, частную собственность каждого гражданина и, в частности, тех, кто приобрел собственность при распродаже национального достояния…
И, наконец, вы убедите генерала в том, что наш государь никоим образом не собирается стеснять или ущемлять права французского народа, и выбор нации во всем, что касается внутренней политики, будет неукоснительно соблюдаться. Никто не заставит ее сделать выбор в пользу дома Бурбонов…
В случае, если все вышеприведенные доводы произведут на генерала желаемый эффект, вы пригласите его возглавить любую из наших армий, дислоцированных либо в Германии, либо в Италии по его усмотрению».
* * *
Не успев прибыть в Испанию, Строганов получает новое письмо от Чарторижского:
«Я с сожалением узнал, что генерал Моро отплыл в Америку. Постарайтесь найти надежного человека, способного выполнить это поручение и отправиться в Североамериканские Соединенные Штаты…»
Надежного человека нашел сам Чарторижский. Узнав, что молодой чиновник Министерства иностранных дел граф Федор Пален (сын П.А. Палена — участника заговора против Павла I) уже встречался с генералом Моро в Париже, попросил его рассказать об этой встрече и, поняв, что молодой человек отличается незаурядными дипломатическими способностями, решил поручить ему эту деликатную миссию.
Вот что сказал князь Чарторижский графу Палену:
«Вам надлежит отправиться в Соединенные Штаты в качестве частного лица. Вы возобновите контакты с генералом Моро и деликатно предложите ему поступить на русскую службу. Чуть позже вы получите конкретные и строго конфиденциальные инструкции о том, что вам нужно будет сделать».
Вскоре граф Пален покинул Санкт-Петербург и устремился к берегам туманного Альбиона, где ему нужно было пересесть на корабль, отплывающий в Нью-Йорк.
Однако, находясь в Лондоне, он получает срочную депешу: «Воздержаться на некоторое время от поездки в США».
Дело в том, что военные действия между Наполеоном и третьей коалицией, включавшей Англию, Австрию и Россию, начались несколько раньше, чем планировали в Санкт-Петербурге. В этой связи было принято решение, что уже поздно звать Моро на помощь.
Так оно и оказалось. 20 октября 1805 года австрийский генерал Мак капитулировал в Ульме, а 2 декабря 1805 года Наполеон одержал свою знаменитую победу при Аустерлице.
Потерпев поражение в войне, русская армия откатилась к своим границам. Чарторижского сменил генерал барон Будберг, и уже никто в столице Российской империи не думал о том, как использовать генерала Моро.
* * *
Однако ровно через год русский посол в Мадриде граф Строганов решил вновь напомнить своему правительству о славном герое Гогенлиндена.
В письме от 5 октября 1806 года, за 9 дней до битвы под Йеной, о которой он, естественно, ничего не знал, Строганов пишет:
«В одной из бесед с принцем Мира (Годой. — А. З.) он мне сообщил, что был весьма удивлен, что союзные державы в ходе последней войны против французского правительства не подумали о том, чтобы вверить генералу Моро одну из своих армий.
Одновременно он сообщил мне, что поддерживает постоянную переписку с Моро и что не далее как вчера получил от него письмо, в котором генерал ясно дает понять, что он думает поступить на службу в армию одной из наиболее сильных держав Европы, которая сможет дать ему гарантии от преследований Бонапарта».
* * *
Правда ли то, что Моро мог поддерживать постоянную переписку с Годоем?
На наш взгляд, с одной стороны, это похоже на правду, так как Моро пробыл в Испании чуть больше года и за это время мог иметь контакты с принцем Мира. Однако, с другой стороны, факт поддержки переписки с этим человеком на постоянной основе нам представляется маловероятным по двум причинам. Во-первых, потому что английская морская блокада Европейского континента не позволяла обмена корреспонденцией между Соединенными Штатами и Испанией. И во-вторых, ни все предыдущие историки Моро, ни мы не нашли каких-либо следов этой переписки ни в одном архиве Европы, США и России.
Барон Будберг не отбросил предложения Строганова, но и не спешил действовать. Лишь только в марте 1807 года Пален, все еще находившийся в Лондоне, получил приказ отплыть в Соединенные Штаты.
На этот раз его задача была уточнена:
«Если вы обнаружите, что генерал Моро ждет случая, чтобы отомстить за преследования, которым он подвергается, и одновременно желает вернуть своей стране свободу, которой она лишена, тогда вы могли бы дать ему понять, какую высокую цель ставит перед собой наш государь и насколько она может быть выгодна французскому народу.
Покажите ему, что только он один, пользующийся доверием своего народа, мог бы стать его освободителем…
Было бы желательно, если бы вы смогли намекнуть генералу Моро, что наиболее важным в этом смысле были бы совместные действия различных партий, например, республиканской и роялистской…
Вместе с тем ни в коем случае не настаивайте на том, чтобы генерал Моро действовал совместно с Бурбонами…
И, наконец, если вы убедитесь, что генерал Моро готов поддержать Россию в ее политике, то только тогда вы можете полностью открыться и передать, что наш государь, веря в его незаурядные таланты полководца, патриотизм и личную храбрость, был бы рад принять его на русскую службу и, если он согласится — участвовать в освобождении Франции наиболее безболезненным для нее способом…
Если он примет эти предложения, то вам надлежит вернуться вместе с ним в Европу…
Однако прежде всего попросите генерала Моро изложить свои соображения на бумаге и незамедлительно передайте их нам».
Затем барон Будберг просит Палена постараться убедить генерала, «какой страшной и невыносимой становится с каждым днем тирания Бонапарта и что у истинных французов не осталось сомнений в том, что долг Моро — помочь своей родине».
И вот, получив 2000 дукатов, граф Пален отправляется в Америку завоевывать Моро. С ним была немалая сумма. Дукат, или проще червонец, представлял собой золотую монету весом 3,4 грамма. Так что граф вез с собой 6,8 кг чистого золота.
Тем временем, полагая, что ссылка будет долгой, Моро решает комфортно устроиться в Соединенных Штатах. Он приобретает небольшое поместье в Моррисвиле, а в Нью-Йорке, на Уоррен-стрит, покупает дом, чтобы там проводить зиму. Жан-Виктор очень любит цветы и книги и поручает построить оранжерею и библиотеку в Моррисвиле. Затем у него появляется возможность обустроить свою загородную резиденцию. В марте 1807 года он приобретает «три участка земли с ветряными мельницами, которые на них находятся». Короче говоря, он решает жить в США так же, как он жил во Франции с той поры, как больше не служил в армии. Моррисвиль стал его Гробуа, а Уоррен-стрит — его улицей Анжу.
Чтение, рыбалка на реке Делавар, охота, уход за садом и полями заполняют все его дни в течение большей части года. Зимой в Нью-Йорке он пытается создать для своей жены иллюзию парижской жизни. Но Нью-Йорк — это не Париж. В то время этот американский город насчитывал около 40 000 жителей, и в нем не было столько развлечений, сколько в Париже.
Ничто так не изолирует ссыльного в чужой стране, как незнание языка. И так как Моро его не знает, то в богатом нью-йоркском обществе он, несмотря на теплые приемы, не может установить длительные дружеские связи.
Тем не менее он дышит воздухом свободы и питает глубокую симпатию к республиканским взглядам народа, гостем которого он стал.
Вот что он говорит об американцах после года, проведенного в США, своему брату Жозефу в письме, отправленному из Нью-Йорка:
«Ты спрашиваешь меня, чем я занимаюсь в Америке. Я веду здесь весьма однообразную и монотонную жизнь, но вместе с тем очень спокойную. Я мог себе представить преимущества жизни в свободной стране, но я смог воспользоваться лишь частью этого счастья. Здесь же люди пользуются им в полной мере. Они могут свободно приезжать, уезжать, менять место жительства, путешествовать. Никому до тебя нет дела. Где бы ты ни находился, ты не чувствуешь и не видишь представителей власти. Люди, которые живут в такой стране и с таким правительством, никогда не позволят себя поработить, и даже самые отъявленные негодяи пойдут на смерть, лишь бы защитить свободу».
К моменту получения этого письма Жозеф уже перестал быть судьей. Попав в опалу из-за брата, он влачил жалкое существование в полной нищете в своем родном городе Морле.
В ответном письме старшему брату он жалуется на свою судьбу. Чтобы его утешить, Моро сообщает ему и о своей невеселой жизни:
«Нью-Йорк, 6 мая 1807 года.
Ты пишешь, что судьба несправедлива к тебе. Я скажу лишь пару слов о том, как она поступила со мной. Семья Делярю (тот самый разорившийся банкир, у которого Моро хранил часть своих сбережений. — А. З.), судебные издержки и другие расходы лишили меня половины состояния, и что еще хуже, меня отправили в самую дорогую страну мира. Здесь пиастр ценится не больше, чем самая мелкая монета экю в Париже. Ни одно состояние не осилит таких расходов, если вести здесь ту же жизнь, что в Париже…
P.S. Похоже, дела с русскими идут не так быстро, как с пруссаками».
Постскриптум, очевидно, представляет собой намек на сражения при Йене и Эйлау. Действительно, с самого начала войны против четвертой коалиции Наполеон довольно легко разбил пруссаков при Йене 14 октября 1806 года, но в Эйлау 7—8 февраля 1807 года он с большим трудом разгромил русских. Впервые победа заколебалась, прежде чем принять сторону корсиканца. Моро же не стал скрывать тихой радости; он понял, что, не желая вернуться во Францию по милости Бонапарта, ему остается лишь надеяться на поражение узурпатора. Вместе с тем он говорил себе, что это поражение будет и поражением Франции, и упрекал себя за такие мысли.
Его душа пребывала в этом состоянии, когда вдруг только что прибывший в Нью-Йорк граф Федор Пален нанес ему визит вежливости. Моро его сразу узнал.
— Каким ветром вас занесло сюда?
— Любовь к путешествиям, генерал.
Этот псевдотурист играл как никогда лучше роль соблазнителя Моро. У них состоялись многочисленные беседы, результатом которых явилось письмо опального генерала царю от 23 июня 1807 года. Вот выдержки из него:
«Я не стал бы раздумывать над любезными предложениями Вашего Императорского Величества и сразу бы их с благодарностью принял, если бы они были мне сделаны до начала войны против французского правительства, в которую ваша держава вынуждена была вступить.
Мне представляется неподобающим достоинству вашей короны, ни моей совести поступить на службу в вашу армию, когда война уже началась. Каждый человек, который вынужденно покинул свою страну, вправе искать себе новую родину, которую ему предлагают.
Для государства, единственного оплота всех угнетенных, было бы неверно видеть во мне лишь желание отомстить моим соотечественникам, а Вашему Величеству подчиниться необходимости, менее почетной для него самого и его армии…
Какими бы ни были последствия нынешнего кризиса в Европе, но с того момента, когда моя страна окажется под гнетом тирании, служить которой и подчиняться я не желаю, заверяю Ваше Императорское Величество, что если мои услуги все еще будут вам необходимы, вы сможете полностью рассчитывать на меня. Но вы, конечно же, поймете мотивы, заставляющие меня предлагать свои услуги лишь только тогда, когда моя порядочность и достоинство вашей короны не смогут стать предметом осуждения».
Это письмо, оригинал которого Моро оставил себе, а барон Будберг получил копию, переписанную рукой Палена, представляет собой документ, написанный стилем человека, поставленного в затруднительное положение. Тем не менее вывод совершенно очевиден: Моро отказывался принять командование над русской армией, а также переехать жить в Россию.
Однако не стоит думать, что граф Пален преодолел несколько тысяч миль и потратил 2000 червонцев лишь для того, чтобы напрасно потерять время и силы. Ему не удалось сломить патриотические угрызения совести генерала, но он преуспел в другом — он смог убедить Моро в том, что Бонапарт стал настоящим тираном для Франции. Скоро мы увидим, что это убеждение будет крепнуть в мыслях Моро изо дня в день, из года в год и наступит момент, когда опальный генерал придет к решению, что его родина должна быть освобождена от угнетения путем победы освободителя, пусть даже им окажется иностранный монарх.
Отказ русскому царю мы расцениваем как благородный поступок Моро.
Но вот жена генерала не так безмятежно переживала разлуку с Европой. Она постоянно думала о своей любимой матушке и очень горевала, что находится так далеко от нее и что ссылке этой не видно конца.
Чтобы отвлечь немного свою супругу от ностальгических мыслей, Моро решил в июле 1807 года отвезти ее на воды в Бостон. Он оставил Эжени там на несколько недель, где она познакомилась с супружеской четой из семьи французских роялистов по фамилии де Невиль, которые также находились в США в эмиграции. Это знакомство было для нее настоящим утешением, а мадам и барон Хид де Невиль оказали ей моральную поддержку.
«В ее честь был устроен бал, — пишет в одном из своих писем госпожа де Невиль, — Эжени была там настоящей королевой. Мне доставляло огромное удовольствие видеть, как она грациозно танцует, каждое ее движение доставляло радость всем гостям. Одного ее присутствия было достаточно, чтобы весь этот небольшой курортный городок преобразился у вас на глазах».
К сожалению, эта вспышка радости оказалась короткой, а затем последовала череда несчастий.
В конце 1807 года Моро получает известие о смерти своей младшей сестры Маргариты, затем в начале 1808 года из Франции пришло письмо, извещавшее о смерти госпожи Уло.
Эжени помрачнела и окунулась в глубокую скорбь. «Наша разлука убила ее», — говорила она. Эжени стала сильнее чем когда-либо проклинать эту ненавистную ссылку и Бонапарта.
Моро искренне сожалел о смерти тещи. Он трогательно вспоминал о ее великодушии и внимании, которое она ему оказывала. Он не принимал в расчет тот вред, который она нанесла, сама того не желая, слишком восхваляя его гордость и разжигая сверх меры ненависть против Бонапарта, вместо того чтобы ее погасить.
Несколько месяцев спустя смерть постучалась в дверь семьи самого Моро.
Она забрала их сына — маленького Евгения. Этого удара молодая женщина не смогла перенести. Полагали, что она вскоре умрет, но, благодаря заботам мужа и ласкам маленькой Изабель, а также теплой дружбе и участию госпожи де Невиль, она мало-помалу стала возвращаться к жизни. Однако Эжени больше не сомневалась в том, что климат Нью-Йорка и Моррисвиля не подходит ее дочери и что именно из-за него умер ее сын. Жан-Виктор тяжело переживал эту утрату. Его страдания еще больше усиливались от сознания того, что во всем виновата злая судьба.
Однако через некоторое время он узнал о заключении мира между Наполеоном и Россией, подписанном после сражения при Фридланде, и поздравлял себя за то, что отклонил предложения царя.
Впрочем, вскоре боль от расставания с Францией была скрашена прибытием в США, в надежде сколотить здесь состояние, его бывшего адъютанта полковника Рапателя, брата другого бывшего адъютанта — капитана Рапателя.
С ним Моро мог говорить обо всем на свете, клеймя при этом «мерзавца Бонапарта» — виновника всех их несчастий.
Будучи сердечно-фамильярным с преданным Френьером и с очень преданным Рапателем, Моро довольно долго не находил общего языка с бароном де Невилем, несмотря на крепкую дружбу, которая связывала их жен.
«Между генералом и мною, — пишет де Невиль в своих мемуарах, — существовала огромная пропасть. Он был ярый республиканец, а я — убежденный роялист. Он был со мной холоден, мало откровенен, и наша дружба все как-то не налаживалась».
Чтобы прервать монотонное течение жизни и лучше узнать Соединенные Штаты, Моро стал путешествовать. Иногда в сопровождении Френьера. Но в основном один со своим слугой-негром. Генерала видели в Трентоне и Филадельфии, где публика приветствовала его; в Новом Орлеане, где консул Франции господин Форг, давний знакомый Моро, пришел поприветствовать его в гостиницу, что вызвало гнев и возмущение Тюрро.
Затем Моро посетил часть Луизианы, притоки Миссисипи, расположенные рядом с Великими озерами, и знаменитый Ниагарский водопад.
* * *
Это были настоящие и рискованные экспедиции: практически по бездорожью, трясясь в двуколке то по ухабам, то в глубокой грязи, в зависимости от погоды и времени года. Но в конце тяжелой дороги всегда случались привалы, а вместе с ними пара метких выстрелов во время охоты на дичь Саванны, либо завораживающая рыбалка на тихой глади Великих озер.
Испытывал ли Моро тоже восхищение наедине с этими великолепными пейзажами, которое с таким трепетом описывал Шатобриан, его бретонский земляк, стараясь донести до европейских читателей эту красоту? Ничто не указывает на это в его письмах, по крайней мере, в тех, которые нам удалось разыскать. Тем не менее мы верим, что он, как истинный Водолей, испытывал романтическое чувство наслаждения окружающей средой, и природа восхищала его.
От писем Моро из Америки осталась лишь малая часть, так как в то время корреспонденция перехватывалась английскими патрульными судами или же, как он объясняет брату Жозефу в одном из писем, просто «выбрасывалась за борт командой, видя, что предстоит досмотр».
Вот почему нам доставляет особую гордость представить вниманию читателя несколько сохранившихся до наших дней писем генерала Моро из Америки, попавших в Россию благодаря стараниям русских меценатов и коллекционеров — графа Григория Владимировича Орлова (1777—1826) — сына президента Российской Академии наук и племянника знаменитых екатерининских фаворитов Григория и Алексея Орловых; и русским купцом-меценатом Петром Ивановичем Щукиным (1853—1912), который передал все свое бесценное собрание в дар Государственному историческому музею в Москве, где они хранятся и по сей день. Речь идет о письме Моро своему знакомому — некоему коммерсанту Дэвиду Пэришу, отправленному из Нью-Йорка 5 мая 1813 года (ОПИ ГИМ. Ф. 166 (Г.В. Орлов). Оп. 1. Ед. хр. 13. № 18. Л. 24—24 об.), и о письме тому же адресату, но отправленному из Моррисвиля 29 мая 1813 года (ОПИ ГИМ. Ф. 137 (Военно-исторический музей). Ед. хр. 1208. Л. 10—11 об.). О них мы расскажем чуть ниже, чтобы не выходить за рамки хронологии повествования.
* * *
Шли годы: 1809… 1810… 1811… а ссылка все продолжалась. С газетой в руках Моро следил по карте за бесконечными наполеоновскими завоеваниями. Вторжение в Испанию, оккупация части Австрии после Ваграма, расчленение Прусского королевства, присоединение Голландии к Французской империи — все напоминало ему, что одиозный корсиканец по-прежнему остается баловнем судьбы.
Бывшие республиканские генералы, за исключением Лекурба, Лаори и нескольких других, прославились в Наполеоновских войнах. Они больше не вспоминали о своем боевом товарище Моро, которого в прошлом так часто настраивали против Бонапарта ради торжества свободы. Эти генералы получили от императора почетные дворянские титулы, новые звания, награды, поместья, денежные вознаграждения и т.п. Они не протестовали против развода Наполеона с Жозефиной и оказывали почести Марии-Луизе, эрцгерцогине австрийской, которая заменила ее во дворце. На полях сражений они были героями, а в Тюильри — придворными льстецами. Да и армия, по меткому выражению Стендаля, «…дикая, республиканская, полная первобытного героизма при Маренго… становилась эгоистической и подло монархической. И по мере того как мундиры покрывались нашивками, мишурой и крестами, сердца под этими мундирами теряли свое элементарное благородство…»
Даже царь Александр I, такой гордый, величественный, настоящий аристократ, и тот попался на удочку корсиканского выскочки и в ходе знаменитой встречи в Эрфурте перед королями объявил себя другом Наполеона. Альберт Вандаль пишет по этому поводу: «4 октября 1808 года в театре давали “Эдип“ Вольтера. Когда дошли до стиха: Дружба великого человека — благодеяние богов, Александр встал, взял руку сидящего рядом с ним Наполеона и крепко пожал ее. Этот жест, подсказанный артистическим внушением, восторженно принятый присутствующими, отмеченный в Истории, был понят не только как банальное проявление дружбы. В нем видели освящение соглашения, торжественное возобновление союза».
Именно в Эрфурте впервые зашла речь о предстоящем разводе с Жозефиной и возможном браке Наполеона с одной из великих княжон из дома Романовых — Екатериной Павловной или Анной Павловной. С трудом Александру удалось вывернуться из щекотливого положения, так как намерения императора французов были весьма серьезными. Возможный брак с корсиканцем посеял панику в Санкт-Петербурге. Екатерина Павловна срочно вышла замуж за больного герцога Ольденбургского, который через три года умер, а Анна Павловна еще не достигла того возраста, который позволил бы Наполеону в ближайшем будущем обзавестись наследником. Позднее говорили, что отказ Наполеону послужил одной из причин нашествия французов на Россию в 1812 году. Вероятно, в этом есть доля правды — мстительный корсиканец никогда не прощал личных обид.
Но вернемся к нашему герою. Да, Моро пока еще не был готов вернуться во Францию.
«Я останусь здесь до конца жизни, — писал он одному из своих братьев в 1811 году, — передавай привет всем родным и скажи им, что я больше не надеюсь увидеть их».
Конечно, его жизнь течет монотонно, и об этом он говорит почти в каждом письме, но она не лишена комфорта, удобств и спокойствия.
Сейчас, когда он может свободно говорить по-английски, он легко общается со своими друзьями в Моррисвиле и в Нью-Йорке. Ему нравится их общество. «Это хорошие люди», — говорит Моро, и чем больше он их узнает, тем больше их любит. И американцы в ответ платят ему своей симпатией. Его уважают, к нему относятся с почтением. Первые лица государства оказывают ему знаки внимания. Его уже не волнует, что преемник Тюрро на посту французского посла в Вашингтоне — генерал Серюрье — не замечает присутствия Моро в Соединенных Штатах из-за того, что президент США Мэдисон несколько раз приглашал Моро к себе на обед.
* * *
Иногда зимой в Нью-Йорке ему казалось, что он находится во Франции, так как в этом городе было много французских ссыльных, прибывших в основном из Сан-Доминго, куда они были высланы после событий 1800 года. Вместе с наиболее известными из них он входил в ассоциацию соотечественников, в шутку названную ими самими des betes (общество глупцов), так как их девизом было евангелическое высказывание: beatipau peres spiritu (счастливы блаженные духом). Он также входил во французскую масонскую ложу Нью-Йорка. Позднее даже стал ее президентом. И, наконец, Моро все-таки подружился со своим соседом по Уоррен-стрит — бароном Хидом де Невилем. Они часто встречались и открыто говорили на любые темы.
* * *
Цели Бурбонов были близки барону. Он считал, что от реставрации их трона зависит спасение Франции. Моро же полагал, что они опоздали, что для них и их трона время ушло, но соглашался с тем, что если бы французские принцы королевского дома Бурбонов, находящиеся в изгнании, объединились на основе принципов революции 1789 года, то их правление могло быть временно приемлемым. Конечно, при условии, что Бонапарт позволит им это сделать.
* * *
В течение четырех лет архивы хранят молчание относительно контактов генерала Моро и русского посланника в Вашингтоне графа Палена.
С момента подписания Тильзитского мира (8 июля 1807 г.) Александр I, полагая, что Наполеон пытался его обмануть, стал готовить ответный реванш. Об этом он сообщает в известном письме к сестре — Екатерине Павловне. Кроме того, герцогиня д'Абрантес в своих Мемуарах (т. VIII, с. 454) говорит о появлении в Париже в 1824 г. небольшой брошюры генерал-адъютанта Александра I князя Бутурлина, в которой он, в частности, пишет: «После заключения этого унизительного договора мы вынуждены были жить внешне ничего не предпринимая, но действуя подпольно… К февралю 1812 г. у нас под ружьем было уже 80 000 чел».. Одновременно с этим тайным, но интенсивным перевооружением Александр, раздраженный Континентальной блокадой и созданием Великого герцогства Варшавского, но вдохновленный самоотверженной борьбой испанского народа против Наполеона, развил бурную дипломатическую деятельность по всему Европейскому континенту, чтобы придать форму священному крестовому походу за освобождение Европы. Начиная с маскарадного свидания в Эрфурте (27 сентября 1808 г.), к этой деятельности подключился и продажный, но умный Талейран. «Какова цель Вашего приезда сюда, Сир? — спросил царя князь Беневентский. — Вы, вероятно, должны спасти Европу”. С этого момента мысль о спасении Европы полностью овладевает царем. Он пытается склонить на свою сторону поляков, обещая им конституционную монархию королевства Польского. (Кстати, его близкий друг князь Чарторижский и любовница — княгиня Нарышкина, по утверждению Пьера Савинеля, были польского происхождения.) В момент подготовки пятой коалиции царь тайно сообщает Австрии, что Россия в случае конфликта будет лишь делать вид, что она союзница Наполеона, и что со своей стороны сделает все возможное, чтобы уклониться от нанесения каких-либо ударов по Австрии. «Царь искренне желал нам всяческих успехов», — писал австрийский фельдмаршал князь Шварценберг. Начиная с 1810 г., в целях обеспечения нейтралитета Швеции относительно франко-русского союза, Александр направляет в Гетеборг дипломатическую миссию с задачей узнать у Бернадота, будущего короля Карла XIV, не согласится ли он на нейтралитет, получив взамен Норвегию в качестве компенсации за Финляндию, захваченную Россией годом ранее. Бернадот согласился и дал все необходимые гарантии. Униженная Пруссия, границы которой были грубо сведены до минимума Тильзитским договором, готовится к освободительной войне. Гарденберг, Штайн, Клаузевиц и их друзья-реформаторы прусской армии находятся в прямых контактах с царем. Даже в самом Париже под носом у Наполеона действует полковник Чернышев, прозванный парижанами почтовым голубем, так как находится постоянно в пути между Парижем и Санкт-Петербургом, который вместо того чтобы доносить Наполеону мысли и дружеские чувства великого друга Александра, на самом деле докладывает своему суверену о состоянии умов и эволюции общественного мнения относительно деспотизма Наполеона, растущего с каждым днем.
Уже к середине 1810 г. Александр был готов представить порабощенным монархиям свой план войны против великой империи, основанный на восстании в Польше. Но план не удался из-за Меттерниха, который считал такое выступление преждевременным и беспочвенным, ибо поляки в большинстве своем предпочитали разыгрывать французский козырь Понятовского, нежели русский козырь Чарторижского.
Всего этого Моро, возможно, пока еще не знал, но, по свидетельству Пьера Савинеля, именно после Тильзитского мира, а особенно после вторжения Наполеоновских войск в Испанию в 1808 г. Моро постепенно стал отходить от своей политической индифферентности.
* * *
В июле 1811 года полковник Рапатель нашел Моро в Нью-Йорке и рассказал, что все его попытки сделать состояние в Америке провалились.
Он обращается за советом к генералу:
— У меня больше нет ни единого су. Что делать?
— А почему бы вам не попроситься на службу в русскую армию? Напишите графу Палену. Уверен, он вам поможет. Молодой граф сделал блестящую карьеру на поприще дипломатии. Теперь он представляет Россию в Вашингтоне.
И полковник обратился к Палену, а тот своим письмом от 20 августа 1811 года передал канцлеру Румянцеву «пожелание некоего господина Рапателя, в прошлом полковника французской армии и бывшего адъютанта генерала Моро, поступить на службу Его Величества Государя-Императора Всероссийского…»
* * *
Напомним читателю, что в этот период царь Александр I являлся официальным союзником Наполеона. Тильзитский мирный договор все еще оставался в силе, но никто в США не сомневался в том, что это соглашение уже не соблюдается. Все были наслышаны о континентальной блокаде и проблемах России, связанных с ней.
* * *
Письмо канцлера Румянцева от 11 декабря 1811 года уведомляло графа Палена, что просьба полковника Рапателя удовлетворена.
В тот момент, когда бывший адъютант Моро намеревался покинуть Америку, другой француз, более близкий ссыльному генералу, думал о том, как попасть в Соединенные Штаты. Это был брат Моро — Жозеф.
Он томился в своем родном, но слишком тихом городке Морле и с трудом переносил бедственное положение, в котором он оказался после опалы брата.
«Почему бы мне не поехать на заработки в Америку? — задавал себе этот вопрос Жозеф. — Я смогу там разбогатеть».
И вот вскоре он открывает свое намерение старшему брату и пишет о том, что хочет приехать к нему в Нью-Йорк. Однако Моро немедленно разубеждает его.
23 марта 1812 года он пишет брату письмо, в котором сообщает следующее:
«Ты говоришь, что тебе советуют ехать в Америку, и надеешься здесь начать свое дело… Не сомневайся, что пока у меня есть хлеб, я разделю его с тобой. В этом смысле можешь быть уверен, что с голоду ты не умрешь, пока я жив. Но чтобы заработать деньги… то осмелюсь утверждать, что здесь это почти невозможно. И я знаю многих французов, которые пытались это сделать, включая Рапателя, все попытки которых окончились неудачей…
Ты ничего не сможешь сделать здесь, не зная языка и не будучи гражданином США. Гражданство ты получишь, только прожив здесь пять лет, а на изучение языка также нужно минимум три года.
В этой стране все занимаются бизнесом. Во времена расцвета торговли половина населения обогатилась путем рискованных спекуляций, либо за счет банкротства других. Препятствия, которые торговля испытывает в настоящее время со стороны воюющих стран, сократили ее на три четверти, и жесточайшая конкуренция направлена против иностранцев. В выигрыше находятся только промышленные предприятия, а время спекуляций прошло…»
В мае 1812 года госпожа Моро, изнемогая от моральной пытки бесконечной ссылки, серьезно заболевает.
«Она умирает от ностальгии, — говорили врачи Моро, — ее может спасти только немедленное возвращение во Францию. Нужно, чтобы она уехала. Мы пропишем ей отдых на одном из курортов Франции — на водах, например, в Бареже, который ей крайне необходим. Это, несомненно, поможет вам получить для нее паспорт».
* * *
Моро отправляется в Вашингтон, и хотя это стоило ему унижения, он тем не менее явился 25 мая к французскому послу в США — генералу Серюрье. Последний вежливо его принял. Они поговорили о военных кампаниях, в которых вместе участвовали, о сражении при Ваграме, которое Моро признавал шедевром стратегии. И Серюрье пообещал не препятствовать отъезду мадам Моро.
«Обратитесь с просьбой о выдаче паспорта к французскому консулу в Нью-Йорке, — сказал он на прощанье, — в его функции входит выправить ей паспорт».
На следующий день Серюрье поставил в известность свое правительство о визите Моро и, не желая быть скомпрометированным, принимая опального генерала, заявил, что впредь дверь для Моро будет закрыта.
Интересно заметить, что сразу после визита к французскому послу Моро направился на обед к Государственному секретарю США — Джеймсу Монро, и так как Серюрье до сих пор не удостоился такой чести, это вызвало у посла Франции некоторую досаду.
* * *
Вернувшись в Нью-Йорк, Моро пришел на пристань проводить Рапателя в Россию. Был день 6 июня 1812 года.
«Не забудьте, — сказал он ему, — нанести визит Бернадоту, когда будете в Стокгольме. Тепло поздравьте его от моего имени в связи с избранием королевским принцем шведским».
Эти поздравления кажутся нам довольно запоздалыми, так как народ Швеции избрал Бернадота наследным принцем два года тому назад. И особенно удивительно то, что Моро тем самым простил Бернадоту, что тот принял в подарок от Наполеона дом Моро на улице Анжу, в котором ссыльный генерал когда-то так гостеприимно и по-дружески принимал Бернадота.
Да, Моро простил. Да, Моро забыл. Бернадот, который связан с царем, снова стал врагом Наполеона. Этого было достаточно, чтобы изгнанник вернул ему свою дружбу.
История возвышения Бернадота по-своему интересна, и в этой связи вызывает удивление, почему Наполеон, зная характер этого маршала, все-таки позволил ему занять шведский престол.
14 июня 1809 года шведский сейм избрал наследником престола Карла-Августа Августенбурга, но через год — 28 мая 1810 года, во время смотра войск принц Августенбург внезапно почувствовал себя плохо, упал с коня и тут же скончался. Эта смерть поставила в неопределенное положение будущее Швеции. Других наследников шведской короны не было, и страна оказалась на пороге смутного времени по образцу России начала XVII века. Приходилось приступить к избранию нового наследника престола.
Вначале шведское правительство планировало объединить датскую и шведскую короны в одну, но затем от этой идеи отказалось. Находясь под гнетом возраставших бедствий, Швеция пришла к убеждению, что ей следует вновь завоевать благосклонность Наполеона, обратиться к нему за советом и заручиться его покровительством. В Париж отправился молодой шведский офицер, поручик Мернер. Он прибыл как частное лицо, с поручением от своих влиятельных друзей найти для Швеции наследника. Их выбор пал на одного из маршалов, а именно на князя Понте-Корво. Во время кампании 1807 года Бернадот, князь Понте-Корво, сражался со шведами в Померании. Он держался как любезный противник и великодушный победитель. Позднее, в 1808 году, когда русские завоевывали Финляндию, ему было поручено произвести высадку в Сканию. Воспользовавшись неопределенностью инструкций, он не посягнул на шведскую территорию. Это его бездействие, вызвавшее большое неудовольствие в Санкт-Петербурге, положило начало его популярности в Швеции.
Мечтой Бернадота было править. Сначала он прикинулся, как заведено и полагается в подобных случаях, что нисколько не интересуется этим делом. Но затем сдался на убеждения, что без него гибель Швеции неминуема. Несколько часов спустя он был у императора. Бернадот заявил Наполеону, что могущественная партия обратилась к нему с предложениями, и просил разрешения выступить кандидатом на выборах в сейме.
Вначале у Наполеона были принципиальные возражения против избрания кого-либо из маршалов. С тех пор как он понял, что путем брака создал самому себе законное право престолонаследия, он потерял всякое желание плодить королей по всей Европе, тем более из своих подчиненных, и выступил в качестве строгого гаранта наследственного права. Кроме того, он остерегался, что этот прецедент может вызвать цепную реакцию среди маршалата. Тем не менее, несмотря на всю обоснованность и важность этих соображений, он полагал, что через избранного Швецией вождя из среды французов ему, несомненно, будет гораздо легче оказывать давление на эту страну, что позволит отвлечь ее от Англии. Кроме того, Швеция, в случае войны, сможет напасть на врага с фланга и парализовать передислокации его войск. Император полагал, что удар с севера будет вернее, если во главе шведов будет стоять маршал империи, воспитанный в его школе и получивший боевое крещение в большой войне.
Однако Наполеон слишком хорошо знал Бернадота, чтобы полагаться на его характер или его верность. Он ценил военные таланты маршала, но не любил его. «Ни при каких обстоятельствах, — писал Альберт Вандаль, — не встречал он в нем того сердечного порыва, той страстной преданности, какую видел и ценил в других маршалах. Он ставил ему в упрек присущие ему скрытность и неискренность, проявлявшиеся во многих случаях, его резонерский и неподатливый ум, нрав, склонный к оппозиции, — словом, все, что он разумел под рядовым понятием “якобинство”. Осыпав Бернадота милостями и деньгами, он не приобрел его преданности и не раз вынужден был обуздать его непокорный нрав».
Со времени Ваграма Наполеон держал его в полунемилости, что, конечно, не могло ослабить затаенной вражды злопамятного маршала. Вот почему было вполне возможно, что Бернадот, став наследным принцем, а затем королем Швеции, не будет послушным слугой его воли. Наполеон настолько не доверял ему, что одно время подумывал о другом французском кандидате и хотел предложить шведам, просившим у него Бернадота, принца Евгения де Богарне. Но Евгений отказался, не желая менять веры — условие, необходимое для занятия престола в Стокгольме. Пришлось вновь вернуться к кандидатуре принца Понте-Корво, который в этом отношении мало стеснялся.
Принимая во внимание настроения в Санкт-Петербурге, Наполеон для себя решил не оказывать ни явной, ни тайной поддержки Бернадоту. Тем не менее Бернадот был избран, хотя и не без интриги.
Но вернемся к нашему герою. Моро рекомендовал Рапателя преемнику графа Палена на посту российского посла в Вашингтоне — Андрею Дашкову.
Последний, находясь по делам службы в Нью-Йорке, через некоторое время после отъезда Рапателя, нанес визит вежливости Моро.
Генерал выглядел опечаленным. Впрочем, и дом его находился в некотором беспорядке. В прихожей упаковывали сундуки.
— Это готовят багаж моей жены, — объяснил Моро, — завтра она отправляется во Францию на лечение и увозит нашу дочь.
— Значит, вы остаетесь совсем один? — заметил Дашков. — Жаль, генерал, что вы не приняли предложения моего августейшего монарха. Вам было бы хорошо в России и для поправления здоровья мадам Моро, и для образования вашей дочери.
Моро уклонился от прямого ответа, заметив лишь, что он весьма благодарен царю и что одобряет его политику.
— Не считаете ли вы неосторожным, господин генерал, объявление войны Англии, за которое только что проголосовал Конгресс США? Понятно, что британская морская блокада стесняет американскую торговлю, но разве Америке по силам противостоять могущественной британской монархии? — спросил Дашков.
И тут Моро заявил:
— Я бы не посоветовал ни одному из моих друзей, если они, конечно, дорожат своей репутацией, взять на себя командование армией США. Что до меня, то я согласился бы стать во главе только двух армий — французской или русской.
На этом разговор закончился. Но последние слова потрясли Дашкова.
Вернувшись в Вашингтон, русский посол немедленно проинформировал свое правительство о беседе, которую он имел с генералом Моро. В секретной депеше, которую он отправил в Санкт-Петербург, изложив суть разговора, Дашков добавил от себя:
«Если Его Императорскому Величеству было бы желательно видеть у себя на службе генерала Моро, то сейчас настал самый благоприятный момент, чтобы сделать ему соответствующее предложение, так как в связи с отъездом его жены он остался в изоляции и обречен на безысходную и апатичную жизнь, которая может послужить причиной его желания вернуться на военное поприще».
Россия стояла на пороге войны с Наполеоном. Александр I вполне мог положиться на своих военачальников, таких как Барклай-де-Толли, Багратион, Кутузов, Раевский, Ермолов, Платов и многих других, но, вероятно, под впечатлением Аустерлица и Фридланда явно их недооценивал. В начале 1812 года царь так и заявил шведскому военному атташе в Санкт-Петербурге: «В России прекрасные солдаты, но бездарные генералы». Именно поэтому он еще в 1811 году собирался пригласить для командования русской армией Жана-Виктора Моро из США, а в1812 году — герцога Артура Веллингтона из Англии и Жана Батиста Бернадота из Швеции. Вот почему, когда никто из них не согласился, царь долго колебался, опасаясь, что любое из двух возможных его решений (взять ли главное командование на себя или назначить главнокомандующим кого-либо другого: Барклая-де-Толли, Беннигсена, Кутузова…) не приведет к добру. Так русская армия в самое трудное время Отечественной войны надолго оказалась без главнокомандующего.
19 июня 1812 года Моро вместе с Френьером и немногочисленными друзьями стоял на краешке причала и наблюдал, как в море удаляется «Pawliatten». Этот красивый парусник увозил его жену и дочь к берегам Франции. Генерал не знал тогда, что видит семью в последний раз.
О чем думал опальный генерал, вернувшись в опустевший дом в Моррисвиле? Возможно, о том, что не смог завоевать сердце жены; о той ностальгии, которую она испытывала в последнее время? Возможно, он осуждал себя за то, что слишком много путешествовал по Соединенным Штатам, надолго оставляя жену одну? Или слишком много времени отдавал охоте, рыбалке, посещал салоны и общества, обрекая тем самым свою верную супругу, маленькую Эжени, на долгие часы одиночества?
Возможно, он с горечью думал о том, что был старше ее на 18 лет, и если бы он был моложе, то, вероятно, смог бы удержать ее у семейного очага на время ссылки и она не предпочла бы Францию ему?
Через два месяца, в первых числах августа 1812 года, оставив позади бескрайние просторы Атлантики, мадам Моро с дочерью Изабель высадились в Бордо.
Они обратились в префектуру Жиронды, где все были, мягко говоря, удивлены их приездом и не знали, что с ними делать.
— Мы едем на воды в Бареж, — заявила госпожа Моро.
— Нет, — ответили ей, — мы обязаны запросить Париж, какие будут инструкции на ваш счет, а пока просим вас не покидать Бордо.
Госпожа Моро остановилась в гостинице «Hotel de France», где вскоре ее навестил брат, полковник Уло, которому еще не было и тридцати лет, но который уже был на пенсии, потеряв руку и глаз во время сражения при Эсслинге.
Ответ из Парижа был быстрым и жестоким.
Министр полиции Савари, герцог Ровиго, не только запрещал госпоже Моро выехать в Бареж, но более того, приказывал ей немедленно покинуть Францию с первым же кораблем, отправляющимся в Америку.
Как раз в это время в порту Бордо находился парусник «Wilhelm Guster», который готовился к отправке в Нью-Йорк. Комиссар полиции лично явился в гостиницу, где проживала мадам Моро, и потребовал, чтобы она немедленно поднялась на борт корабля вместе с дочерью.
Однако молодая женщина лежала в постели, сказавшись больной. Тем не менее комиссар настаивал. Она отказалась встать. Тогда полковник Уло, врач и американский консул решили заключить сделку.
— Я разрешаю вам пробыть здесь еще несколько дней, — заявил комиссар полиции больной женщине, — но вы подпишете бумагу, что обязуетесь покинуть Францию на паруснике «L'Erie», который через неделю отплывает из Ла-Рошель в Америку.
Мадам Моро подписала все, что от нее требовалось, и даже более того, чтобы успокоить Комиссара, открыто передала капитану корабля «Wilhelm Guster» письмо для своего мужа, в котором она точно сообщала, что покидает Францию и вскоре прибудет в Нью-Йорк на корабле «L'Erie».
Шли дни. «L'Erie» готовился поднять якорь, а мадам Моро не собиралась покидать Бордо. Комиссар занервничал. Он приказывает схватить ее и под конвоем немедленно доставить в Ла-Рошель. Операция была запланирована на следующую ночь. В назначенное время полицейские ворвались в «Hotel de France» и проникли в комнату, которую занимала мадам Моро с дочерью. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что в комнате никого нет!
Один парикмахер предупредил мадам Моро, что за гостиницей следят. Предчувствуя свой арест, Эжени решает бежать вместе с дочерью через окно, выходящее во двор.
Полицейские обыскали весь отель, двор, затем весь город, но никого не нашли.
Несколько недель спустя после этого инцидента секретные агенты донесли министру полиции Савари, что генерал Моро отправляется в Европу, что Рапателя видели в Лондоне, в театре, в ложе известной итальянской певицы Каталани, и что Бернадот, теперь крон-принц Швеции, поддерживает переписку с Моро.
Повышенный интерес французской полиции к судьбе Моро и его семье объясняется тем, что империя переживала грозные времена. Неудачный поход в Россию, заговор Мале и многое другое указывало на то, что трон под Бонапартом зашатался.
Но Моро пока об этом не знал. Он, подобно привычке Наполеона, отмечал булавками на карте Российской империи перемещения французской и русской армий, хотя довольно неточно, основываясь лишь на сообщениях французских и американских газет.
Конец 1812 года был тяжелым испытанием для Наполеона. Не менее тяжелым он был и для Моро. 30 декабря главная газета округа Нью-Йорка «The Federalist» сообщала:
«Утром под Новый год дом генерала Моро в Моррисвиле загорелся от переносной печки. Большинство слуг отсутствовало. Огонь быстро распространился по всему дому. Пожарные бригады Моррисвиля немедленно прибыли на место происшествия, но из-за отсутствия воды не смогли полностью справиться с огнем. Немного мебели и несколько предметов обстановки удалось спасти. Однако библиотека, все книги и деревянный дом сгорели полностью. Ущерб оценивается в 10 000 долларов».
В архивах исторического общества г. Моррисвиль сохранились свидетельства очевидцев этого происшествия, которые утверждали, что в Рождественскую ночь 1811 года видели странного всадника, проезжавшего через их город. Полагали, что это был кто-то из политических врагов Моро и что этот незнакомец поджег дом генерала.
* * *
Какими же горестными должны были быть чувства генерала Моро, сидящего на дымящихся развалинах своего милого дома, глядя на догорающие остатки таких любимых и ценных книг. Это было плохое предзнаменование!
Но вот вскоре в Америку из Европы пришли более веселые новости. Газеты писали, что после трех недель ожидания мира в сожженной Москве Наполеон дал приказ к отступлению.
Искра надежды загорелась в сердце Моро. «Вот, — думал он, — начало заката звезды Бонапарта; моя ссылка не будет вечной».
Мало-помалу газеты стали сообщать о масштабе катастрофы, которую потерпела в России Великая армия «двунадесяти языков». На берегах Дел авара ходили слухи даже о том, что Бонапарт погиб во время отступления.
Вот что сообщает Моро в своем письме от 11 февраля 1813 года Рапателю:
«Удивительные вещи произошли в России. Великий человек явно уменьшился в размерах. Кроме глупости, которую он совершил, пойдя войной на Россию и оставаясь там три лишние недели, и судя по бюллетеням Великой армии и отчету Кутузова, я полагаю, что Бонапарт потерял голову уже в Смоленске, где ему нельзя было задерживаться ни на один день, он тем не менее осмелился перейти Днепр…
Говорят, что Бонапарт погиб. Это самое лучшее, что может быть при данных обстоятельствах.
Тот, кто не имеет храбрости застрелиться, не достоин и толики славы, на которую рассчитывает. Он не генерал, которому приказывают совершать подобные глупости: все, что сделано — совершено по его собственной воле. И вся слава досталась бы ему, если бы он победил, но его ждет позор, презрение и бесчестие, если он выживет в подобных обстоятельствах».
Несколько дней спустя тому же Рапателю Моро пишет:
«Вся русская кампания есть не что иное, как одна сплошная и грубая ошибка…
Мне трудно связать все эти поражения со способом ведения войны, присущим Бонапарту. Он играет в войну, как испорченный ребенок, которому его звезда разрешает все, но, кажется, Полярная звезда направила его по ложному пути».
Кстати, всю русскую кампанию западная пресса окрестила Северной войной — Отечественной войной 1812 г. она называлась только у нас, в России.
Глава IX. ЦАРСКАЯ ДРУЖБА
В конце февраля 1813 года Моро получил письмо от Рапателя. Оно было датировано: Рига, 26 октября 1812 года.
Рапатель сообщал, что был очень тепло принят в России канцлером Румянцевым, а затем и самим царем. При каждой аудиенции с российским императором этот монарх не переставая восхищался и лестно отзывался о герое Гогенлиндена.
Затем Рапатель описывает некоторые детали поражения французской армии в России и быстрый отъезд Наполеона во Францию.
Значит, подумал Моро, Бонапарт не погиб в лесах России; он избежал преследования казаков и вернулся в Париж. Теперь он обязательно соберет новую армию и попытается наверстать упущенное в Германии. А бедная Франция пополнится новыми могилами своих солдат — этими бесполезными жертвами во имя славы диктатора. Она прольет последние капли крови, которыми уже и без того пропитана земля Европы за последние 11 лет непрерывных войн. Весь континент содрогнется в предчувствии новых жертв.
Даже братья Наполеона, ставшие королями по милости императора французов, восстанут против него, объявляя всему миру о его «деспотичной тирании и ненасытных амбициях».
Европейские и американские газеты пестрили сообщениями о том, что Франция может потерять все, даже свою славу, и что она благословит того француза, который освободит ее от ига Бонапарта.
«Я стану ее освободителем, и так как царь предлагает мне свою дружбу, то с его помощью я нападу на Бонапарта в самой Франции», — рассуждал Моро.
И вот он принимает решение, которое, как мы увидим ниже, окажется для него роковым. Генерал пишет Андрею Дашкову и просит передать царю Александру I, насколько он, Моро, тронут его уважением и вниманием, и выражает сожаление, что русской армии не удалось избежать катастрофы 1812 года, «виновником которой и всех бед в Европе и во Франции является один Бонапарт».
Далее Моро продолжает: «Наполеон может причинить еще много вреда, настолько велик его авторитет, построенный на терроре и угнетении слишком слабого и несчастного французского народа.
Для меня не остается сомнений в том, что ему пока удавалось избежать штыков своих униженных солдат и пик ваших казаков. Французские пленные, находящиеся на территории России, должны быть очень недовольны тем, как он с ними обошелся в вашей стране, и мечтают лишь о мести.
Если появится возможность собрать достаточное количество этих несчастных солдат и высадить их на побережье Франции под моим командованием, то я осмелюсь заявить, что от меня Бонапарт не уйдет.
Вместе с тем я помню дело Киберон и знаю, что необходимо предпринять в этой связи».
Здесь Моро имеет в виду неудачную высадку десанта, предпринятую роялистами 27 июня 1795 года на полуостров Киберон, в южной части французской провинции Бретань. Три с половиной тысячи солдат, преданных королю, были доставлены на судах Британского королевского военно-морского флота. В их задачу входило поднять восстание в Вандее. На усмирение восставших был послан революционный генерал Гош, который в ряде кровопролитных стычек к середине июля разбил плохо организованные отряды приспешников короля, взяв 6000 пленных. Только 1700 роялистам удалось спастись на британских кораблях, которые доставили их обратно в Лондон. К марту следующего года восстание было полностью подавлено.
Вообще говоря, в Европе в начале XIX века существовала идея организации таких интернациональных отрядов с целью свержения власти Бонапарта. Так, русский советник-посланник при Наполеоне в период 1808—1812 гг. Александр Иванович Чернышев (1785—1857) полагал использовать в Германии недовольство отдельных групп лиц и разработал план, который был намерен представить на рассмотрение императора Александра I. Основная мысль плана состояла в том, чтобы пригласить в Россию как можно больше находившихся не у дел немецких офицеров, страстно желавших сразиться с Наполеоном и жаждавших реванша. По мнению Чернышева, их можно было бы набрать в тех странах, где они томились от безделья. Присоединив к ним другие космополитические элементы, можно было бы составить из них легион иностранцев, проще говоря, наемников, которые находились бы на содержании царя, то есть отряд эмигрантов всякого происхождения, в некотором роде армию принца Конде. Имелось в виду в момент разрыва с Наполеоном погрузить эту армию на английские корабли и перевезти с оружием, боеприпасами и лошадьми в ганзейские города — Гамбург или Любек с тем, чтобы спровоцировать восстание в Германии. Чернышев вступил по этому делу в переписку с графом Вальмоденом — ганноверцем по происхождению, бежавшим в Вену, человеком с головой и шпагой, готовым сражаться где угодно, с кем угодно, только бы против Бонапарта. Вальмоден сохранил в Германии многочисленные связи еще с 1809 года, когда он по поручению австрийцев занимался там подготовкой восстания. Теперь он предлагал предоставить в распоряжение России этих вполне подготовленных к настоящему делу людей.
Вот что писал по этому поводу уже неоднократно цитированный нами Альберт Вандаль: «Итак, повсюду были пущены в ход всевозможные интриги. Нити их переплетались во многих центрах и тянулись по всей Европе, поддерживаемые перепиской и поездками тайных агентов всякого рода: и состоящие на службе, и добровольцы, лица, надлежащим образом уполномоченные, и получившие молчаливое одобрение по приказаниям из Петербурга и, упреждая таковые, — не покладая рук, возбуждают и поддерживают в народах раздражение против императора французов. Они подвергают искушению верность его генералов и министров, выведывают тайны его канцелярии, эксплуатируют ему во вред чувства законного гнева и преступные слабости людей, чувства священной ненависти и стремления, в которых стыдно сознаться. Все они, предвидя момент, когда императору придется стать лицом к лицу с выступившими за пределы своих границ русскими войсками, изо всех сил стараются подготовить в тылу у него мятежи и всякого рода затруднения, стремятся опутать его интригами и окружить изменниками».
Вместе с тем русская дипломатия развернула охоту не только на Моро. В их поле зрения попал и Жомини, способный военный теоретик, работавший в штаб-квартире Наполеона.
«Чернышев, — пишет далее Альберт Вандаль, — имел тайные поручения и к некоторым лицам из высших чинов главного штаба… он вел правильную осаду на одного генерала, швейцарца Жомини, большого знатока по отделу технических знаний, которого крайне неосторожно оскорбили рядом несправедливостей. Дело шло о том, чтобы похитить его у Франции, привлечь на русскую службу и таким образом хитростью лишить императора одного из самых ученых специалистов».
Основным обидчиком Жомини был не кто иной, как Александр Бертье, начальник генерального штаба французской армии, который, как и Бонапарт, избавившийся от Моро, также мечnал отделаться от своего слишком способного соперника. Что из этого получилось, мы скоро узнаем.
Дашков почти одновременно получил два письма — одно от Моро, другое — от канцлера Румянцева. Последний поздравлял его за удачный визит к Моро и просил как можно скорее организовать приезд генерала в Россию.
Дашков немедленно отправил Румянцеву зашифрованную копию письма Моро, а затем поспешил в Моррисвиль, где генерал пытался восстановить нетронутую огнем часть своего загородного дома.
— Я прибыл к вам по поручению моего августейшего монарха, — сказал Дашков. — Его Императорское Величество с нетерпением ждет вас в России.
— Вы знаете, — ответил ему Моро, — я не могу уехать отсюда, пока моя жена находится во Франции.
— Хочу уточнить, — настаивал Дашков, — что союзные державы воюют не против Франции, а только против одного Наполеона. Мой августейший монарх является гарантом того, что ваша родина обретет свободу в своих естественных границах сразу после низложения Наполеона.
— Я не сомневаюсь в слове царя, — продолжал Моро, — но я считаю более предпочтительным, если бы свобода была завоевана самими французами. Вот почему я говорил вам в своем письме о необходимости формирования французского корпуса из числа военнопленных, находящихся в России и Польше, во главе которого я готов встать в подходящий момент.
— Что ж, генерал, в таком случае я просил бы вас направить мне записку с подробным изложением того, каким образом вы планируете собрать эту небольшую армию ваших соотечественников в России. Уверяю, что ваш меморандум будет без промедлений передан по инстанции нашему канцлеру.
* * *
Так и было сделано. Дашков отправил записку Моро канцлеру Румянцеву 8 апреля 1813 года.
Моро, изложив несколько советов стратегического характера российскому генеральному штабу, предупреждает о предстоящем контрнаступлении Бонапарта с новой армией в Германии.
«Тогда, — пишет он, — наступит момент, удобный для диверсии, которая сокрушит власть тирана». Далее он конкретизирует характер диверсионной акции: «Французские военнопленные должны ненавидеть того, кто бросил их в снегах России в самый критический момент, когда его таланты были им так нужны…
Поручите полковнику Рапателю набрать 30—40 тысяч солдат и офицеров и сосредоточьте этот корпус в секретном месте на берегу Балтийского моря. В этот корпус должно входить достаточное количество российских офицеров, знающих французский язык с целью выявления потенциальных предателей. Таким образом, мы сможем избежать последствий неудачной экспедиции по высадке на полуостров Киберон, когда совместная операция эмигрантов-роялистов и французских военнопленных провалилась из-за того, что сразу после высадки солдаты арестовали эмигрантов и увели их с собой…
Как только эта небольшая армия будет сформирована, вам надлежит перевезти ее на английских, русских или шведских судах к побережью Фландрии в Бельгии, где я буду их ждать.
Что касается будущего правительства Франции, то постарайтесь не говорить ничего определенного. Объявите о ненависти к тирану, о провозглашении мира и гарантии свободы слова».
Относительно самого Моро, то ему для себя ничего не нужно, «лишь бы жить под властью либерального правительства, пожинать плоды своих трудов и вернуть Франции долгожданный мир, спокойствие и счастье».
В этой записке, как правильно заметил в своей книге Эрнест Доде, мы видим уже другого Моро. Это не Моро в 1807 году, отказавшийся поступить на службу страны, находящейся в состоянии войны с Францией. Но вместе с тем он далек и от Франции 1807 года, блиставшей своими победами. Теперь же, в 1813 году, для Франции наступала эпоха поражений и отступлений.
Англо-испанская армия под предводительством герцога Веллингтона изгнала короля Жозефа из Мадрида и продвигалась к реке Бидасоа. Народное восстание готовилось в Германии, а Россия планировала вывести из Азии свои многочисленные контингенты.
Возможно, что Бонапарт, благодаря своему гению, еще долго будет сопротивляться коалиции, но его поражение неизбежно, и чем дольше будет длиться агония, тем более тяжелыми окажутся последствия для самой Франции. Следовательно, полагал генерал, единственным средством спасения родины будет избавление от человека, который вел ее к пропасти. Для достижения результата — все средства хороши, даже сотрудничество с коалиционными державами, которые, впрочем, подтвердили, что их победа над Наполеоном сохранит Францию французам в ее прежних границах.
Вместе с тем не следует забывать, что в рядах союзных армий сражалось много французов, и непредвзятый историк никогда не обвинил бы их в предательстве.
Речь идет об эмигрантах. Начиная с 1792 года они сражались, переносили все тяготы войны и умирали за дело французских принцев дома Бурбонов, а дело Бурбонов не отличалось от дела союзников. «Моя родина — мой король», — говорили они. И в этом их не мучали угрызения совести.
В своей книге «Дуэль Моро — Наполеон» Морис Гарсо пишет: «Того факта, что Моро собирался присоединиться к принцам королевской крови, уже было достаточно для того, чтобы память о нем осталась без клейма позора. Потомки могли бы сказать: “Что ж, он был роялистом”, и простили бы ему этот грех. Но пленник Моррисвиля, либерал по определению и принципиальный республиканец по сути, и думать не хотел о том, чтобы его шпага послужила бы делу графов Прованса или принцу д'Артуа — брату короля. Моро был человеком 1789 года и считал, что идеалы революции предал Бонапарт. Вот почему он, Моро, встал на защиту завоеваний революции, против Бонапарта и присоединился к коалиционным державам только для того, чтобы отомстить Наполеону. Короче говоря, Моро хотел создать параллельно роялистскому диссидентству — диссиденство республиканское, или, по меньшей мере, либеральное. Предал ли он тем самым свою страну? Это вопрос. Изменил ли он своим идеалам? — Конечно нет».
* * *
Прежде чем что-либо предпринять, Моро решил связаться с Бернадотом и открыть ему свои планы. Как раз в это самое время собирался в Европу один негоциант из Филадельфии, приятель Моро, некий Дэвид Пэриш, о двух посланиях к которому мы уже упоминали.
Генерал передал с ним несколько писем: одно для мадам Моро, в котором он просил ее немедленно покинуть Францию; другие были для его братьев и, наконец, последнее, которое Дэвид Пэриш предложил доставить лично, было адресовано королевскому принцу шведскому — Бернадоту.
Вот выдержки из него:
«Мой дорогой генерал,
Я обращаюсь к вам не как к наследному принцу шведскому…
…после бесславного поражения французской армии в России ее главнокомандующему не избежать двойного упрека в глупости и презрении. Оставаясь выставленным на посмешище Европы и лишившись уважения французов, я не представляю себе, как он сможет сохранить свой авторитет, оставаясь одновременно чудовищем, беспокоящим Европу, и тираном, унижающим достоинство Франции…
Момент избавления нашей родины от презренного и наглого узурпатора, похоже, приближается. Но если не остановить катастрофу, то Бонапарт еще может натворить много бед. Несмотря на свое безумство, он тем не менее сражается лучше, чем противники, которые противостояли ему до настоящего времени…
Как вы считаете, возможно ли собрать достаточное количество офицеров и солдат из числа французских пленных, брошенных в России на произвол судьбы, которые озлоблены на то, что Наполеон пожертвовал целыми армиями французов ради собственных амбиций и алчности, истощивших людские ресурсы родины?
Последняя кампания должна добавить презрения и ярости этим людям, и я считаю, что именно они могут послужить ядром и опорой новой революции, которую надо попытаться осуществить как можно скорее.
Я помню результат экспедиции на Киберон, связанный с военнопленными; но сейчас обстановка складывается совершенно по-иному и самым благоприятным образом, чтобы применить этот опыт на практике еще раз…
Если бы волею судьбы моей жене не пришлось отправиться во Францию на поправку своего здоровья, пошатнувшегося из-за здешнего климата, то я давно бы уже был у вас, чтобы найти решение всем этим задачам».
Затем Моро просит Бернадота ответить ему как можно скорее и, если он сочтет необходимым его присутствие в Швеции, отправить за ним корабль.
Наивный Моро, он, конечно же, не знал, что творится в голове Бернадота, этого ярого, как он считал, республиканца, на руке которого красовалась татуировка «Смерть тиранам!» Позднее, во время кампании во Франции в 1814 году, Бернадот доведет свои войска до Льежа, в Бельгии, а далее отправится в Париж один, надеясь, что его попросят стать преемником Наполеона после отречения последнего. Однако ничего подобного не произойдет, так как многие французы сочтут маршала изменником.
Но это в будущем. А пока Дэвид Пэриш, взяв с собой драгоценный пакет с письмами, отправился в Европу и очень скоро оказался в Гамбурге, откуда ему пришлось еще быстрее убраться восвояси, то есть в Нью-Йорк.
И вот он стоит перед Моро, виновато переступая с ноги на ногу.
— Я привез назад ваше письмо к наследному принцу Бернадоту. Мне не разрешили выехать в Швецию. Маршал Даву, командующий гарнизоном в Гамбурге, приказал мне вернуться в Америку.
* * *
Подходил к концу май 1813 года. Время поджимало. «Захочет ли принять меня Бернадот или нет?» — в растерянности думал Моро.
Но вскоре все само собой устроилось, причем самым неожиданным образом.
Мадам де Сталь, находившаяся в Швеции, написала в письме к одной из своих американских подруг, что Бернадот «трубит во все трубы» и зовет Моро.
Герой Гогенлиндена вскоре об этом узнает и сообщает новость в письме Дэвиду Пэришу от 29 мая 1813 года. Генерал пишет, что получил письмо от Рапателя, в котором тот говорит, что Бернадот с января месяца пытается связаться с ним, но его письма, вероятно, были перехвачены. Моро сообщает, что принял решение готовиться к отъезду в Европу. Одновременно он сообщает, что утром встречался со знаменитым Робертом Моррисом (предком известного табачного короля Филиппа Морриса), который из ничего сделал громадное состояние и стал самым богатым человеком в мире. Он сравнивает его с Бонапартом, который из сублейтенанта превратился в императора Франции. В конце письма Моро пишет, что из газет узнал об осаде Люнебурга и что, зная генерала Морана (речь идет о бароне Жозефе Моране (1757—1813), дивизия которого оказалась «забытой» в Шведской Померании в ходе отступления Великой армии из России), никогда бы не доверил ему 35 000 человек.
Узнав, что Бернадот зовет Моро, опальный генерал срочно переписывает свое первое письмо наследнику шведского престола со следующей припиской:
«Я просил вас прислать за мной корабль, если бы вы посчитали мое присутствие необходимым, и передать ваши инструкции через мое доверенное лицо — господина Дэвида Пэриша из Филадельфии. Однако, учитывая, что таким образом я смогу попасть в Европу только к концу сентября сего года, что явно будет поздно, чтобы начать действовать в этом году, я принял решение покинуть США в июне, полагая, что к этому времени моя супруга уже оставит Францию».
Сообщив Бернадоту о «предложениях России» в отношении себя, Моро продолжал:
«Я готов вступить на территорию Франции во главе французских войск, но я не желаю вторгнуться в пределы моей отчизны во главе иностранных солдат. Можете себе представить, каким решительным окажется сопротивление маршалов, генералов и других высших офицеров империи, которых Бонапарт осыпал богатством и наделил землей. Какое правительство должно прийти на смену существующему? Мне не интересны мнения, превалирующие в стране, которая уже в течение десяти лет фактически является королевством.
Что касается меня, то я совершенно свободен и лишен предубеждений, и если нация пожелает возвращения Бурбонов, с которыми меня ничто и никогда не связывало, за исключением подозрений в связи с пресловутым заговором, что ж, я приму с радостью новое правительство, при условии гарантии личных свобод граждан, которые будут обеспечены посредством мощных государственных институтов, ограничивающих амбиции и алчность придворных. Полагаю, что это единственное средство с ними покончить.
Я узнал, что роялисты направили своего агента в Санкт-Петербург, вероятно, в надежде завербовать там некоторых французов. Я не желаю сражаться под их знаменем, которое до сих пор не принесло счастья революции. Впрочем, я никогда не хотел быть орудием чьей-либо личной мести.
Я также с удовлетворением узнал о ходе переговоров между Францией и Швецией, что, по всей видимости, позволит вскоре увидеть вас на стороне тех, кто сражается против Бонапарта. Это было бы очень хорошо для Франции, которая нашла бы в вас поддержку, как только она избавится от вождя, который ее обесчестил…»
Это письмо Моро представляется нам очень важным. Во-первых, потому, что отражает суровую ненависть изгнанника к Бонапарту. Во-вторых, оно подтверждает, что ярый роялист Хид де Невиль, что бы он ни говорил в своих мемуарах, не смог полностью переубедить настоящего республиканца Моро, склонив его на сторону Бурбонов. Генерал признавал возможную их власть только временно, так сказать, на переходный период и только при условии твердых конституционных гарантий. В-третьих, оно ясно свидетельствует о том, что Моро принял решение поступить на русскую службу и вступить в открытую борьбу против Бонапарта. И, наконец, в-четвертых, поступок Моро не обусловлен местью, как часто говорили многие мемуаристы, за свою жену, которая, прибыв в Бордо, подверглась нападкам императорской полиции. Моро еще ничего не знал об этом. Он даже точно не знал, покинула ли она Францию — он всего лишь наделся…
* * *
Несколько дней спустя Моро наконец получает письмо, которое его супруга передала через капитана парусника «Wilhelm Guster». В нем она сообщает мужу, что собирается вернуться в Америку. Она намеревалась подняться на борт корабля «L'Erie», отправлявшегося в Нью-Йорк из порта Ла-Рошель.
Письмо успокоило Моро. «Раз “ L'Erie ” еще не прибыл в Нью-Йорк, — думал генерал, — значит, английская морская блокада все еще заставляет американские парусники делать большой крюк южнее обычных транспортных путей. Во всяком случае, моей жены и дочери уже нет во Франции и мне не стоит более опасаться, что Бонапарт оставит их как заложников».
* * *
Итак, началась подготовка к отъезду. Дашков считал, что генерала Моро должен сопровождать кто-либо, владеющий русским и французским языками. Жан-Виктор сам выбрал молодого военного атташе при русском генеральном консульстве в Нью-Йорке. Им оказался Павел Свиньин, фамилия которого для благозвучия произносилась как Поль де Шевенен и с которым Моро уже хорошо подружился. Русский посол одобрил этот выбор. Оставалось только получить разрешение на выпуск судна из Нью-Йоркского порта у вице-адмирала Кокборна, командира английской эскадры, блокирующей восточное побережье США. Для того чтобы сохранить в секрете отъезд изгнанника, посол Дашков запросил пропуск на имя Поля де Шевенена, который отправляется с весьма важной и конфиденциальной миссией, порученной ему Российским министерством иностранных дел. Так как в то время существовали благоприятные дипломатические отношения между Россией и Англией, то вице-адмирал Кокборн подписал пропуск на имя Шевенена и даже разрешил Дашкову оставить в пропуске пустое место, куда должно быть вписано название корабля.
Оставалось только найти корабль. Это не заняло много времени. Один судовладелец, друг и почитатель Моро, предложил ему лучший из своих парусников — «Hannibal», под командованием капитана Кертиса Блэкмена из Нью-Йорка.
Погрузка прошла быстро, и вскоре Кертис Блэкмен объявил, что готов поднять якорь.
Но прежде чем подняться на борт, Моро оставил для своей жены следующее письмо:
«Милая моя подруга,
Прибыв сюда, ты будешь удивлена, что я отправился в Европу. Обстоятельства складываются самым благоприятным образом для того, чтобы вернуться на родину. Я не хочу, чтобы Франция стала жертвой иностранной оккупации при крушении Наполеона. Вот почему я принял решение помочь ей именно сейчас. Я не знаю, что с ней станет…
Два месяца назад я отправил записку, в которой прошу сформировать небольшую армию из числа французских военнопленных в России, с которыми хочу попытаться высадиться во Франции и стать опорой для всех недовольных существующим режимом. Я хочу, чтобы Бонапарт пал от руки французов — это было бы для них честью.
Здесь будут ждать твоего появления на корабле “ L'Erie ”. Ни разу приказ Бонапарта не доставлял мне столько удовольствия, как тот, что предписывает тебе покинуть Францию.
Один пассажир с парусника “Atlas” сказал, что у него есть твое письмо для меня и что накануне своего отъезда в Байонну он видел, как ты упаковывала чемоданы…
Господин де Невиль тоже хочет ехать со мной и настаивает, чтобы я принял сторону Бурбонов. Я ответил ему, что их дело проиграно. Я не встану под их знамена и не буду сражаться за них, если Франция не желает их правления. Более того, я никогда не призову их снова к власти. Их правление может быть лишь временным явлением при условии гарантии неприкосновенности собственности, приобретенной в результате продажи национального достояния, ряда свобод, необходимых для счастья людей, полной реабилитации всего того, что произошло во время революции, и неприкосновенности существующих рабочих мест…
Я думаю, ты поступишь правильно, если позволит время года и ты не заскучаешь от еще одного морского путешествия, чтобы отправиться в Англию, где найдешь все необходимое, чтобы обеспечить образование Изабель.
Дэвид Пэриш, который три дня тому назад был у меня, прибыл на корабле “Atlas” и привез мне новости из третьих рук. Говорят, что Изабель делает успехи, чем поразила весь Бордо…
Поцелуй ее за меня и не сомневайся в моей нежной и искренней привязанности».
Хид де Невиль предложил сопровождать Моро в Европу, но генерал категорически отказался:
— Мой дорогой друг, вы слишком известный последователь Бурбонов. Видя вас рядом со мной, люди подумают, что я переметнулся на сторону роялистов.
* * *
25 июня 1813 года «Hannibal», на борт которого только что поднялись генерал Моро, его секретарь Френьер и русский сопровождающий Поль де Шевенен, поднял якорь и, выйдя из залива Хелл-Гейт, устремился к берегам Европы. Кстати, Жан-Виктор не забыл взять с собой и самого преданного друга — большого датского дога по кличке Апполон.
* * *
Моро долго смотрел на удалявшуюся от него американскую землю, которая была его домом в течение долгих восьми лет ссылки и в которой навсегда осталось лежать тело его сына.
30 июня в тумане на горизонте появились смутные очертания острова Ньюфаундленд. На следующий день корабль пришвартовался в небольшой гавани для короткой остановки для того, чтобы взять на борт дополнительных пассажиров, груз и пополнить запасы пресной воды.
Во время этой вынужденной стоянки на острове Моро ловил на удочку треску и прогуливался по живописным окрестностям этого сурового, но гостеприимного острова, которому суждено будет через 188 лет за одни сутки принять свыше 150 пассажирских самолетов (аэропорт г. Гандер), возвращавшихся в США во время террористической атаки Америки 11 сентября 2001 г.
Затем в течение долгих дней пассажиры не видели ничего, кроме бескрайних просторов Атлантики. Их путь пролегал уже по проторенному пути из Америки в Европу, но проходил чуть севернее маршрута, по которому через 99 лет, только во встречном направлении, пройдет роковой «Титаник». Было что-то зловещее в этих цифрах, перевернув которые получалось дьявольское число 66. Знал ли Моро об этом? Конечно нет. Предчувствовал ли он беду? Пока нет.
Под килем было четыре тысячи метров, a «Hannibal» как ни в чем не бывало мчался на всех парусах к берегам Норвегии, оставляя за собой лишь маленькую полоску пенящейся морской воды.
Вглядываясь в бесконечную линию горизонта, простиравшуюся на востоке, Моро тоже мчался навстречу своей судьбе. Что даст ему царская дружба? Освободит ли он Францию от ига короля под названием император? Что ждет его в Европе? Сформировал ли Рапатель корпус из французских военнопленных? А что с женой и маленькой Изабель? Эти и многие другие вопросы волновали Моро.
Томительно долго тянулось время однообразного путешествия. Но рядом были друзья, преданный Френьер, разговорчивый русский атташе и, конечно же, капитан.
«Я никогда не забуду тот счастливый момент моей жизни, — напишет позже Поль де Шевенен, — когда во время плавания я с упоением слушал рассказы генерала на разные темы. Его манера выражать свои мысли была по-военному откровенна, но вместе с тем выдавала в нем человека из высшего общества. Он легко и понятно говорил, а начитанность и знания по многим предметам заставляли собеседника слушать его с нескрываемым интересом».
На корабле оказался художник, который во время путешествия сделал последний прижизненный портрет Моро. Некоторые историки путают портрет Моро кисти Барбье де Вальбона, сделанный в 1801 году, сразу после победы при Гогенлиндене, и выдают его за портрет генерала, сделанный незадолго до смерти. На самом деле это не так. Портрет, написанный на корабле, очень точно соответствует действительности. На нем изображен Моро в генеральском мундире. Жану-Виктору уже 50 лет. Он пополнел и от него веет неким американизмом. Под портретом, выполненным в технике эстампа, с трудом читается надпись: Painted during his last passage from America (Написан во время его последнего путешествия из Америки).
Поль де Шевенен в 1814 году издаст в Париже брошюру небольшого формата, как сейчас бы сказали, «pocket book», в которой подробно опишет детали этого исторического путешествия. Позднее Павел Петрович Свиньин (Поль де Шевенен) станет известным в России литературным критиком, будет издавать журнал «Отечественные записки» и по праву заслужит титул «дедушки русских исторических журналов».
В этой книге Шевенен приводит, между прочим, и такую деталь:
«…это путешествие было сопряжено с большой опасностью, так как между островом Исландия и Норвегией парусник “Hannibal” был настигнут жестоким штормом, унесшим его далеко в океан, причем молния ударила в мачту, и на корабле произошел пожар».
Судьба явно противилась возвращению Моро в Европу.
* * *
24 июля 1813 года в виду побережья Норвегии показался британский фрегат «Harmandy», который подошел на довольно близкое расстояние, чтобы произвести досмотр. Его капитан мистер Чатон, узнав, что на борту «Hannibal» находится генерал Моро, прибыл на шлюпке, чтобы его поприветствовать.
Во время разговора Моро выразил сожаление, что был вынужден покинуть Америку до возвращения своей жены и дочери. На что капитан воскликнул:
— Как, мадам Моро? Разве вы не знаете? Она в Англии!
— Вы уверены?
— Абсолютно, и если у вас есть письма для нее, то я их с удовольствием передам.
Кстати, газета «Санкт-Петербургские Ведомости» № 63 от августа 8-го дня 1813 года сообщала (здесь и ниже при ссылках на российские газеты следует принимать во внимание разницу во времени между старым и новым стилем):
«Супруга генерала Моро прибыла 7 июня из Бордо в Фальмут. Она приехала из Америки во Францию для поправления своего здоровья, но, не получив позволения от французского правительства на свое там пребывание, принуждена была удалиться в Англию».
* * *
И вот, избавившись от последней тревоги, которая терзала его сердце, Моро полной грудью вдохнул свежий морской воздух. В нем уже легко улавливался смолистый запах скандинавских сосен.
27 июля 1813 года «Hannibal» пришвартовался в шведском порту Гётеборг.
Моро, Френьер и Шевенен, тепло попрощавшись с капитаном Кертисом Блэкменом, сошли на берег.
Что касается платы за проезд по маршруту Нью-Йорк — Гётеборг, то генералу Моро не стоило беспокоиться. Все расходы взяла на себя российская казна. По крайней мере, так договорился Дашков с судовладельцем, который полностью доверял российскому императору и категорически отказался от какой-либо предоплаты.
Прямо из порта Гётеборга Моро отправил письма, которые он заготовил заранее и в которых извещал Бернадота и Александра I о своем прибытии в Швецию.
«Ваше Величество, — писал он русскому царю, — может рассчитывать на мое желание быть вам хоть в чем-нибудь полезным».
Три путешественника проследовали в приготовленное для них жилье, которое было выделено по приказу Бернадота. Там Моро обнаружил письмо наследного принца шведского с радушными пожеланиями в связи с его приездом в Швецию и просьбой немедля отправляться в Штральзунд.
Штральзунд в то время являлся настоящей столицей Шведской Померании, в которой, в преддверии новой войны с Наполеоном, собирались высшие сановники коалиционных держав.
Но Моро как истинный Водолей поспешал не торопясь. Прежде чем покинуть Гётеборг, он позволил себе отдохнуть там три дня. Во время визита к генералу Иссену, командиру гётеборгского гарнизона, последний встретил его такими словами, сказанными с особым энтузиазмом: «В вашем лице вы привели к нам подкрепление в 100 000 человек».
1 августа 1813 года трое путешественников выехали в город Истад, расположенный в южной части Скандинавского полуострова. В этом городе поджидал специально снаряженный для них корабль, опять же приготовленный по приказу Бернадота. И здесь Моро погостил несколько дней, пока 6 августа днем, миновав за ночь пролив Хамрарне в Балтийском море и оставив на востоке датский остров Борнхольм, корабль наконец причалил в Штральзунде.
В этот момент послышались первые звуки 21-го залпового пушечного салюта, который по приказу Бернадота был устроен в честь своего старого соратника и боевого товарища. Моро в сопровождении военных властей города прошел мимо почетного караула шведских гвардейцев, построенных в две шеренги, и прибыл в королевскую резиденцию, где был тепло принят губернатором Штральзунда вместо Бернадота, которого в данный момент не было в городе.
Только к вечеру, когда подходил к концу торжественный ужин, устроенный в честь Моро прямо в королевской резиденции, прибыл сам Бернадот. Все присутствующие встали при виде, как старые друзья бросились в объятия друг другу. Они не виделись почти 9 лет. Как много им хотелось рассказать! Сколькими тайнами и секретами мечтали они поделиться!
Генералу Моро были отведены комнаты во дворце. Два боевых товарища долго беседовали. О чем они говорили — нам неизвестно. Но мы уверены, что эти два воина могли говорить откровенно — с открытым сердцем. Они были почти одного возраста и разделяли одинаковые взгляды.
Моро, оставаясь республиканцем, был ли он удивлен тем, что в прошлом ярый приверженец республики Бернадот, на левой руке которого красовалась патриотическая татуировка, согласился стать шведским наследным принцем, а значит, вскоре и королем? Полагаем, что нет.
«Да, принц и вскоре король, — подтвердил Бернадот, — но монарх конституционный». Моро не был ярым фанатиком республиканских идей и предпочел не возражать. Вскоре их беседа, вполне вероятно, перешла на военные темы. Как тот, так и другой, но по разным причинам, желали падения Бонапарта. Моро хотел спасти Францию. Бернадот, возможно, уже перестал думать о французах и, позабыв все хорошее, чем он был обязан Наполеону, начал задумываться об интересах нации, которая доверила ему свою судьбу.
Он принял новую религию, чаяния и обычаи шведского народа, а также стал самым ревностным и последовательным союзником Александра I, имея в виду обещания последнего «закрыть глаза» после победы над Наполеоном на присоединение Норвегии к Швеции.
Обладая лишь скудной информацией, почерпнутой из американских газет о положении в Европе после выхода Великой армии из России, Моро с жадностью слушал Бернадота о новой военно-политической обстановке. Он узнал, что Наполеон так поспешно оставил армию в России не из-за того, что «хотел избежать казачьих пик или взбунтовавшихся французских солдат», а отправился в Париж, чтобы восстановить правительство, пошатнувшееся в результате отважного, но неудачного государственного переворота, предпринятого республиканскими генералами Мале и Лаори.
* * *
Для Моро оказалась тяжелой мысль о том, что эти два мужественных человека заплатили жизнью за свое поражение, но в нем все-таки крепла уверенность в том, что в самой Франции существует либеральная оппозиция, готовая использовать любую возможность, чтобы сокрушить власть тирана. Почему бы ему, Моро, не стать вождем этой оппозиции?
«Я отомщу за вас, мои дорогие товарищи — Лаори, Мале, за вас, братья Лекурб, один судья, другой — генерал, за преданность правосудию и дружбе в ходе процесса надо мной. Вы незаслуженно оказались в бесславной опале, — думал Моро, — но ничего, скоро наступит очередь этого злого корсиканца! Он уже перестал быть непобедимым! Наступит час — и он будет повержен!»
Затем Бернадот рассказал, как союзники собираются отомстить «корсиканскому чудовищу».
В феврале 1813 года Пруссия присоединилась к союзу между Англией, Испанией и Россией. Однако Наполеон, быстро собрав новую армию, вернулся в Германию и разбил пруссаков и русских при Лютцене 2 мая 1813 года и при Баутцене 20 дней спустя.
Затем Австрия выступила в качестве посредника, и 4 июня в Плесвице было заключено перемирие, во время которого должны были обсуждаться условия нового мирного договора. На самом деле союзникам нужна была передышка для урегулирования некоторых разногласий, в ходе которой они договорились между собой сначала в Рейхенбахе, а затем в Трахенберге, что еще более укрепило их союз.
* * *
Меттерних от имени союзных держав поставил Наполеона в известность, что мир не будет заключен до тех пор, пока он не откажется почти от всех своих завоеваний.
Услышав это, Наполеон был взбешен, но гнев его оказался напрасным. Все, что ему удалось достичь — лишь продолжения перемирия, в ходе которого союзники, собравшись в Праге, решили изменить свои первоначальные предложения.
Затем Бернадот резюмировал:
«Конгресс, начавшийся 31 июля в Праге, скоро завершит свою работу. Я знаю, что новые требования коалиционных держав будут еще более суровыми, чем предыдущие. Наполеон их отклонит. Тогда Австрия объявит ему войну, и военные действия возобновятся. Война будет кровопролитной. Но ее исход у меня не вызывает сомнений. Англо-испанская армия герцога Веллингтона перейдет реку Бидасоа и атакует средиземноморское побережье и юг Франции. Огромные армии коалиции выдвинутся из Богемии, Венгрии и из глубин России и ускоренным маршем пойдут на запад. Что сможет им противопоставить Бонапарт? Ничего или почти ничего: несчастных мальчиков, отнятых от семейного очага, и стариков — это не настоящие солдаты».
Говоря эти слова, Бернадот еще не знал, что именно с этой армией, состоявшей из стариков и мальчишек, Наполеон покажет чудеса военного искусства во время кампании 1814 года во Франции.
* * *
Бернадот оказал Моро по-настоящему королевский прием. Во дворце в Штральзунде почти ежедневно происходили официальные встречи, приемы, званые вечера. В них принимали участие видные политики, союзные дипломаты и генералы, французские эмигранты из знатных дворянских родов, банкиры и богатые купцы Шведской Померании. Все эти люди, гордясь приглашением на столь почетные мероприятия, с нескрываемым любопытством смотрели на Моро и внимали словам этого известного французского генерала в изгнании, который, как утверждали, срочно приехал из Америки, чтобы отомстить Наполеону. Вся эта светская публика поражалась тому, насколько скромно был одет знаменитый герой Гогенлиндена по сравнению с ними. Темно-синий фрак простого покроя без шитья, галунов, тесьмы и прочих узоров, лишенный звезд, крестов и других атрибутов военных подвигов, резко контрастировал с пышной униформой генералов и богато одетых гражданских лиц. Все они плотным кольцом окружали его, поздравляли, вглядывались в его лицо, задавали вопросы и льстили. А он, со свойственной ему скромностью, отвечал тихим спокойным голосом, мягко отклоняя похвалу в свой адрес и аккуратно обходя слишком прямые вопросы.
— Это правда, генерал, что вы прибыли сюда для того, чтобы взять на себя командование русской армией в борьбе с Наполеоном? — спрашивали его.
— Полагаю, что если она этого захочет, то вместе мы сможем его одолеть, — корректно отвечал он.
* * *
Утром 10 августа 1813 года, прощаясь с Бернадотом и собираясь отправиться в Прагу, где его ждал царь, Моро очень обрадовался, когда увидел Рапателя, который только что приехал из главной штаб-квартиры союзной армии.
— Прибыл в ваше распоряжение, генерал, по приказанию Его Императорского Величества, — отрапортовал полковник.
— Итак, Рапатель, вы выполнили мое поручение? Как идут дела по формированию корпуса из числа французских военнопленных?
— Я только что написал Его Императорскому Величеству, что не могу взять на себя организацию этой миссии, — ответил Рапатель.
— Почему?
— По соображениям чести.
Наверное, Рапатель вспомнил ряд неудачных примеров, которые заставили его усомниться в выполнимости этой задачи, имея в виду, насколько трудно будет убедить пленного французского солдата или, тем более, офицера стать перебежчиком. Ни Моро, ни Рапатель не могли еще понять, какие огромные изменения произошли в сознании французских солдат и офицеров, особенно среднего и младшего звена. Никто из них даже не помышлял о том, чтобы выступить против своего императора, который вел их по дорогам Европы, дорогам славы, от победы к победе. Даже замерзая в снегах России, они умирали со словами на устах — Vive L'Empereur! — Да здравствует Император!
Моро понял, что обманулся, что восемь лет ссылки в ожидании реванша похоронили его надежды и план его оказался химерой. Осознание своей ошибки серьезно огорчило Моро. Если бы он узнал об этом полтора месяца тому назад, то ни за что бы не покинул Америку. Но теперь отступать было поздно.
Тепло простившись с Бернадотом и вручив несколько писем для своей жены Френьеру, который вскоре намеревался отплыть в Лондон, Моро сел в карету вместе с Рапателем и Полем де Шевененом и отправился в Прагу.
Прибытие генерала в Прагу предваряло письмо наследного принца шведского русскому царю, в котором, в частности, говорилось:
«Мой сослуживец и личный друг генерал Моро направляется к вам, Ваше Императорское Величество, и к Его Императорскому Величеству королю прусскому.
Этот генерал известен не только своими добродетелями и талантами, но и гонениями, которыми был подвергнут вследствие своей военной славы…
Надеюсь, он будет иметь счастье быть полезным как Вашему Величеству, так и делу, которому вы посвятили столько усилий».
На всем маршруте следования военные и гражданские власти городов, через которые проезжала карета Моро, оказывали особые знаки внимания и почтения бывшему воину революции, ставшему теперь другом королей и принцев. Шведские офицеры спрашивали его:
— Что вы думаете о тактике Наполеона?
— Это тактика сумасшедшего, — отвечал генерал, — он не сможет больше побеждать, не положив на поле брани массы людей. Сражения, которые он дает, представляют собой настоящую мясорубку.
Прусская столица Берлин приветствовала генерала. На выезде из города путешественники натолкнулись на группу французских дезертиров, которые рассказали: «Мы знаем, что генерал Моро прибыл в Европу и что генерал Бернадот перешел на сторону союзников, но Наполеон запретил всем под страхом смерти говорить об этом кому-либо и даже между собой».
В Олаве давнишний враг Наполеона, Поццо ди Борго, корсиканец по происхождению, а теперь дипломат на русской службе, рассказал Моро о том, что Австрия готовится разорвать союз с Наполеоном.
В Кенигсграце наследный принц прусский оказал почетный прием генералу Моро. Его высочество собирался на смотр вновь прибывших русских войск и предложил:
— Окажите мне честь, генерал, пойдемте со мной на парад. Моро согласился.
По окончании парада генерал заметил:
— С такой армией можно сокрушить кого угодно. Эти войска великолепны!
Кстати, русская пресса, хотя и с опозданием на две-три недели, но с большим энтузиазмом освещала события, связанные с появлением генерала Моро в Европе.
Так, газета «Санкт-Петербургские Ведомости» № 66 от вторника, августа 19-го дня 1813 года в разделе Иностранные происшествия сообщала:
«Берлин, 14 августа нового стиля.
Генерал Моро отправился из Нового Йорка на корабле «Аннибал» 26-го числа минувшего июня, а 6 августа, то есть через 40 дней, прибыл благополучно в Стральзунд, где встретили его с пушечной пальбою и колокольным звоном. Вскоре потом прибыл туда наследный принц шведский (Бернадот). Генерал Моро встретил его у самой кареты. Оба они бросились друг к другу в объятия в знак взаимного и самого искреннего дружества.
Спустя два дня генерал Моро оставил Стральзунд и 10-го числа прибыл в Берлин в сопровождении двух своих адъютантов — полковника Рапателя и Шевенина. Он остановился в трактире «Hotel de Russie» и был принят со всеми почестями, приличными его чину и достоинству.
На другой день был он у принцев и принцесс Королевского Прусского Дома, а потом посетили его: принц Август-Фердинанд, генералы Бюлов, Таунцин и Оппен. В 12 часов отправился он в Российско-Прусскую квартиру в Силезии.
11-го числа прибыл в здешнюю столицу Его Королевское Высочество герцог Кумберландский, который вскоре потом отправился в главную квартиру, куда также приехали Их Королевские Высочества: принц Вильгельм, брат короля нашего, и принц прусский Август».
* * *
16 августа Моро и сопровождавшие его лица прибыли в Прагу. У въезда в город расположился артиллерийский парк русской армии. Моро попросил остановить карету и некоторое время внимательно изучал взглядом выстроенные в несколько рядов зарядные ящики и начищенные до блеска пушки.
— Отличные орудия, — сказал он Шевенену, — теперь мне понятна роль русской артиллерии в последней кампании.
Дипломатический конгресс в Праге закончил свою работу 11 августа 1813 года тем, что полномочные представители сторон не смогли договориться.
Наполеон не ответил в установленный срок на ультиматум союзников, переданный ему Меттернихом, и военные действия возобновились. Поццо ди Борго был прав, сообщив Моро, что Австрия вступит в войну. Так и оказалось на самом деле. Она разорвала союз с Бонапартом и присоединилась к союзникам.
* * *
Прибыв к месту назначения — дому, приготовленному специально для Моро по приказу царя, генерал оставил там свой скромный багаж и, несмотря на усталость, попросил немедленно доставить его к царю.
Но Александр I вместе с австрийским императором находился в театре и не смог его принять. Однако адъютант царя сообщил:
«Генерал, Его Величество просит вас прибыть к нему завтра утром».
Мы не знаем, был ли Моро суеверен, как Наполеон или Пушкин, ни один из его историков не указывает на это. Однако череда неприятных событий, начавшихся с фактического бегства жены и дочери из Америки, пожара дома в Моррисвиле, удара молнии в мачту корабля, на котором Моро следовал в Европу, невыполнение задачи, возложенной на Рапателя, длительное отсутствие Бернадота в момент прибытия Моро в Штральзунд, перенос свидания с царем на один день и, как мы увидим ниже, назначение князя Шварценберга, а не Моро главнокомандующим всех союзных армий — все это, помимо того, что задевало гордость Моро, на наш взгляд, предвещало фатальный исход всей миссии республиканского генерала в Европе.
Мы полагаем, что если бы Моро знал он обо всем этом заранее, он ни за что бы не покинул Нью-Йорк. И по выражению Бурьена, «если бы не иностранная кокарда, опозорившая шляпу героя Гогенлиндена», Моро мог бы оставить о себе самую чистую память.
Но дело сделано. Теперь отступать было поздно.
На следующее утро в момент, когда Моро собирался побриться, кто-то постучал в его комнату.
— Войдите, — довольно громко произнес генерал с оттенком нетерпения в голосе.
Дверь открылась, и в комнату вошел высокий и красивый русский офицер лет тридцати пяти.
— Я русский император, — представился посетитель, — простите за беспокойство. Я решил предвосхитить визит, который вы должны были нанести мне сегодня утром, и сам пришел к вам, чтобы сказать, что я очень сожалею о вчерашнем недоразумении.
Их беседа продолжалась почти два часа и отличалась такой теплотой, что, когда Александр ушел, Моро сказал Шевенену:
— Что за великий человек ваш император!
В тот же день Александр I и Моро посетили императора австрийского Франца, который оказал им великолепный прием.
17 августа Александр I вновь посетил генерала Моро. На этот раз он был в сопровождении короля прусского. По воспоминаниям А.С. Шишкова, Моро был принят «с великою и, можно сказать, излишнею честью: российский император и король прусский, как только услышали о его прибытии, тотчас поехали к нему с поклоном и поздравлениями; ни Румянцеву, ни Суворову, ни Кутузову не было никогда оказано подобной чести».
Затем царь представил Моро своим сестрам — Екатерине Павловне, герцогине Ольденбургской, и Анне Павловне, герцогине Веймарской. Они высоко оценили этого пятидесятилетнего француза, чья скромность, спокойствие и простая одежда сильно контрастировали с нарядно-элегантной выправкой офицеров в богатой униформе и шитыми золотом мундирами придворных, собравшихся в Праге вокруг трех могущественных суверенов.
Моро был особенно тронут сердечными комплиментами, одухотворенной, грациозной и красивой Екатерины Павловны, герцогини Ольденбургской.
Еще во времена, связанные с ее скоропалительным замужеством, Жозеф де Местр, описывая ее, впадает в галантный и витиеватый тон царедворцев XVIII века. «Если бы я был художником, — пишет он кавалеру де Росси, — я послал бы вам только ее глаз; вы увидели бы, сколько ума и доброты вложила в него природа».
В последующие дни Моро виделся и говорил с великой княгиней несколько раз. В одной из бесед она ему сказала:
— Не оставляйте вашу жену и дочь в Англии. Пусть приезжают в Россию. Здесь они будут под нашим покровительством и найдут свое счастье.
И вот Моро, этот спокойный Моро удивлялся самому себе, с какой теплотой и страстью благодарил он княгиню Екатерину Павловну за эти слова.
19 августа 1813 года Александр I выехал из Праги в расположение штаб-квартиры союзных армий и на следующий день пригласил туда Моро, Рапателя и Шевенена.
В этой связи представляют интерес мемуары графа де Рошешуара, офицера свиты князя Волконского — начальника штаба Александра I. Несмотря на то что не всему в них можно верить на слово и они изобилуют явными неточностями, тем не менее эти документы, написанные рукой современника, причем на русском языке, представляют живой интерес, так как передают атмосферу последнего этапа жизни Моро, связанного с Россией.
В своих мемуарах граф де Рошешуар называет Моро фельдмаршалом на русской службе, хотя этого назначения Александр так и не успел сделать. Черный юмор Моро сквозит и в этом довольно одиозном документе.
«Мне неоднократно приходилось беседовать с маршалом Моро, — пишет Рошешуар, — я говорю “маршалом”, потому что император Александр пожаловал ему звание фельдмаршала, приняв его на русскую службу. Славный генерал сохранил привычку несколько грубой откровенности. На следующий день после моего посещения государь устроил в его честь парадный обед; на обеде присутствовала вся военная свита и несколько генералов — австрийских и прусских. По правую руку императора сидел князь Шварценберг, по левую — Моро; государь во время обеда взял один из графинов, чтобы налить себе вина. Новый маршал вдруг схватил его за руку: “Государь, не пейте, это яд. Вино, которое я сейчас выпил, или скверная подделка, или в нем находится какая-нибудь ядовитая примесь, выдаваемая его отвратительным вкусом”. Император громко рассмеялся и, обратившись к гофмаршалу, сказал: “Граф Толстой, вы слышите? Однако этим самым вином вы угощаете меня уже несколько дней”».
Представляется очевидным, что если бы Александр принял на себя командование армиями коалиции, то Моро получил бы звание фельдмаршала и соответствующую должность. Однако по просьбе Австрии главное командование было поручено австрийскому фельдмаршалу Шварценбергу — осторожному и медлительному командиру, который, как многие считали, не очень-то хотел иметь своим первым заместителем генерала, который с таким триумфом разбил австрийскую армию эрцгерцога Иоанна 13 лет тому назад в знаменитом сражении при Гогенлиндене.
Вот что пишет в этой связи уже цитированный нами Роше-шуар: «Император Александр, ведя переговоры с Австрией о вступлении в коалицию, предложил назначить Моро генералиссимусом (имеется в виду главнокомандующим всех коалиционных армий. — А. З.). Таким образом, ничье самолюбие не было бы затронуто. Он напомнил о славных боевых заслугах знаменитого полководца; но князь Меттерних потребовал, под угрозой разрыва, чтобы это звание было предоставлено князю Шварценбергу. Император выразил свое сожаление Моро, и тот ему ответил: “Государь, я понимаю нежелание Австрии; если бы ваше величество сделали мне честь переговорить со мной раньше, я посоветовал бы вам принять на себя главное командование; в этом случае невозможны были бы никакие возражения. Я был бы вашим генерал-майором, и военными действиями руководило бы одно лицо; теперь мне остается только предложить вашему величеству советы, внушенные моей старой боевой опытностью. Да будет нам Бог на помощь!”»
Таким образом, Моро оказался в роли военного советника и друга царя при генеральном штабе армий шестой коалиции. Его гражданская одежда ничем не указывала на то, что носивший ее был военным человеком, хотя Моро находился на боевом коне и всегда старался быть рядом с царем. В этом смысле, по крайней мере, внешне, он чем-то напоминал Пьера Безухова из «Войны и мира» Л.Н. Толстого или генерала Пиктона из кинофильма «Ватерлоо» С.Ф. Бондарчука и Дино де Лаурентиса. Но Пьер Безухов был гражданским лицом и выглядел по меньшей мере странно во время Бородинского сражения, на которое приехал посмотреть. А вот генерал-лейтенант лорд Томас Пиктон здесь более уместен для сравнения. Этот военачальник британской армии носил гражданскую одежду, хотя и был командиром прославленной 5-й пехотной дивизии, состоявшей преимущественно из ветеранов. Пиктон был тяжело ранен при Катр-Бра, но отказался от лечения. Два дня спустя во время битвы при Ватерлоо в самый разгар атаки I корпуса Друэ д'Эрлона пуля попала ему в голову, пробив головной убор — высокий цилиндр, который он носил. Лорд Пиктон умер в рядах своей любимой 5-й дивизии.
Та же участь, но более жестокая, ожидала и Моро, но об этом он пока не знал.
Газета «Санкт-Петербургские Ведомости» № 67 от пятницы, августа 22-го дня приводит обширную биографию генерала Моро. Начиная с его детства и студенческих лет, она дает перечень сражений и кампаний, в которых он участвовал, описывает первую встречу с Бонапартом в Париже; несправедливый процесс Моро, связанный с пресловутым заговором Кадудаля; и, наконец, завершает статью такими словами: «Появление Моро, в котором Наполеон имеет опасного соперника, произведет сильное действие над офицерами и солдатами французской армии и умножит то неудовольствие, которое они тайно питают в себе против Наполеона».
* * *
Между тем Моро продолжает участвовать в парадах, смотрах, военных советах. Его видят неразлучно с царем. Александр расспрашивает его, советуется, консультируется с ним, пытается примирить его с главнокомандующим, планы и приказы которого Моро не всегда одобряет.
На самом деле Моро хотел, чтобы союзными армиями командовал Александр, а он, Моро, был бы начальником его генерального штаба. До Дрезденского сражения этот вопрос так и остался открытым.
«Симптоматично, — пишет Н.А.Троицкий, — что в один день с Моро приехал в Прагу и генерал Жомини, бывший начальник штаба у маршала Нея, уже тогда авторитетный военный теоретик, перешедший теперь на русскую службу».
«Мы, русские, несказанно ему обрадовались, — вспоминал А.И. Михайловский-Данилевский, — ибо все, от государя до последнего офицера, почитали его своим учителем».
Дэвид Чандлер, известный английский военный историк, вспоминал, что после сражений при Лютцене и Баутцене Ней представил Жомини к званию дивизионного генерала, но Бертье, всегда завидовавший ученым талантам последнего, арестовал его под предлогом непредставления двухнедельного отчета о состоянии армии. Это событие подтолкнуло Жомини перейти на сторону союзников 15 августа 1813 года (кстати, в день рождения Наполеона).
Граф де Рошешуар в своих мемуарах пишет по этому поводу: «Одновременно с Моро прибыл генерал Жомини и также предложил свои услуги императору Александру. Родившийся 6 марта 1779 года в Пайерне, в кантоне Во, он дослужился до чина бригадного генерала во французской армии, помогал генералу Эбле в постройке моста через Березину и сделался после начальником штаба маршала Нея. Наполеон не произвел его в дивизионные генералы, на что он считал себя вправе; тогда Жомини явился к нам в штаб-квартиру; император оставил его при себе… Благодаря своей опытности и знанию военного дела, он оказал большие услуги союзной армии».
Царь сразу же присвоил Жомини звание генерал-лейтенанта, что соответствовало званию дивизионного генерала во французской армии, и назначил его своим адъютантом и военным советником. Жомини надолго останется в России и станет учителем сыновей Николая I.
Французские историки XIX века восклицали: «Казалось, что только французы способны побеждать французов!» Все три «дезертира» (Бернадот, Моро, Жомини), как ругал их Наполеон, советовали союзникам одно и то же: «Избегать столкновений с противником там, где руководит сам Наполеон, а стараться бить отдельных его маршалов… Если же связываться с Бонапартом, то не иначе, как с громадным превосходством сил».
Отныне союзники будут следовать этим советам неукоснительно.
* * *
Но вернемся к нашему герою. Рассказывают, что когда Жомини встретил Моро в русском лагере, он с горечью назвал его предателем родины. Эта заметка, опубликованная в одной английской газете, очевидно, является фальшивкой. Нельзя утверждать, что этот гений стратегии мог осмелиться оскорбить личного друга царя. Впрочем, хотя Жомини и был швейцарцем, он все равно считался перебежчиком, и преданность не была главным его качеством.
Однако зададимся другим вопросом. Почему возникла дружба и полное взаимопонимание между царем и генералом Моро?
Полагаем, во-первых, потому, что в то время молодой суверен был увлечен идеями либерализма, чему Моро посвятил всю свою жизнь, начиная со студенческой скамьи. Во-вторых, оба они принадлежали к одному и тому же тайному обществу: они были масонами. Однако этого недостаточно, чтобы объяснить дух доверия и взаимопонимания, возникшего при первой встрече. Похоже, в их дружбе, как это часто бывает в любви, была скрыта какая-то тайна.
Среди французских историков общепринято считать, что именно Моро был идеологом стратегической формулы, принятой союзниками, а именно — избегать сражений с самим Наполеоном, а бить только его маршалов. Нам это положение представляется сомнительным.
Этим идеологом был Бернадот, который на переговорах в Трахтенберге, то есть еще до прибытия Моро из США, предложил эту стратегию генеральному штабу союзных войск. Стратегия эта, как мы увидим ниже, в начальной стадии ее применения оказалась неэффективной. Наполеон не был тем полководцем, который мог позволить навязать себе стратегию врагов. А неприятельские генералы не могли выбирать — принимать сражение или нет.
Тем не менее энтузиазм от прибытия Моро в стан союзников проявлялся и во французской армии.
Вот что сообщала столичная газета «Санкт-Петербургские Ведомости» № 68 от вторника, августа 26-го дня 1813 года:
«Известие, что наследный принц шведский и генерал Моро прибыли в Германию, начинает уже, как пишут в публичных “Ведомостях”, действовать при французской армии и даже над офицерами. Французы в Дрездене пили за здоровье сих героев и навлекли на себя гнев Наполеона, который, однако ж, не смел наказать их. Также в Лейпциге 30 офицеров пили за здоровье генерала Моро и были за то тамошним комендантом арестованы. Но как после того многие другие офицеры принесли к нему добровольно свои шпаги, то Дюк де Падуа принужден был освободить взятых под стражу и просить прочих офицеров, чтобы они опять взяли свои шпаги».
Вот что пишет Рошешуар о своем первом знакомстве с Моро (в цитатах мы стараемся сохранить старую орфографию, в надежде, что так читатель лучше почувствует дух той эпохи. — А. З.): «Вечером 17 августа… мой товарищь, полковник Рапатель, флигель адъютант, сказал мне: “Друг мой, я хочу вас представить знаменитому соотечественнику, моему бывшему начальнику. Я остался верен ему, несмотря на постигшую его опалу и разделил с ним изгнание; я говорю о генерале Моро, только что прибывшему из Америки, имея в виду воспользоваться обстоятельствами, каких можно ожидать, и вернуться на свою дорогую родину, чтобы поселиться там при законном правительстве, во всяком случае более отеческом, чем существующее сейчас”. Я с удовольствием принял предложение и отправился вместе со своим сослуживцем к славному генералу, доказавшему свои блестящие военные дарования во время первых войн революции и единственно способным во всей Европе бороться с Наполеоном. Как только Рапатель меня назвал, Моро сказал мне: “Я очень рад, любезный Рошешуар, встретиться с вами здесь. Тут место для человека с вашим именем, но не подле узурпатора; впрочем, он получит вскоре должное возмездие, им заслуженное”. Велико было мое удивление, должен сознаться, когда я услыхал подобные слова из уст человека, которого считал убежденным республиканцем!»
* * *
У Наполеона в Германии было сосредоточено около 250 000 солдат, дислоцированных вдоль левого берега реки Эльба, которые использовали ее в качестве естественной преграды. Войска коалиционных держав — России, Пруссии, Германских государств, Швеции и Австрии — насчитывали в общей сложности около 500 000 человек и были сгруппированы в три основные армии: Богемскую под непосредственным командованием князя Шварценберга, Силезскую армию под командованием фельдмаршала Блюхера и Северную — под командованием крон-принца Бернадота. Им противостояли соответственно: первой — маршал Гувьон Сен-Сир, второй — маршал Мармон и генерал Лористон и третьей — маршал Удино.
Прежде всего Наполеон атаковал Силезскую армию Блюхера и вынудил его отступить за рубежи рек Бобер, Катцбах и Лауэр. Одновременно Богемская армия четырьмя колоннами преодолела Рудные горы и вступила на территорию Саксонии. Но войска продвигались настолько вяло, что нетерпеливый Моро заявил царю: «Медлительность Шварценберга будет стоить нам потери всей кампании. Теперь мне ясно, почему в течение семнадцати лет вы так часто терпели поражения».
Моро был прав. Излишняя осторожность Шварценберга дала Наполеону время для маневра. Отбросив Блюхера, Наполеон пошел на помощь Гувьону Сен-Сиру, который отступал на Пирну и Дрезден.
26 августа в 9 часов утра Наполеон вошел в Дрезден. Через час подошла императорская гвардия. Но Мармон и Виктор прибыли уже к ночи, опоздав к дневному сражению.
* * *
Самое подробное описание Дрезденского сражения мы находим у барона Фэна, первого секретаря военного кабинета императора. Небезынтересные мемуары этого автора мы и рекомендуем нашим читателям (Baron A.J.F. Fain, Memoires (Paris: 1884, vol. II). Здесь же приведем лишь конспективно основные вехи кровавой двухдневной битвы, в результате которой пал наш герой.
Утром 26 августа у Наполеона было 70 000 строевых, включая гвардию, а к началу следующего дня к нему подойдет подкрепление, что доведет численность французской армии до 120 000 человек.
В 1813 году Дрезден еще сохранял черты средневекового города, причем основная масса застройки находилась на левом берегу реки Эльбы, примыкавшая к Старому городу, отделенному от нее рвом и древней городской стеной. На правом берегу стоял меньший по размерам Новый город, также окруженный рвом и валом. Незадолго до сражения оба города были укреплены дополнительными фортификационными сооружениями. В форте Марколини и на высотах над Новым городом были установлены мощные артиллерийские батареи. За линией предместьев построены пять земляных редутов. Юго-восточная часть города была защищена большим парком Гроссгартен со сплошными стенами, а все улицы, расположенные вдоль края предместий, были забаррикадированы, а в домах проделаны дополнительные бойницы.
«26 августа, в первый день битвы при Дрездене, — пишет Рошешуар, — атака опять началась слишком поздно и недостаточно энергично. Все-таки союзная армия захватила два редута, расположенные между воротами фрейбургскими, диппотисвальденскими и пирнскими… Вместо посылки время от времени подкреплений, только поддерживавших сражение, не приводя ни к какому результату, необходимо было произвести сразу атаку по всей линии, всеми наличными силами. Фельдмаршал Моро, видя безплодность таких усилий, сказал царю: “Что такое делается? Отчего не наступают? Судя по вялости обороны, Наполеона здесь нет, и мы имеем дело только с частью его армии”.
Император Александр, пораженный справедливостью замечания, провел Моро к генералиссимусу, чтобы тот повторил ему свои слова. Австрийский генерал стал приводить очень слабые возражения в оправдание медлительности своих действий, объясняя ее благоразумием; наконец, прижатый к стене, заявил: “Мы не хотим разрушать Дрезден!” — “Ах, вот как! — воскликнул победитель при Гогенлиндене. — Однако, князь, когда ведется война, это делается не для того, чтобы щадить врага, а чтобы причинить ему как можно больше вреда. Зачем было в таком случае подступать к городу? Надо было избрать другое поле сражения. — Разгорячившись, видя равнодушие, с каким принимались его советы, он воскликнул, бросив об землю шляпу: “Ах, черт возьми, князь, теперь я уж не удивляюсь, что семнадцать лет подряд вас везде бьют!” Мы все слышали эти слова. Можно себе представить произведенное ими впечатление. Император постарался успокоить Моро, отвести в сторону, а он, отходя, добавил следующее предсказание: “Государь, этот человек погубит все дело!”»
26 августа утром австрийцы одновременно атаковали Дрезден и Пирну, однако крепкие стены Дрездена извергали смертельный огонь, который заставил их остановиться, а Пирна, на короткое время захваченная австрийцами, вскоре вновь перешла в руки французов благодаря штыковой атаке Старой гвардии.
Вот как описывает ее командан Анри Лашук в своей книге «Наполеон и Императорская Гвардия»: «Ворота открываются перед Дюмутье, Тиндалем, Камброном, Жуаном и их идущими в атаку вольтижерами. Огонь со стен прикрывает их выход. У Пирнской заставы дивизия Дюмутье устремляется на врага, но при выходе из-за палисадов барабанщики 3-го полка тиральеров перестают выбивать сигнал атаки. Кто скомандовал “Стой”? Никто — просто очередной шквал картечи разбил все барабаны. Дивизия Барруа беглым шагом захватывает русские позиции, находящиеся перед Пирнскими воротами, и занимает Гроссгартен».
Свита царя вела наблюдение за Дрезденом с Ракницких высот. Когда из города послышались грозные крики Vive L’Empereur!, стало ясно, что Наполеон прибыл в Дрезден. Царь считал необходимым немедленно отменить операцию в соответствии с принятым соглашением уклоняться от боев лично с Наполеоном. Австрийский император отказался высказать свое мнение, а прусский король, проявивший свою некомпетентность еще в 1806 году, высказался за немедленное продолжение сражения с Наполеоном при таком замечательном численном превосходстве, которое имели армии союзников. Но царь настоял на своем, и приказ был отдан Шварценбергу отложить главную атаку. Дэвид Чандлер пишет в этой связи: «…прохождение приказов вниз по иерархической лестнице было медленным, и, прежде чем успели передать на места это новое решение, послышался тройной залп — сигнал к началу штурма; массы союзнических армий пришли в движение, пока их пришедшие в ужас командующие, не веря своим глазам, смотрели в подзорные трубы и ругались на чем свет стоит».
Уже цитированный нами Анри Лашук в другой своей книге «Наполеон. Двадцать лет кампаний» продолжает: «…было около четырех часов пополудни… войска Шварценберга двинулись к городу пятью колоннами. На правом фланге 1-я колонна графа Витгенштейна повела демонстративную атаку со стороны Блазевица и Штризена, далее 2-я колонна Кляйста из II прусского армейского корпуса также производила демонстрацию, наступая от Штрелена на Гроссгартен и дальше к внешней границе города между Пирнскими воротами и Донауской заставой. В центре, наступая от Ракницких высот вдоль дороги из Диппольдисвальде, атаковала 3-я колонна генерала Коллоредо, а левее ее, двигаясь через селение Плауэн, — 4-я колонна генерала маркиза де Шателера, состоявшая из отборных австрийских гренадеров 1-й резервной дивизии… На левом крыле союзников, через селение Лебтау, наступала 5-я колонна графа Дьюалаи».
Сражение разгоралось по мере того, как к Наполеону подходили все новые и новые подкрепления. С обеих сторон слаженно работала артиллерия. Через час город запылал от разрыва бомб, выпущенных из гаубиц.
Весь день 26 августа Моро провел в седле, держась рядом с императором Александром I и королем прусским, постоянно совершая рекогносцировки местности, следя за движениями корпусов и выбирая пункты атаки. План Наполеона состоял в охвате своим левым и правым флангом всей Богемской армии. С этой целью он направил корпус Вандамма в Петерсвальд с задачей опрокинуть правое крыло Богемской армии, а корпус Мюрата — в Мариенберг с приказом атаковать левое крыло союзников. Затем Наполеон сосредоточил большую часть своей артиллерии прямо напротив центра Богемской армии.
В ночь на 27 августа наступило некоторое затишье, но с рассветом, несмотря на сильный дождь, который продолжался трое суток без перерыва и о котором не забудут все участники Дрезденской битвы, взаимные атаки возобновились с удвоенной силой. План союзников на этот день состоял в сосредоточении в центре двух третей своих сил. Генералы Бианки и Витгенштейн примерно с 25 000 солдат у каждого должны были остаться для удержания левого и правого флангов.
* * *
Однако ожидалось, что прибытие корпуса Кленау усилит левый фланг к северу от реки Вайсериц. Со своей стороны, Наполеон спланировал сдерживающее действие в центре и двойной обход флангов противника, причем обход левого фланга союзников должен был быть тесно связан с более широким наступлением Вандамма, который должен был перерезать их коммуникационные линии и в районе Петерсвальде. «Для этой цели, — пишет Дэвид Чандлер, — был использован буквально каждый солдат. Мюрат с 35-тысячным корпусом (Виктора и Латур-Мобура) был поставлен на правом фланге французов; Мармон и Сен-Сир имели приказ удерживать центр силами 50 000 человек, поддерживаемых единственным французским резервом — пехотой Старой гвардии; Ней и Мортье, при поддержке кавалерии Нансути, сосредоточили 35 000 оставшихся на левом фланге войск, большей частью принадлежавших к гвардии».
Атака французов против правого фланга союзников началась в 6 часов утра. Мортье и Нансути, при поддержке Нея, быстро вытеснили промокших и упавших духом солдат Витгенштейна из леса Блазевица и начали теснить назад правый фланг линии союзников.
Анри Лашук пишет: «Утром дождь настолько сильный, что невозможно зарядить ружье. Теперь слово пушкам, а дело — саблям. Мюрат со своей кавалерией, поддержанной кавалерийскими частями гвардии, опрокидывает левый фланг неприятеля к Штаделю и Корбицу; в центре армейские корпуса подаются вперед. На левом фланге французов бой возобновляется благодаря гвардейской артиллерии, которая успешно поддерживает огнем наступательное движение».
С 7 до 10 часов утра обе стороны ограничивались артиллерийской подготовкой. В одиннадцатом часу в атаку пошла Молодая гвардия. Зайдниц был взят гвардейскими вольтижерами в 11.15 утра. Сам Наполеон прибыл к этому пункту. Но по пути туда он едва не погиб от вражеского ядра, упавшего у ног его лошади. «Этот случай, — пишет Анри Лашук, — только поднял настроение императору, видевшему, что войскам его левого крыла сопутствует успех».
Богиня победы в тот дождливый день была явно благосклонна к французскому оружию, особенно на правом фланге армии Наполеона, где, собственно, и решился исход сражения. В двенадцатом часу дня Виктор пошел в атаку западнее высот Лёбау и атаковал первую линию австрийцев. Три батареи конной артиллерии, прикрытые тиральерами, находились впереди атакующих колонн корпуса Виктора и картечным огнем расчищали им путь. К атаке готовились кавалерия Латур-Мобура и кирасиры Бордесуля.
У городской черты фасом на юг Наполеон сосредоточил свыше 100 орудий, которые с самого утра вели интенсивный обстрел позиций союзников, совершая минимум по 2 выстрела в минуту. Им, как могли, отвечали австрийские, русские и прусские пушки Богемской армии.
С самого утра этого злополучного дня Моро в сопровождении Рапателя и Шевенена, «в высокой форменной шляпе, в сапогах со шпорами и плаще, накинутом поверх темно-синего фрака», не обращая внимания на дождь, который продолжал лить как из ведра, находился на различных пунктах позиции союзной армии. Ближе к полудню он стал искать царя, чтобы сообщить ему о сделанных им наблюдениях. Моро нашел его чуть поодаль от прусской батареи, которая попала под интенсивный огонь французской артиллерии. Царя сопровождали сэр Катхарт и сэр Роберт Вильсон, а также дежурный эскадрон казаков. Вокруг них чугунным дождем падали французские ядра, разбрызгивая липкую грязь во все стороны и сея смерть среди прусских артиллеристов.
— Ваше Величество, — заметил ему Моро, — вы напрасно подвергаете себя опасности.
— Пожалуй, вы правы, — ответил царь и, не торопясь развернув своего коня, направился в тыл за англичанами, а казачий эскорт повернулся кругом и последовал за государем.
Напрасно Моро тревожился о царе. Смерть поджидала не Александра. Так сложилось, что французские ядра не задели ни одного иностранца из свиты царя. Их жертвой стал единственный француз в окружении Александра I. И этим французом оказался Моро. В момент, когда генерал почти догнал свиту царя, французское ядро, летевшее навесом сверху, попало в левую ногу и, раздробив колено, прошло сквозь грудь лошади, оторвав на вылете икру правой ноги Моро.
Падая, Моро воскликнул: «Это смерть!»
Услышав встревоженные крики офицеров свиты, Александр обернулся:
«Моро ранен!» — воскликнул он.
* * *
Оставаясь на довольно значительном расстоянии от российского императора, Рапатель и Шевенен, тем не менее, увидели падающего Моро и пробитую насквозь его лошадь. Они галопом помчались к своему генералу. Моро лежал на земле без сознания, наполовину придавленный мертвым животным. По приказу Александра казаки эскорта спешились, освободили раненого и уложили его на импровизированные носилки из пик, чтобы доставить его к ближайшему укрытию.
Вот как эта сцена описана у Рошешуара: «Мы начали знаменитое отступление, вскоре превратившееся в общее бегство. Император Александр, окруженный слишком многочисленным штабом, привлекал на себя внимание неприятеля; около часу французская батарея сделала по нас несколько залпов, произведших среди нас большое смятение; маршал Моро сказал царю: “Государь, в вас стреляют, ваша особа слишком полезна, чтобы рисковать собой, в особенности теперь, когда приходится отступать благодаря ошибкам, совершенным вчера, сегодня ночью и даже сегодня утром. Умоляю ваше величество избегать опасности, совершенно безславной и способной привести к последствиям, который погрузят в отчаяние ваших подданных и союзников”. Император понял, что делать нечего, повернул лошадь и сказал: “Едем, фельдмаршал”. В эту минуту ядро, выпущенное с очень близкой французской батареи, поразило Моро в левое колено, пронзило лошадь и оторвало икру правой ноги. Рапатель, беседовавший со мной, бросился поднимать своего старого генерала; я также подошел и услыхал его слова: “Умираю! Умираю!” Потом он потерял сознание. Император стоял неподвижно, пораженный сильным горем; пять или шесть ядер снова упали среди нас; тогда мы увлекли государя вместе с раненым за небольшой пригорок в нескольких шагах… Наскоро устроили носилки из ветвей и плащами прикрыли раненого от проливного дождя».
Пока его несли, генерал пришел в себя и сказал Рапателю, который шагал рядом:
— Друг мой, я погиб.
Через разорванные сапоги потоком лила кровь. В крестьянской избе, куда его принесли, наскоро перевязали страшные раны. Это убежище не было очень надежным, так как и сюда долетали французские ядра.
— Моро нельзя здесь лечить, — заявил царь, — отправьте его в мою штаб-квартиру.
Так и было сделано. Одновременно царь приказал послать за главным хирургом — доктором сэром Джеймсом Виллие, тем самым, который в 1801 году подписал лживый документ, извещавший о смерти Павла I от апоплексического удара.
Когда принесли раненого, все уже было готово к его приему.
Доктор внимательно осмотрел раны. Услышав, что ему собираются ампутировать левую ногу выше колена, Моро сказал:
— Дайте мне сигару.
Ему принесли. Он закурил и сделал несколько глубоких затяжек.
— Я готов, — произнес генерал.
Скальпель разрезал мышцы и сухожилия, затем по кости заскрежетала медицинская пила, мало чем отличавшаяся от современной ножовки.
Ногу отняли. Наложили бандаж и повязку на культю. Моро курил молча, бледный, крупные капли пота стекали по его лбу. Страшная боль. Никакой анестезии. Ему предлагали водки перед операцией, но он отказался.
Доктор Виллие осмотрел еще раз другую ногу. Немного подумав, он нахмурил брови.
Моро посмотрел на врача.
— Вы хотите ампутировать и эту? — воскликнул он. — Что ж, давайте, только быстро.
Вторая нога упала. Моро постоянно курил, бледнея с каждой минутой.
Подошел растроганный царь, наклонился над ним, и Моро произнес:
— Ваше Величество, осталось только туловище, но в нем сердце, и оно принадлежит вам.
Дождь не переставая стучал по окнам. Наступала ночь, дул сильный ветер, и на небе не было звезд. С передовой были получены плохие новости. Александру доложили, что, видя угрозу обхода армии с флангов и потеряв связь с Силезской армией, князь Шварценберг дал приказ об отступлении. Придется снова уйти за Рудные горы по размокшим плохим дорогам, покинув Саксонию.
Что делать с раненым? Оставить здесь — значит отдать его Наполеону. «Мы возьмем Моро с собой», — решил царь. Быстро соорудили крытые носилки из полотняной ткани и положили на них раненого. Были назначены 40 хорватских солдат, которые понесут Моро через горы, сменяя друг друга, а также им был придан кавалерийский эскорт из 10 казаков. И вот на рассвете следующего дня печальный кортеж тронулся в путь. Им командовал полковник Орлов.
29 августа ставка Александра I находилась в Альтенберге, откуда он написал наследному принцу шведскому:
«…обстоятельства, связанные с Австрией, не позволили мне реализовать намерения, которые вы предложили мне сами. Эти же обстоятельства не позволили мне воспользоваться замечательными талантами генерала Моро, которые могли быть так полезны нашему делу.
Ваше Высочество хорошо знает, как я хотел иметь рядом с собой человека, столь уважаемого во всех отношениях. Не сомневаюсь, вы сможете понять ту боль, причиненную мне ужасным несчастием, которое произошло: он был рядом со мной, когда пушечное ядро оторвало ему обе ноги. Он стойко перенес ампутацию с присущим ему хладнокровием, которое характеризует всю его жизнь. Я не оставляю надежды, что жизнь его будет спасена».
В тот же день, прибыв накануне в Диппольдсвальд, кортеж утром покинул этот город и прибыл в Теплиц. Солдаты, которые несли Моро, были заменены на прусских гвардейцев, но состав эскорта остался без изменений — под начальством полковника Орлова.
Переход через горы был трудным. Под проливным дождем нужно было то подниматься на склоны, то спускаться с них, скользя в грязи по раскисшим дорогам.
Моро в своем медицинском гробу сгорал в лихорадке. Рапатель и Шевенен следовали рядом: один слева, другой справа и время от времени давали генералу флягу с водой. Он с жадностью прикасался к ней потрескавшимися губами. Наконец, подошли к Теплицу. Однако весь город был объят пламенем после недавнего сражения с Вандаммом. Пришлось обойти город стороной и идти на Духцов, где остановился штаб союзной армии. Только в 11 вечера конвой вошел в город.
Доктор Виллие пришел осмотреть раны Моро. Их состояние он счел удовлетворительным. Но монархам на их нетерпеливые вопросы, будет ли Моро жить, ответил, что очень редко кому удается выжить при подобных ранениях.
Утром 30 августа кортеж вновь отправился в путь. Моро испытывал жестокие страдания. Лицо его было мертвенно бледным, щеки ввалились; пот выступал крупными каплями на лбу и стекал мелкими ручейками на седеющие волосы. Но ни слова мольбы не сорвалось с его уст. Когда он заговаривал, то лишь для того, чтобы узнать новости из армии. Около полудня достигли небольшого городка Лаун (сейчас Луни). Французского преследования не было. Лишь корпус Вандамма перешел через Рудные горы. Богемская армия была спасена.
Более того, по армии объявили, что Блюхер одержал важную победу над Корпусом Макдональда при Лигнице. Теперь Моро мог отдохнуть в Лауне в полном покое. Можно было не опасаться нового отступления.
Газета «Санкт-Петербургские Ведомости» № 80 от вторника, октября 7-го дня 1813 года сообщала:
«Лейпциг, 21 сентября нового стиля.
Пушечное ядро попало в генерала Моро, по словам его камердинера, из окопов при Дрездене.
27 августа около 5 часов пополудни принесли его в Ретлиц, где отняли ему обе ноги выше колена. После операции потребовал он, чтобы дали ему чего-нибудь покушать и чаю. Тотчас поданы были яйца и чай. Но он съел только несколько яиц. Около 6 часов положили его на носилки, на коих российские солдаты принесли его в Пассендорф. Здесь провел он ночь в сельском доме оберфорштмейстера Трипшлера, выпил чашку чая и весьма жаловался на мучительную боль.
28-го поутру в 4 часа российские солдаты отнесли его в Диппольдисвальду в каретном кузове. Там у хлебника Вотца съел он немного белого хлеба и выпил стакан лимонаду. Спустя час после того он был отнесен ближе к богемской границе».
Вечером того же дня раненого Моро посетил герцог Кумберлендский. Он произнес:
— Мне хотелось познакомиться с вами на поле боя… Затем ему нанес визит князь Меттерних, но пребывание его было коротким, так как раненый очень устал.
Смеркалось. Наступила ночь. Моро захотел написать своей жене. Он начал его такими словами:
«Моя дорогая подруга,
В сражении под Дрезденом, три дня тому назад, пушечное ядро оторвало мне обе ноги. Этому негодяю Бонапарту по-прежнему везет. Наша армия отошла, но не для того, чтобы отступить, а чтобы приблизиться к генералу Блюхеру…»
На этом месте перо Моро остановилось, и он попросил Рапателя:
— Друг мой, продолжайте, я не могу больше.
И все-таки он нашел в себе силы, чтобы написать еще пару строк:
«Прости мои каракули. Я люблю тебя и обнимаю всем сердцем. Прошу Рапателя закончить…»
Это было все, что Моро смог написать самостоятельно.
Рапатель, подавляя в себе эмоции, продолжал письмо:
«Мадам,
Генерал разрешил мне продолжить на том же листе бумаги, на котором он написал несколько строк для вас. Вы не представляете, как я опечален и огорчен тем, что он вам сообщил. С первого мгновенья после ранения я не оставлял его ни на минуту и не покину до тех пор, пока он полностью не вылечится. Мы очень надеемся, что сможем его спасти. После первой перевязки его раны находятся в хорошем состоянии. Сейчас у него лишь слабая лихорадка вследствие большой потери крови. Но сейчас она уменьшилась. Простите мне описание этих подробностей, но они для меня не менее печальны, чем они покажутся и вам… Не волнуйтесь…
При первой же возможности я напишу вам снова. Сейчас врач меня уверяет, что если дела пойдут на поправку, то через пять недель генерал сможет передвигаться в инвалидной коляске.
Прощайте, мадам. Я очень несчастен.
Поцелуйте бедную Изабель.
Ваш преданный и покорный слуга,
Рапатель».
Около полуночи, в ночь с 31 августа на 1 сентября, состояние Моро ухудшилось. Началась икота, переходящая в рвоту. Рапатель, полагая, что генерал умирает, не отправил письмо, которое написал накануне.
Однако на следующий день тревожные симптомы исчезли, и Рапатель отправил письмо, добавив лишь следующий постскриптум: «1 сентября. Все идет хорошо. Он спокоен».
Но это спокойствие оказалось как относительным, так и временным.
— Я чувствую себя лучше, — говорил Моро, — но страдания мои выше человеческих. Ампутация — очень болезненная штука, а двойная — это уже слишком.
Затем его охватило нетерпение.
— Прошу вас, — сказал он хирургам, которые пришли делать перевязку, — отправьте меня в Прагу. Там мне будет лучше, чем здесь.
Ему ответили, что сейчас это невозможно, что он еще очень слаб, что артиллерия оставила воронки на дорогах, что путь до Праги не близкий…
— Можно ли меня перевезти туда по воде? — спросил он. — Река Лаба протекает не так далеко от Лауна. Я буду в лодке, как у себя в кровати.
Чтобы убедить их в том, что его идея выполнима, он попросил принести ему карту Богемии. Он начал ее изучать, как вдруг в городе начался какой-то переполох.
— Что происходит? — спросил Моро и попросил Рапателя и Шевенена пойти узнать, в чем дело. Это оказались громкие крики и улюлюкания жителей Лауна, освиставших пленного генерала Вандамма, которого везли в открытой коляске, а за ним шли пленные французы. Рапатель и Шевенен подошли поближе и услышали, как Вандамм, разговаривая с русскими офицерами, проклинал Бонапарта, который бросил его корпус на произвол судьбы, что привело к полной катастрофе в ущельях Богемии.
Когда Шевенен и Рапатель вернулись и рассказали о случившемся, Моро, зная жестокость Вандамма, заявил:
— Давно пора вывести его из игры. Теперь он больше не навредит никому.
Ближе к вечеру, когда состояние здоровья Моро вновь ухудшилось, адъютанты забеспокоились и сочли своим долгом открыть ему всю тяжесть его положения.
Моро спокойно отнесся к их предостережению и сказал:
— Мое сознание ясно, и я совершенно спокоен.
В течение всей ночи с 1 на 2 сентября мучения генерала продолжались. Это его беспокоило, и он постоянно заводил будильник на своих часах, отсчитывая долгие и мучительные моменты страданий.
Время от времени он что-то говорил, обращаясь то к Рапателю, то к Шевенену, то к полковнику Орлову. Все трое постоянно находились рядом с ним.
— Я знаю, что нахожусь в страшной опасности, и, если мне не суждено увидеть мою жену и мою дорогую дочь, передайте им, да и всем французам, которые будут вам говорить обо мне, что я хотел еще послужить своей родине… Я хотел избавить мою страну от ужасного ига, которое ее подавляло. Я считаю, и всегда считал, что для того чтобы одолеть Бонапарта — все средства хороши…
— Я посвятил на благо человечества те небольшие таланты, которыми обладал, но мое сердце всегда принадлежало Франции. Не плачьте, друзья мои. Так угодно судьбе. Надо покориться ей.
От фразы к фразе, от слова к слову голос его угасал.
Теперь он говорил почти шепотом.
На восходе нового дня, 2 сентября, он сделал знак Шевенену, чтобы тот подошел ближе, и продиктовал ему следующие слова, адресованные царю: «Государь, умираю с теми же чувствами уважения, восхищения и признательности, которые Ваше Величество оказывало мне с первого момента нашей встречи».
Затем, после паузы, как если бы он говорил с самим собой, Моро прошептал:
— Мне не в чем себя упрекнуть.
В 6.50 утра, держа руку Рапателя в своей руке, Моро отошел в мир иной.
* * *
Через некоторое время полковник Орлов отправил царю письмо с известием о смерти генерала Моро. Передав последние слова Моро, Орлов писал:
«В связи с печальным стечением обстоятельств, этот выдающийся человек, которого вы прежде не знали, решил посвятить Вашему Величеству свои последние дела, последние слова… и сражался за вас до последней капли крови…»
Во французской армии существовала легенда: будто бы когда Наполеон посмотрел в свою подзорную трубу на неприятельские позиции, то узнал Моро в свите Александра I, лично навел орудие и произвел выстрел, убив предателя.
«Какими же серьезными должны быть изменения в морали, порожденные империей, чтобы столь знаменательная жизнь нашла свой столь бесславный конец?» — вопрошал по этому поводу французский историк Анри Мартен.
Вот что рассказывал об этом сам Наполеон, находясь на о. Св. Елены:
«В битве при Дрездене я приказал атаковать войска союзников, находившиеся по обоим флангам моей армии. В ходе выполнения этой операции центр моей армии оставался на месте. На расстоянии примерно в 500 ярдов я заметил группу всадников, собравшихся вместе. Сделав вывод, что они пытаются проследить маневры моей армии, я принял решение нарушить их планы и вызвал артиллерийского капитана, командовавшего батареей из восемнадцати или двадцати пушек: “Немедленно обстреляйте эту группу людей; возможно, среди них есть несколько младших генералов”. Приказ был выполнен незамедлительно. Одно из пушечных ядер попало в Моро, оторвало ему обе ноги и пронзило насквозь лошадь. Я думаю, те, кто стояли рядом с ним, были убиты или ранены. Минутой раньше с ним беседовал Александр. Обе ноги Моро были ампутированы недалеко от места ранения. Одна из них, обутая в сапог, которую хирург бросил на землю, была принесена королю Саксонии крестьянином, рассказавшим, что какой-то высокопоставленный офицер был ранен пушечным ядром. Король, поняв, что имя раненого офицера может быть выяснено благодаря сапогу, послал сапог мне. Сапог осмотрели в моем штабе, но всё, что можно было установить, это то, что сапог не был английского или французского производства. На следующий день нам сообщили, что это была нога Моро.
Ничего удивительного не было в том, — продолжал Наполеон, — что через некоторое время я приказал во время военной операции тому же артиллерийскому офицеру с теми же пушками и при схожих обстоятельствах дать залп одновременно из восемнадцати или двадцати орудий в группу офицеров, собравшихся вместе. В результате генерал Сен-При, ещё один француз, предатель, но человек не без таланта, занимавший командную должность в русской армии, был убит вместе со многими другими. Ничто, — продолжал император, — не является более губительным, чем одновременный залп из дюжины и более пушек в группу противника. От выстрела одной или двух пушек можно спастись, но от одновременного залпа нескольких орудий это почти невозможно». Напомним читателю, что в то время пушечное ядро, представлявшее собой кусок чугуна сферической формы и диаметром с небольшой арбуз, обладало огромной кинетической энергией и пробивало насквозь 36 человек, построенных в затылок друг другу. А картечь, применяемая в ближнем бою, в основном против пехоты, была еще более смертоносной, т.к. являла собой металлический каркас, набитый картечными пулями, каждая из которых в зависимости от калибра достигала величины куриного яйца. Залп картечи мог положить на месте сразу 60 человек. Причем солдат убивали не только пули и ядра, но и элементы обмундирования, разбитые тесаки, эфесы шпаг, сломанные штыки и даже оторванные конечности своих товарищей, которые при соприкосновении с поражающим элементом разлетались в стороны с огромной скоростью. Поисковики до сих пор находят на полях сражений эти страшные орудия убийства… Современные кинорежиссеры, снимая исторические фильмы о войне двухсотлетней давности, не всегда задумываются о достоверности батальных сцен и, стремясь к максимальной зрелищности эпизода, зачастую показывают зрителю много огня от взрывпакетов и другой пиротехники, вместо того чтобы продемонстрировать летящее ядро, причем с рикошетом, благо современные компьютерные технологии это позволяют.
* * *
Кстати, судя по траектории полета, Моро, вероятно, был смертельно ранен именно рикошетирующим ядром либо ядром на излёте. Впрочем, имеется и другая версия о том, что генерала поразил большой кусок разорвавшейся гранаты. Эта версия, в частности, подтверждается золотым кольцом, изготовленным специально для мадам Моро, в котором вместо камня был вставлен миниатюрный жук-скарабей, выполненный из осколка гранаты, убившей ее мужа. Причем на золотом брюшке скарабея было выгравировано изображение разрывающейся гранаты и дата ранения. У древних считалось, что этот маленький жук повторяет путь Солнца, которое воскресает, возвращаясь из мира теней.
Известно, что Наполеон по своей военной специальности был артиллеристом и очень хорошо знал свое дело. Однако у главнокомандующих и уж тем более у монархов по соображениям чести было не принято стрелять друг в друга во время сражений. Тем не менее во французской армии ходила легенда, что когда Наполеон узнал Моро в свите Александра I, то лично навел орудие и произвел смертоносный выстрел, погубивший своего давнего соперника. Правда это или нет — доподлинно неизвестно, однако Наполеон ничего не сделал, для того чтобы прекратить хождение этой легенды.
* * *
Много легенд ходило и в связи с эпизодом, связанным с собакой Моро, которая находилась с генералом во время Дрезденского сражения.
Так, уже цитированная нами Ирина Данченко пишет: «Под вечер, когда кровопролитное сражение закончилось, два гренадера привели в главную квартиру русских прекрасную породистую собаку. Они нашли ее среди раскиданных по полю трупов. Собака стояла над сапогом и жалобно выла. Она пошла за гренадерами только тогда, когда они унесли с собой этот сапог. Сапог был иностранным, с золотым шнурком и золотой кистью. Внутри было написано имя и адрес нью-йоркского сапожника. А на ошейнике собаки выгравировано: “Я принадлежу генералу Моро”».
Тот же эпизод описывается и в мемуарах генерала барона де Марбо:
«Наш авангард преследовал отступающего врага, когда один из наших гусаров заметил при входе в деревню Нотниц великолепного датского дога. Пес с беспокойным видом, казалось, искал своего хозяина. Гусар приманил собаку, схватил ее и прочел на ошейнике: “Я принадлежу генералу Моро”. Затем из рассказов местного кюре стало известно, что генералу Моро только что ампутировали обе ноги…
Этот эпизод произошел в момент отступления союзнических армий, поэтому император Александр во избежание того, чтобы Моро не был захвачен французами, приказал своим гренадерам нести его на руках до того момента, когда преследование со стороны наших войск замедлилось, и тогда удалось перевязать раненого, ампутировав ему обе ноги. Саксонский кюре, бывший свидетелем этой тяжелой операции, сообщал, что Моро, от которого не сумели скрыть, что его жизнь была в опасности, проклинал сам себя и непрерывно повторял: “Как я! Я, Моро, умираю среди врагов Франции, сраженный французским ядром!”»
По словам того же барона де Марбо, никто во французской армии не сожалел о Моро, как только стало известно, что он сражался против своих. Когда русский парламентер пришел потребовать возврата собаки Моро (он был прислан полковником Рапателем, адъютантом Моро), ему отдали животное, но без ошейника, а ошейник отправили королю Саксонии. В настоящее время этот ошейник находится среди достопримечательностей Дрезденской галереи.
В мемуарах герцогини д'Абрантес мы находим похожее описание того же случая с собакой Моро. Она пишет, что фокстерьер Моро был обнаружен на улицах Дрездена 27 августа и что на его ошейнике действительно существовала указанная надпись. Дотанвиль говорит о датском доге, который был найден в деревне в окрестностях Дрездена. Что же касается высказываний саксонского кюре — «свидетеля» хирургической операции Моро, то, по словам Пьера Савинеля, опубликовавшего в XX веке блестящую работу о жизни генерала Моро, этот факт представляется абсолютным вымыслом. «Бонапарт не знал о присутствии Моро в стане коалиционных армий и узнал об этом, когда была обнаружена его собака». На наш взгляд, наиболее достоверной версией относительно собаки Моро является рассказ французского капитана Перкуэна, сообщавшего, что «в 5 часов вечера саксонский крестьянин, в доме которого ампутировали обе ноги генерала Моро, явился к императору (Наполеону. — А. З.) с великолепным датским догом, на широком медном ошейнике которого большими буквами красовалась надпись “Я принадлежу генералу Моро”. Крестьянин рассказал о том, что случилось, и попросил за пса 10 наполеондоров. Император дал ему указанную сумму, но от собаки отказался». На этом следы животного, так трагично попавшего в историю, теряются.
Газета «Le Journal de L'Empire» сообщила о прибытии генерала Моро только 4 сентября 1813 года, причем с явным оттенком мести: «Он продался иностранцу и обрек себя на презрение родины, которую предал, и потомков, которые на него надеялись».
Наполеоновская пропаганда усердно распространяла как ложь о высказывании Моро на операционном столе, так и другую ложь о воззвании к французскому народу, якобы подписанную: «Генерал Моро, адъютант Его Императорского Величества Императора Всероссийского». Этот документ, явно сфабрикованный полицией, для большего правдоподобия имел подпись, дату и место — г. Морле (родина Моро).
Глава X. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Союзные монархи находились в Теплице, когда туда было доставлено письмо полковника Орлова, извещавшего царя о смерти генерала Моро.
Глубокими и искренними были чувства царя.
— Моро был великим человеком с благородным сердцем, — сказал Александр.
Он решил, что тело генерала будет похоронено в Санкт-Петербурге со всеми полагающимися воинскими почестями. Царь поблагодарил Рапателя за выполнение возложенных на него обязанностей и назначил его своим адъютантом, предложив на выбор выполнение одной из двух миссий: сопровождать останки Моро в российскую столицу, либо немедленно отправиться в Лондон, чтобы передать супруге генерала его последнее письмо.
Рапатель посчитал своим долгом сопровождать своего любимого генерала к месту последнего пристанища. Вместе с тем, заботясь о чувствах вдовы, он деликатно попросил графа Нессельроде, министра иностранных дел, подготовить госпожу Моро к получению столь страшного известия через посредничество мадам де Левен, супруги российского посла в Лондоне и личной подруги Эжени.
Тогда царь поручил Шевенену выполнение второй задачи и попросил его передать госпоже Моро следующее трогательное письмо, собственноручно написанное Александром: «Мадам,
В связи с тем, что ужасное несчастье сразило генерала Моро, находящегося подле меня, оно тем самым лишило меня возможности увидеть во всем блеске военные таланты столь выдающегося человека…
Я тешил себя надеждой, что благодаря заботам и лечению мы сможем спасти его ради семьи и сохранить его дружбу. Но судьба распорядилась по-иному. Он умер так же как жил — полный энергии и сильный духом.
Единственным лекарством от большого горя — это сознание того, что вы можете разделить его с другими. В России вы сможете найти глубокое понимание этих чувств, и если вы согласитесь остаться в моей стране, то я бы нашел все средства для того, чтобы скрасить жизнь человека, которому я бы считал своим святым долгом быть его утешением и поддержкой.
Очень вас прошу, мадам, полностью рассчитывать на меня и обращаться ко мне по любому делу, в котором я могу вам хоть как-то помочь.
Пожалуйста, обращайтесь прямо ко мне. Предупреждать ваши желания станет большой радостью для меня.
Дружба, которая связывала меня с вашим мужем, — бессмертна; и у меня нет иного средства отблагодарить его, по крайней мере, частично, хотя бы тем, чтобы взять на себя заботу о его семье, что я с удовольствием сделаю.
Примите, мадам, в эту скорбную минуту уверения в моей искренней дружбе и сочувствии.
Теплиц, 6 сентября 1813 года».* * *
Тело генерала Моро перевезли в Прагу, где забальзамировали, уложили в гроб и выставили для прощания в часовне, украшенной множеством свечей во дворце архиепископа. При этом сердце было извлечено и помещено в серебряный сосуд, который, запечатав, был отправлен его супруге. Бледное лицо генерала, как и при жизни, выражало спокойствие и умиротворение.
6 сентября 1813 года после торжественной мессы в соборе гроб с телом генерала Моро был установлен на катафалк, и траурный кортеж в сопровождении русских кавалергардов и полковника Рапателя двинулся на восток — в русскую столицу.
22 сентября кортеж прибыл в Санкт- Петербург. По приказу царя войска столичного гарнизона оказали французскому генералу Жану-Виктору Моро те же почести, которые несколько месяцев назад были оказаны русскому фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову.
* * *
Похороны состоялись в католической церкви Святой Екатерины Александрийской, расположенной на Невском проспекте, д. 32—34. Огромный катафалк был установлен внутри церкви под хорами — «творение знаменитого архитектора Кваренги» — так пишет французский историк генерала Моро — Морис Гарсо.
Однако гениальный Кваренги к этой церкви не имел никакого отношения. История прихода Святой Екатерины начинается с сентября 1738 года, когда по указу Анны Иоанновны на Невской перспективе был выделен участок для постройки католического собора. Его строили последовательно четыре архитектора: Пьетро Трезини, Жан-Батист-Мишель Вален-Деламот, Антонио Ринальди и, наконец, Минчиачи, который и завершил строительство в 1782 году.
Церковь строилась 20 лет, и 7 октября 1783 года состоялось торжественное освящение собора, названного в честь святой Екатерины Александрийской, девы и мученицы, небесной покровительницы императрицы Екатерины II.
Величественное, увенчанное мощным куполом здание собора имеет в плане форму латинского креста. Размеры храма относительно невелики. Так, в длину здание достигает 44 м, в ширину — 25 м, в высоту 42 м. Тем не менее храм может одновременно вместить до 2000 человек. Главный фасад здания, выходящий на Невский проспект, решен в виде монументального арочного портала, который опирается на свободно стоящие колонны. Фасад завершается высоким парапетом, на котором размещены фигуры четырех евангелистов, а также фигуры ангелов, держащих крест. Над главным входом начертаны слова из Евангелия от Матфея (на латыни): «Дом мой домом молитвы наречется» (Мф. 21:13). Ниже — дата завершения строительства собора, также на латыни: «Лето Господне 1782».
Над главным престолом был помещен большой образ «Таинство обручения Святой Екатерины», написанный известным художником того времени Якобом Миттенлейдером и подаренный храму императрицей Екатериной II.
Этот храм неразрывно связан со многими событиями исторической и культурной жизни Санкт-Петербурга, России и Европы.
В феврале 1798 года здесь по высочайшему указу императора Павла I состоялось торжественное погребение последнего польского короля Станислава Августа Понятовского — дяди известного наполеоновского маршала — Юзефа Понятовского (1763—1813), погибшего через 1,5 месяца после смерти Моро в Битве народов при Лейпциге в октябре 1813 года. Он утонул в реке Эльстер, пытаясь прикрыть отход наполеоновской армии.
В 1828 году здесь венчались Л.П. Витгенштейн и Стефания Радзивилл. На бракосочетании присутствовали А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, И.И. Козлов, П.А. Вяземский, В. А. Жуковский, братья Брюлловы, О.А. Смирнова-Россет и многие другие.
В январе 1837 года в церкви состоялось бракосочетание Жоржа Дантеса и Е.Н. Гончаровой.
В 1855 году здесь состоялось отпевание Огюста де Монфера-на — замечательного архитектора, создателя Александрийской колонны и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
В церкви Святой Екатерины совершались хиротонии епископов. Здесь венчались члены августейших фамилий. На торжественных богослужениях присутствовал весь царский двор. Ее прихожанами были многие русские аристократы, принявшие католическое вероисповедание: княгиня Зинаида Волконская, княгиня Александра Голицына, князь Иван Гагарин, Петр Чаадаев, будущий декабрист Михаил Лунин и многие другие.
Особую славу и гордость церкви составляли ее первоклассный хор, солисты-итальянцы и великолепный орган, один из лучших в Европе. Прекрасная акустика делала звучание музыки поистине божественным. Здесь исполнялись духовные сочинения знаменитых композиторов: Монфредини, Сарти, Чимарозы, Паизиелло (нередко под управлением самих авторов), а в дни своего пребывания в Петербурге в 1909—1910 годах играл на органе литовский художник и композитор Константинас Чюрленис.
Неоценимый вклад был внесен служителями прихода Святой Екатерины в дело образования в Петербурге. Еще во время строительства храма, в 1769 году, была открыта школа с десятью классами, в которых обучались от 100 до 200 детей.
В царствование Павла I при храме Святой Екатерины была открыта так называемая коллегия — школа-интернат для дворянских детей, некоторое подобие Смольного института, но для детей обоего пола. Здесь обучали естественным наукам, теологии, философии, истории, иностранным языкам. В стенах коллегии получили образование представители многих знатных родов России: Барятинских, Волконских, Вяземских и других. В 1839 году при храме открывается женская гимназия. В 1875 году гимназия вместе с интернатом была переведена в специально выстроенный для этого четырехэтажный флигель во дворе храма.
В 1889 году при храме открылась бесплатная начальная школа для девочек, а в 1896 году священник церкви Святой Екатерины Антоний Малецкий открыл на Кирилловской улице приют для беспризорных детей.
Российские самодержцы поручали храм разным монашеским орденам: Екатерина II — францисканцам, Павел I — иезуитам (1800—1815), а Александр I, после высылки иезуитов, отдал храм доминиканцам (1816—1892).
С 1892 года храм управляется епархиальными священниками, однако община доминиканцев продолжала существовать.
С 1855 по 1857 год викарным священником храма Святой Екатерины был Зигмунд Щесны-Фелинский, будущий архиепископ Варшавы. С 1907 по 1914 год интернатом для девочек и женской гимназией руководила св. Урсула Лдуховская.
Накануне большевистского переворота 1917 года приход насчитывал более тридцати тысяч верующих.
* * *
В этой знаменитой церкви суждено было генералу Моро найти свой последний приют.
Во время торжественной церемонии отпевания героя Гогенлиндена почетные места в первых рядах занимали члены дипломатического корпуса. Преподобный отец Розавен, иезуит бретонского происхождения, прочитал заупокойную мессу. В конце службы гроб с телом Моро был установлен в склеп в самой церкви справа от входа. Чуть позже граф Шувалов (Морис Гарсо пишет граф Увалов, но мы прощаем французам незнание сложных для произношения русских фамилий. — А. З.) произнес по-французски перед склепом повторное надгробное слово по усопшему, и на стене, внутри церкви, установили мемориальную доску. Над могилой, на внутренней стене церкви рядом с именем Моро были выбиты следующие слова — Рыцарь человечества. Речь графа Шувалова была одновременно тактичной и честной. Он не скрывал республиканизма Моро, что для русского графа уже являлось опасной крамолой, но он приписывал эти взгляды Моро его врожденному благородству Граф не пытался придать стоической гибели Моро христианскую окраску. Однако, веря в провиденциализм Боссюэ, которого неоднократно цитировал, Шувалов видел перст Господень в несчастиях, которые изменили, а затем и пресекли жизнь этого человека. Он отмечает военный гений Моро: «Генерал Моро с самого начала своей военной карьеры глубоко размышлял над своим ремеслом. Он имел свой собственный взгляд, которым природа наделяет великих полководцев, и дополнял его высокими мыслями, без которых вождь всего лишь счастливый авантюрист. Одновременно осторожный и смелый, молниеносно атакующий и искусно отступающий, мягкий и строгий в мирное время и спокойный и энергичный на полях сражений, Моро всегда владел собой и ничего не пускал на самотек. Он просчитывал в мельчайших подробностях движения своих армий со свойственной ему проницательностью, точностью и с удивительной простотой. Ценя каждого солдата и не желая напрасно проливать кровь, он заслужил право уверенно заявить: “Служить под моим командованием не было бедствием даже на поле боя”».
По свидетельству Жозефа де Мэстра, всей церемонии не хватало теплоты. Многие скамьи были пусты. Даже официальный представитель графа Прованского в Санкт-Петербурге граф Брион не явился на церемонию под предлогом того, что не получил на этот счет соответствующих инструкций, а на самом деле просто не смог побороть в себе республиканские взгляды Моро, равно как и вся колония французских эмигрантов не смогла этого сделать.
Склеп генерала Моро и поныне находится в Римско-Католической церкви Святой Екатерины Александрийской. Мы с сожалением узнали, что останки Моро лежат забытыми в далеком северном городе за тысячи километров от Франции. Генерал захоронен в восточной части подвала храма Св. Екатерины на глубине около 3 м ниже уровня современного пола. Двойной гроб наглухо замурован. Наверху, внутри церкви, справа от главного входа под первым окном со стороны хоров, помещена небольшая мраморная плита с надписью:
ICI REPOSE
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ
LE GENERAL
ПРАХ ГЕНЕРАЛА
VICTOR MOREAU
ВИКТОРА МОРО
NE A MORLAIX
РОДИЛСЯ В МОРЛЕ
LE 13 FEVRIER 1763
13 ФЕВРАЛЯ 1763
* *
MORT A LAUN
СКОНЧАЛСЯ В ЛАУНЕ
LE 2 SEPTEMBRE 1813
2 СЕНТЯБРЯ 1813
В связи с ремонтом церкви эта мемориальная доска была демонтирована и в момент нашего визита находилась в помещении настоятеля прихода, грустно опираясь на батарею центрального отопления, где мы ее и сфотографировали.
* * *
В течение 140 лет никто не интересовался состоянием могилы Моро. И только в 1954 году после неоднократных запросов в советское посольство в Париже французский историк Валенсель, через шесть месяцев после своего обращения к советским властям, потеряв всякую надежду, неожиданно получает ответ, который помимо описания захоронения содержал несколько фотографий.
Вот как писали об этом советские источники: «В 1954 г., в соответствии с официальным запросом французской стороны, Иностранный отдел Академии наук СССР организовал комиссию, которой надлежало, вскрыв склеп, определить, в каком состоянии находится захоронение генерала Моро. Под надгробной плитой пробили отверстие, чтобы проникнуть в склеп. После его осмотра составлен протокол. Вот выдержки из него: “Склеп размером 2 х 2,5 м, толщина стен 2,5 кирпича, свод каменный. На земле стоит деревянный гроб, на котором видны остатки бархатной обивки с позументом в верхней части. Стенки гроба покрыты черным лаком. На крышке гроба имелись бронзовые украшения. На полу возле гроба, среди остатков сгнившего дерева, найдены две латунные позолоченные таблички с орнаментом и надписями. На одной из них написано:
Le General Moreau ne le 30 juillet 1763
Decede le 22 aout 1813 age de 50 ans 23 jours;
(Генерал Моро родился 30 июля 1763 г.
скончался 22 августа 1813 г. в возрасте 50 лет и 23 дней).
на второй:
Guide de l'itemite,
Il ne veut sur cette terre
Que pour mourir dans la carriere
Qui mene a I 'immortalite.
(Посланец вечности
На сей земле —
Он пожелал лишь умереть на поприще,
В бессмертие ведущем.)
Было сделано несколько снимков, затем в присутствии комиссии отверстие вновь замуровали”».
Обращает на себя внимание различие в датах рождения и смерти на табличках внутри и снаружи склепа. Мы пытались разгадать эту загадку, изучив почти всю имеющуюся литературу о Моро, сравнивая старый и новый календари, дату крещения будущего полководца, даже заглянули в его гороскоп. Всё говорит о том, что он был рожден 14 февраля 1763 г. и умер 2 сентября 1813 г. Вероятнее всего, на латунной табличке была допущена ошибка, но в соответствии с обычаем ее положили в склеп. О дате рождения мы говорили в начале книги, и хотя 14 февраля является формальной датой крещения, а не рождения, мы решили придерживаться именно ее. Впрочем, Жан-Виктор Моро мог быть рожден 12 или 13 февраля 1763 г., но никак не 30 июля!
* * *
По понятным причинам русская пресса того времени не освещала печального события, связанного с захоронением генерала Моро, равно как и похороны фельдмаршала М.И. Кутузова, состоявшиеся шестью месяцами ранее в Казанском соборе, прошли малозаметными для газет. По крайней мере, мы не нашли каких-либо письменных упоминаний об этом.
Только через два месяца, а именно 7 ноября 1813 года «Санкт-Петербургские Ведомости» № 89 от пятницы, ноября 7-го дня в разделе «Иностранные происшествия» поместили короткое сообщение о вдове Моро:
«Лондон, 5 октября нового стиля (из «Берлинских Ведомостей»):
Супруга покойного генерала Моро, после болезни своей, ныне начала выезжать из дому. Послезавтра в здешней католической церкви будет отправляемо торжественное поминовение по ея супругу. Она родом из Иль-де-Франс. Вскоре после отправления генерала Моро в Америку лишилась она своей матери, госпожи Гулот, также обоих братьев, и потому, возвратившись из Америки в Европу, хотела в Париже устроить свои дела о наследстве. Но по прибытии в Бордо едва было позволено ей остаться на берегу столько времени, чтобы успеть отдохнуть от путешествия, а потом приказано ей удалиться из Франции. Ея имение ныне, вероятно, конфисковано».
Два мощных наводнения заливали подвалы церкви. Одно произошло в 1824 г., а другое — через сто лет, в 1924 г.
* * *
Трагическая судьба постигла храм, в котором захоронен Моро, после революции. Меньше чем через год после захвата власти большевиками — в 1918 году у прихода отобрали все дома, расположенные на Невском проспекте и на Итальянской улице. Прекратились и занятия в гимназиях.
В марте 1923 года арестовали главу Римско-католической церкви в России архиепископа Яна Цепляка, настоятеля храма Святой Екатерины Константина Будкевича, каппеланов храма Яна Василевского, Павла Ходневича и еще 11 католических священников. Их обвинили в противодействии изъятию церковных ценностей из храмов и контрреволюционной пропаганде, ведущей к ослаблению пролетарской диктатуры.
Часть из них была казнена, другие высланы из страны или получили длительные сроки тюремного заключения.
После «процесса ксендзов» храм Святой Екатерины оставался действующим, однако там служили французские священники: Жан Амудрю и Мишель Флоран.
Вскоре после выхода постановления Верховного Совета РСФСР от 7 сентября 1938 года храм был закрыт и разорен. Разбитые иконы и церковную утварь выбросили во двор.
Перестала существовать великолепная библиотека. Одна из прихожанок, 19-летняя Софья Степулковская, спасла большой алтарный крест. 15 мая 1940 года он был передан в единственный действующий тогда католический храм Лурдской Божьей Матери в Ковенском переулке (ныне крест возвращен в храм Св. Екатерины).
После упразднения прихода здание храма использовалось под складские помещения. В 1947 году в храме вспыхнул первый пожар, во время которого пострадали деревянные детали декора, фрески, несколько статуй. Но сильнее всего пострадал орган. В последующие годы помещения храма использовались различными организациями как склады.
В конце 1970-х годов по решению исполкома Ленсовета здание храма передали в ведение Ленинградской филармонии для организации там органного зала. В 1977 году были установлены деревянные леса и начался ремонт, но шел крайне медленно.
Казалось, злая судьба преследовала Моро даже после смерти. 14 февраля 1984 года, в день рождения Моро, произошел второй, наиболее разрушительный пожар, который уничтожил остатки убранства интерьеров, разрушил мраморные скульптуры, свел на нет многолетнюю работу реставраторов. Сильного огня не выдержал даже мрамор. Пострадала памятная плита, посвященная королю Станиславу-Августу Понятовскому После пожара окна обгоревшего помещения забили досками и металлическими листами; был составлен новый план реставрации, но в 1989 году реставрация была приостановлена, храм был заброшен. На первом этаже в приходских помещениях расположились кабинеты Музея истории религии и атеизма, а выше — частные квартиры.
* * *
Возрождение храма началось в 1991 году и продолжалось 12 долгих лет, когда наконец 11 мая 2003 года состоялось освящение трансепта; и впервые после закрытия храма в 1938 году митрополит вошел в храм через главные двери с Невского проспекта, которые теперь постоянно открыты для верующих.
Однако радость была недолгой. В 2005 г. на Невском проспекте, прямо у дверей храма, с разрешения властей города был проведен гей-парад. Это «мероприятие» осквернило не только церковь, ее прихожан, всех верующих, но и прах прославленного французского генерала, ибо происходило всего в 5 метрах от его могилы.
Прав был де Кюстин, когда писал свой знаменитый памфлет о России и нравах русского общества в 1839 г. Вероятно, правы и мы, если скажем, что за эти годы здесь мало что изменилось. Несчастный Моро!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Императорская полиция конфисковала около 500 000 франков, которые Моро имел на различных счетах у французских банкиров, и обнародовала так называемое «Обращение Моро к французскому народу», текст которого существенно отличался от того, который генерал подготовил на самом деле.
Мы приводим здесь сокращенный, но оригинальный текст обращения генерала Моро к французской нации:
«Я пришел к вам не как второй Кориолан, чтобы учинить личную месть: я прибыл для того, чтобы освободить свою страну от ига, которое над ней довлеет. Как только эта цель будет достигнута, я вольюсь в ваши ряды, и мы будем вместе».
Естественно, Наполеон поспешил заявить во всеуслышание, что ядро, поразившее его врага, было местью Провидения. Он даже поощрял легенду, что именно он навел орудие на Моро и поразил предателя. И, вероятно, наивные французы поверили, что Моро был сражен в своеобразной дуэли на пушках с их императором.
Госпожа Левен, супруга российского посла в Лондоне, первой сообщила госпоже Моро о смерти ее супруга, затем прибыл Поль де Шевенен и поведал ей печальные подробности смерти генерала.
Она поблагодарила царя за доброту, пообещала приехать в Россию, где ее брат, полковник Уло, собирался служить, но в последний момент передумала и осталась жить в Англии.
Вскоре Поль де Шевенен опубликовал в Лондоне небольшую брошюру с описанием своего путешествия из США в Европу вместе с Моро и о последних днях жизни генерала.
Еще раз выразив свое пожелание госпоже Моро видеть ее у себя при дворе, где бы юной Изабель был бы дарован титул фрейлины российской императрицы, Александр I своим указом от февраля 1814 года назначил госпоже Моро единовременную выплату в 100 000 рублей и ежегодную пенсию за потерю мужа в размере 30 000 рублей. По тем временам это была огромная сумма, имея в виду, что за один рубль на Лондонской бирже в среднем давали 1,2 фунта стерлингов, так что будущее Изабель уже было обеспечено.
25 марта 1814 года во время сражения при Фер-Шампенуазе от двух французских пуль, попавших в сердце, пал полковник Рапатель, в момент, когда он предложил французам сложить оружие. Рапатель так и не оставил после себя мемуаров, которые могли бы пролить более яркий свет на события, связанные с похоронами генерала Моро в Санкт-Петербурге. Рапатель вел дневник, описывающий последние дни жизни Моро. Но записи в нем обрываются 30 августа 1813 года. Этот дневник, подлинность которого подтверждена всеми историками Моро (в сравнении с записками Поля де Шевенена), представляет собой бесценную историческую реликвию. Этот дневник, кстати, был обнаружен в Санкт-Петербурге вместе с другими бумагами Рапателя и, в частности, с его завещанием, составленным в российской столице еще 18 октября 1812 года. Вот выдержка из него:
«Я, нижеподписавшийся Жан-Батист Рапатель, полковник генерального штаба Его Величества Императора Всероссийского, прошу в случае моей смерти во время боевых действий против разбойника Бонапарта передать все мое имущество и деньги моей сестре мадам Уйе, проживающей в Ренне на улице Дам». В настоящее время дневник Рапателя хранится в архивах Иль-э-Вилена.
Главная русская столичная газета «Санкт-Петербургские Ведомости», выходившая в то время по вторникам и пятницам, так ничего и не сообщила о последней мессе в память генерала Моро, состоявшейся в приходе Святой Екатерины Александрийской.
31 марта 1814 года Александр I и союзные монархи торжественно вошли в Париж. Справа от царя находился король прусский, а слева — фельдмаршал Шварценберг. По меткому замечанию французского историка Луи Пэнго, «в этой торжественной процессии душа генерала Моро как будто незримо витала рядом с Александром, гарантом либерализма, который завещал Франции Моро».
Людовик XVIII, задержавшийся в своей английской резиденции в Хартвелле из-за обострения подагры, смог прибыть в Париж только 26 апреля 1814 года. 2 мая он вновь обрел свой трон.
* * *
Александр I, справедливо считая себя вождем антинаполеоновского крестового похода и реставратором трона Бурбонов, и следуя обещанию, данному генералу Моро, хотел повлиять на короля в плане политических изменений в духе либерализма. Он написал королю письмо, в котором выражал надежду на изменения в политике Франции.
Однако Людовик XVIII не удостоил письмо царя ответом. Король Франции не принадлежал к числу тех эмигрантов, которые «ничего не забыли и ничему не научились». Как раз наоборот, он знал и принимал принципы конституционного правления, но вместе с тем хотел править не как мститель, а как король, объединивший нацию, и в этой связи осознавал себя монархом, наделенным божественным правом. Он не любил этого «республиканского суверена», каким хотел казаться царь. Более того, он ненавидел философские нравоучения, а предпочитал душевную беседу, умение находить нужное и к месту сказанное слово, как свое, так и собеседника. И, наконец, он не забыл, как с ним обращались русские царедворцы во время его вынужденного изгнания в Митаве и грубую высылку за пределы Российской империи сразу после подписания Тильзитского мирного договора. И когда Александр написал ему второе письмо, упрекая, в частности, за упразднение триколора и замену его на белое с лилиями знамя, король проявил все свое высокомерие, свойственное Бурбонам. Русский царь прибыл в Компьень, чтобы лично вручить это письмо королю. Вот тут-то Людовик попытался отыграться в полную силу. Нанося визиты графу д'Артуа, герцогине Ангулемской, графу Беррийскому и другим отпрыскам королевской фамилии, Александр всегда занимал самые роскошные апартаменты. Здесь же, у короля, ему предоставили самую плохую комнату, какую смогли найти во дворце. Возмущенный Александр приказал своему кучеру быть готовым к немедленному отъезду сразу после обеда, во время которого Людовик XVIII еще раз унизил царя, напомнив метрдотелю, подававшему блюдо гостю, порядок сервировки стола: «Вы должны обслуживать меня в первую очередь».
К этому времени мадам Моро с дочерью тоже вернулись в Париж.
Заручившись поддержкой царя, сенатор Лажюине (тот самый, который первым назвал Лазаря Карно «организатором побед») 26 апреля объявил в Сенате о полной реабилитации генерала Моро. Было во всеуслышание заявлено, что «генерал Моро, потерявший сына на чужбине и не сумевший обеспечить своей больной жене возможности лечиться во Франции, всегда пользовался уважением истинных французов и признательностью родины…, что император всероссийский отнесся к французам с тем же уважением и симпатией, которые он всегда испытывал к генералу Моро». Академик и сенатор Гара выступил с предложением обратиться в мэрию Парижа с просьбой разработать проект памятника Александру и Моро, стоящими вместе на одном пьедестале.
«25 июня 1816 года в Париже состоялась религиозная служба в память о генерале Моро, — пишет Морис Гарсо, — и король Людовик XVIII, который хотя и знал о либеральных и республиканских взглядах генерала, тем не менее вскоре присвоил госпоже Моро титул маршальши с годовой пенсией в 12 000 франков. Теперь будущее семьи Моро было обеспечено и во Франции».
И хотя титул маршала даже посмертно никогда не был официально присвоен Моро и не существует ордонанса, дарующего этот титул супруге генерала, она тем не менее во всех официальных документах именуется маршальшей и, в частности, в том, по которому ей назначалась указанная пенсия. В этом документе, подписанном королем 18 октября 1814 года, говорится: «Этим актом мы еще раз подтверждаем свое уважение и признательность генералу, имя которого стоит в ряду прославленных военачальников, оказавших великую честь французскому оружию».
Эту оценку, исходящую от короля, который, несмотря на свои убеждения, соглашался сыграть в игру под названием «конституционная монархия», Моро, пожалуй, принял бы, так как в последние годы он начал склоняться к формуле «монархия прав человека».
Учреждая орден Почетного легиона, создавая новое дворянство и новый двор, Наполеон постепенно переходил к старой, кастовой форме правления и, по выражению Пьера Савинеля, был «человеком Старого порядка». Это он называл Людовика XVI «моим добрым дядюшкой Луи». Это он силой затащил к себе в постель девственную эрцгерцогиню австрийскую, чтобы та родила ему сына. Настоящий республиканец! Достойный сын революции! Он правил дворянами ради голубой крови. В этом смысле он превзошел Моро. Бонапарт задушил в колыбели новую Францию, то есть общество, которое пыталось создать новый порядок, основанный на уважении и признании прав личности. Он подчинил эту новую общественно-экономическую формацию архаическому порядку, основанному на привилегиях и придворной лести.
И вот, благодаря стараниям госпожи Моро, фрейлины герцогини Ангулемской, часто бывавшей при дворе, голубая кровь вновь потекла в жилах семьи Моро — братьях, сестрах и племянниках генерала. Этим же Старым порядком был восстановлен фамильный герб Моро, представлявший собой букву М, расположенную в зеве у серебряной рукоятки шпаги, отделанной золотом и украшенной с обеих сторон двумя ветвями серебряных лилий на фоне горностая.
Младший брат генерала — Жозеф Моро — стал префектом г. Коррезе. К этому времени относится и публикация книги судьи Лекурба, брата известного генерала Лекурба, которая поведала Франции, как силой было навязано обвинение генералу Моро в 1804 году.
Сенатор Гара вскоре после своего знаменитого выступления в Сенате опубликовал в память о Моро брошюру, полностью реабилитирующую генерала.
Роялистская пресса устроила шумиху по поводу этой хвалебной риторики. Она восхваляла и русского царя, и генерала Моро. Виктор Гюго, отец которого был другом Моро, написал в честь генерала стихи, которые, хотя и были одними из первых работ начинающего писателя, оказались весьма трогательными и искренними. В оде «Девы Вердуна», скорбя о судьбе трех девушек, гильотинированных только за то, что подарили цветы завоевателю, он обвиняет солдат, которые, увлекшись боем, не смогли предотвратить этой кровавой расправы:
Где ваши воины, что не призвали храбрость На помощь шпаге, чтоб опрокинуть гнусный нож? Зачем спасли вы палачей, что осквернили вашу славу? В один и тот же день мы видели Моро, снискавшего победу, С его отцом, идущего на эшафот…В предместьях Дрездена, на месте ранения Моро, союзники установили гранитный обелиск в форме куба, на одной стороне которого были выбиты по-немецки следующие слова: «Здесь геройски пал Моро, сражаясь рядом с Александром».
В период Ста дней мадам Моро вновь уехала в Англию и поселилась в Ричмонде, где встретила свою старую подругу по ссылке — мадам де Невиль. Вдова генерала Моро не сразу вернулась во Францию после Ватерлоо, так как Наполеон распорядился заморозить счета Моро в банках Франции. Когда это препятствие было преодолено, мадам маршальша приехала в Париж. Хид де Невиль был назначен послом в США и в этой связи 22 августа 1815 года получил от короля титул барона.
Министерским циркуляром от февраля 1816 года предписывалось возведение памятников Моро и Пишегрю в тех провинциях, где они родились. Однако в части, касающейся памятника Моро, муниципальный совет г. Ренна постановил «считать нежелательной установку статуи, напоминающей о событиях, которые могут навредить памяти о генерале». Речь шла о революционной борьбе, которую вел Моро, будучи студентом.
Бернадот после коронации в Стокгольме в 1818 году назначил денежную дотацию дочери Моро — Изабель, которая пять лет спустя вышла замуж за Эрнеста-Алексиса Дюбуа, виконта Курвальского и Анизийского, дворянина из окружения будущего короля Карла X. Изабель присутствовала на его коронации в 1825 году Ей было 20 лет.
Госпожа Моро так и осталась вдовой и, не пытаясь более выйти замуж, прожила еще несколько лет. Хотя в свете говорили, что в 1814 году маршал Макдональд, тоже вдовец, хотел жениться на мадам Моро, даме бальзаковского возраста (ей было 33). В письме к племяннице от 5 ноября 1814 года Макдональд пишет: «Я завершил вечер в гостях у мадам маршальши, которая приехала из Вири, чтобы вступить во владение домом на улице Победы». В другом письме герцог Тарентский пишет: «…среди дам была и госпожа маршальша. Говорят, что мы собираемся пожениться. Эти слухи мне очень лестны, и мадам Моро мне подходит, но боюсь, эти слухи далеки от реальности. Мы вместе очень смеялись над ними».
Последний прижизненный портрет вдовы Моро был написан малоизвестным французским художником-миниатюристом Фредериком Милле. Миниатюра выставлялась в салоне в Париже в 1819 г. К сожалению, мы не нашли этой миниатюры ни в одном из двухсот крупнейших музеев мира. Возможно, она стала достоянием наследников семьи Моро или была продана частному лицу.
Столько сделав для образования дочери, мадам Моро не суждено было увидеть ее свадьбы. Эжени Моро умерла в 1821 году в Бордо в возрасте 40 лет. Она была похоронена на кладбище этого города 1 сентября, ровно через 8 лет после того, как сердце генерала Моро было извлечено из его тела и затем доставлено ей. На надгробном камне высечены следующие слова: «Здесь покоится прах маршальши Моро—Луизы Александрины Эжени Уло, супруги генерала Моро, родившейся на о. Иль-де-Франс 5 июля 1781 года. Очарование ее души и доброта составляли счастье ее супруга, ее добродетели смягчали его несчастья, а благородные поступки делают честь ее памяти. Здесь, рядом с супругой, которую он так любил, покоится сердце генерала Жана-Виктора Моро, главнокомандующего французскими армиями, родившегося в Морле 14 февраля 1763 года и скончавшегося 2 сентября 1813 года».
В 1837 году французский художник Шопен написал знаменитую картину под названием «Сражение при Гогенлиндене», которая с тех пор хранится в музее Версаля в галерее победы.
Единственными зрителями этой картины были два брата Моро — Жозеф и Жан-Батист, а также его старшая сестра — Александрина — последние оставшиеся в живых дети многочисленной семьи бретонского судьи, гильотинированного в эпоху революции.
В Моррисвиле, штат Пенсильвания (в США существует 5 городов с одноименным названием) есть улица генерала Моро, проходящая почти перпендикулярно набережной реки Делавар, и жители этого города гордятся, что в нем 8 лет жил прославленный французский генерал.
* * *
По поводу Моро в XIX веке выдвигались различные мнения. Для большей части роялистов во времена реставрации — генерал, который, как они думали, принял сторону Бурбонов — был героем. Для большинства бонапартистов — он был предателем.
Между тем Наполеон на Святой Елене оспаривал военные таланты Моро. Он считал, что победа Моро при Гогенлиндене была делом случая. Вместе с тем, признавая храбрость своего соперника, он считал его виновным в измене родине. Однако это не может нас переубедить. Наполеон не был беспристрастным судьей по отношению к человеку, от которого он избавился, «привязав» его, по сути, к делу Кадудаля и Пишегрю.
Большинство историков придерживается мнения Тьера: «Без всяких преувеличений поступок генерала Моро был достаточно серьезным. Нисколько не умаляя его прежних заслуг перед родиной и равнодушие к славе, тем не менее нельзя снизойти до того, чтобы признать его невиновным. И эта его вина погубила одну из самых выдающихся личностей нашего времени».
Эрнест Доде соглашается с таким выводом, однако приводит ряд смягчающих обстоятельств. Он пишет: «Генерал Дюмурье, главнокомандующий одной из наших революционных армий, которая защищала границы Франции, чтобы спасти свою жизнь, выдал посланцев Конвента Австрии. Его сочли предателем. Пишегрю, стремясь отомстить тем, кто провалил переворот 18 фрюктидора, связался с той же Австрией, которая стремилась расчленить Францию. Он — предатель». Но и Жомини, перешедший в стан врага во время боевых действий накануне Дрезденского сражения, — тоже предатель.
«Случай с Моро — совершенно иной, — продолжает Эрнест Доде. — Генерал согласился на предложения царя только после того, как получил четкие заверения Андрея Дашкова, которые успокоили его патриотические чувства. Ему было обещано от имени царя, что целостность Франции будет гарантирована и страна останется в своих естественных границах, что французы будут свободны в выборе правительства и формы правления. И он поверил слову Александра. Однако чтобы подтвердить тот факт, что желание отомстить Бонапарту превалировало в его намерениях, надо предположить, что Моро обладал сверхгероической душой и даже сверхчеловеческими способностями. Его больше всего заботила мысль обеспечения гарантий безопасности родины. Реализуя свою месть, он считал, что избавляет Францию от ига Бонапарта при одновременном сохранении целостности страны. Но он упустил из виду, что, пользуясь силами и средствами своих недавних врагов, Моро противоречил самому себе, закрыв глаза на прошлое и став союзником монархов, от которых он так славно защищал Францию…
Моро не роялист и никогда им не был. По его мысли, возвращение Бурбонов могло подойти Франции, как временная мера на переходный период. Но то, что оправдывает эмигрантов, не может служить оправданием для бывшего главнокомандующего республиканских армий».
«Что ж, это мудрые слова, но нас они не вполне удовлетворяют, — пишет другой историк генерала, Морис Гарсо. — Мы признаем, что эмиграция с преданностью и верой в короля может быть оправданием. Но незаслуженная ссылка, изгнание ради свободы также должна заслужить снисхождение историков».
* * *
Измена родине, как трактует ее международное право, есть тягчайшее преступление, заключающееся в умышленном нанесении ущерба государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи страны. К измене родины относится переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны, оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности против родины, заговор с целью захвата власти.
Если разложить по полочкам это определение, то получится, что Моро умышленно не нанес ущерба ни государственной независимости, ни военной мощи, ни тем более территориальной неприкосновенности Франции; он не выдал какой-либо государственной или военной тайны, не был шпионом и не перешел не сторону врага во время ведения боевых действий, а за пресловутый «заговор Кадудаля и Пишегрю» Моро сполна заплатил своей восьмилетней ссылкой. Дважды за одно и то же преступление, как известно, нигде не судят. Остается одно — оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности против родины. Но и здесь можно привести аргументы в защиту Моро. Прожив в Америке столько лет, он наверняка имел статус гражданина США (хотя мы не нашли документов, подтверждающих этот факт) и, следовательно, независимо от национальности, мог служить в любой армии мира. А раз так, то к нему не может быть претензий, как к частному гражданскому лицу, другу царя и состоящему при его штабе в качестве наблюдателя и советника. Вся военная власть армий коалиции была сосредоточена в руках князя Шварценберга, и все приказы исходили от имени последнего. Более того, Моро ничего не успел сделать против Наполеоновских войск при Дрездене, так как на второй день битвы был смертельно ранен.
* * *
В этой связи просматривается аналогия с процессом Моро в 1804 году. Действительно, существовал ли тогда заговор? С точки зрения права? Ведь никто не был убит, и никаких действий предпринято не было. Также и здесь. А было ли предательство в 1813 году? Гражданское лицо, пусть даже диссидент и француз по национальности, дает советы царю, необязательные к исполнению. А если этот человек — гражданин США? Где здесь предательство? Наполеон на заре своей военной карьеры тоже просился на русскую службу, о чем имеются свидетельства очевидцев, в частности графа Ростопчина. Отказавшись от своего намерения (Наполеона принимали в русскую армию, но с понижением на одно звание, что не устроило молодого лейтенанта), он обратился с аналогичной просьбой к Турции. Но и здесь что-то не сложилось. Как рассматривать эти поступки Бонапарта? Как попытку измены? Или как провал очередной затеи «солдата удачи» послужить наемником во враждебной Франции стране?
«Моро, очевидно, оставил бы о себе самые чистые воспоминания, если бы он не покинул Америку, — пишет уже цитированный нами Морис Гарсо, — если бы он испил до дна чашу своего наказания, если бы он не вернулся в Европу лишь для того, чтобы умереть, сраженный французским ядром. Но сам акт его догматического патриотизма, далекий от того, чтобы нанести вред своей стране, — оправдывает генерала».
Войдя в Париж, царь не забыл обещания, данного Моро. «Благодаря этому восхитительному русскому человеку Франция в 1814 году сохранила свои естественные границы».
Одно только это соображение должно оправдать героя Гогенлиндена перед судом Истории. Ошибки, заблуждения, пусть даже моральная измена — все это ничто по сравнению со славой последней услуги, которую он оказал родине.
Почти все известные нам историки Моро, а их не так много, пытались так или иначе предложить читателю свое видение виновности или невиновности генерала, как если бы они были теми самыми потомками, о которых говорил наш герой на процессе 1804 года. Вспомним его слова, сказанные тогда судьям: «Исполняйте свой долг. Вас слушает Франция; на вас смотрит Европа и надеятся потомки!»
Так не будем же судить генерала, до последней минуты мечтавшего о счастье Франции — о стране, в которой будут торжествовать свобода, братство, равенство и счастье всех народов. Мы лишь можем упрекнуть эту свободную Францию, которую Моро так любил, за долгие годы забвения выдающегося генерала, стоявшего у истоков Великой французской революции, верного республиканским принципам и внесшего огромный вклад во славу французского оружия. Это была звезда первой величины полководческого искусства, оставившая заметный след в летописи побед республики — той, что подарила миру целую эпоху, а вместе с ней и замечательную плеяду талантливых полководцев, таких как Ожеро, Клебер, Дезе, Массена, Бонапарт, Моро, Гош, Жубер, Журдан, Ней, Мюрат, Пишегрю, Ланн, Даву, Бернадот и многие другие. В ту пору все они были молоды, храбры, полны революционного энтузиазма, порыва, отваги и страстного стремления к славе. По-разному сложились их судьбы, но память об этих людях останется на века, и пока человечество обращается к своей истории, эти выдающиеся воины, а вместе с ними и наш герой никогда не будут забыты!
В заключение невольно вспоминаются стихи Марины Цветаевой, посвященные российским героям двенадцатого года, которые в полной мере можно отнести и к французам — несмотря на то что в 1812 г. они были нашими врагами:
Одна улыбка на портрете, Одно движенье головы, — И чувствуется: в целом свете Герои — вы. Вы, чьи широкие шинели Напоминали паруса, Чьи шпоры весело звенели И голоса. Вам все вершины были малы И мягок — самый черствый хлеб, О, молодые генералы Своих судеб! Вы побеждали и любили Любовь и сабли остриё — И весело переходили В небытиё!Моро многое предвидел. Возвращение Бурбонов действительно оказалось временной мерой. Прошли годы, и Франция вновь стала республикой. Моро-Водолей оказался прав. Он видел на 50 лет вперед!
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Бантыш-Каменский. Биографии Российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1888.
Боголюбов А.Н. Полководческое искусство Суворова. М, 1939.
Васютинский A.M. Военачальники Наполеона. Отечественная война и русское общество 1812—1912 гг. М, 1912.
Вандаль Альберт. Возвышение Бонапарта. Наполеон и Александр I. Т. 1—4. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.
Газета «Санкт-Петербургские Ведомости». 1813 г.
Голицын Н.С. (под ред.) Всеобщая военная история новейших времен. Ч. 1. Войны 1-й французской революции и республики 1792—1801 гг. СПб., 1874.
Егоров А. Маршалы Наполеона. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
Иванов А. Двенадцать Бонапартов. М.: Вече, 2006.
Кирхейзен Ф.и Г. Наполеон первый. Т. 1—2. М.: Терра, 1997.
Лашук А. Наполеон и императорская гвардия. М.: ACT, 2003.
Лашук А. Наполеон. Двадцать лет кампаний. М.: ACT, 2005.
Людвиг Э. Наполеон. М.: Захаров, Вагриус,1998.
Мишле Ж. История XIX века до 18 брюмера. Т. 1—2. СПб., 1883.
Маршан Луи-Жозеф. Наполеон. Годы изгнания. Мемуары Луи Жозефа Маршана. М.: Захаров, 2003.
О'Мира Б. Голос с о. Св. Елены. М.: Захаров, 2004.
Марбо М. Мемуары генерала барона де Марбо. М.: Эксмо, 2005.
Рошешуар. Мемуары графа де Рошешуара, адъютанта императора Александра I (Революция, империя, реставрация). М., 1915.
Ремюза Клара. Мемуары (1802—1808). Т. 1—3. М., 1912— 1913.
Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПб., 1903. Т. 4.
Сен-Сир (Гувьон). Записки маршала Сен-Сира о войнах во время директории, консулата и империи французской. Ч. 1. СПб., 1838.
Слоон В. Новое жизнеописание Наполеона I. Т. 1—2. М.: Алгоритм, 1997.
Соколов О.В. Армия Наполеона. СПб., 1999.
Тарле Е.В. Наполеон. Ростов-на-Дону: Феникс, 1994.
Франчески М., Вейдер Б. Наполеон под прицелом старых монархий. М.: Вече, 2008.
Хронологический указатель военных действий Русской армии и флота 1801—1825 гг. СПб. Т. 2. 1830.
Чарторижский А. Воспоминания. М., 1901.
Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М.: Центрополиграф, 1999.
Чандлер Д. (под ред. Зотова А.В.) Ватерлоо. Последняя кампания Наполеона. СПб.: Знак, 2004.
Шиканов В.Н. Генералы Наполеона (Биографический словарь). М.: Рейтар, 2004.
Шаплет (С. де). Записки генерала Бурьенна, государственного министра, о Наполеоне, директории, консулате, империи и восшествии Бурбонов. СПб., 1831—1836.
Шильдер Н. Граф Шувалов и Наполеон в 1814 г. Русская Старина. Т. 90. 1897.
Azan (Paul-Jean-Louis). La Campagne de 1800 en Alemagne, Chapelot, 1909.
Abrantes (duchesse D'). Memoires, Ed.. Gamier, Paris, 1896.
Апопуте. Histoire du General Moreau jusqu'a la paix de Luneville, Paris, 1801.
Beauchamp (A. De). Vie politique, militaire et privee du General Moreau, Paris, 1814.
Carre (Henri). Le Grand Carnot, 1753—1823, La Table Ronde, Paris, 1947.
Chateauneuf (A.-H.). Histoire du General Moreau surnomme le Grand Capitain, Paris 1814.
Chiappe (J.-E). Georges Cadoudal ou la Libertee, Libraire academique Perrin, Paris, 1971.
Cugnac. Campaigne de l'Armee de Reserve en 1800, Paris, 1900.
Daudet (Ernest). La Conjuration du Pichegru et les coplots royalistes du Midi et de l'Est, 1795—1797, Ed. Plon-Nourrit, 1901.
Decaen (general). Memoires et Journaux, publies par E. Picard, Ed.Plon, Paris, 1910—1911.
Desmarets. Temoignages historiques ou Quinze ans de haute police sous Napoleon, par M. Desmarets, chef de cette partie pendant tout le Consulat et l'Empire, Paris, 1833.
Diesbach (G. De). Madame de Stael, Ed. Libraire academique Perrin, Paris, 1982.
Dontenville (J.). Le General Moreau, 1763—1813, Ed. Delagrave, Paris, 1899.
Eouche (Joseph). Memoires, Paris, 1845.
Fain (baron A.-J.-E De). Memoires du baron Fain, premier secretaire du cabinet de l'Empereur, Paris, 1908.
Esposito and Elting. A Military History and Atlas of the Napoleonic Wars, N.Y., 1964.
Garat (Joseph). De Moreau, Ed. Didot, Paris, 1814.
Garcot (Maurice). Le Duel Moreau-Napoleon, Nouvelles Editions Latines, Paris, 1951.
Godechot (J.). L'Armee d'ltalie, en Cahiers de la revolution francaise, t. IV, Paris, 1889.
Gorce (P. DeLa). La Restauration. Louis XVIII, Ed. Plon, 1926.
Gouvion-Saint-Cyr. Memoires sur les campagnes des armees du Rhin, et du Rhin-et-Moselle, Anselin, 1829.
Gohier (L.-J.). Memoires, Paris, 1824.
Graham (colonel). Histoire des campagnes d'Allemagne, d'Italie, de Suisse pedant les annees 1796, 1797, 1798, 1799, traduit de l'anglais, Paris, 1817.
Gribble (Francis). Emperor and Mystic: The Life of Alexander I of Russia, Ed. Nash & Grayson, London, 1931.
Grouchy (marechal Emmanuel De). Memoires du Marechal de Grouchy, t. I-III, Paris, 1873.
Gunwald (M.). Alexander I, Paris, 1955.
Guillon (E.). Les complots militaires sous le Consulat et Г Empire, Paris, 1894.
Jomini (baron Henri De). Histoire critique et militaire des guerres de la Revoluton, Paris, 1820.
Jomini (baron Henri De). Histoire des guerres de la Revolution, t. I-XX, Paris, 1838.
Jourdan (general). Memoires militaires, Paris, 1899.
Kotzebue (A.F.F von). Mes souvenirs de Paris en 1804, Ed.. Hague, Paris, 1805.
Lafayette. Memoires, correspondance, publies par sa famille, Paris, 1838.
Lanfrey (Pierre). Histoire de Napoleon I, Paris, 1870—1875.
Legrand (Louis). La Revolution francaise en Holland: La Republique Batave (1795—1806), Ed. Hachette, Paris, 1895.
LeJean. Moreau en Livot, Biographie bretonne, Rennes, 1857.
Leplus. La campagne de 1800 a l'armee des Grisons, Paris, 1908.
Madelin (Louis). La France du Directoire, Ed. Plon, Paris, 1922.
Martiniere (Breton De La). Proscription de Moreau ou Relation fidele du proces de ce general. Notice sur la vie publique et privee et sur ses dernieres moments, Paris, 1814.
Martin (Henri). Histoire populaire de France, Paris, 1900.
Melito (comte Miot De). Memoires, Paris, 1873.
Morrisville and its vicinity. Bucks County Historical Society Papers, V. III, 1985.
Moniteur Universel ou Gazette Nationale, 1800—1813.
Neuville (baron Guillaume Hyde De). Memoires et souvenirs, publies par sa niece la vicomtesse de Bardonet, Ed. Plon-Nourrit, Paris, 1888.
Ney (marechal Michel). Memoires du marechal Ney, publies par sa famille, Bruxelles, 1833.
Odeleben. Relation de la campagne 1813, Paris, 1817.
Pajol (general comte De). Kleber, sa vie, sa correspondance, Ed. Firmin-Didot, Paris, 1877.
Petre (F.L.). Napoleon's Last Campaign in Germany, London, 1974.
Philibert (general). Le General Lecourbe d'apres ses archives, sa correspondance et d'apres documents, Paris, 1895.
Picard (commandant Ernest). Bonapart et Moreau, these, Paris, 1905.
Picard (commandant Ernest) et Azan (Paul). La Campagne de 1800 en Allemagne, Paris, 1907—1909.
Picard (commandant Ernest). Hohenlinden Paris, 1909.
Phipps (R. W.). The Armies of the First French Republic, vol. I-V, Oxford, 1926—1939.
Pingaud (Louis). Moreau et Pichegru, Paris, 1912.
Polnay (P. De). Napoleon's Police, London, 1970.
Rapatel (colonel). Le General Moreau. Souvenirs de son aide de camp, publies par Pocque de Haute-Jusse: Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne, t. XXVII, 1947.
Remade (comte De). Agents de Louis XVIII sous le Consulat, 1802—1803 (Relations secretes des), publiees par le comte Remade, Plon-Nourrit, 1899.
Rodger (A.B.). The Wars of the Second Coalition, Oxford, 1964.
Orlov (colonel). Documents inedits sur le general Moreau publies par Gandillon, Revue Historique, t. CXCI, 1947.
Poniatowski (Michel). Michel Poniatowski presents Cadoudal, Paris, 1977.
Recueil des interrogatoires subis par le general Moreau. Paris, an XII, 1804.
Remusat (M-me De). Memoires edites par son petit fils Paul de Remusat, Ed. Calmann-Levy, Paris, 1881.
Saint-Hillaire (Marco De). Cadudal, Moreau et Pichegru, Ed. Libraire academique Perrin, Paris, 1977.
Saint-Hillaire (Marco De). General Moreau et Pichegru. Souvenirs intimes du temps, Bruxelles, 1844.
Sanches (Pierre) et Seydoux (Xavier). Les Catalogues des salons, Dijon: l'Echelle de Jacob, 2001.
Savinel (Pierre). Moreau, rival republican de Bonapart, Rennes, 1985.
Six (G.). Dictonnaire biographique des generaux et amiraux francais de la Revolution et de l'Empire, t. I-II, Paris, 1934.
Sorel (Albert). L'Europe et la Revolution francaise, Ed. Plon, Paris, 1906.
Svinin (Paul De). Quelques details sur le general Moreau et ses derniers moments, suivie d'une courte notice biographique, Bordeau, 1814.
Thiebaudeau (A.C.). Napoleon and Consulat, London, 1908.
Thiers (Adolphe). Histoire de la Revolution, t. VIII, IX, X, Paris, 1824—1827.
Thiers (Adolphe). Histoire de la Revolution, t. I, II, XI, Paris, 1845—1860.
Thiers (Adolphe). Histoire de la Revolution, Atlas, Paris, 1860.
Temoignage de Fievee. Correspondance avec Bonapart, t. I, II, Paris, 1836.
Tullard (Jean). Murat. Ed. Hachette, Paris, 1983.
Tullard (Jean, sous la directon de). Dictionnaire Napoleon, Libraire Artheme Fayard, 1999, t. I-II.
Valynseele. Les Marechaux de la Restauration et de la monarchic de Juillet, Leur famille et leur descendance, Paris, 1962.
Warner (Richard). Napoleon's Ennemies, London, 1976.
Weygand (M.). Histoire de L'Armee Francaise, Paris, 1838.
Young (Peter). Napoleon's Marchals, N.Y., 1973.
Zotov (Alexey, Dr.). Forgotten Moreau, First Empire International Magazine, № 87, London, 2006.

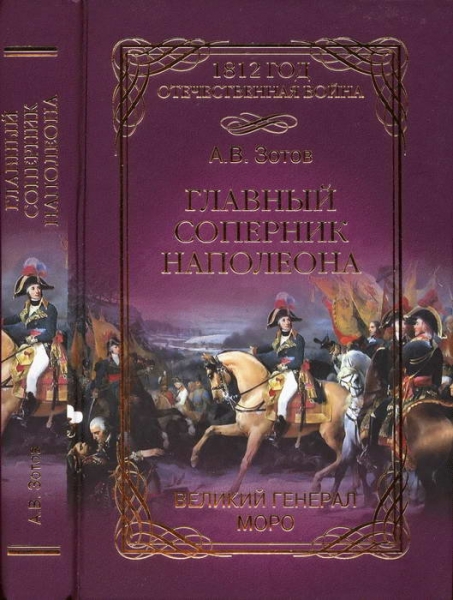
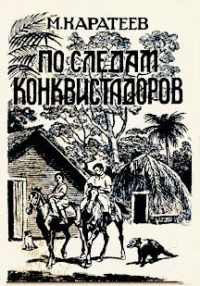

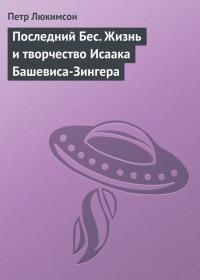
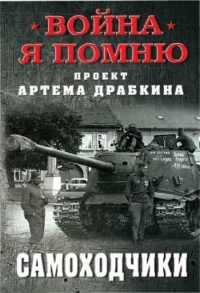


Комментарии к книге «Главный соперник Наполеона. Великий генерал Моро», Алексей Владимирович Зотов
Всего 0 комментариев