М. Загребельный Павло Загребельный
Убийца советской украинской литературы
Павло Загребельный (1924—2009) говаривал: если сподобятся издать его посмертно да еще с предисловием, то к Ниле Зборовской следует обратиться.
Чем Зборовская пленила Загребельного? Возможно, своими размышлениями о причинах ненависти большевиков к Пантелеймону Кулишу (1819—1897): «Ведь это был первый украинский аналитик, который радикально осудил анархических запорожцев, назвав их «социалистами, коммунистами и нигилистами» в свое время».
В романе «Тысячелетний Николай» (1991) Загребельный попробовал обозначить три главных психологических и исторических типа украинцев. Назвал их так: смерды, казаки, гайдамаки. Толкуя свои идеи, вспоминал конец 1940-х, кампанию против космополитов. Тогда топтались по «безродному гражданину мира» Эдуарду Багрицкому (1895—1934), автору «Думы про Опанаса»: «Украина! Мать родная! Молодое жито! Шли мы раньше в запорожцы, а теперь – в бандиты!»
Багрицкого обвинили в клевете на вольнолюбивый и благородный украинский народ. В хоре обличителей солировал тогдашний секретарь ЦК КП(б) Украины по пропаганде и агитации (1944—1950) Константин Литвин. Без малого 40 лет спустя он же, не утеряв бдительности, выступил заодно с советскими украинскими эпигонами Павла Федоровича Смердякова против «шкідливої ідеології» Павла Загребельного. А через 60 лет по Загребельному, как и по Багрицкому, после смерти, топчется неугомонная группа товарищей – «все позволено» и т. д. и т. п. На независимой Украине, где смерды и бандиты уже разделили кабинеты с правительственными телефонами со смердяковыми-шариковыми, увы, канула в Лету вычурность минувших дней. Эка невидаль – обозвать Загребельного «мародером». Сравним: вот Смердяков по Гоголю проходится: «про неправду все написано». А вот с трибуны вождь украинского агитпропа вещает, выдержанным слогом, на ценителя, ведь у него за спиной в президиуме в 1947 году сидят Каганович и Хрущев: «Спостерігається якась боязнь сміливо ставити питання… відсутні жвавий обмін думками і атмосфера товариської дискусії, немає здорової більшовицької критики…»
Что же забравшихся в княжеские палаты смердов и приодевшихся на заморские стипендии смердяковых взбесило? Утверждение Павла Загребельного, что доля независимой Украины, как и судьба Панька из Балты, «туманом повита»? Автор говорит, что «Николая…» написал ради одной фразы, в завершение книги:
«…а ми знов, як тисячу років тому, пливемо кудись по темному морю за чужими богами для свого зневіреного народу і не відаємо, яких же богів привеземо цього разу, яких пресвітерів, які ікони, які молитви».
Несколькими строками выше Загребельный цитирует Кулиша: «Народе без пуття, без честі і поваги, / Без правди у завітах предків диких, / Ти, що постав з безумної відваги/ Гірких п\'яниць і розбишак великих…»
Богдан Хмельницкий и Евпраксия, «Кто за? Кто против?», Роксолана, поэты и султан, Сарданапал и Валтасар, Юлия и Приглашение к самоубийству, Афродита Родосская и Мелания Андрофонис, критики-петушки Подчеревный и Слимаченко-Эспераго, Тысячелетний Николай и хлястики на шинели Генералиссимуса – немало образов и тем занимали моего отца.
А любовь? Не просто любовь – истинное желание, пойманное за хвост. Лингвист из Харькова Ирина Ходарева защитила кандидатскую, моделируя лексико-семантическое и ассоциативное поле любовь у Загребельного. Собрала картотеку, куда занесла более 3500 контекстов любви из его книг.
«Сможет ли литература спасти мир? Вряд ли. Точно так же, как и политика. Но плохая политика может погубить мир, литература же может и должна помочь человеку отринуть чувство беспомощности перед угрозами, должна научить людей понимать их силу и их слабость, донести до нашего сознания ту истину, что для новых битв и надежд народу нужна не только сила, но и память, – размышляет Загребельный в послесловии к роману «Я, Богдан (Исповедь во славе)» (1983). – Литература – это отнюдь не то, что непременно расхвалено и вознесено. Настоящая литература чаще вырастала даже из непонимания, нежели из пустых похвал. Поэтому для меня самое ценное – это не тогда, когда хвалят, а когда понимают.
Для меня лично каждый читатель – это зеркало. Ты идешь среди зеркал, отражаешься в каждом и в каждом неодинаково. Для одних ты, может, интересен, для других – скучен, для третьих – смешон, для четвертых… Многообразию восприятий нет конца, и это всегда нужно иметь в виду.
Как это сделать?
Никто не знает! Мы пускаем свои книжки в свет и должны быть готовы ко всему – к добру и злу – в равной мере. Но главное желание писателя, чтобы тебя поняли – для этого стоит и нужно жить».
Биография Загребельного – годы, отданные службе Союзу писателей Украины (СПУ). Журнал «Вітчизна» (1954—1961), газета «Літературна Україна» («ЛУ») (1961—1963), секретариат СПУ (1964—1986). Нравы окружавших его столоначальников комментировал в рифму: «Не кочегары мы, не плотники. Мы канцелярские работники», «Ты картина – я портрет. Ты скотина – а я нет». Он побывал на пике советской карьеры: членом ЦК Компартии Украины, депутатом Верховного Совета СССР.
Оставил массу зарисовок с бюрократических будней. Вот товарищ Жмак (роман «Изгнание из рая», 1984): «В соответствии с уровнем своих собеседников, товарищ Жмак демонстрировал и безграничную гамму телефонного слушания. В этом деле он был неутомимо-изобретательным, так, словно закончил специальные курсы по умению слушать телефон. Со стороны это выглядело так:
– Ну, слушаю!..
– Так, слушаю…
– Так, так, слушаю…
– Слушаю вас…
– Слушаю вас внимательно…
– Слушаю вас очень внимательно…
– Слушаю вас чрезвычайно внимательно…
– Слуш…
– Сл…
– С…
А потом уж просто – ах! И заглатывает товарищ Жмак воздух полной грудью, и замирает, а провода гудят, а простор гремит, и слова летят, словно чайки в песне Дмитра Гнатюка, – какая радость и какое блаженство!
Тут еще нужно несколько слов для описания товарища Жмака, чтобы вы случайно не перепутали его с кем-нибудь и узнали, как только встретите. У товарища Жмака огромная голова (чтобы держать в ней все указания), лицо просторное, так что на нем свободно вырисовывается и надлежащая угодливость (для всего, что выше), и грозы, и вьюги (для всего, что ниже). Туловище у товарища Жмака весьма плотно и целесообразно обложено мышцами, для того чтобы в нужный миг наклоняться (или склоняться) в нужном направлении. Когда человек склоняется-наклоняется, то невольно (по законам земного тяготения или какой-то там эволюции) приходится отставлять одну часть тела для противовеса. Не будем скрывать: у товарища Жмака было что отставлять для противовеса. Одним словом – человек солидный и голосом, и осанкой, не говоря уже о положении и авторитете».
Биография писателя – сонм его толкователей.
Профессор В. Панченко и примкнувшие к нему в поте лица, по-сизифовски, разрабатывают пласт: «Без Загребельного». Судя по изначальным рефлексиям, нам предстоят открытия. Возникает стойкое ощущение того, что планку изысканий по Виталию Коротичу («Нарцисс Хамелеонович») все выше и выше поднимут. Кому Павло Загребельный, Виталий Коротич – враги народа (по прокурору Вышинскому). О вкусах не спорят. Кому – доктор Стокман (по пьесе Генрика Ибсена «Враг народа» (1882)». Мне же отдельные «созерцатели» (украинские копии одноименной картины Крамского) и их многотиражки напоминают воспитателя сына Сулеймана, Мехмеда, по имени Шемси-эфенди. О нем в разговоре с султаном Роксолана отозвалась лаконично: «Этот наполненный пустословием и глупостью мешок».
Писатель Вячеслав Медвидь оглашает приговор: Загребельный – убийца советской украинской литературы. Потому как он есть первый украинский бестселлерист.
«Украинский писатель, – отмечает Медвидь в резолютивной части непреклонного решения, – все еще не соглашается на роль и судьбу Фауста или Марка Проклятого, но все, не сознаваясь, носят в торбе знак своего злодеяния и своего проклятия».
Олесь Гончар (1918—1995) в своих «Дневниках» оставил масштабный портрет Загребельного в интерьере его собратьев по цеху советской украинской литературы, (по Медвидю) проклятых, отверженных скитальцев, которых не приемлет ни земля, ни ад. За несколько дней до смерти, в реанимационной палате, сокрушается: «Але Павло? Це при його феноменальній пам\'яті на числа, на людей, на події. Боже, прости земляка!»
В 2010 году «Дневникам» Гончара посвящает монографию более чем в полтыщи страниц досточтимый ректор одного из бесчисленных отечественных университетов, полтавского педагогического, Николай Степаненко. В пику инквизитору Медвидю велеречивый знаток родимых литераторов удостоил их определений векопомно глубочайших.
Инженеры человеческих душ (по Ю. Олеше), оказывается, есть не кто иные, как «дети нашего народа»! Крутая научная новизна, что и говорить. Всем по серьгам, по параграфу каждому «дитю» отвесил полтавский Андре Моруа. И озаглавил:
Тычина – поэт планетарных масштабов.
Бажан – самоотверженный созидатель нашей культуры.
Симоненко – витязь украинской поэзии.
Драч – поэт-патриот.
Костенко – наибольшая поэтесса Украины.
Олийнык – поэт-стоколос (по Словарю Б. Д. Гринченко, Киев, 1909, стоколос – Bromus mollis L., сорняк. – Авт.).
Павлычко – позт от Бога.
Коротич – понятное дело, из ряда вон. «От похвалы до хулы».
Обидно мне за отца, – почему-то не посвятил ему земляк раздельчик. Ведь сколько у Олеся Терентьевича нашлось бы для него заглавий. Например: «Покруч (по-русски: ублюдок. – Авт.) епохи».
А Роксолане казалось, что сам пророк ненавидел поэтов, о чем сказано в Коране: «Они извергают подслушанное, но большинство их лжецы. И поэты – за ними следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они по всем долинам бродят и что они говорят то, чего не делают…»
Как это согласовать и можно ли вообще согласовать? Ее повелитель, султан в ответ снисходительно вздыхал, поглаживая маленькую гяурку по щеке: «У тебя не хватило терпения прочитать дальше. А дальше в Книге написано: «…Кроме тех, которые уверовали, и творят добрые дела, и поминают Аллаха много».
Как же осмелился на «детей нашего народа», «стоколосов», поднять руку Павло Загребельный?!
Вместо того чтобы возвеличивать родную культуру, открывать штучки, равные «Плачу над градом Кия» благородного пера шотландского инока XIII века Риангабара! В переизданных в 2008 году издательством «Веселка» в количестве 5000 экземпляров «Дневниках» Олеся Гончара тайна кельтского монаха осталась нерасшифрованной. Очевидно, окормляя ими за счет государственного бюджета библиотеки, «Веселка» таким образом поощряет любознательность молодых.
Придирчивый читатель хочет разведать, что же собой представляет орудие убийства советской украинской литературы? Их два. Простая портативная механическая пишущая машинка («Колибри», «Оптима» из ГДР). Авторучка «Паркер» с золотым пером, заправленная паркеровскими же черными чернилами. Свидетель тому – Вера Павловская, которая с 1970 года до средины 1990-х все произведения писателя перепечатывала на чистовик для подачи в редакции. Поначалу пропорция машинописных и рукописных листов, без полей, интервалов составляла 50:50. Одна страница равнялась примерно 3,5 страницам, отпечатанным по издательским стандартам. С начала девяностых Загребельный пишет исключительно авторучкой. Пробовал и компьютер. Не смог: «Рука чувствует бумагу, каждую букву. Пусть это и старомодно…»
Посему автор «Дневников» по адресу Загребельного чуточку необъективен: «Є так звана «набалакана проза» – белетристика найгіршого ґатунку в сучасній літ(ерату)рі. На жаль, вона поширена і завдає дедалі відчутнішої шкоди. Бо компрометує художню творчість в очах читача. Уже, здається, не всі й вірять, що справжній твір пишеться кров\'ю серця. Яка там кров, коли можна просто накладати на машинці!»
В самый, если полагаться на статистику, плодовитый этап своего творчества, с 1957 по 1984 год, Загребельный и «наклацал на машинке», и написал от руки 19 романов, несколько киносценариев, в том числе совместно с Сергеем Параджановым, три пьесы в соавторстве с Михаилом Резниковичем.
«Я не принадлежу к людям, мечтавшим стать писателем с детства. Стихов никогда не писал и не пишу – не знаю, как это делается. Мне кажется, поэты – люди глубоко ненормальные, – рассказывает Загребельный. – Салтыков-Щедрин говорил, что выдавать рифмованные строки – все равно что ходить не по полу, а по веревочке. Хотя я очень люблю поэзию, если она настоящая. Она дает чувство языка, учит умелому обращению с ним.
От рассказов я перешел к романам, а вообще сочинительство – это извращение. Ни один нормальный человек не будет мучительно составлять из 32 букв алфавита разные комбинации».
Биография писателя – не биография нормального человека.
Мне кажется, несмотря на десятки книг, несколько киносценариев и пьес, Загребельный не проявил себя так, как мечтал. Не случайно героя романа «Разгон» (1975), академика Карналя, он срисовал с великого ученого Глушкова. Глушко ву в 1970-х советская бюрократия не позволила осуществить грандиозные замыслы компьютеризировать СССР. Загребельного советская культура и завистливые украинские писатели-побратимы попытались зачеркнуть как писателя и человека. Бой продолжается.
Биография писателя – память о корнях, стремление к вершинам.
«И всякий раз убеждался: видишь вокруг множество людей, но не себя самого, – размышляет Карналь. – Себя все же выдумываешь, так же, как и собственный голос, которого почти никогда не слышишь и не узнаешь, когда звучит он, к примеру, по радио. От этого неумения увидеть себя самого порой рождается ощущение бессилия. Ты только такой, как есть сегодня, а не такой, каким был и когда-то будешь. Ты похож на время, отмериваемое часами: часы показывают только эту минуту, и ничего больше – ни назад, ни вперед. Люди, от природы не наделенные силой превышать самих себя, охотно подчиняются автоматизму времени; и тогда воцаряется настроение жить только нынешней минутой, плыть по течению, полагаться лишь на собственные усилия, забывая о корнях, не заглядывая на вершины. Тогда думать о жизни своей страшно, потому что схватываешь лишь концовку, лишь ближайшее, все предыдущее тонет в целых океанах событий, которые ты и не берешься вообразить, ни перечесть, и такой человек как будто и не жил, а лишь присутствует нынче при развязке собственной жизни. Все уже произошло будто за пределами его опыта: любовь, ненависть, мужество, страдания, измены, дружба, выдержка. И не понимают такие люди, что, возвращаясь к самому себе, жаждешь снова сравняться с собой в минуты наивысших взлетов и чувствуешь всякий раз, как это мучительно трудно, а то и вообще невозможно. Так идешь вперед, вечно возвращаясь назад, отбегая, чтобы разогнаться, как маленький мальчик, чтобы перепрыгнуть лужицу, или чемпион мира, который, прежде чем осуществить прыжок за отметину мирового рекорда, отходит назад».
Беседа с президентом Кучмой о национальных дураках (Интермедия)
Рубеж тысячелетий. Президент Украины Леонид Кучма пригласил писателей, издателей, официальных классиков независимой Украины, державных мужей. Вышел, как постмодернисты выражаются, форменный дискурс. Там стали и судить, и рядить, как украинскую книгу, а лучше СПУ, пестовать.
Мало ее на Украине издают. Еще меньше читают. И еще меньше покупают. Доколе терпеть засилие воскресшего инока Риангабара (в миру Юрия Винничука) да модерных дамочек (так назидательно отозвался Гончар о Соломин Павлычко (1958—2000) из-за ее перевода на украинский «Любовника леди Чаттерлей»)! Не дадим скатиться СПУ в пропасть, где уже нашел свое безвестное место ее пропащий рупор, газета «ЛУ» (наша дацзыбао, по определению Александра Сизоненко).
«Пусть государство деньжат подкинет, – потребовал Юрий Мушкетик, шеф украинского филиала придуманного Сталиным и Максимом Горьким Союза писателей, а ныне Национального СПУ, – вот мы их по-братски поделим в издательствах «Український письменник» (бывший «Радянський (советский) письменник») и «Дніпро». Их отныне следует величать как национальные и финансировать из государственного бюджета. Да не оскудеет рука подающего национальным талантам!»
Воцарилась глубокомысленная тишина. Все замерли в ожидании соломонова вердикта. Что же Данилыч решит?
«Национальное издательство, – вмешался пенсионер Павло Загребельный, – это пустая смена вывески. Ничего больше. К слову, есть ли различия между национальным дураком и просто дураком?»
Снова пауза. Ее оборвал Леонид Данилович: «Нет никаких различий».
«В средине 80-х мне пришлось побывать в Ботсване, – продолжил Павло Архипович, – где на территории, сопоставимой с украинской, на миллион жителей приходится три миллиона коров, миллионов с пять овец и коз и один писатель. Вот мне сдается, что скоро и у нас останется один писатель, да и тот в бронзе, на Каневской горе… Наша нищета – она государственная или национальная?
Если государственная, то за это отвечает государство, а если национальная, то отдувается нация, сиречь никто. Народ сводят до состояния голодранцев для того, чтобы откуда-нибудь выскочил очередной моисейчик. Лекарю, излечися сам. Не следует ничего просить. Следует вспомнить, как жили вчера. Литература не требовала дотаций – она приносила прибыли. И кино давало ежегодно полмиллиона чистой прибыли в ценах 70-х. Театры не роскошествовали, но и не погибали. На библиотеки выделяли ассигнования…»
Так было на Украине советской. На Украине после 91-го Загребельного обвинили кроме всего прочего в пристрастии к коммунистическому правописанию. Когда в 1984 году его роман «Разгон» издали тиражом 700 тысяч экземпляров в Китае, то на обложке фамилию Загребельный транскрибировали как Тлагле-белни: в Поднебесной звук «з» в начале слова не используют, а звук «р» не имеет место быть. На немецком языке в архивах Третьего рейха родное село плененного лейтенанта Солошино транскрибировали как Золошино.
Какого рожна понаехавшие чудаки и безработные из диаспоры заставляют нас на англо-американский манер твердить: «в Украине»? И «Заповіт» Тараса Григорьевича им не указ: «…Серед степу широкого /На Вкраїні милій/…»
Сельская учительница маленького Павла Людмила Петровна Демченко поясняла, что словосочетание «на Украине», в отличие от общепринятого «в России, во Франции, в Германии», употребляют по аналогии «на Урале, на Кавказе, на Кубе, на Мадагаскаре», потому как Украину издавна вопринимали все будто поднятой над материком и над всем миром благодаря своей истории, своей первородности во всем славянском мире. Как отголосок исторического наследия от Киевской Руси в русском существовало написание «на Руси», но в России династии Романовых оно не прижилось. На Украине династий депутатов Верховных Рад забыли и песню про Байду: «…Будеш паном на всю Вкраїночку!», целый корпус песен времен Богдана Хмельницкого: «А на тій Вкраїні високі могили, /Сизокрил орел літає.»
Еще Загребельный недоумевал по поводу лозунга «розбудова держави». Сей клич, на его взгляд, завершился пшиком. По Цыбулько, «роздубова держава». Как при батьке Махно! Вперед в никуда! И беда в первую очередь не в повальной лжи, казнокрадстве, воровстве. Торжествуют случайные калифы на час, недоучки.
«Они – самые жестокие, потому что мстят людям и всему свету за свою неполноценность, неустойчивость и незаслуженность своего положения, – ставит Загребельный недоучкам диагноз в романе «Южный комфорт» (1983). – Вечный страх: вот-вот спихнут так же, как перед этим он спихнул кого-то. И слепая жестокость ко всему, что выше, достойнее, благороднее».
Село Солошино. Прощание с патриархальной Украиной. 1924—1941
Откуда происходит фамилия Загребельный? Может, от слова «гребля» – плотина. Или от названия пресных коржей, печенных в пепле, «загребы»? Слово Хмельницкому. Завтра он отправляется в тяжкий путь в Крым.
«За ужином я назвал тех, кто поедет со мной к хану. Для красноречия возьму Клишу Яцка, а еще его – как свидетеля наших тайных переговоров с королем и канцлером коронным в Варшаве и моей встречи с Оссолинским в Киеве. Кривоноса для молодечества и красочности хмурой, которой отличался он в своих саетах и кармазинах турецких, гордый, резкий в словах, весь в силе резкой, которая так и била из его костлявых угловатых плеч и из всей его высокой фигуры и жилистых рук. Бурляя, что был для меня и Чигиринским напоминанием, и мог добавить что-нибудь о морских походах, в которых они побывали с Кривоносом не раз и не два, хотя воспоминания у них были разные: Кривонос помнил лишь о стычках с вражескими галерами, а Бурляю самыми трудными казались его состязания в силе с морем и стихиями.
Ужин наш был простым, чтобы не сказать – убогим, как и водилось на Сечи. Уха рыбья в деревянных корытцах на столе да загребы к ней, потом отварная рыба на стябле, а ко всему этому горилка и пиво в больших бутылях, из которых мы попивали деревянными михайликами, потому что здесь ни чарок, ни стаканов не водилось. Когда объявил я, что завтра на рассвете отправляемся к хану, и сказал, кто должен со мной ехать, то никто и не возражал и не сетовал на неожиданный отъезд: казак всегда готов отправиться хоть и на край света».
Роман о Богдане Хмельницком Павло Загребельный завершает песней своего героя:
Ей, козаки, діти, друзі!
Прошу вас, добре дбайте:
Борошно зсипайте,
До Загребельної могили прибувайте,
Мене, Хмельницького,
К собі на пораду ожидайте.
Мой дедушка Архип Панасович Загребельный (1893—1974) вернулся с фронтов Первой мировой войны (1914—1918) после контузии (он почти оглох) и лечения в Москве. Родным с фронта послал фотографию, на которой он стоит в папахе между двумя своими товарищами по Туркестанскому полку. Химическим карандашом нарисовал для солидности на солдатских погонах сразу по две лычки – младший унтер-офицер. По возвращении в Солошино фронтовик стал искать невесту. Мечталось – побогаче.
Сначала в соседнем Переволошино, через которое удирали на противоположный берег Днепра шведы с мазепинцами в 1709 году, нашел дочку владельца трех ветряных мельниц, десяти пар волов и немеряных земель. Представился уже не унтером, а настоящим офицером. На смотрины невеста с отцом приехали на пароконной бричке, устланной цветастым ковром. Заглянув за ветхий тын, где метушилась куча-мала детворы, а всего скота был пес Букет, норовистая полтавчанка не дала отцу даже слезть с брички и повернула лошадей обратно в Переволошино.
Потом Архип Загребельный нашел еще одну богатую невесту, уже по ту сторону Днепра. К этим смотринам готовились более тщательно. Маленьких сестренок распихали по соседям, во дворе подмели, убрали хату, побелили, одолжили у Антона Раденького кобылу, а у старого Белоуса – две коровы, попривязывали их возле хлева, чтобы сразу было видно. В амбаре, где стояли бочки для пшеницы и плетенный из соломы кошель для муки, Загребельный вытворил такое, что об этом потом долго рассказывали в Солошино. Он опрокинул бочки вверх дном (все равно ведь порожние!) и насыпал на донца по нескольку пригоршней пшеницы. Вышло, что те пятидесятипудовые бочки были полнехоньки отборного зерна! Если бы он этим и удовольствовался, может, сватов с того берега и удалось бы провести, но солошинский Потемкин не мог остановиться в своей изобретательности и заодно с бочками перевернул еще и порожний кошель и насыпал на его дно взятую в долг у тетки Радчихи пшеничную муку.
Сваты проглотили все: и Антонову кобылу, и Белоусовых коров, и полные бочки пшеницы, и заверения, что Архип – единственный сын. К несчастью, нашелся Фома неверующий. Гости уже выходили из амбара, когда один из сватов удивился, что соломенный кошель почему-то стоит вверх дном. Хватил пригоршню муки, а пальцы его царапнули по дну. Сват многозначительно хмыкнул, подошел к бочкам, запустил руку, и – раз, другой, пальцы его заскребли о деревянное дно. Обман был раскрыт с позором и унижением, сваты забрали горилку, с которой приехали, а с горилкой, ясное дело, и невесту. От Днепра в хату Архип привез их нанятыми лошадьми, теперь получалось, что везти уже ни к чему, и бывшие сваты, проклиная солошинских мошенников, должны были тащиться пешком через плавни, через пески к своей лодке.
Слава про неудачное сватовство Загребельного разошлась по обоим берегам Днепра, и пришлось ему оставить надежды на богатую невесту. Услышал он, что из Таврии из наймов у колонистов вернулась моя будущая бабушка Варка, с которой он когда-то ходил на вечерницы. Так они и нашли друг друга.
Жизнь в пору гражданской войны в степях Украины была полна лишений и опасностей. Однажды нагрянула банда Маруськи и стала отбирать коней. Архип Загребельный ушел с ними, чтобы не отдавать единственного коня. С ним же сбежал обратно от лихих кочевников. Но жизнь продолжалась!
После свадьбы у Архипа и Варвары Кирилловны (1893—1931) несколько лет не было детей, поэтому они решили взять приемного сына. А после рождения 25 августа 1924 года их единственного ребенка, Павла, моя бабушка тяжело заболела.
В том же августе 1924 года Демьян Бедный хвалится полученным от самого товарища Сталина письмом от 15 июля. В нем кроме всего прочего вождь пообещал близкое начало революции в сельском хозяйстве. Она грянет в 1929 году. В том же августе 1924-го Адольф Гитлер диктует «Майн кампф» в Баварии, в тюрьме города Ландсберг. В этом же году выходит в свет «Волшебная гора», где в прологе Томас Манн скажет о поре, которая предваряла драму Первой мировой войны и последующей эпохи, когда «началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться». Старый мир сломали. Завершилась литература фальшивого пафоса?
В романе «Разгон» немало страниц автор посвятил Солошину, детству своего двойника – академика Карналя.
«…Родился среди людей, которые веками мечтали владеть землей и наконец достигли осуществления своей мечты, он еще не знал тогда, что ему самому покажется этого недостаточно и он замахнется на недостижимое – захочет познать и неприступные тайны мироздания. Уже заканчивая десятилетку, с головой, полной порой неупорядоченных, но все-таки знаний, он все равно чувствовал себя маленьким мальчиком, смотрел не только на своего отца, но и на всех тех, среди которых вырос, как бы снизу вверх. Рисовалось ему всегда такое: плоские беспредельные поля, а люди на них – большие, до самого неба, соединяют собою землю и небо, над ними – вся Вселенная с солнцами, звездами, галактиками. Уже когда увидел чуть ли не всю планету, чужие города, леса, моря, горы, равнины, все равно родной край оставался надо всем, в могучих черноземных пластах жирной земли, и люди там – точно эти пласты, с тяжелыми руками, большеногие, с зычными голосами, а если те голоса приглушаются, то только для ласки или для шутки. Жизни там, может, и не хватало внешней изысканности и признаков достатка, но поражала она своим богатством сугубо человеческих неповторимостей, мудрости, благородства, талантливости, безграничной роскошью природы. Карналь навсегда сохранил в своей крови бесконечность степей, раскинувшегося, точно сонный небрежный гигант, Днепра среди нанесенных из России, Белоруссии, Украины перемытых белых песков, незабываемое зрелище белорусских плотов, плывущих сверху вниз, рубленых домиков на них, ярких костров, непостижимых костров на бревнах. Жили в нем ленивый зной, дикие громы, весенняя и осенняя грязь, в которой могли утонуть целые цивилизации, а не только добрые намерения, жили в нем голоса больших птиц, прилетавших каждую весну из ирея: лебедей, журавлей, гусей; ржаной хлеб с калиной, испеченный на капустном листе, свист ветров, праздники с алыми стягами, с которыми каждую осень ходили миром на братскую могилу красных партизан, ледоход на озерах, первое кино в их селе и первый детекторный приемник…»
В центре села стояла огромная деревянная церковь, были лавка, сход, впоследствии ставший сельсоветом, жил батюшка, в хате которого после 1929 года разместили семилетнюю школу. На площади дважды в неделю собирался базар, а по большим праздникам – ярмарки. Солошино помнило еще набеги Батыя и половцев, о чем свидетельствовали Половецкое урочище за Кучмиевым глиняным оврагом и Татарские могилы на Химкиной горе. Но наибольшего своего расцвета село достигло после Переяславской рады, когда очутилось на отрезке нейтральной территории между землями Запорожского казачества, Российской империи и Польши. Тогда чуть ли не со всей Украины сбегались сюда все, кто не хотел быть ни под казацкой старшиной, ни под русскими дворянами, ни под польскими панами, и село стало своеобразным заповедником украинских фамилий, которых тут насчитывалась сотня, а то и тысяча и которые никогда, кажется, не повторялись: что ни хата, то фамилия, в которых, вообще говоря, не было ничего необычного, но их сосредоточение в одном и том же селе всегда представлялось Загребельному явлением редкостным. Были там: Власенко, Рыбка, Шевченко, Дудка, Яременко, Слесаренко, Нестеренко, Загреба, Супрун, Веремий, Проскура, Довж, Давыденко, Емец, Загривный, Тимченко, Кобеляцкий, Капинос, Литовченко, Литвиненко, Москаленко, Марьяненко, Мищенко, Надутый, Полежай, Поляшенко, Пирский, Резниченко, Руденко, Смильский, Тимошенко, Тесля, Твардовский, Федоренко, Цыганко, Швирник, Ященко.
Крестили Павла 29 августа 1924 года. «Открою вам секрет: в то время в селах уже практически не отмечали дни рождения, – Павло Архипович вспоминал на склоне лет, – и даже не знали, кто и когда родился. Дело в том, что с приходом большевиков первым делом разрушили сельские кладбища, на них паслись козы. И это пренебрежение к памяти распространилось на сельские семьи, отец мой знал дату своего рождения только потому, что у нас в хозяйстве была кобыла с… паспортом. Крестьянам паспорта не полагались, а вот кобыла должна была иметь документ, поскольку числилась в фонде Красной армии. Отцу выдали зеленую книжечку с пятиконечной звездой. И там было написано: день и год рождения хозяина кобылы. У меня, к счастью, была церковная метрика, выданная сельским попом, с датой крещения – 29-го, и рождения – 25 августа… Подарков детям в дни рождения тогда уже не дарили. Но еще по традиции праздновали Рождество, Пасху».
В церковь, где правил службу батюшка Самосвят, летом к причастию Павла водили сестры отца Поля, Галя и Маня. Накануне вечером мама сыну мыла ноги, утром надевала новые штанишки и сорочку. В церкви босоногий Павло нерешительно приближался к облаченному в золотые ризы седобородому священнику за проскуркой и причастием с ложки с крестом на рукояти, лжицы. Отец Самосвят увлекался греческой мифологией. Одну девочку в Солошино окрестил Музой. Но среди Килин и Горпин к ней вскоре стали обращаться Музина. Другого мальчика назвал Ясон. Среди Гаврил и Гараськив люди ему вначале подобрали благозвучное Гасон. Но потом остановились на Асон, чтобы не возникало сходства с «гаспидом», злым и лукавым человечком, бесом.
В 1929 году началась коллективизация. Сначала нанесли удар по религии как опиуму для народа (по выражению Маркса), закрыли храмы. В Морозово-Забигайловке люди не дали закрыть церковь, ее подожгли комсомольцы. Всю ночь пылал храм, пламя видели кругом в степи до Козелыцины, до Кобеляк, до Царычанки, до Кременчуга.
С 1929 года рушится патриархальный быт Солошино. Закрывают церковь. Проповедуют религию колхозного строительства. Манихейство, деление той поры на черное и белое – грех против истины.
«…Маленького Павла посылали сушить вишни – на крышу сельской деревянной церкви. Церковь уже приспособили под зернохранилище, но старинные иконы еще были целы, и мальчик часами всматривался в них… – публикует в 2004 году свой репортаж Ольга Унгурян в газете «Факты». – Спустя годы он станет знаменитым писателем, автором бестселлеров. Со стороны может показаться, что Павло Загребельный баловень судьбы и успех сам шел ему в руки. Но это совсем не так. Не случайно в числе любимейших философов Павла Архиповича – урожденный киевлянин Николай Бердяев, сказавший: «Я страдаю, значит, я существую».
«Сегодня мы теряем то, что приобрели, и как нынче советскую власть ни проклинают, а она дала очень много. В селе на Полтавщине, где я родился и рос, 90 процентов жителей были неграмотными, и моя мать в том числе. Когда создали кружки по ликвидации безграмотности, мама туда ходила и брала меня с собой. В пять лет я уже прекрасно читал. Именно тогда людей научили писать и читать, дали среднее образование молодежи, – утверждает на склоне лет Загребельный в интервью Дмитрию Гордону в «Бульваре Гордона». – В процентном соотношении мы стоим на первом месте по количеству людей с высшим образованием, и это все забыть? Значит, образованные либо уедут за границу, либо останутся невостребованными. На чем будем строить общество?»
В 1931 году Павло теряет маму. На рубеже 80-х художник нарисовал портреты матери и отца по выцветшим старым фотографиям. Эти два портрета родных людей будут висеть над письменным столом Загребельного до последнего его дня. Семилетний Павло будто и не заметил маминой смерти. Подобно академику Карналю.
«Воспринял ее как переход в какое-то непостижимое, недоступное разуму состояние: между небом и землей, нечто вроде полосы света, прозрачная дымка, просвеченная розовым солнцем, крыло теплого тумана, которое увлажняет тебе глаза тихими слезами. Уже впоследствии, став академиком, не верил ни в метампсихоз, ни в поэтичные байки о белых журавлях. Продолжал верить в светлую дымку между небом и землей, видел там свою мать, и чем старше становился, тем видел отчетливее. Но кому об этом расскажешь?»
В 1932—1933 годах Загребельный переживет голод. «…Голодная весна, когда сквозь оконные стекла толкался серый простор, и в нем едва угадывалась хата Якова Нагнийного, Матвеевский бугор, Белоусов берег, и плыли словно бы из-за того бугра какие-то люди, похожие на ржавые тени, подплывали, как бессильные рыбы, к окнам хаты, шевелили беззвучно губами по ту сторону окна, плакали, скребли черными пальцами по стеклу, пугали маленького мальчика, съежившегося на печи, о чем-то молили, а потом сползали куда-то вниз, точно тонули», – вспоминает он весну 33-го в «Разгоне».
«Село у нас было очень большое, оно протянулось вдоль Днепра на 10 километров, целый казачий поселок. И две трети села, это примерно 7 тысяч человек, умерло. В той стороне, где мы с мачехой жили, осталось всего две-три хатки. Вымирали семьями…
Ели затолоку из кукурузных кочанов и курая – полевой травы. Собирали желуди… Удивительно: у нас, воспитанных в православной вере, так много табу в отношении пищи! Китайцы, как мне довелось видеть, едят абсолютно все, что ползает, летает и плавает. А наши люди умирали, не позволяя себе есть лягушек, насекомых, грызунов. И когда сейчас некоторые исследователи голодомора настаивают на том, что у нас процветало людоедство, это меня возмущает. Могло быть несколько фактов каннибализма на всю Украину, все остальное – домыслы. Люди умирали от голода как-то покорно и тихо. Так же смиренно, как сейчас живут. У нас очень терпеливый народ…»
В романе «Тысячелетний Николай», в разделе «Век XX. Введение третье. Гайдамака» Загребельный обратится к этой драме.
В 1938 году он окончил Солошинскую семилетнюю школу. Десятилетку окончил в соседних Озерах. Михаил Ткаченко в 2009 году опубликовал в журнале «Сичеслав» свои воспоминания об однокласснике.
«Он был скромный, настойчивый и трудолюбивый хлопец, выделялся среди других большими способностями к учебе. Мы с ним дружили. Все три года учебы он был круглым отличником. Особенно отличался своими знаниями литературы. Помню его прекрасное выступление про творчество Тараса Шевченко, с которым он выступил на литературном кружке. Имел прекрасную память. Прочитанную книгу мог пересказать в наименьших подробностях.
Жили мы тогда бедно. Почти всегда полуголодные. В школе не было ни столовой, ни буфета. Из дому приносили, и то не всегда, кусок хлеба. Я ходил в школу за четыре с половиной километра. Павло зимой жил на квартире, потому что Солошино было за десять километров… Добраться до школы было трудно, особенно зимой. Старались прийти раньше, до начала, чтобы поиграть в бильярд в вестибюле». Добавлю со слов отца, что школа размещалась в бывшем помещичьем доме. И бильярд там был замечательный. Эту игру Загребельный освоил. Как и шахматы. А кулинарию начал постигать еще в начальной школе, семилетке в Солошино.
«Есть у меня свое фирменное блюдо, которое я частично позаимствовал из поповской кухни. Школа, где я учился, была в доме попа, – вспоминал он в 2001 году. – Половину комнаты занимала огромная печь. Нам показывали горшки и рассказывали, какие вкусные блюда в них готовили. Одно я запомнил и потом модернизировал на свой вкус: беру синие баклажаны, помидоры, баранину, горький красный перец, сладкий перец, петрушку, сельдерей, все обжариваю на оливковом масле, потом тушу на слабом огне. Это блюдо я однажды приготовил в одном турецком ресторане – всем понравилось».
В январе 1941 года в оккупированном немцами Париже Пабло Пикассо (1881—1973) пишет пьесу «Желание, пойманное за хвост». Спустя четыре с небольшим года освобожденного войсками США лейтенанта Загребельного через Париж вернут в ряды Красной армии. Эпиграфами из пьесы Пикассо в 1968 году писатель Загребельный в романе «Диво» попытается выразить свое восприятие новейшей истории.
21 июня 1941 года на выпускном вечере в селе Озеры Павло Загребельный, как и будущий великий кибернетик Виктор Глушков в городе Шахты, получил свидетельство с оценками «отлично» по всем предметам, от первого – «украинский язык» до двадцать первого – «военизация». А 22 июня в 12 часов дня по радио юноши услышат речь Молотова. Это война. Статью «Роксоланство» (1996) Загребельный завершает P.S., где вспомнит черное солнце 22 июня 1941 года, «коли зламався світ».
Анабасис красноармейца Загребельного. 1941, июнь – 1946, январь
Наутро 23 июня 1941 года вчерашний десятиклассник Павло Загребельный в возрасте 16 лет 10 месяцев выстоял очередь добровольцев и призывников в райвоенкомате райцентра Кышиньки. С запечатанным сургучными печатями предписанием учиться на артиллериста отправляется Загребельный в неизведанный путь. Высокий широкоплечий юноша в сером в черную полоску костюмчике с маленьким саквояжем в руках, где лежали полпаляницы, четверть сала, вареная курица, рушничок, майка и трусы, отправляется в долгую дорогу сначала речным пароходиком по Днепру, потом с пересадками поездом. Добирался он до Киева несколько суток среди ужасных картин первых бомбежек и пожаров: Кременчуг, Ромодан, Гребинки.
«На станции «Гребинки» наш состав и эшелон, которым из Киева в эвакуацию везли членов Союза писателей, попали под бомбежку, – рассказывал Загребельный Гордону. – Налетели «юнкерсы»: бомбы, пулеметные очереди, горящая пшеница, мертвые тела. Так я впервые увидел кровь. А оказавшийся там же поэт Семен Гордеев описывал свои впечатления от налета примерно так: дескать, как член партии с 1918 года и советский писатель, который не боится фашистских стервятников, я не стал от них убегать, как беспартийные, а сел в пшено (он не знал, что пшено и просо – не одно и то же). Сижу, мол, в пшене и грожу кулаком «юнкерсам»: «Попадетесь вы мне рано или поздно!», но тут от вагона отлетела шалевка и дала мне по морде… Так что впечатления впечатлениям рознь…» В Киеве Загребельный оказался поздно вечером. У вокзала его остановил патруль. Два молодых солдата, узнав, что юноша ищет училище, посоветовали переночевать в ботсаду, ведь в городе ночью передвигаться нельзя. Он переночевал на лавке в Старом ботаническом саду (метро «Университет») у пруда с обыкновенной украинской ряской. Спозаранку явился к дежурному по 2-му Киевскому артучилищу старшему лейтенанту Матвееву. Первая и яркая сцена войны – показательная казнь в лесу под Броварами, в Быковне.
Их выстроили перед командованием Юго-Западного фронта во главе с генерал-полковником Кирпоносом. «Перед нашим строем поставили осужденного трибуналом красноармейца: босого, в гимнастерке без ремня, со связанными за спиной руками. Нам сказали: «Это изменник Родины! В первый день войны он сдался немцам, прошел скоростную школу диверсантов и был сброшен на парашюте в Дарницу, чтобы подавать ракетницей сигналы о продвижении наших эшелонов». Вы поверили бы, что за такой короткий отрезок времени человек успел столько понаделать? Это уже потом я понял, что схватили «образцово-показательный экземпляр», а тогда верил каждому слову. Поставили «диверсанта» перед заранее заготовленной могилой, отделение солдат честно выполнило команду: «Пли!»… Упал он прямо в яму, после чего каждый из членов «тройки» подошел и произвел контрольный выстрел, чтобы парень, не дай Бог, не ожил. Таким было воспитание чувств, а уж после него – на фронт».
29 июня 1941 года Павло впервые увидел Софию Киевскую. Курсантов посадили на грузовик-полуторку и повезли в Софию. Там грузили на машину обычные служебные сейфы, которые отправлялись в эвакуацию. Ощущение абсурдности этой операции запало ему в душу.
Как в романе «Диво» (1968) Борису Отаве. «Еще вспомнил: начало войны в Киеве. Почему-то более всего запомнилось, как вывозили отовсюду, грузили на машины сейфы. Их выносили с огромным трудом, вокруг них всегда толпилось много мужчин, но подойти к ним не могли, потому что остальные несгораемые сундуки были слишком маленькими. Так когда-то обтекали волны человеческого муравейника строившуюся Софию в Киеве. Каждому хочется подойти поближе, а места не хватает. Но почему эти люди так жаждали вывезти из Киева прежде всего сейфы, маленький Борис тогда не мог взять в толк. Оставляли Киев, оставляли соборы, музеи, памятники, Богдана и Шевченко, а тащили какие-то неуклюжие, угловатые железные сундуки».
В июле – сентябре 1941 года сошлись миллионные армии на поле боя между Днепром и Десной. Об этом сражении в дневнике начальника Генштаба сухопутных войск Третьего рейха генерал-полковника Франца Гальдера сказано: «Величайшая битва мировой истории».
Признаюсь, для меня стало открытием то, что, оказалось, уже 11 июля 1941 года 13-я танковая дивизия группы Клейста вышла к северо-западу от Киева на рубеж реки Ирпень. «Их встретил сильный огонь артиллерии 2-го Киевского артучилища», – сказано военным историком. Гаубицы курсантов были вкопаны в землю, только стволы торчали. Для расчета вырыли окопчики-щели – вполне безбедное существование. Говорили, что все уже разбежались, что Киев сдан немцам, а курсанты в своих щелях ничего не знали наверняка. Стреляли в противника километров за 10—12, были на фронте, но не видели врага в лицо.
Историческая малограмотность сегодняшних отечественных смердяковых, бьющих Европе поклоны «Ave», удручает. Воспевая просвещенность Запада и отвергая праздник 9 Мая, они почему-то закрывают глаза на то, что еще летом 1941 года на Украине происходила форсированная евроинтеграция. Бравые танкисты Гитлера в июле 1941 года не собирались входить в Киев. Об этом педантично делает заметки европеец до мозга костей Гальдер. Гитлер изначально планировал окружить Киев и стереть его дальнобойными орудиями с лица земли, потому что там был слишком высокий процент еврейского населения. Спасла Киев европейская безалаберность: боеприпасы к трофейным дальнобойным орудиям из Франции оказались непригодными.
В книге «Очерки истории Краснознаменного Киевского военного округа» отец загнул края нескольких страниц, будто хотел помочь в исследовании своей биографии. Загнуты края страниц, где говорится о его боевом крещении. Загнуты страницы мемуаров маршала Константина Рокоссовского, где речь идет о весне – лете 1942 года. Именно тогда Красная армия понесла потери, возможно, еще более горькие, чем в 1941 году!
После боев на реке Ирпень училище переводят в Харьков и объединяют с Харьковским артучилищем. Дальше – Сумы и объединение с Сумским артучилищем. Осенью училище эвакуируют в Фергану. Летом 1941 года училищем командовал генерал-майор А. Чеснов.
Тем временем Совинформбюро сообщало: «В интересах самообороны 25 августа 1941 г. СССР воспользовался правом ввода войск на территорию Ирана, предоставленным статьей 6 советско-иранского договора от 26 февраля 1921 г., предусматривавшей подобную акцию «в случае попыток третьих стран превратить страну в базу для военного выступления против Советского государства и в случае опасности советским границам». На самом же деле Рабоче-Крестьянская Красная армия за пять суток силой захватила северные провинции Ирана.
Свои университеты после Киевского котла и саратовского госпиталя курсант Загребельный из полтавского села Солошино продолжит на востоке Персии, в Хорасане, на родине Фирдоуси (ок. 940 – ок. 1020—1030). Дальше, южнее, его будет ждать «анабасис», восхождение по склонам горного хребта Келат. Настольной книгой отца в грядущей жизни станет «Анабасис» Ксенофонта (ок. 430 до н. з. – ок. 355 до н. з.).Киевский котел, разгром советского Юго-Западного фронта во многом предрешила 2-я танковая группа генерал-полковника X. Гудериана. Для противодействия Гудериану Ставка Верховного главнокомандующего создала Брянский фронт. 24 августа 1941 года в разговоре по прямому проводу Сталин спросил командующего фронтом генерала Еременко: «Вы обещаете разбить подлеца Гудериана… Ваш ответ?» Еременко отрапортовал: «Я хочу разбить Гудериана и безусловно разобью…» Не тут-то было.
Для укрепления стыка между Брянским и Юго-Западным фронтом с 20 августа формируется 40-я армия. В нее влился отряд из 1500 курсантов-артиллеристов генерала А. Чеснова. Первый бой отряда произошел 8 сентября у села Волокитино на Сумщине.
10 сентября 1941 года Гудериан прорвал фронт 40-й армии между Конотопом и Бахмачем, захватил эти города, устремился к югу, в глубокий тыл Юго-Западного фронта, ворвался в Ромны, соединившись со сброшенным там воздушным десантом. Ему доложили, что наступление стопорят артиллеристы Чеснова на рубеже реки Сейм. Гудериан распорядился направить на прорыв элитную часть 2-й танковой группы, 46-й моторизованный корпус генерала барона фон Фитингофа (Шеель). Только что – в апреле-мае 1941 года – этот моторизованный корпус триумфально проутюжил Югославию: Загреб – Белград – Сараево.
Сорокопятка Загребельного стояла на лугу около речки Вир, левого притока Сейма. Бой произошел во второй декаде сентября 1941 года. Он изображен в повести «Дума о невмирущем» (1957). И не только. Об этом бое отец повествует в романе «Юлия, или Приглашение к самоубийству» (1994). «Когда танки идут в атаку, в пространстве появляется вибрация, тогда нарастает густой металлический звон, от которого можно сойти с ума».
Раненого курсанта самолетом доставили в госпиталь Саратова. С тех пор и до начала 1990-х Загребельный был слеп на один глаз. Операция корифея украинской офтальмологии Николая Марковича Сергиенко вернула ему зрение.«20 сентября я посетил, – отметит в мемуарах Гудериан, – 46-й корпус. Генерал Фитингоф доложил мне о трудностях, имевших место в течение последних дней при ведении боевых действий южнее Глухова. Особенно отважно воевали на стороне русских курсанты Харьковского военного училища под командованием своих преподавателей». Танкисты лейбштандарта «Адольф Гитлер» в середине дня 8 октября после боя овладели Мариуполем. В романе «Зной» (1960) Загребельный опишет приключения моего дедушки Михаила Щербаня – в 1941 году директора нынешнего завода имени Ильича в Мариуполе. Михаил Щербань только отправил последний эшелон с рабочими и оборудованием в эвакуацию на Урал и собирался, упаковав секретные чертежи установок для «катюш», покинуть кабинет. Вдруг он увидел немецких мотоциклистов прямо во дворе заводоуправления. Просто бежать было нельзя. Уничтожить бесценные чертежи – тоже нельзя. Попробуй докажи своим, что оригиналы документов не достались врагу. Два месяца директор завода Михаил Щербань пробирался на восток. В спецовке за пазухой держал бесценные документы, а в кармане – «коктейль Молотова». Щербань готов был при первой же опасности ареста сжечь себя вместе с чертежами. Охотясь за ним, как за зверем, оккупанты повсюду, по всем окрестным селам, развесили его портреты. Красный директор победил, вышел из окружения, а затем всю войну руководил трубопрокатным заводом в Челябинске. В конце войны нарком Тевосян перевел Щербаня в Днепропетровск.
Осенью 41-го за Саратовом дорога солошинского путешественника, как уже упоминалось, пролегла в Среднюю Азию. А оттуда в составе полка горной артиллерии – в Иран. По Гауданскому тракту Ашхабад – Кучан с выходом на столицу Хорасана Мешхед. Юного странника зачаровал Восток. Ночью в пустыне над ним взошел молодой месяц. Он по-южному повернут рогами вверх и напоминает не серп, как в наших широтах, а серебристую призрачную лодку, которая плывет по черному океану неба, усеянному звездными островами. К строкам великого поэта Персии Хафиза (1325 – ок. 1390), цитируемым в приключенческой повести «Марево» (1957), действие которой происходит в Иране, Загребельный обратится на склоне лет. Ими он завершит рассказ «Калахари» (середина 1980-х) и сам сборник «Неймовірні оповідання» (2008):
«Хафиз, надежду брось на счастье в этом мире,
Нет блага в нем и все нам к скорби и вреду.
…Я не умел читать по-персидски, и в химерных рисунках чужих письмен увидел иное: серебряный ковш, две конские подковы, саблю, три розы, четыре звезды, текущую воду и неудержимый ветер, который вольно летит над всеми пустынями света».
В мае 1942 года красный командир лейтенант Загребельный прибывает в 61-ю армию Брянского фронта (с 29 июля 1942 года – Западного фронта). С мая 1942 года положение Красной армии катастрофически ухудшается. В мае 1942 года пала Керчь. В операции «Фридерикус» противник разгромил советские войска в Изюмском котле под Харьковом. Немцы летом 1942 года успешно наступают на Кавказ и Сталинград. 28 июля 1942 года Верховный главнокомандующий подписывает приказ № 227 «Ни шагу назад».
С целью захватить узлы железных и автодорог Сухиничи и Козельск 11 августа 1942 года группа армий «Центр» бросила против советского Западного фронта 400 танков в операции «Вирбельвинд» («Смерч»).
18 августа 1942 года Гальдер заметит в своем военном дневнике: «Наступление по плану «Смерч» все еще не может набрать нужный темп. Очень сильное сопротивление и труднопроходимая местность». В этот же роковой день 18 августа 1942 года Загребельный получает второе ранение. Местоположение своей противотанковой батареи он описал в романе «Разгон».
«Вы не знаете, что такое фронт и какие ситуации там возникали каждый день и каждый час, а то и каждую минуту… Попытайтесь вообразить себе такую картину. Наш полк занимает позиции в лесу над широким заболоченным яром, на той стороне яра, на возвышенности, укрепились фашисты, сидят там уже три месяца…». И грянул «Смерч». Из этого яра после дикой бомбардировки и артподготовки на красноармейцев поползли танки. Лейтенант Павло Загребельный защищал высоту 276 у Кирейково – Госьково, безымянного ручья, который впадал в реку Вытебеть, в Ульяновском районе Калужской области. За высотой прямо пролегал путь на Волхов, а правым флангом – на Шиздру.
«Мы успели один раз пальнуть из своей сорокапятки и перебить танку гусеницу. Он полоснул в ответ из крупнокалиберного пулемета, – возвращается Загребельный в август 42-го. – Меня зацепило, и я скатился в колодец блиндажа, а вот наводчика убило. Немцы отремонтировали гусеницу, подъехали и несколько раз выстрелили в проем укрытия, но ни одна пуля меня не зацепила. Тогда они бросили небольшую, почти как куриное яйцо, гранатку и решили, что мне конец.
Когда граната упала в блиндаж, я лежал на земляном возвышении и просто отвернулся от нее, инстинктивно прикрывая живот. Даже не подумал, что спину могло разорвать. Но все обошлось, только нагнало осколков в ноги. Часть их повыходила после войны, а некоторые сидят до сих пор».
17 августа 1942 года Верховный главнокомандующий подписывает директиву Западному фронту: «…Продолжают вести бои в обстановке окружения и, несмотря на неоднократные указания Ставки, помощи им до сего времени не оказывается. Немцы никогда не покидают свои части, окруженные советскими войсками, и всеми возможными силами и средствами стараются во что бы то ни стало пробиться к ним и спасти их. У советского командования должно быть больше товарищеского чувства к своим окруженным частям, чем у немецко-фашистского командования. На деле, однако, оказывается, что советское командование проявляет гораздо меньше заботы о своих окруженных частях, чем немецкое. Это кладет пятно позора на советское командование».
«Меня, умирающего, подобрала немецкая трофейная команда – пожилые, как мне тогда казалось, фрицы, лет 40-ка. Напоили кофе из солдатской фляжки, переправили в Волхов, потом в Орел. Там в бывшей тюрьме был огромный лагерь, – хранил Загребельный в памяти годы плена. – Не умер я только потому, что был молод и достаточно крепок. В ране в боку завелись черви, никто меня не лечил. Санитар из наших, добровольно сдавшийся, приходил в палату-камеру с металлическим планшетом, на котором россыпью лежали неизвестно какие таблетки. Те, кто мог двигаться, набрасывались на лекарства, а лежачие просили: «Дай мне синенькую», «А мне желтенькую»…»
После Орла был Гомель, потом Кальвария и узилища Германии. Кальвария – тихое литовское местечко, чье название у католиков означает Голгофа – место, где Спаситель принял смертные муки. В мае 1943 года в Кальварии в лагере для пленных советских офицеров Павло Загребельный пройдет через децимацию – казнь каждого десятого. За нападение на охранника лагеря комендант со своей свитой явился на плац и приказал выстроить двести-триста пленных.
Строй замер, никто не смалодушничал, не дрогнул, не стал перескакивать с места на место. Вдоль шеренги пробегал зондерфюрер с тремя автоматчиками и взмахом короткого стека оканчивал счет на каждом десятом. Его хватали, передавали другой тройке, вооруженных «шмайсерами» головорезов из зондер-команды, и они тут же расстреливали красноармейцев в упор. Загребельный услышит «зэкс», «зибен», поймет, что он восьмой и его товарищ, лейтенант Сорока, родом тоже с Украины, с Одещины, девятый. Имени десятого они не знали. Его лицо Загребельный будет помнить вечно – как образ самого родного человека.
В плену Павло выменяет за несколько дневных паек хлеба словарь, едва не погибнет от голода, но на базе школьных азов овладеет немецким. На немецком однажды примет вызов вражеского майора. Тот предложил заключенным словесную дуэль офицеров двух держав. Выиграет советский офицер, ответит без запинки на пять каверзных вопросов – получит двадцать пачек сигарет. На весь барак хватит! Проиграет советский офицер – получит двадцать суток карцера. Для конца жизни более чем достаточно. Загребельный победил. Привожу вопросы. Ответы – в «Думе о невмирущем». Какое наибольшее число можно написать с помощью двух цифр? Какое море не имеет берегов? Где все двери и окна дома будут выходить на юг? Кто написал «Эдду»? Где похоронили сердце Кутузова?
В «Думе о невмирущем» есть эпизод о спасении Семена Баренбойма. В действительности в мае 1943 года новым соседом Загребельного по нарам в шталаге «IX А» оказался маленький чернявый пленный. Познакомились. Тот представился: «Илья Майданский, старший техник-лейтенант химслужбы». Загребельный его «покрестил» в донского казака Кондрата Майданникова из «Поднятой целины» Михаила Шолохова (1905—1984) и дал наказ в комендатуре так регистрироваться. Они почти до конца плена были вместе. В 60-х жена Майданского, преподаватель литературы, услышала фамилию писателя Павла Загребельного по радио. Они встретились. Всегда сдержанный, спокойный Илья Майданский не смог сдержать слез.
«Никогда не завидовал талантливым людям, а любил их, и когда однажды меня спросили: «Что такое счастье?» – ответил: «Счастье измеряется количеством умных и талантливых людей, которых человек встретил в своей жизни», – признается Загребельный. – В этом смысле мне всегда везло. Даже в фашистском концлагере! Я, восемнадцатилетний парень, был в окружении образованных людей: майоров, полковников, генералов. Даже то, как вели себя эти люди, стало для меня большой жизненной школой».
Весной 1945 года Загребельный бежит из плена и становится бойцом отряда французских партизан, «маки». С приходом войск США он попал на несколько дней в Париж и вернулся в северо-рейнский регион Германии, где с апреля по ноябрь 1945 года служил офицером связи при советской военной миссии в британской оккупационной зоне и при 1-й армии США. Романы «Европа, 45» (1957), «Европа. Запад» (1961), раздел «Охота за хлястиками» из «Тысячелетнего Николая» дополняют приведенные скупые факты.
В ноябре 1945 года с наградной грамотой из рук генерал-лейтенанта К. Телегина, друга маршала К. Жукова, и наградным оружием Павло Загребельный возвращается. Этот именной «вальтер» с вишневой рукояткой аукнется ему не только на допросах у бдительных чекистов зимой 1948 года, но и в наветах записных смердяковых после его смерти.
Павло поначалу вернулся не домой, а в расположение войсковой части 32085. Точнее, в красный, так называемый фильтрационный концлагерь. Страницы о нем один раз проскочили цензуру в 1964 году и восстановлены в 2008 году в романе «Зло».
В январе 1946 года Загребельного освобождают. Формально демобилизуют «по болезни». Врачи решили, что Павло – с хронически больными после плена легкими – не жилец. В родном селе он ищет работу. Редактор районной газеты, дядько Дмитро боится взять корректором родного племянника Павла. Отказ аргументирует: «Был в плену – значит, изменник Родины».
«Четыре года по колена в крови, из собственных тел выстраивали ужасающую пирамиду, завершая ее хищным пятигранником Победы, изнемогая, карабкались по скользким отлогим плоскостям выше, выше, выше, «к окончательной…», – обращается Загребельный к 1945 году в романе «Юлия…», – а тогда все враз обсыпались с нее, как листва с деревьев, и упали к подножью вместе с осколками, сами будто осколки, ничто, прах и пепел, великие воины – и маленькие люди, бессмертные победители – всего лишь жалкие винтики. Нужно было все начинать заново». В июне 1945 года Верховный главнокомандующий в тосте на приеме после Парада Победы провозгласит: «За винтиков, за десятки миллионов простых скромных людей»Как стать автором бестселлеров. Краткий курс в 11 лет. 1946—1957
Чтобы стать писателем, как говорит пример Загребельного, необходимо обзавестись жизненным опытом. А еще – учиться. После того как родной дядя отказал племяннику даже в работе корректором, демобилизованный лейтенант становится в Солошино колхозным бухгалтером. Дело было незнакомое, но его успокоили, что все верно сосчитает счетовод Нюся. Он отправил заявление в Днепропетровский университет. Отличник, фронтовик, участник боевых действий мог поступать без вступительных экзаменов. Загребельный получил письмо-извещение, размноженное на гектографе, о зачислении на первый курс и предписание иметь ложку, миску, полотенце.
2 сентября 1946 года первокурсник Загребельный зашел в аудиторию № 54 филологического факультета Днепропетровского университета. Там он увидел впервые Эллу Михайловну Щербань. Она стояла в белом платье, держась за спинку стула.
Почему 2 сентября? 1 сентября выпало на воскресенье. Почему останавливаюсь на цифрах? Загребельный всерьез изучал нумерологию. Элла Михайловна родилась 29 января 1929 года. 29-й сонет Шекспира – любимый сонет Загребельного. Павло Загребельный почитал магию чисел. Роман «Европа, 45» имеет 38 разделов, «Зной» – 44 раздела, «Зло» – 57, «Диво» – 22, «Разгон» – 40, «Львиное сердце» – 77. «Я, Богдан» первоначально состоял из 40 разделов, но два из них советская власть запретила.
Загребельный признавался, что факультет выбрал исключительно по незнанию: «Слово «филология» перевел как «любовь к науке». Хотелось просто чему-то учиться, а оказался в самой гуще будущих поэтов и поэтесс. Представьте: 120 человек ходят по коридорам и бормочут стихи. Мне показалось, что я попал в сумасшедший дом. Там я узнал, что филология – это совсем не то, что думал, а любовь к слову. Но учился лучше всех, университет окончил с отличием».
Студенту-отличнику в городе чугуна и стали в пору послевоенных лишений приходится непросто. За учебу необходимо было платить. Нужда заставляет обращаться к ректору университета доценту Л. И. Сафронову с просьбой освободить от платы за обучение, «т. к., кроме стипендии, не имею никаких материальных средств».
«Проживает по ул. Артемовской, 15, кв. 5, – зафиксировала в своем акте обследования условий жизни студента Загребельного комиссия в составе быторга, комсорга и студента курса, – находится в тяжелых материальных условиях. Проживает в подвальной комнате на уголке. Материальным средством к жизни является только стипендия. Имеет отца, помощи материальной от него не имеет. Отличник учебы, примерный общественник. Состояние здоровья – слабое. Часто болеет. Имел одноразовую помощь со стороны профкома ДГУ – в виде безвозмездной ссуды».
В голодном 1947 году в студенческой столовой кормили одной свеколкой с какой-то подозрительной подливой. А на лекциях по политэкономии преподаватели цитировали слова Вождя о том, что «советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства».
В январе 1948 года, когда маршал Константин Жуков пребывал в немилости у Генералиссимуса, арестовали его друга генерала Телегина. Зимним вечером студент Загребельный возвращается в свой подвал. Его хозяйка с перепуганными детьми съежились за ситцевой ширмой. Два сотрудника МГБ уже перевернули все вверх дном. Опешившего студента выводят на улицу, где его ожидает третий сотрудник, слепящий фонариком в глаза, и увозят «куда следует». Допрос в областном управлении Министерства госбезопасности продлится до утра. Вспомнили лейтенанту Загребельному и знакомство с генералом Телегиным, осужденным на 25 лет по 58-й статье, и службу в Западной Германии.
Этот период жизни Загребельного и сегодня не дает покоя назойливым, точно жуки колорадские, смердяковым-атланто-евроинтеграторам. Им не комфортно в Гамериках – Европах с Загребельным, который адъютанта Власова разоблачил и из-под носа англо-американских спецов немецкого ракетчика вывез на Родину для укрепления ее обороноспособности. Не могу понять – что тут неясно? Как говорил гений разведки Рудольф Абель (Вильям Фишер), лучшая конспирация – никакой конспирации. Вот первый том романа «Тысячелетний Николай», раздел «Охота на хлястики». Sapienti sat.
Откуда в названии «хлястики»? С обложки первого тома «Тысячелетнего Николая» смотрят на нас товарищ Сталин и маршал Ворошилов. Они в длинных шинелях прогуливаются по Кремлевскому валу. Кто когда увидел хлястик на сталинской шинели? «…Наш народ этот хлястик и есть. Мы все только хлястики на шинели вождя. Невидимые, неприметные да, собственно, и ненужные…»Филологический факультет был одним из самых больших в Днепропетровском государственном университете: украинское, русское и иностранное отделения. Загребельный учился на факультете русской филологии и возглавлял студенческое научное общество, его заместителем был Олег Трубачев (1930—2002), ставший затем известным российским лингвистом.
«Однажды я случайно попал на заседание литературного кружка, старостой которого была Валя Малая, будущая жена Олеся Гончара, – рассказывал Павло о студенческой поре. – Гончар туда заявлялся как классик (он уже писал рассказы), к нему обращались за советом.
В основном там собирались шизофреники – молодые поэты, читавшие свои стихи вслух. Я не выдержал, стал критиковать. Так и прослыл критиком. Войдя в роль, согласился подготовить для редакции газеты критический материал об американских фильмах, попавших к нам из киноархивов Германии. Фильмы были разные – и вульгарные, и хорошие. Я написал статью об антипатриотическом влиянии картин на нашу молодежь. Статью написал в шутку, в духе советского лицемерия, но всем понравилось.
Вскоре начались сталинские стройки, и в Херсоне было созвано совещание писателей, коим предстояло воспевать стройку коммунизма – Каховскую ГЭС. Я туда поехал как критик, а тут как раз мой друг Юра Пономаренко женился, и в приданое невесте дали печатную машинку. «Юра! – сказал я. – У тебя – машинка, у меня – идея. Давай напишем рассказ».
Наш опус не только напечатали, но и передали по Всесоюзному радио из Москвы. Потом еще несколько рассказов – и опять удача. Так все и началось, как у дедушки Крылова. Однажды его спросили: «Как вы стали баснописцем?» – «Написал басню, какой-то господин похвалил. Если бы поругал, я бы это занятие бросил, а так – понравилось, продолжил сочинять дальше».
Накануне 7 ноября 1951 года Михаил Федорович и Елена Алексеевна Щербань отметили еще один праздник: свадьбу Павла Загребельного и Эллы, своей средней дочери. «Мы вместе учились, я влюбился в нее и ухаживал пять лет, что нынче не модно, – хранил он в памяти тот день. – Ее отец был первым секретарем Днепропетровского горкома партии, а Владимир Васильевич Щербицкий – первым секретарем Днепродзержинского горкома.
Щербицкий был моложе моего тестя на 14 лет, очень уважал его, часто приезжал посоветоваться. Тогда я впервые Владимира Васильевича и увидел. Несколько раз мы вместе встречали Новый год – еще в 60-е, а в 72-м он стал первым секретарем ЦК КПУ и был уже настолько загружен, что я его навещал очень редко, хотя думали, что от него не вылезаю. Но наши дочки дружили – они у нас одногодки».
Получив диплом с отличием, но без распределения на работу – «свободный», Загребельный с 1951 по 1953 год обивает пороги редакций в Днепропетровске. И везде получает от ворот поворот как «сидевший в плену», неблагонадежный. Тем временем 17 августа 1952 года родилась дочь Марина. Безработный отец ее нянчит, а мама преподает в техникуме, возвращается домой поздно. Отец возлагает на себя все семейные хлопоты, помогает маме проверять ученические тетради. Только после смерти Сталина в 1953 года Загребельного берут в днепропетровскую газету «Днепровская правда», где поручают сочинять статьи за подписью партийных вождей области. Одновременно он пишет рассказы, собирает материалы для будущих романов. С тех пор приучает себя к жесткому рабочему графику.
«Безграничный диапазон возможностей свободы оцениваешь и познаешь, лишаясь ее даже на короткое время. Сколько может вместить в себя человеческая жизнь? Одно принимаешь, другое отталкиваешь равнодушно, иногда ожесточенно, но всегда кажется, что никогда не будет недостатка в первично-молодых впечатлениях, знаниях и красоте, и ощущаешь уже не потребность в них, а как бы вечный голод, – утверждает он в романе «Разгон». – Тогда уплотняешь, конденсируешь, спрессовываешь свое время, подчиняешь его себе, сбрасываешь с себя неволю, неупорядоченность и снова дышишь свободой, но какого-то словно бы высшего порядка, лишенной ограничений и вынужденных запретов».
В начале 1952 года в Днепропетровске побывал редактор журнала «Вітчизна» (1950—1952), позже – член его редколлегии Леонид Новиченко (1914—1996). Загребельный попросил его об аудиенции и предложил четыре рассказа, которые они написали с Пономаренко. Поскольку Пономаренко родился на Дальнем Востоке и не знал украинского языка, рассказы были написаны на русском. Новиченко поинтересовался: «А вы можете их перевести?» Наутро начинающий литератор принес перевод. 28 февраля 1952 года он получит из Киева ответ Леонида Новиченко, написанный от руки: «Уважаемые товарищи Пономаренко и Загребельный! (Извините, не знаю, как вас «по отчеству», потому и обращаюсь так официально.) Еще раз прочитал ваши рассказы, подписывая их к печати, и не мог сдержаться… От души желаю вам больших успехов – у вас есть для этого все данные, а также, если вас начнут хвалить, – полного отсутствия «творческой» гордыни – злейшего врага рода литераторского. (Как видите, я уже «заглядываю вперед» – и это от большой уверенности в вашем литературном будущем.) С горячим приветом. Л. Новиченко».
Пономаренко переезжает из Днепропетровска в Москву. Становится специальным корреспондентом газеты «Известия» – второй по значимости в СССР после «Правды», заместителем ее главного редактора. Загребельного приглашают в 1954 году в Киев на должность заведующего отделом прозы журнала «Вітчизна». Сначала он перебирается в столицу сам. Ночует в редакции журнала или в квартире Бориса Комара, с которым подружился еще в Днепропетровске, когда Комар, заведующий отделом литературы киевского журнала «Зміна», туда приезжал. Позже он напечатал в «Зміні» один из первых рассказов Павла. Тогда же началась дружба семьи Загребельных и четы Чабанивских, Михаила и Лидии. Чабанивский (1910—1973), сотрудник редакции «Вітчизна», как и Л. Новиченко, рекомендовал Загребельного для работы в журнале.
На склоне лет отец вспоминал: те писатели, с которыми он познакомился очень давно, как только приехал в Киев, те личные связи прошли с ним через всю жизнь: «К сожалению, так случилось, что несколько очень близких мне друзей рано умерли. Моими друзями были Михаил Чабанивский, Василь Земляк, Диодор Бобырь». В 1991 году Загребельный пережил еще одну утрату: ушел из жизни Николай Зарудный. Василю Земляку (1923—1977), Николаю Зарудному (1921—1991) отец посвятил рассказ «Тризе» из «Неймовірних оповідань». Остались Борис Панасович и Зоя Дмитриевна Комар. Даже после сложной операции, опираясь на тросточку, Зоя Дмитриевна находила в себе силы наведываться к родителям и считала это своим долгом.
Диодор Бобырь (1907—1980) познакомил отца с переводом Библии на украинский пера Кулиша. В 1960-х Библию в этом, по мнению Загребельного, прекрасном переводе ему подарил Дмитро Павлычко. Она лежала на письменном столе отца в квартире на Мечникова с посвящением Павлычко Загребельному: «На молитву до свого народу!»
«Я узнал Загребельного как писателя в 1951 году из рассказа «Тихий угол», который появился… в «Огоньке». Туда попасть молодому писателю – все равно что пойти пешком с моего Дикого поля в Киев или в Мекку и Медину. Там печатались только Юрий Яновский и Олесь Гончар из украинских прозаиков и Андрей Малышко – из украинских поэтов. Обрадовался за своего ровесника, с которым познакомились в ноябре 1950 года на совещании писателей юга Украины в Херсоне и Каховке в связи с началом строительства Каховской ГЭС и южноукраинских каналов, – делится воспоминаниями Александр Сизоненко. – Новелла как раз и была об этом строительстве – скорее, это был очерк, но с характерами и настроениями живых, самобытных людей, с запоминавшимися художественными деталями. Например: «Туман был такой густой: камень бросишь – дырку в нем пробьешь!»
Но по-настоящему запомнился мне Павло новеллой «Учитель». Можно сказать, с этой новеллы или, скорее, рассказа с развернутым сюжетом он и начинается как оригинальный писатель со своей позицией, своим почерком, стилем. С расстояния стольких лет представляю себя присутствующим на зарождении этого рассказа. Павло тогда жил в Киеве один – заведовал отделом прозы в журнале «Вітчизна», дневал и ночевал в журнале, спал на своем служебном столе… Я приехал тогда из Николаева, и мы пошли с Павлом на какие-то торжества – их тогда, в 1954 году, было немало (праздновали 300-летие Переяславской рады. – Авт.). И там ансамбль скрипачей поразительно сыграл какое-то произведение Вивальди. Как же я удивился, когда увидел, что иронист Загребельный плачет! Он думал, что не видно его слез, – сидел неподвижно, наклонившись вперед, всматривался в музыкантов, а сам плакал… Я сделал вид, что не заметил его слез. Но с тех пор знаю: за иронией, скепсисом и даже сарказмом скрывается необычайно тонкая и впечатлительная душа. И прощал ему все его неудержимые эмоции, все колкости, без которых он – ну не может обойтись!»
Виктор Михайлович Глушков перебирается в Киев в августе 1956 года. Уже известный как ученый-алгебраист, он стал заниматься вычислительной техникой, прикладной математикой и кибернетикой. Ему было тридцать два года. С того времени и до последних дней своей жизни он работал на Украине. В 1962 году стал директором Института кибернетики АН Украины. Глушкову принадлежит идея издания первой в СССР «Энциклопедии кибернетики», вышедшей в 1974 году на украинском и русском языках. В 1975 году выходит роман Загребельного «Разгон», где герой, академик Карналь, повторяет судьбу и самого писателя, и Глушкова. Как Дон Кихот, он бросается на ветряные мельницы советской культуры, советской бюрократии.
Свою первую жилплощадь в Киеве Загребельный получает в коммуналке на ул. Мельникова, 1. С моей мамой и дочерью Мариной до конца 1950-х он живет в соседстве с добрым десятком других семей, с одной кухней, с печным отоплением. Там я и родился в 1957 году. До 1961-го родители перебираются в коммуналку на улице Гоголевской, 50. Семье Загребельных там досталось две комнаты.
В начале 1954 года Павла Загребельного принимают в Союз писателей Украины. 28 мая 1954 года он получает трудовую книжку, где в графе «профессия» значится – «писатель». С 1957 года Загребельный ведет отсчет изнуряющего, как марафонский забег, пути романиста. В 1957 году вышли в свет его повести «Дума о невмирущем», «Марево», своего рода итоговый по результатам занятий рассказами сборник «Учитель». На обложке сборника – факсимиле автора. К оформлению своих книг Загребельный всегда оставался неравнодушен.Тогда же, в 1957-м, появляется его первый роман «Европа, 45». В 1957—1984 годах он издаст 19 романов, из них шесть – исторических. Роман «Первомост» (1969) повествует о том, как Батый пришел покорить Киев. Защитники города напрасно ожидали его приближения по тому же пути, по которому орда уже шла на Переяслав и Чернигов: кочевое войско никогда не движется по одной и той же дороге, по одному и тому же следу. Мир широкий, путей не счесть. Всякий раз коням нужна новая трава. Несут они своих грозных всадников от травы до травы. Жизнь их течет от травы до травы. Лета исчисляют не годами, а травами. Загребельного ждали 27 трав, до 1984 года, до романа «Изгнание из рая». После этого на советской Украине его станут издавать «со скрипом», а на Украине независимой, до начала нулевых, до его знакомства с издателем Александром Красовицким, о библиографии Загребельного нечего сказать. Почему его не печатали столько лет? «Сегодня торжествует смерд, – поделился Павло Загребельный в беседе с Андреем Чирвой в 1997 году. – А что ждать от смерда?»
Цветы на камне. Миллерсгорден. 1956 (Интермедия)
В 1956 году отец тяжело заболел, три месяца лежал в больнице, находился на грани жизни и смерти. Моя мама дневала и ночевала возле него. После выздоровления отец узнает, что в СПУ распостраняют туристические путевки в Швецию. Он решает показать маме Запад да и просто сделать ей подарок, отблагодарить за месяцы пережитых тягот. Деньги на путешествие чета Загребельных одалживает у Владимира Пьянова. Владимир Яковлевич, писатель, переводчик с румынского, сосед по Конче-Озерной, был истинным товарищем. Когда в 1989 году отец поздно вечером упал и сломал бедро, первым на помощь пришел Пьянов.
В Швеции они услышали о содержании пока еще секретного в Советском Союзе доклада Хрущева на XX съезде. Развенчали в нем «культ личности» по-большевистски. По сути: полуправда. По форме: издевательство. По окончании выступления председательствующий Булганин пригрозил залу: «Прения не открывать. Вопросы не задавать».
В декабре 1956 года Загребельный публикует очерк «В стране белых ночей». Раздел «Цветы на камне» он посвятил усадьбе Карла Миллеса – Миллерсгорден. В 1906 году малоизвестный скульптор Миллес купил в предместье Стокгольма гранитную скалу. Совсем голую скалу, твердую и неприступную. Спустя два года на ней вырос домик. Потом его расширяли, перестраивали. Украшали строгими, как античные пропилеи, крытыми галереями и переходами. В скале прорубили три широкие террасы. На них посадили деревья, разбили цветники, устроили бассейны и фонтаны. В усадьбе Миллес разместил художественные коллекции, которые собирал по всему миру. И свои работы. Воплощение древнегреческих мифов, библейских легенд, скандинавских саг.
Загребельный проиллюстрировал очерк собственными фотографиями скульптур шведского мастера: «Пегас и человек», «Рука Бога», «Голова индейца». Ему пришлась по душе их монументальность. Оказался близок и девиз на входе в Миллесгорден: «Дай мне возможность работать. Пока светит сонце».
Первые романы. Редактор «ЛУ». 1957—1963
«Европа, 45» (1957) становится бестселлером. Замечу, что первую премию – им. Т. Шевченко, из двух своих государственных премий в СССР, мой отец получит через 17 лет, в 1974 году. Чтобы издаваться большими тиражами, советскому писателю, не отягощенному государственной премией, нужно было родиться Юлианом Семеновым. Или Павлом Загребельным.
В 1959 году роман «Европа, 45» переводит на русский гонимый хрущевскими идеологами российский писатель В. Дудинцев. Роман выходит в Москве в журнале «Молодая гвардия» тиражом 58 500 экз. В 1961 году в одноименном московском издательстве – уже тиражом 115 000 экз.
Впредь темы своих романов Загребельный будет менять, используя сформулированные им самим раз и навсегда профессиональные приемы. Заканчивая роман, следует, как змея, сбрасывать с себя кожу и начинать готовиться к новому абсолютно свободным от того, что было. У Загребельного, как в студенческие годы, никогда не будет записных книжек – только разрозненные листочки. Мысли, приходящие ему в голову во время многочисленных собраний и заседаний, всю жизнь он будет записывать на клочках бумаги. Когда таких огрызков набиралось килограмма два-три, садился и монтировал книгу, как панельный дом. Где занимался Загребельный непосредственно рукописью? До покупки в начале 1980-х дома в Конче-Озерной – под Киевом, в Ирпене. (Исключая санаторий в начале 1960-х, поездки на месяц летом в Одессу (16-я станция), Крым (Коктебель) или в конце 1970-х в Карловы Вары.)
На склоне долины реки Ирпень еще до 1917 года киевский промышленник Чоколов возвел дом и мебельную фабрику. Советская власть фабрику отдала рабочим, а чоколовскую усадьбу – писателям для Дома творчества Литфонда. Там построили несколько двухэтажных коттеджей, столовую. Путевка в Дом творчества предоставляла писателю одну комнату, один общий санузел, трехразовое питание в столовой и бильярдную, где по вечерам показывали фильмы. В Ирпене, приступая к очередному роману, Загребельный брал лист бумаги и… начинал с Лермонтова: «Окончив труд дневных работ…» (Строки из стихотворения «Ты помнишь ли, как мы с тобою».) Такой был у него талисман, камертон для письма.
В начале 1960-х семья Загребельных переселяется в отдельную квартиру, на ул. Мечникова, 10/2, где живет до 1977 года, до переезда на улицу Репина, 5. А сам писатель прощается с семью годами журнальной текучки с каждодневными расшаркиваниями: «К сожалению, наш журнал недостоин напечатать ваше произведение, обратитесь в иные печатные издания». Когда в редакции журнала его сменила Маргарита Малиновская, она ужаснулась, найдя в архиве копии тысяч ответов Загребельного графоманам и старым большевикам – мемуаристам.
В марте 1961 года Загребельного назначают редактором киевской «Литературной газеты». Он вступает в КПСС – беспартийному рулить прессой не положено. При участии нового редактора газету переименовывают в нынешнюю «Литературную Украину» («ЛУ»). Впервые он подпишет номер как редактор 3 марта 1961 года. Через два года Загребельного снимают, не поставив его в известность, когда он лечит открывшийся тубуркулез в Крыму, в Алупке.
Уж очень «ЛУ» досаждала главе украинских коммунистов Подгорному и иным товарищам. В том числе и доброжелательной среде советских украинских писателей. Смотри-ка, и редактор, и два романа за два года напечатал: «Зной» – о послевоенном Днепропетровске, продолжение военных приключений «Европа. Запад» (1961).
«Отважный, непредсказуемый для ЦК партии Павло Загребельный в «Литературной Украине» дал наши стихи, – повествует в мемуарах ученик Александра Довженко Николай Винграновский, – отведя каждому отдельную страницу. 7 апреля 1961 года – «Николай Винграновский. Из книги первой, еще не изданной» мои, 5 мая – «Стихи врача Виталия Коротича», 18 июля – «Нож в Солнце. Феерическая трагедия в двух частях» Ивана Драча, 17 сентября – «Зеленая радость конвалий» Евгения Гуцало…
Тут по нам и всадили из всех пушек. Не было газеты – от «Советской Украины» до областных и районных, – которые бы не стали нас молотить. Одна впереди другой, они прямо-таки начали захлебываться, что мы – отщепенцы, деструктивисты, штукари и низкопоклонники-авангардисты. Особенно досталось Ивану Драчу и мне. Драча «ушли» из университета».
«…Незадолго до «Бабьего Яра» я уже написал стихотворение, которое, между прочим, в Киеве опубликовал Павло Загребельный, – у Евгения Евтушенко есть своя версия изгнания Загребельного из кресла редактора, – (за что пострадал – его сняли с должности редактора «Літературної України»)…
Мне говорят – ты смелый человек.
Неправда. Никогда я не был смелым.
Считал я просто недостойным делом
унизиться до трусости коллег.
Устоев никаких не потрясал.
Смеялся просто над фальшивым, дутым.
Писал стихи. Доносов не писал.
И говорить старался все, что думал.
Да, защищал талантливых людей.
Клеймил бездарных, лезущих в писатели.
Но делать это, в общем, обязательно,
А мне твердят о смелости моей.
О, вспомнят с чувством горького стыда
потомки наши, расправляясь с мерзостью,
то время очень странное, когда
простую честность называли смелостью!»
В предисловии к роману «Зло» автор вспоминает, как в 1963-м из Алупки, подлечив легкие в санатории «Горное солнце», привозит в родной журнал «Вітчизна» рукопись. «Какое зло может быть в счастливой советской отчизне?» – услышал. Заставили поменять название на советско-оптимистическое: «День для грядущего».
Загребельный не сидит сложа руки. Занимается будущими приключенческими бестселлерами о пограничниках, с 1962 года приступает к рукописи своего первого исторического романа «Диво». Познает волшебный мир театра, кино.
Михаил Резникович. Сергей Параджанов. Джон Апдайк (Интермедия)
Благодаря роману «Зло» Загребельный подружится с режиссером Михаилом Резниковичем. Их инсценизация «Зла» под названием «Кто за? Кто против?» (1965) выдержала на сцене Киевского театра им. Леси Украинки более 1000 представлений.
Декорацию в виде оригинального стола на всю сцену осуществил Давид Боровский, который позднее станет главным художником московского Театра на Таганке.
«Вначале под огромным знаком вопроса, который висел на заднике, можно было рассмотреть разбросанные в беспорядке стулья, – пишут авторы-составители 3-томной антологии «Украинская драматургия» Татьяна Назарова и Ростислав Коломиец. – Потом под ритмично-ироничную музыку на сцену бодро выходила молодая, непроизносимо-типичная секретарша, расставляла стулья вокруг несуществующего стола и, когда свет в зале начнет постепенно гаснуть, выносила два телефона – зеленый и красный, и было понятно, что один из них городской, а другой – «сотка». (Правительственная советская связь, которая осталась до сих пор. – Авт.) И вдруг, будто для того, чтобы было куда поставить телефоны, из станка в торжественном рапиде поднимался огромный, чуть ли не семиметровый стол…» Театроведы считают пьесу прорывом 1960-х, украинским театром абсурда.
«Нет ни одного театра в Украине, который бы так тесно сотрудничал с Павлом Загребельным. Еще в 1965 году мы поставили первый спектакль… – чрезвычайно острая сатира на ту жизнь, на чиновничество, – рассказывает в 2010 году Михаил Резникович. – Потом был спектакль по роману «С точки зрения вечности» – «И земля скакала мне навстречу», а по роману «Разгон» к 1500-летию Киева мы поставили спектакль «Предел спокойствия», который прошел более 100 раз. Играли в нем Юрий Мажуга, Валерия Заклунная, Татьяна Назарова, Станислав Москвин.
У меня были очень близкие, человечные отношения с Павлом Архиповичем. В этом году я выпустил актерский курс в Театральном университете, и один из дипломных спектаклей был по роману Загребельного «Евпраксия». Мы решили из этой студенческой работы сделать полноценную постановку на Новой сцене, где будут играть эти же выпускники-актеры, и постановка будет идти на украинском языке. В спектакле должно быть посвящение: “Светлой памяти Павла Загребельного”».
В первой половине 1960-х Загребельный в соавторстве пишет несколько киносценариев. Один из них – с Александром Сацким, с которым находился в командировке от студии им. А. Довженко в Югославии. Югославия поражает своей красотой. Адриатика с ее неповторимо синей, невероятно прозрачной водой. Феерический город-памятник Дубровник, город мечтаний. Которская бока, похожая на норвежские фьорды, но с синей нежной водой, с синими от туч горами. Город Котор, запрятанный внизу, около самой воды. А над ним изгибы серпантина, который, кажется, ведет в небо. Герцег-Нови – нависший над морем уютный город, непривычно кипучий после задумчивого Дубровника. Маленькая Будва, горстка каменных строений на полуостровке, затопленная морем белокаменная дорога времен древних римлян через большую Будвинскую бухту. В Будве Загребельный работает полтора месяца, просматривает на студии километры мирового кино, недоступного в СССР, знакомится с итальянскими киноклассиками. О жизни в Будве он напишет рассказ «Волосожар», о Белграде – «Мелания Андрофонис» («Неймовірні оповідання»). Югославия поражает Загребельного своими экономическими свободами, открытыми границами, прессой. Он выписывает домой в Киев белградскую газету «Политика», пока после событий 1968-го в Чехословакии закордонную подписку в СССР ограничили.
«Режиссер написал сценарий «Киевских фресок» – как обычно, страничек пять-шесть машинописного текста, – в 1964 году Загребельный знакомится с Сергеем Параджановым. – Мол, зачем больше, если все равно выброшу их под стол и буду снимать как хочу. А чтобы чиновникам от кино было что утверждать, председатель Госкомитета по кинематографии Иванов попросил меня: «Помоги Сергею Иосифовичу, разбавь текст, доведи хотя бы до 40 страниц». Конечно, я просьбу выполнил, сценарий утвердили, но фильм все равно снять не дали, хотя пробы были гениальными…» Только 15 минут кинопроб сохранил оператор Антипенко и интернет.
Загребельный оставил воспоминания «Волшебная нить Параджанова». Кроме сценария «Киевских фресок» Загребельный работал еще с Параджановым над сценариями «Интермеццо», «Дочь букиниста». Все запретили. А самого Сергея Иосифовича в декабре 1973 года упрятали за решетку на 4 года и 11 дней и 15 лет не давали снимать фильмы.
«Фрески…» и «Интермеццо» были опубликованы в Киеве в 1994 году. «Фрески…» состояли из десяти кинофресок. Действующие лица: Человек, Женщина, Грузчик. В эпизодах: Все граждане города Киева. Место и время действия – 9 мая 1965 года. Последние кадры в – музее на Терещенковской. Пустая рама с надписью «Веласкес»… Натирает пол юная инфанта Маргарита… Весна… Инфанта… Красные колонны… Кобзарь…
«Интермеццо» напечатали в переводе Михайлины Коцюбинской:
«Початок XX століття. Місце дії – Чернігів… Діюча особа – Коцюбинський Михайло. Діючі символи і алегорії: Моя утома… Ниви у червні. Сонце. Три білих вівчарки. Зозуля. Жайворонок. Залізна рука міста. Людське горе».
Фильм завершался так: «Сонце палило землю і людину на землі… Збоку гола Людина, що йде до Сонця, здавалася пророком!!! У степу серед збіжжя стояли дванадцять друкарських верстатів фірми «Херман Мауер»… оголені до пояса семінаристи чернігівської семінарії клали чисті аркуші паперу на шиферні дошки… Семінаристи тягнули на себе друкарську ручку верстата… Ручка верстата видавала дзвін коси… На білому аркуші паперу відбиток золота – Сонця. Білий аркуш – золото Сонця. Дзвін коси… Білий аркуш – золото Сонця! Дзвін коси… Білий аркуш – золото Сонця!»
В 1960-х в Киев приехал Джон Апдайк с женой Мэри. «Кентавр» уже был переведен на русский. Писатель отказался от казенных приемов. Отец пригласил его на завтрак домой. Апдайк поначалу решил, что ему готовят показуху. Успокоился он, когда прошелся по улице Мечникова мимо колоритной очереди у пивной бочки, дощатого пункта для приема бутылок, мрачного гастрономчика и зияющей витрины обувного магазина (там сейчас банк). Потом он вдоволь начихался в тесном кабинете Павла Загребельного, заваленном под самый потолок книгами. Потешился дореволюционными изданиями Толстого и Достоевского, напечатанным, как сообщалось на титульной странице, на бумаге без использования древесной массы. Когда фотографировались на память в дворике под зеленой вербой, Загребельный поинтересовался, что и кого бы хотелось Апдайку еще увидеть в Киеве. Он ответил: соборы и Сергея Параджанова.
В 1970-х Загребельный ужинал с Апдайком в Бостоне в его любимом ресторане.
«Но, кажется, в книге о путешествии в Киев ты не написал об этом?» – спросил отец.
«Ты ведь знаешь, мы не всегда пишем о том, о чем более всего помним», – ответил Апдайк.
«Огнем – для него стала война. Водой, илистой болотной водой, в которой сложно было не утонуть и не захлебнуться, – немецкий плен. Медными трубами – провинциальная литература, в тесных рамках которой он должен был существовать, литература времен УССР с практически узаконенным стукачеством, сервильностью и культом бездарности. Проза колхозных подростков, стихи стукачей-извращенцев и пьесы цекистских жен – в этом порочном треугольнике Загребельный никогда не был своим. На неделю раньше Загребельного этот мир покинул американский прозаик Джон Апдайк, – рассуждает 04.02.2009 автор под псевдонимом Андрей Корсак. – Апдайк и Загребельный были абсолютно разными людьми, однако их объединяло шпенглеровское чувство «большого стиля» и больших тем. Писать можно даже о стирке белья – при правильно подобранном стилевом регистре даже это зазвучит как проза Юлия Цезаря. Загребельный умел безошибочно угадывать стилевые регистры.
Простите за цинизм, но он умер вовремя. Он умер в стране, где практически перестали читать. Он умер в стране, где уничтожаются книжные магазины, поступаясь вожделенной площадью в центре столицы лавчонкам для сильных мира сего, где торгуют кубинскими сигарами и нижним бельем. Он умер в стране, где изящная словесность окончательно дегенерировала в еще одно развлечение для богатых господ наряду с японскими ресторанами и фитнес-центрами. Он умер в стране, где героизм и честь стали разменной монетой, материалом для похабных анекдотов, поводом для циничных острот…»
Шесть исторических романов за 15 лет. Киевская Русь. Евпраксия. Роксолана. Богдан Хмельницкий…
В 1968 году после шестимесячной проверки специальной комиссией на предмет буржуазного национализма выходит первый исторический роман Загребельного «Диво». Среди доносчиков был советский украинский писатель, который на украинском «ще» писал «ісче». Загребельный вскоре издаст еще два исторических романа о Киеве, Киевской Руси: «Первомост» (1969) и «Смерть в Киеве» (1972). В феврале 2009 года, через несколько дней после кончины отца, к нам домой позвонил некто, представился и попросил адрес электронной почты, чтобы направить некий интересный материал. Мы получили пасквиль на упомянутые романы от 1974 года, которую автор разослал по украинским литературным изданиям. Сейчас хочу ответить доброжелателю, что до лексических запасов Алексея Плуцер-Сарно ему пока далековато. Но для проф. В. Панченко сотоварищи хватит.
Комиссию по Загребельному в 1968 году возглавлял Константин Кухалашвили. В 1980-х я познакомлюсь и подружусь с его сыном, писателем, филологом Владимиром (1949—2006). У отца было много товарищей – писателей на Кавказе. Их книги с дарственными подписями стоят на стеллажах библиотеки Загребельного. Армянин Вардгес Петросян, грузин Нодар Думбадзе – я зачитывался его «Белыми флагами», – аварец Расул Гамзатов. Однажды отец расстроился, когда его большое и откровенное интервью без спросу обкромсали в московском журнале «Неделя». Без купюр интервью Загребельного напечатали в тбилисском литературном журнале.
«Пять лет назад здесь была одна довольно известная иностранка со своим еще более известным мужем, – в «Диве» Загребельный передает впечатления о своей встрече в 1961 году с французскими властителями дум Сартром и Симоной де Бовуар. – Отава, тогда еще доцент, показывал Софию, они кивали головами: «Да, да, о да, это действительно…» Кивали головами и на Крещатике, слушая о руинах и восстановлении, когда мы были голыми и босыми, голодными и холодными, но все-таки восстановили эту улицу во всей ее красе и пышности. Через некоторое время иностранка прислала Отаве свои двухтомные мемуары, заканчивавшиеся меланхолическим пассажем о тщетности человеческой опытности, о зыбкости всего прекрасного, которое ты собираешь в течение всей жизни, чтобы потом его утратить, поскольку все в конечном счете исчезает. Она писала: «Но то неповторимое накопление, все, чего достигла сама, со всей логикой и всей случайностью – пекинская опера, арены в Гульве, кандомбль в Байе, барханы в Эль-Узд, аллея Вабансия, рассветы Прованса, Кастро, выступающий перед пятьюстами тысячами кубинцев, серое небо над морем туч, багровая луна над Пиреем, красное солнце, поднимающееся над пустыней, Торчелло, Рим – все те вещи, о которых рассказывала, и все другие, о которых не говорила, – все это никогда, никогда не возобновится. Хотя бы, по крайней мере, добавило богатства земли, хотя бы дало начало…
Чему? Взгорью? Ракете? Но нет, ничего не будет». А за двадцать страниц до этого грустного окончания сказано про Крещатик: «Главная улица – сплошной огромный кошмар». Наверное, и про Софию эта женщина написала бы что-нибудь резкое и несправедливое в своей самовлюбленности, но не смогла этого сделать, потому что София уже освящена девятисотлетним признанием, а неписаные правила потребительски-художественного снобизма велят склонять голову перед тем, перед чем склонялись или склоняются все. А что такое искусство? Только ли привычное, установившееся, канонизированное, внесенное во все каталоги, или непременно новое? Ведь все когда-то было новым, все имело свое начало. А с чего начинается искусство? Не с протеста ли? Против природы. Против Бога. Против собственного бессилия. Против ничтожности.
Апологетика убивает искусство. Украшательство чуждо человеческому существу. Оно чем-то напоминает виртуозную импотенцию. Но… Протест должен быть подкреплен талантливостью. Протестуя, необходимо предложить что-то существенное взамен. А не просто голый выкрик, пускай даже и самый искренний. От женщин, к сожалению, это иногда можно услышать. Женщины ближе к вещам окончательным… Ага, уже думал об этом… Но в самом деле так оно и есть. Одна появилась на Крещатике, чтобы дописать свои мемуары, объездила весь мир, не открыла ничего нового, топтала тысячелетние тропинки пилигримов и глобтротеров: Пирей, Прованс, красное солнце над пустыней фараонов и легионов Цезаря, римские форумы, бразильские гитары… Ну и что? Разозленная отсутствием собственной оригинальности, решила хоть как-то проявить свой «протест». Ах, вы восторгаетесь своим Хрещатиком? Так получите же: «Сплошной огромный кошмар». Спасибо! У вас есть своя меланхолия, а у нас – Крещатик. Точно так же было когда-то, возможно, и с Софией, однако все меланхолики умерли, а София стоит. И теперь вот еще: ага, вы все бредите новостройками, героизмом, подъемом, необычностью? Вот вам ночь на новостройке! Получите! Думаете, просто выкрик истеричной женщины? Не так просто!
…Вспомнилась иностранка, назвавшая Крещатик «сплошным огромным кошмаром». Женщина в искусстве всегда подозрительна. У нее не чистые намерения. Она хочет нравиться.
Любой ценой. А может, наоборот? Подозрительны мужчины, которые пристают к женщинам, имеющим дело с искусством, и хотят нравиться женщинам? Или не все ли равно? Все хотят нравиться. Он тоже, мечтая о большой работе над раскрытием тайны сооружения Софии».
С осени 2009 года творческое объединение украинских студентов издает сетевой журнал «Ультра – Украина». Они решили вместо того, чтобы заклинать: «любите Украину», объяснять людям, за что ее любить. В январе 2010 года Оксана Кулиш предала гласности свои мысли о романе «Диво». Она считает роман книгой о мудрости. Что самое главное для нее – это книга о мудрости любви, с которой София Киевская была украшена, отделана. О. Кулиш полагает, что «Диво» – это роман о художнике. Роман-картина. И представляет, как бы нарисовать подобное полотно. Ей хочется придать ему штрихи экспрессионизма, немного классицизма, импрессионистические мазки. Для изображения картин XX века можно добавить супрематизм, но обойтись без кубизма, и без того в этом столетии все запутано. Днепр и киевское небо выписать импрессионистично – кажется, они так и не изменились за тысячелетие.
Российский литератор Валентин Оскоцкий (1934—2010) скрупулезно исследовал исторические романы Загребельного. Его публикации в Москве помогали Загребельному печататься на русском, пока в Киеве разбирали очередной донос.
Загребельный в романе «Смерть в Киеве», на взгляд Оскоцкого, противопоставляет свои воззрения традиционной историографии, от В. Татищева до М. Грушевского, – не видевшей в «битвах удельных междоусобиц, которые гремели в нашей истории», ничего значительного для мысли философа и кисти живописца:
«Сам он черпает в них не просто острые драматические ситуации, как, скажем, убийство в Киеве (1147 г.) князя Игоря Ольговича, которые кладет в основу сюжетной интриги, динамичной и занимательной. Главное, что привлекает его аналитическое внимание, – проявления самобытных характеров людей, участвующих в драмах истории, сложное сплетение их различных, противоречивых, часто несовместимых позиций, устремлений, интересов, перепроверяемых моралью народа, его социальными и нравственными идеалами. В конечном счете голос народа решает и исход полувековой борьбы Юрия Долгорукого за великокняжеский стол. Чтобы услышать, понять этот неискаженный голос, «от двора к двору, все дальше и дальше от Киевской Горы, ближе к бедности, к убогости» упрямо идет лекарь Дулеб, бескорыстный рыцарь правды и истины. Боярская Гора и «затопленный водою, занесенный песками, голодный, ободранный, обнищавший, но независимый» Подол противостоят в романе как два социальных полюса. «Гора была равнодушной к тому, что творилось там, внизу, в глубинах, где в скользкой грязи теснилась беднота, поставленная лицом к лицу супротив стихии, незащищенная, привычная к жертвам. Чем больше страданий обрушивалось на нее, тем спокойнее чувствовала себя Гора, тем увереннее держала себя…»
Оскоцкий обращает внимание на такие высказывания Загребельного: «Наиболее легкий путь для романиста – беллетризация исторических сведений». И признавался, что самого его всегда влечет «путь иной, трудный… путь переосмысления фактов и событий, иногда канонизированных в трудах историков и писателей». Не потому ли так остросюжетны его романы, что в каждом из них он «пытался воссоздать не только быт, обстановку, политическую и нравственную атмосферу того времени, но и психологию наших предшественников»? «Я сторонник литературы сюжетной, – подчеркивал писатель, – ибо сюжет – это не просто занимательность. Сюжет – это характеры людей и композиция, а композиция (особенно в романе) – это, в свою очередь, если хотите, элемент не просто формальный, а мировоззренческий».
Только в апреле 1968 года Загребельный и Гончар впервые разговорятся о том пожаре храма в 1929 году, который, оказалось, они оба мальчиками, в селах Солошино и Суха, увидели ночью далеко в полтавской степи. И почувствуют, по воспоминаниям Загребельного: «…Общее взаимопонимание, без расспросов, без пояснений, без времени на размышления, так, будто это был известный обоим пароль, знак и знамение. Мы писали свои романы в 1967 году («Диво» и «Собор». – Авт.) среди неимоверного галдежа и политической трескотни: празднование пятидесятилетнего юбилея советской власти. Той самой власти, продуктом и воспитанниками которой мы были, всеми достижениями которой имели право гордиться, но и за все преступления, за все бедствие и всю неправду которой должны были нести суммарную ответственность».
Мне рассказала мама, что отец первоначально планировал то же название – «Собор». И ту же фамилию для главного героя, что в романе Олеся Терентьевича.
Роман «Евпраксия» выходит в 1974 году. Из Киевской Руси автор переносит свою героиню и нас в тогдашнюю Европу. «Трагедии Евпраксии летописец посвятил всего несколько строк: в одном случае сообщил о том, что великий князь Всеволод Ярославич отправил малолетнюю дочь на чужбину, в другом – назвал 1106 год, когда ей «выпало преставиться» по возвращении на родину. Все, что происходило между обеими датами, составило содержание романа, домыслено писателем на основании других, нелетописных источников, в частности западноевропейских хроник, – высказывает Оскоцкий свое мнение о романе «Евпраксия». – Но и они восприняты по преимуществу критически, на что указывает нередкая ирония над верноподданными современниками императора Священной Римской империи, не имевшими охоты отделять историю от легенды, а иной раз сознательно менявшими их местами. «Выходит, что легенды бывают правдивей истории», – иронически роняет писатель, сопоставляя их свидетельства.
Древними свидетельствами обозначена лишь внешняя канва жизни Евпраксии, сначала перекрещенной «на латинский лад» в Пракседу, а затем нареченной императрицей Адельгейдой. О том, что стояло за этими превращениями, «не будет… ничего ни в летописях, ни в хрониках, лишь намеки да невыразительные поминанья». Мало того: о долгих годах, охватывающих судьбу героини романа, летописцу зачастую вообще нечего было сказать. «И никаких происшествий. Ничего. Пустые годы… Реки выходили из берегов, солнце нещадно палило, голод стоял на земле, мор налетал, мерли люди, горели села и города, плакали матери над сыновьями – для летописца то были пустые годы, раз не задевало эдакое ни князей с епископами, ни бояр с воеводами». Но в истории не существует пустых лет, и только при крайнем отвлечении от жизненных драм бывает нечего сказать о стремительно бегущем времени. Годы, которые приближенный к князю летописец не удостоил своим вниманием, для героини романа были исполнены «нечеловеческих страданий», стоически перенесенными на чужбине. «Не заметила душевного опустошения, Генриховой преждевременной старости, не подумала, что по самую шею входит в мертвые воды высоких забот государственных, где на чувства людские не остается ни места, ни времени, ни сил». И если ее чувство к императору Генриху выгорело дотла, не разгоревшись, умерло, не родившись, то в этом, убеждает писатель логикой повествования, нет никакой вины Евпраксии-Пракседы-Адельгейды. Вся она – немой крик боли и укора тем, кто, живя рядом, не видел ее «безнадежного одиночества», отчаяния и ужаса, кому всегда было не до нее. Ведь даже побег из заточения подстроен не ради самой Евпраксии, а потому, что ее покупали «ценой фальшивой свободы, чтобы потом опозорить, ее позором добить императора перед глазами всей Европы».
«Литературе жизненно необходима условность, отберите у нее эту условность – и литература умрет, – замечает Загребельный. – Документальная проза, к примеру, всегда останется только документальным свидетельством, никогда ей не достичь силы «Войны и мира». Писателю иногда может попасть в руки документ такого воздействия, что неизбежно возникнет желание перенести его на страницы романа или повести, построить целое произведение на этом документе. Но если не будет при этом необходимого художественного переосмысления и обобщения, если писатель не выступит в роли художника-творца, документ останется тем же, чем был, и никакого художественного открытия мы не получим. Вполне очевидно, что писатель должен иметь свое особенное отношение к факту, к документу, к историческому событию, исходя из своей личности, эрудиции, идейных и нравственных привязанностей, общего замысла будущего произведения – иначе он не писатель.
Именно это мое убеждение, видимо, стало причиной того, что я задумал серию исторических романов о Киевской Руси – эпохи, менее всего художественно исследованной, оставившей нам совсем незначительное число свидетельств… Для литератора всегда главное – человек, в каких бы исторических временах мы его ни «находили». Ясное дело, я объясняю только принцип подхода к изображаемому в моих романах «Диво», «Смерть в Киеве», «Евпраксия», «Первомост». Их оценка – дело читателя».
А что говорит Загребельный о «Роксолане» (1979)? На мой взгляд, его полемика в «Бульваре Гордона» с Роксоланой – Сумской по поводу одноименного киносериала не несла в ее адрес ни капли негатива. А если что и сказал будто едкое, то пусть артистка мне поверит: и не таков бывал его стиль.
«Не могу не спросить о предыстории создания вашей «Роксоланы», которой зачитывалась едва ли не вся Украина. Каким образом удалось «переместиться» из эпохи Киевской Руси во времена Османской империи? – интересуется корреспондент газеты «Факты» в 2004 году. – Это было очень нелегко. Ведь я воспитывался в христианских традициях, а тут – совсем иной мир. Но писать наобум – нельзя. Два года я изучал Коран, труды выдающихся академиков-тюркологов – нашего Агатангела Крымского и россиянина Гордлевского, читал турецкую поэзию. Съездил в Турцию – вместе с ученым, профессором. Побывал во дворцах султана. В гареме провел целый день. Говорю гиду: «Вот на этой стене были фрески Беллини». Гид удивилась: «А откуда вы знаете?» Действительно, Роксолана пригласила венецианского художника, чтобы он нарисовал фрески. Сейчас на их месте – восточный орнамент…
– Вы смотрели телесериал «Роксолана»?
– Посмотрел четыре серии, больше не смог. В титрах там значатся консультанты-историки. Непонятно: как же они консультировали? Предводитель янычар, прямо как Буденный, кричит: «Янычары, на коня!» Но ведь это были отборные войска турецкой… пехоты, никто на лошадях не скакал! Или такой немыслимый эпизод: Роксолана везет своего султана на гору Афон, чтобы причастить его к христианской вере. Но на Афоне запрещено было бывать не только женщинам, но и вообще любой божьей твари женского пола – там нет ни коровы, ни козы. Даже птиц отстреливали из лука – чтобы случайно не залетела нарушительница… Ну что тут говорить? Собираются снимать продолжение сериала. Пусть снимают. Может, Роксолана на экране еще проявит характер. Она ведь была не плакса, а очень веселая, отчаянная даже, и умная девушка – потому и полюбил ее султан. О ней говорили, что она ведьма, и все ее боятся! А иначе Роксолана не могла выжить и защитить себя. Она нашла свой способ самозащиты. У нее настоящий украинский характер, этим она меня привлекла».
«Этот роман не мог дальше продолжаться. Он исчерпался со смертью главной героини, – заключает Загребельный в послесловии. – О чем этот роман? О времени, страхе и смерти? Вполне возможно, однако не так общо, не так абстрактно, потому что автор не философ и даже не историк, а только литератор. Правда, многие авторы исторических романов часто похваляются своими открытиями, которые они якобы сделали разгадкой документов, найденных уже после их описания в романах, нахождением звеньев, которых недоставало для цельности той или иной теории, проникновением в то, что лежало перед человечеством за семью замками и печатями.
Автор этой книги далек от подобных амбиций. Писатель не ученый. Мы должны откровенно признать, что наука дает литературе неизмеримо больше, чем литература может дать науке.
Писателю помогает в работе все: документы, легенды, хроники, случайные записи, исследования, вещи, даже неосуществленные замыслы. А чем может услужить историку сам писатель? Наблюдениями и исследованиями непередаваемости человеческого сердца, человеческих чувств и страстей? Но история далека от страстей, она лишена сердца, ей чужды чувства, она должна «добру и злу внимать равнодушно», ибо над нею царит безраздельно суровая диктатура истины.
Единственное, что может писатель, – это создать для историка, как и для всех других людей, то или иное настроение, но и это, как мне кажется, не так уж и мало. Работая над историческим романом, ты выхватываешь из мрака забвения отдельные слова, жесты, черты лица, фигуры, образы людей или только их тени, но и этого уже так много в нашем упорном и безнадежном споре с вечностью.
Человеческая память входит в исторические романы таким же непременным орудием, как элемент познания в произведение о современности. История в привычном для нас понимании стала известной древним грекам в творениях милетских ученых Анаксимена и Анаксимандра. Осмысливать историю, прошлое, человек стал только тогда, когда осознал себя существом общественным, то есть научился судить о том, что произойдет в будущем…
Могут спросить: а почему автор избрал именно XVI столетие и не кого-нибудь из титанов Возрождения, а слабую женщину? В самом деле: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, Дюрер, Эразм Роттердамский, Лютер, Торквемада, Карл V, Иван Грозный, Сулейман Великолепный – сколько имен, и каких! И внезапно прорывается сквозь их чащу имя женское, поднимается на борьбу с самой Историей, одерживает даже некоторые победы, завоевывает славу, но в дальнейшем становится добычей легенды, мифа.
Пятнадцатилетнюю дочь рогатинского священника Анастасию Лисовскую захватила в плен татарская орда, девушку продали в рабство, она попала в гарем турецкого султана Сулеймана, уже за год выбилась из простых рабынь-одалисок в султанские жены (их не могло быть в соответствии с Кораном более четырех), стала любимой женой султана, баш-кадуной, почти сорок лет потрясала безбрежную Османскую империю и всю Европу. Венецианские послы-баилы в своих донесениях из Стамбула называли ее Роксоланой (потому что так по-латыни называли тогда всех русских людей), под этим именем она осталась в истории. Но осталась лишь тенью и легендой, – так зачем же воскрешать тени прошлого? Не для того ли, чтобы пополнить пантеон украинского народа еще и женским именем? Дескать, у греков была Таис, у римлян Лукреция, у египтян Клеопатра, у французов Жанна д\'Арк, у русских боярыня Морозова, а у нас Роксолана? А может, следует наконец соединить историю этой женщины с историей ее народа, соединить то, что было так жестоко и несправедливо разъединено, ибо судьба отдельного человека, объединенная с судьбой всего народа, обретает новое измерение?
Так много вопросов, так много проблем, и все же автор решил пойти на нечто еще более значительное. До сих пор Роксолана принадлежала преимущественно легенде, мифологии – в романе предпринята попытка возвратить ее психологии.
До сих пор фигура Роксоланы была бесплотной, часто становилась жертвой псевдоисторических увлечений, использовалась десятками авторов как своеобразный рупор для их собственных умствований, – здесь же она, как по крайней мере кажется автору, обретает те необходимые измерения и качества, которые делают ее личностью. Собственно, роман – это история борьбы никому не известной девушки и женщины за свою личность…
Жизнь бывает такой жестокой, что не остается ни одной минуты для размышлений над абстрактными проблемами, она ставит перед человеком только самые конкретные вопросы, только «да» или «нет», только «быть» или «не быть». Такой оказалась вся жизнь Роксоланы. Даже у каторжников на турецких галерах, кажется, было больше свободного времени, чем у этой женщины, невыносимо одинокой, изнуренной борьбой за свою жизнь, за свою индивидуальность. Тем ценнее и поучительнее ее победа над самой собой. Значение такой победы не утрачивается и в наше время, к сожалению, столь богатое в странах так называемого свободного мира попытками уничтожить человеческую личность, нивелировать ее, лишить неповторимости, затоптать, не останавливаясь для этого ни перед какими средствами.
И вот приходят из прошлого великие тени и дают нам моральные уроки.
Неужели мы станем отказываться от них?
Леонардо да Винчи говорил: «Хороший живописец должен писать две главные вещи: человека и представления его души».
В этом романе два противоположных полюса – Роксолана и Сулейман.
Как они представляются автору? Если снять с них все наслоения, все социальные оболочки, они предстают перед автором просто людьми, но людьми неодинаковыми, потому что над Роксоланой тяготеет археология знания: «Что я могу знать?», а Сулейман пребывает под гнетом генеалогии власти: «На что я могу надеяться?» Только третий вопрос из известной кантианской триады объединяет их: «Что я должен делать?» Но и здесь их пути расходятся: Роксолана следует велению разума, Сулейман – силы.Все наше достоинство и наше спасение – в мысли, в разуме. Только мысль, разум возвышают нас, а не пространство и время, которых нам никогда не удастся ни одолеть, ни заполнить. В этом отношении Роксолана стоит выше Сулеймана, который состязался с пространством и временем, тогда как она состязалась только со своими страданиями и единственным оружием для этого у нее были мысль, разум!
А как говорил Паскаль, следует преклоняться и перед теми, кто ищет истину, даже вздыхая.
Я не могу сказать, что написал слишком много исторических романов, зато могу со всей ответственностью утверждать, что исписал уже довольно много бумаги на эти книги…
И что же?
Главное в литературе – написать. Но написать так, чтобы люди прочли, объединить людские сердца, заставить их содрогнуться. Ибо если нет этого содрогания человеческого сердца, нет и литературы, кто бы и что бы там ни говорил. Время можно потрясти на какой-то короткий миг, но покорить, заставить склоняться перед фальшивыми ценностями никогда не удавалось и не удастся никому.
Автор довольно скептично относится к своим писаниям, сомнения разрывали его сердце и во время работы над первой книгой «Роксоланы». Утешение историей? Если бы! В написанной пять лет назад «Евпраксии» я упоминал книгу убитого полуграмотным варварским монархом Теодориком философа Боэция «Утешение философией». В первой книге своего труда Боэций писал: «Какой же свободы мы могли еще ожидать? О, если бы хоть какая-нибудь была возможна!» Я чувствовал с течением времени все отчетливее, что «Роксолана» если и оставляет для меня какую-нибудь свободу, то разве лишь свободу для сомнений и разочарования.
И вот я в Стамбуле и стою у южной, обращенной к Мекке, стены самой большой стамбульской мечети Сулеймание, перед гробницей-тюрбе женщины с Украины. Роксолана, Хуррем, Хасеки – это все ее имена, под которыми она известна миру. Турки еще и сегодня зовут ее Хуррем. В Стамбуле большой городской участок носит имя Хасеки, на этом участке построенная Роксоланой мечеть, приют для убогих, больница – все это на месте Аврет-базара, на котором когда-то продавали людей в рабство. А здесь, возле мечети Сулеймана Великолепного, рядом с его огромной восьмигранной гробницей, тоже каменная и тоже восьмигранная усыпальница его жены Роксоланы, единственной султанши в тысячелетней истории могущественной Османской империи, вообще единственной во всей истории этой земли женщины, удостоенной такой чести.
Четыреста лет стоит эта гробница. Внутри под высоким куполом Сулейман велел высечь алебастровые розеты и украсить каждую из них бесценным изумрудом, любимым самоцветом Роксоланы. Когда умер Сулейман, его гробницу тоже украсили изумрудами, забыв, что его любимым камнем был рубин.
Где эти изумруды? Слишком много тяжелых времен было за эти четыреста лет, чтобы сохранились бесценные сокровища. Но гробницы стоят. И у изголовья каменного саркофага Роксоланы лежит на потемневшей от времени деревянной подставке ветхий Коран…
И вот там, стоя у гробницы Роксоланы, автор почему-то подумал, что эта женщина должна помочь ему в его намерениях, какими бы дерзкими (или безнадежными!) они ни были.
Вообще когда начинаешь писать роман (в особенности же исторический), создается впечатление, будто все идет тебе в руки, появляется множество людей, готовых прийти на помощь, неожиданно выходят из печати нужные тебе книги, хотя до сих пор они могли лежать где-то целые века, археологи выкапывают то, о чем никто и не мечтал, теоретики выдвигают теории, без которых твой роман был бы невозможен. Чем все это объяснить? Мистика, чудеса? А может, это то, что называют озарением? Ты почувствовал тот миг, когда можно приниматься за ту или другую работу, и тогда как вознаграждение за смелость – поток неожиданных подарков.
Ты сын своего времени и должен чувствовать его голос, его зов.
Можно было бы назвать множество людей, пришедших автору на помощь в его работе над этим романом то ли советами, то ли присылкой редкостных книг, то ли выписками из архивов и даже из таких прославленных книгохранилищ, как ереванский Матенадаран. Можно было бы перечислить труды великих наших тюркологов Крымского и Гордлевского, австрийского ориенталиста Хаммера и югославского Самарджича. Можно было бы описать путешествия автора во все те земли, о которых идет речь в книге. Можно было бы просто составить список источников, как это водится в научных публикациях.
Но ведь литература не наука и автор не диссертант.
«Роксолана» – это только роман. Автор сделал все, что мог. Теперь наступила очередь для читателя. Может, ему порой будет трудно над страницами этой книги. Автору тоже было нелегко. Историей не всегда можно только утешаться, у нее необходимо еще и учиться».
Что соединило султана и Роксолану? Шульгу и Юлию в «Юлии…»?
Обращаюсь к первоисточнику эпиграфов к разделам романа «Диво», пьесе Пабло Пикассо. Может быть, желание?
Ватрушка. Хорошо отмытые хорошо оттертые чистые мы отражения самих себя и готовы завтра и ежедневно возобновлять свою кутерьму.
Толстоступ. Ватрушка я тебя вижу.
Л у к. Я тебя вижу.
Круглоконч. Я тебя вижу я тебя вижу проказница.
Толстоступ (обращаясь к Ватрушке). У тебя крепко сбитая нога и хорошо закрученный пупок и превосходные сиськи умопомрачительная аркада бровей а рот твой цветочное гнездо бедра твои софа и откидное кресло твоего живота ложа на стадионе в Нимах во время бычьих скачек ягодицы твои блюдо с кассуле (рагу по-лангедокски, с белой фасолью. – Авт.) и руки твои суп из акульих плавников и твоя и твое ласточкино гнездо еще жар супа из ласточкиных гнезд мой зайчонок мой утенок мой волчонок я без ума я без ума я без ума я без ума…
Желание, пойманное за хвост? «Целую тебя крепко, тебя и все «прелестные предметы». Особенно люблю то, про что сказано: и предметом сим прелестным восхищен и упоен он».
Загребельный в интервью в 2000 году цитирует письмо, которое Федор Достоевский в возрасте 58 лет отправил жене:
«Этот предмет цалую поиминутно во всех видах и намерен цаловать всю жизнь».
На вопрос, что наиболее всего ценит в женщине мужчина, Загребельный ответил: «Евразию. То есть материк, с которым не может сравниться ничто на свете». Он видел Северную и Центральную Америку, Африку по обе стороны экватора, Австралию узнал по романах Патрика Уайта, но ничего более мощного, чем единство двух континентов, Европы и Азии, назвать не смог. Такой Загребельный видит женщину во всей ее загадочности, бескрайности, дикости и сладкой притягательности.
В 1983 году выходит роман «Я, Богдан». Об этим романе Загребельный будет высказываться не раз. «В своих романах мне хотелось не просто показать времена Ярослава Мудрого или Богдана Хмельницкого, не просто сделать попытку реконструкции той или иной эпохи. Речь шла о большем. Хотелось показать неразрывность времен, показать, что великое наше историческое наследие не существует самодовлеюще, а входит в наш день насущный, влияет на вкусы наши и чувствования, формирует в нас патриотическое сознание, ощущение красоты и величия, мы же платим своим далеким предкам тем, что относимся к прошлому с подобающим уважением… Да, история жива! Вот смысл всех моих писаний на темы исторические. И я бесконечно благодарен читателям за поддержку, понимание и веру.
Сколько еще исторических эпох, событий, имен, которые мы обязаны возродить и сделать своими современниками!
Для украинцев самые великие имена их истории и их духа: Хмельницкий, Шевченко, Сковорода.
При Богдане Хмельницком украинский народ родился, заявив о себе миру.
Тарас Шевченко дал этому народу самосознание.
Григорий Сковорода пробовал умом великим расшатать аморфность существования казацких старшин и новопожалованного дворянства.
Об этих трех великих сынах моего народа много написано. Достаточно ли? Этого никто не знает. Каждая эпоха имеет право сказать о них свое слово. Так возникло дерзкое намерение написать роман о Богдане Хмельницком.
Если о Шевченко должна когда-то появиться Книга Духа украинского народа, о Сковороде – Книга Разума, то о Богдане мыслилась Книга Народа нашего.
Не слишком ли дерзкое намерение? Так можно было бы спросить меня или, не спрашивая, сразу же осудить такую дерзость. Я же со своей стороны мог бы спросить: а чем измеряется (и вообще измеряется ли) степень и объем намерений? Писатель добровольно принимает обязательства перед миром, точно так же добровольно-индивидуально определяет он и меру своей ответственности, и объем своих заданий. Я написал довольно много книжек, упрямо искал великое в малом, не закрывал глаз и на малое в великом, тем писаниям я отдал все, что пришло в мою душу от людей, от моего рода и народа, отдавал щедро и с великой верой в то, что прорастет оно добром, благородством и милосердием, верой в человеческую личность, в ее ценность и величие. Всегда ли прорастало? Прочитаны ли мои книжки так, как мечталось, замечены ли усилия автора, оценены его намерения, разделены ли его надежды?
Чем больше пишешь, тем больше понимаешь, что твои друзья и защитники – это прежде всего читатели – далекие, неизвестные, загадочные. «Богдан» разошелся меж читателями, как огонь по сухой траве. Это не авторская похвальба, а просто факт».
«Друкується «Я, Богдан…», з такою претензійною назвою, – сразу после журнальной публикации роман получает уничижительную оценку в «Дневниках» О. Гончара 30.07.(19)82. – Почувається багатоджерельність і що раз у раз автор бере на віру наскрізь тенденційні свідчення шляхти, для якої постать Богдана була, звичайно ж, нестерпною. Епос народний малював козацького обранця, як відомо, інакшим… А надто ж самозакоханість, крикливість душі, що допалась великої влади, – риси, зовсім не властиві людям того звитяжного часу. У статті «Поезія прози» Паустовський писав: «По ставленню кожної людини до своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про її культурний рівень, а й про її громадянську цінність. Істинна любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови. Людина, байдужа до рідної мови, – дикун…» жаль, що цих слів не чують ті, кому вони адресуються».
Тогда, в 1983 года, по свидетельству отца, он даже не подозревал, какие тучи собирались над его головой. Хотя не один украинский советский писатель был уже осведомлен, чего следует ждать.
«Я, Богдан» на Украине после 1986 года переиздало в нулевых «Фолио». Кстати, так сказать, за компанию организаторы кампании против Загребельного в далекой первой половине 1980-х и «Роксолану» отправили в список запрещенной литературы. В 1996 году отец пишет в статье «Роксоланство», что «Роксолана» за последние десять лет ни разу не издавалась на украинском языке, зато выходила восемь раз по-русски, дважды по-болгарски, а также по-чешски и сербскохорватски. Древние говорили: «Книги, как и люди, имеют свою судьбу». Тогда к отцу приехал киевский предприниматель Игорь Добруцкий. Он открыл в Киеве в начале улицы Хмельницкого магазин цветов и парфюмерии «Роксолана» и решил познакомиться с автором романа. Добруцкий изумился табу на «Роксолану» и сам заказал напечатать книгу с иллюстрациями.
«“Свобода, – писал в своем романе Загребельный, – это право смело задавать вопрос”. Но 1983 год, год публикации произведения, не давал даже теоретической возможности такие вопросы задавать. Это была ловушка: позволить задекларировать свободу вопросов и не позволить задать ни одного, тем самым внушая читателю, что их просто не существует, – размышляет о судьбе романа «Я, Богдан» Константин Родик. – Загребельного «сыграли втемную»: выдали лицензию на создание иконы, но жестко определили колористическую гамму формулой любовного романа. Это был двойной соблазн. Во-первых, такой исторический ракурс гарантировал немалую популярность в массах. Во-вторых, тема теневой роли женщины в истории – это был крутой модерн. Посему литературный эксперимент стал бестселлером. Спланированным, как и все советское. Включая дискредитацию образа Богдана в массовом сознании, поскольку в то время маскулинизированное сознание не могло признать «подкаблучника» героем.
Ставить это на счет Загребельному – все равно что упрекать Довженко за его «Арсенал» или «Землю», а Лени Риффеншталь – за «Триумф воли» или «Олимпию». Дело в другом: почему существенные изменения в этом массовом сознании уже нынешнего украинского общества не вызвали всплеска историко-авантюрной прозы? Причинами можно считать и узкий национальный книжный рынок, делающий невозможным экспериментальную публикаторскую практику, и сужение до критических пределов критического поля современного литпроцесса, и резкую и фактически полную смену писательских поколений. Но, кажется, причину эту стоит искать вне собственно литературных координат».
Для ясности необходимо вернуться в 1964 год, когда судьба привела Павла Загребельного на службу в СПУ По Багрицкому «…наша доля/ Развеяна в поле!»Двадцать два года в СПУ. Восемь романов о XX веке. 1964—1986
В 1964 году Загребельный приходит на целых 22 года службы в секретариат СПУ. Вскоре его остросюжетные романы «Шепот» (1965) и «Добрый дьявол» (1967) становятся очередными бестселлерами. Их герой – советский пограничник. Своего рода воинская злита для тех времен, ведь термин «спецназ» тогда был засекречен. Ума не приложу, почему роман «Шепот» мракобесов и догматиков вводит в коматозное состояние. Хотите носиться с бандеровцами, как советские люди с портретами вождей на праздничных демонстрациях? Носитесь.
Под мракобесами я имею в виду типаж смерда-кляузника, который при всех режимах способен исключительно пресмыкаться и доносить.
«…Если вы рано ложитесь спать, он напишет, что такой-то и такой постыдно спит в то время, когда все советские люди самотверженно трудятся для построения коммунизма, – сказано в романе «Шепот» о смерде-кляузнике. – Если вы ложитесь где-то за полночь, он напишет, что вы прогуливаете целые ночи, в то время, как все советские люди и т. д. Если вы смеетесь, он напишет, что вы смеетесь над нашими успехами. Если вы грустите, он напишет, что вам мало наших успехов…»
Касаемо догматиков, им в романе «Шепот» автор уделил немало внимания: «Слушай догматика – и ты будешь духовно истощен до предела. Ты станешь мертвецом. Как сказано у Фомы Аквинского: “Воистину, когда скотина не двигается самостоятельно, а лишь передвигается другой скотиной, говорят, что она умерла”».
В «Шепоте» Загребельный больше страницы посвящает своей любимой игре, шахматам. Мне кажется, трезвый рассудок шахматиста вел его по лабиринтам писательских будней. Не каждому дано написать книгу. А как ее издать? А что дальше? Задача со множеством неизвестных при всех социально-экономических формациях либо моделях, от Кейнса до Пинзенника. Как шахматист просчитывает свои ходы, Загребельный стремился просчитать судьбу своих произведений.
Наверное, тут кроется несомненный успех его карьеры как руководителя Союза писателей Украины. Ему не требовалось создавать группировки, копать другим ямы. Он предвидел, кто имеет больше шансов туда угодить. Его герой Бесследный Лукас из одноименного романа даже сформулировал 15 законов ям. Закон № 14 гласит: «Может, и свинский характер обусловлен тем, что это животное беспрерывно роет ямы, и потому тяжко мудрому среди свиней».
Загребельный просто на несколько ходов вперед знал развитие партии. Чем бесил тех, кто метил на его место либо просто его не терпел. Наверняка Загребельный многих не устраивал. Я не собираюсь его оправдывать или восхвалять и ни в коем случае не собираюсь разглагольствовать о деятельности Загребельного в секретариате СПУ как члена ЦК Компартии Украины и парламентария в 1980-х. В кабинете отца на ул. Орджоникидзе, 2 (ныне это улица Банковая) я был один раз – пришел передать ключи от автомобиля. К слову: а по какому ведомству состоял на службе Салтыков-Щедрин? «А кем по профессии была Анна Каренина?» – любимый вопрос на засыпку из уст Загребельного.
Позволю себе только процитировать две точки зрения: наблюдения над Загребельным – руководителем СПУ. Сначала – наблюдения Олеся Гончара. «Соромно було бачити, як вив\'юнюється вужем з-під відповідальності, балака (може, навмисно навіть) щось таке, щоб купи не трималося, щоб ніхто нічого не міг зрозуміти…»
«І виступ його з трибуни був запобігливий… Психологія кріслохвата, видно, підказує триматися за соломинку…»
«Хам переміг! Тільки дорвавшись до влади, під крилом протекції, стає ще жорстокішим». (Очевидно, Гончар имеет в виду отношения Загребельного и Щербицкого. В записи от 10.03.75 не скрывает, что и у него есть протекция – «…мої твори, мій труд і народ України». – Авт.).
«Завдає горя людям підступно, розмашисто, з безоглядною жорстокістю.
А сам він – хто?
Дитя гніту.
Покруч епохи…»
«…Міщанство поперло оголтіле, загребуще…»
«За столом у Бажана П. Загреб(ельний) розпросторювався на свою улюблену тему: який дикий і неосвічений упродовж віків був наш народ…
Хай був, але звідки ж Шевченко, найлюдяніший із поетів? Звідки Франко, Леся, Тичина й Довженко? З яких надр?
Неприємно було чути це хвацьке самоприниження».
«…той, кого називають Надкушений Вовк».
«Шеф-інтриган…»
«…не хочу бачити того фальшивця».
«Блискуче виступив Борис Олійник. Дотепно, глибоко, гостро. Антипод його (у президії) під час виступу аж під стіл поліз».
«…натурою – це людина – хижак. Все більше в цьому переконуюсь… Він і далі лишається під владою інстинктів холодних, жорстоких, хижацьких. Душа його залита жовчю, отрутою чорних заздрощів».
А теперь – наблюдения Павла Щегельского. «І от почалася нарада. Ірпінь. Будинок творчості. Кінозал. На трибуні Павло Архипович Загребельний:
– Дивлюсь я на вас, сивочубих та лисіючих молодих літераторів, і думаю: вам давно вже час померти! Лєрмонтов загинув у 27 років, Василь Симоненко в 28, Єсенін пішов із життя в ЗО, Пушкін – у 37, а вам майже кожному по сорок, а ви ще й досі, як ті піонери в коротких штанцях, ходите в молодих, для вас скликають наради, влаштовують семінари, смажать літфондівські котлети, щоби розум ваш не охляв, і все тільки для того, що раптом хтось із вас колись щось путнє напише.
Він сипав цифрами, іменами й цитатами, звинувачував літераторів у всіх земних гріхах і підносив їх до небес, завдаючи такого робочого темпу, на який здатний був лише сам. І весь виступ зводився до того, що талант – то Божий дар, і якщо він у тебе є, то не для того, щоб ним милуватися чи хизуватися, талант людині для того, щоб вона працювала, постійно і каторжно…
Після тієї тижневої наради із майже сотні учасників до СПУ прийняли 28 молодих літераторів. Без засідань приймальної комісії і таємного голосування.
І коли на президії хтось із ревних охоронців статуту дорікнув, що на цих молодих не заведено особові справи, що нема навіть рекомендацій, Загребельний відповів:
– Найкращі рекомендації дала ірпінська нарада, а за особовими справами затримки не буде. Тим більше, що маємо таких педантичних опонентів, як ви. – І тут же, звертаючись до членів президії, показав книжку Валентини Козак з Вінниці:
– Погляньте! Збірочка малесенька, я її прочитав за три хвилини. Вірші гарні, і прізвище у поетеси гарне – Валентина Козак. То чого б і не прийняти?
От і весь аргумент…
Узагалі з Павлом Архиповичем працювалося легко й цікаво. Він ніколи не навантажував дурною роботою, знав, кому і що можна доручити, хоч, зізнаюся чесно, в його присутності розслаблятися не доводилось. Я так і не зміг позбутися відчуття, що поруч зі мною на повних парах мчить локомотив, а я петляю вздовж колії на велосипеді. Тільки й пильнуй, щоб не придавило.
До речі, про велосипед. Був березень 1981 року. Я щойно заїхав на своїх стареньких «Жигулях» у двір Спілки письменників. Павло Архипович теж під\'їхав на своїй «Волзі». Привіталися.
– А що це в тебе автомобіль розцяцькований, як у Яворівського?
– Оце? – я показав пальцем на кольорову наклейку, що красувалася на лівому передньому крилі. – Так то я дірку залатав, щоб від колеса грязюка не летіла.
– Як це – залатав?
– А ось так! – підійшов ближче і проткнув пальцем наклейку із фольги. – Дірка!
Павло Архипович від здивування затнувся, відтак його прорвало:
– То ти чекаєш, поки сам на асфальт випадеш?
Я промовчав.
– Скільки наїздив?
– Сто двадцять тисяч кілометрів.
– Нівроку! Значить так: іди до Боженка (до голови місцевкому СПУ) і вибери собі те, що на тебе дивиться. Скажеш – я так сказав.
– Та…
– Грошей нема? Так у тебе роман у плані стоїть, попросимо, щоб аванс виплатили. І стареньку продаси. А не вистачатиме – я позичу.
– Дякую.
– Подякуєш потім. Я не сліпий, бачу, хто як їздить. Іноді думаю, що в тебе не приватний автомобіль, а службовий. Весь кабінет молодого автора на ньому їздить: і Карпенко, й М\'ястківський, і Комар…
Траплялися і курйози.
Спілка письменників, перший поверх. У залі засідань повно людей, сьогодні – пленум СПУ, у вестибюлі вільніше. Тут переважно гуртуються ті, хто запізнився або ж зібрався йти додому. Із зали вийшов Загребельний й одразу ж наткнувся на письменника В.
– Ти чого це в шапці стоїш? – ні сіло ні впало запитав.
– А мені в голову холодно, – відповів той.
– Справді? А мені жарко…»
Добавлю собственное воспоминание. Отец в нулевых, на своем дне рождения в Конче-Озерной, произнося тост, сравнил восприятие независимой Украины с чувствами человека, который погружается в яму с пеплом. Загребельный еще в бытность в СПУ, в окружении советской культуры, советских украинских писателей испытал эти ощущения. В романе «Первомост» Стрижак повествует Кирику о Воеводе, охранителе моста через Днепр во времена нашествия Батыя, блюстителе обычаев. Он, подобно книжной царице египетской, ссыпал пепел из печей в глубокие ямы. Сухая смерть, и вскрикнуть не успеешь. Воеводы превратились в вождей, больших и малых, в СССР. Они охраняли мосты в светлое будущее. Кто в литературе, кто в кино, кто в театре – они блюли устои. Кто провинится – толкай его в яму. На мосту иначе не устоишь, через мост весь мир хочет протолкнуться, там без строгости не обойдешься. Не будешь суровым – тебя самого сбросят с моста, столкнут, растопчут.
Параллельно с суетой в СПУ с историческими романами Загребельный издает трилогию о советском украинском промышленном городе, рабочих и инженерах, о путешествии простого советского труженика в США – «С точки зрения вечности» (1970), «Переходим к любви» (1970), «Намыленная трава» (1973).
Вышедший в 1975 году роман «Разгон» отец посвятит академику Глушкову. Загребельный и Глушков – две трагические фигуры эпохи так называемого застоя, 1970-х – первой половины 1980-х. Автор пытался вывести советскую украинскую литературу за пределы хуторянства, малороссийщины, кайдашизма и затхлой «советской культуры». Александр Красовицкий, единственный издатель произведений Загребельного на независимой Украине, пишет: «Даже будучи признанным властью, он не допустил в своих произведениях ничего, за что бы ему было стыдно в постсоветское время. При работе над переизданием книг оказалось, что во всех его книгах, не только в исторических романах, нет ни одной строки, которую бы следовало сократить в связи с тем, что руководящая и направляющая роль КПСС закончилась. Не было у него в книгах ни славословия партии, ни плоских образов передовиков труда, ни неправды о Великой Отечественной войне. Зато было много того, что пришлось восстанавливать по сравнению с изданиями, кастрированными советской цензурой».
Донкихотству Загребельного сродни борьба Глушкова за компьютеризацию СССР. Однажды Глушков добился рассмотрения своих идей на Политбюро ЦК КПСС. Он призывал заглянуть за горизонт, представить то, что сейчас вошло в наш обиход сегодня – компьютерные сети, персональные компьютеры у каждого на работе и дома. А что услышал в ответ? Министр финансов СССР разродился байкой. Вышел на трибуну: «Я ездил в Минск, и мы осматривали птицеводческие фермы. И там на такой-то птицеводческой ферме (назвал ее) птичницы сами разработали вычислительную машину». Глушков громко рассмеялся.
«Вы, Глушков, не смейтесь, здесь о серьезных вещах говорят, – красный финансист погрозил пальцем и самовлюбленно продолжил: – Три программы выполняет: включает музыку, когда курица снесла яйцо, свет выключает и зажигает и все такое прочее. На ферме яйценосность повысилась. Вот что нам надо делать: сначала все птицефермы в Советском Союзе автоматизировать, а потом уже думать про всякие глупости вроде общегосударственной системы». Компьютеризацию СССР так и похоронили.
Место действия романов «Львиное сердце» и «Изгнание из рая», составивших дилогию, – советское село. И рай.
«Книги «Львиное сердце» и «Изгнание из рая» можно бы еще рассматривать как два вагона пассажирского или товарного поезда. Каждый вагон может существовать отдельно, а если его соединить еще с одним вагоном, то это уже поезд, – так автор говорит о своих романах. – Название книг – дело ответственное и опасное. Это не то что имена детей. Там сплошная родительская диктатура, не подлежащая обжалованию. С книгами труднее. Тут название сразу рождает всякие культурно-исторические параллели или просто примитивные намеки. Поэтому безопаснее называть книги либо просто именами героев (женские ценятся выше, в чем автор убедился на примере «Роксоланы»), или явлениями природы (ветры, дожди, снега, времена года, дни, месяцы), небесными телами (солнце, луна, звезды, созвездия, галактики, туманности, квазары, пульсары, даже черные дыры), пространственно-временными понятиями, а то и просто – лишь бы назвать… А «Изгнание из рая» – что это? Снова Библия, Бог, Адам и Ева? Еще одно объяснение древнейшего юридического акта (несправедливого, ох какого же несправедливого!), который применил Бог к первым детям своего мира?
Автор предостерегает: объяснений не будет! Хотя можно было бы и объяснить. Ведь у автора есть свой взгляд на то, что произошло когда-то в райских садах. Известно, что там жили первые люди, которых звали Адамом и Евой. Бог изгнал их оттуда, дескать, за то, что Ева съела какое-то там запретное яблоко, а потом дала его еще и Адаму. Это напоминает наших скупых и жестоких дядек, стреляющих из двухстволок по детворе, которая хочет полакомиться плодами их садов.
Ну так вот. Автор считает, что Бог изгнал Адама и Еву из рая не за какое-нибудь там червивое яблочко, а потому, что они надоели ему своим бездельем. Он трудился в поте лица, а они спали и ели, ели и спали. Тунеядствовали, одним словом. Он творил, а они насмехались. Он управлял, а они знай критиковали. Он мыслил, а они жили как трава. Кто бы это стерпел? Вот и сказал:
– Ага, вы так? Вкусите же и испейте от плодов горьких и из чаш еще более горьких».
В романе «Южный комфорт» (1983) события происходят в Киеве 1970-х – начала 1980-х. И еще в некоем санатории «Южный комфорт» – в чеховской «Палате № 6» эпохи советской украинской литературы.
«Этот роман – не документ. Единственное, что автор старался изобразить как можно точнее, – это Киев, его улицы, холмы и долины, его вечную красоту и очарование, – поясняет Загребельный. – Остальное принадлежит воображению. Поэтому напрасно искать, с чем бы отождествить описанные тут события, идентифицировать места работы героя и героини, свести все к угадыванию прототипов и фактов, требовать от автора мельчайшей правдоподобности, отказывая ему в праве на художественный вымысел, который является непременной предпосылкой любых художнических суждений о людях, о жизни и о мире.
Этот роман можно было бы еще назвать: «Ромео, Джульетта и Киев». Придирчивый, а возможно, и возмущенный читатель немедленно же заметит, что герои его далеко не так юны, как те, трагически влюбленные из Вероны. Что ж, с той поры и само человечество постарело на четыреста лет. А стало ли мудрее? Речь идет не о мудрости разума, который нас сегодня не только удивляет, но и пугает, а о мудрости чувств, сердец, душ, которая помогает нам оставаться людьми в самых жестоких испытаниях и должна спасти нас от самых страшных угроз.
И книга эта, собственно, является попыткой отобразить историю души, которая не всегда, к сожалению, находится в прямой зависимости от наших успехов или неуспехов в жизни, но неизменно выступает высшим судьей в вопросах добра и зла, справедливости и чести».
Среди персонажей романа – прокурорские работники. Постоянная сотрудница отца в Союзе писателей Украины Валентина Запорожец рассказала мне, что к людям этой профессии у Загребельного не было ни капли предубеждения. Просто его как должностное лицо, парламентария буквально заваливали жалобами, в том числе и на сотрудников правоохранительных органов.
Приведу только два случая. Сын одноклассника отца, заместитель гендиректора автобазы на Полтавщине, решил поступить в сельхозинститут. Без справки о занятости в сельском хозяйстве документы не берут. Не бросать же работу? Берется липовая справка в совхозе. Успешные вступительные экзамены, зачисление и… Нашлась «добрая» душа, накатала кляузу в «органы». Загребельный просит руководителя полтавских коммунистов Федора Моргуна (1924—2008) вмешаться и не ломать жизнь молодому человеку.
Второй случай достоин пера Франца Кафки. Замминистра культуры Украинской ССР в письме от 03. 02. 82 просит Первого секретаря правления Союза писателей Украины Загребельного П. А. «рассмотреть поступок Л. Костенко, дать ему надлежащую оценку и сообщить в Министерство…» К министерскому посланию прилагает цидулку руководителя – директора Киевской госфилармонии. Он жалуется на «хулиганский поступок» Лины Костенко – автора романа «Маруся Чурай», которая «нанесла мне физические (удары в лицо) и словесные оскорбления («подонок», «провокатор»)». На самом же деле бюрократы, дописав на афишах «отмена по техническим причинам», сорвали заявленное публичное исполнение романа в стихах Лины Костенко. Когда она пришла в Минкультуры объясняться, ее не принял ни один столоначальник. Дальше секретарш не пустили. Последние заученным текстом издевательски сообщали Костенко, что «все на аппаратной учебе министерства». А дома поэтессу ждал вызов к прокурору Печерского района Киева… Легко представить себе эмоции Лины Костенко при виде ухмыляющегося «провокатора».
То, что происходило на страницах «Южного комфорта», советским вельможам пришлось не ко двору. В 1984 году в особняке в центре Москвы в Генеральной прокуратуре СССР была созвана конференция по поводу выхода в печать этого романа. Председательствовал самолично Генеральный прокурор Советского Союза. Не нашли более продуктивного занятия, чем в 1984 году созвать конференцию по поводу романа, который даже на русский не перевели. В командировку вызвали прокуроров из Киева и областей Украины, пригласили по специальному списку нескольких журналистов из центральных московских изданий. Будущему переводчику «Южного комфорта» на русский язык Григорию Кипнису один из участников той конференции расскажет: «Никак не мог избавиться от навязчивой мысли: вот-вот встанет и выступит с обличительной речью Вышинский». Роман «Южный комфорт» до конца 1980-х не издавали.В 1983—1984 годах Загребельный почувствовал, что надорвался в противостоянии ветряным мельницам, в мраке заседаний и кабинетов – от ЦК до СПУ В октябре 1983 года он, пошатываясь, встал и вышел прямо посреди очередного заседания. В соседней комнате коллеги напоили его кофе.
«Я вышел, чтобы не упасть со стула, – рассказал он Алексею Коломийцу и заведующей канцелярией СПУ Валентине Запорожец, – чувствуя, что творится что-то неладное. Накануне дома упал и разбил висок». Алексей Коломиец много лет был главным соперником отца по шахматам. В драматургию он пришел относительно поздно с сатирической комедией «Фараоны», в которой рассказывается, как колхозное начальство в один миг стало фараонами. На мой взгляд, эта комедия – гениальное предвидение будущего независимой Украины. Загребельный посоветовал Алексею Коломийцу сделать «ход конем» против украинских перестраховщиков: перевести пьесу на русский и ехать в Москву. Там Коломийца ожидал фурор. Пришлось киевским бюрократам сделать вид, что и им смешно.
В 1964 году Загребельный на свое 40-летие выбросил из памяти все телефоны, кроме домашнего. В 1984 году к своему 60-летию он собрался распрощаться с суетой канцелярских присутствий и столоначальников. Решил впервые в жизни сам распоряжаться своим временем, читать только то, что считает нужным. СПУ, подобно КПСС, и росла, и действовала от съезда к съезду. Формально Загребельный оставил пост главы писательского союза по собственному желанию на съезде 7 июня 1986 года. Гончар запишет 08.06.86: «Пішли з Драчем до Андріївської (церкви) помолитись за нове керівництво СПУ.. Дивились, чарувались, німіли від краси… Андріївським узвозом стали спускатися вниз, на Поділ. На одному з будинків таблиця: автор «Білої гвардії» здивовано дивиться на новий, український, Київ…»
«Мафия» Гончара и блогосфера (Интермедия)
«Существовали две писательские «мафии», «группировки», – полагает литератор и звезда блогосферы Мирослава Бердник, – Гончара и Загребельного. И между ними шла война – доносы, отрицательные рецензии через своих людей и т. д.».
Полно вам, достойная «variag_2007». He стоит подпитывать нечетничество, манихейство, бесплодное, как высохшая кайдашева груша, на манер украинской школьной программы. У нее и так хватает защитников. За одно только намерение улучшить преподавание литературы в школе министру образования Дмитрию Табачнику критик и фулбрайтовский стипендиант Вячеслав Брюховецкий грозится каталажкой в любой стране планеты.
Получился у Мирославы Бердник интернет-римейк, то бишь новое-старое прочтение «Кайдашевой семьи» Нечуя-Левицкого.
«Теперь нашего ученика, как и тридцать-сорок лет тому спрашивают:
– Что такое идея произведения? – недоумевал в 1976 году Загребельный по поводу примитивизма в изучении литературы на Украине.
– Это его тема.
– А что такое тема?
– Это идея».
Тридцать-сорок лет спустя украинским школьникам зашоренные схоласты талдычат о кайдашах, о том, как ближайшие родственники не могут найти общего языка, постоянно ссорятся и строят друг другу каверзы, лодырничают, желая спихнуть работу на плечи другому, упиваются собственным эгоизмом и не желают искать компромиссы, обижаются по пустякам и привычно топят обиды в алкоголе. А меня сомнение терзает: прибавится ли после этого охоты даже мельком обратить взгляд на украинскую книгу?
Рад за Мирославу, что не придумала она мафию поэта-академика Бориса Олийныка. Без того стоколос наш измучен. Ведь «працює він буйно, болісно, засукавши рукава, внуртувавшись пальцями в саме пекло живого життя». Перечитывая эту мысль Иван Драча, Павло Загребельный отметил ее гениальную точность в двух словах: «внуртувавшись пальцями». В октябре 2010 года Олийнык праздновал 75-летие. Его юбилейное интервью преисполнено кайдашевых терзаний, звучит забытой и меланхоличной мелодией. Мол, когда утверждают, что в начале 1970-х Ивана Дзюбу на заседании в СПУ единогласно исключили, то это не так. Тогда же Борис Олийнык был против. И еще некто! Тогда протокол переписали. (Читаем интернет: Загребельный не только был «за», но еще и по злому умыслу протокол подтасовал. – Авт.).
Продолжаем «в свинячий голос» толочь воду в ступе. Узнавали себя жена лидера СССР Хрущева в учительнице из романа Михаила Стельмаха, а лидер Компартии Украины Щербицкий – в партработнике Пронченко из романа «Разгон»? За какие заслуги проспект Корнейчука в Киеве переименовали, а Тычине отвели музей-квартиру из двух квартир, будто он жил на два дома?
В романе «Львиное сердце» (1976) Загребельный малокультурное выражение «в свинячий голос» разъяснил: слишком поздно прийти, прийти к шапочному разбору. В продолжении «Сердца», романе «Изгнание из рая» (1984) автор милых его сердцу литературоведов подразделил на два типа. Два критика – два петушка горох молотили. Один – Подчеревный. Может, еще от пророка Ионы из чрева китового. В вечном сомнении, желании все пощупать, проникнуть в подтекст, подсознание, подчревие. Другой – Слимаченко-Эспараго. Вечный антагонист Подчеревного. В «Изгнании…» повествуется и о Хуторянском Классике Весеннецветном. «Он в столице книгодурствует лукаво. Изредка примчится на малую родину, падет на землю, восклицая: «Земелька родная! Приникаю к тебе грудью и коленами! Когда-то бегал тут ножками маленькими, как козьи копытца. А теперь что? Люди добрые, что теперь?… О хутора, кто выпьет сон и грусть вашу давнюю?»
Сию тему на свою голову продолжил Коротич. Виталий Алексеевич неосторожно пошутил, что советский украинский писатель начало жизни посвящает исходу из села и пробиванию в столицу, а оставшиеся годы отдает самоотверженному воспеванию родной стороны. Загребельному и Коротичу такое не забудут.
Не мафия, – обращаюсь к многоуважаемому блоггеру Мирославе. Не классики Весеннецветные. Сам автор «Изгнания из ада» самокритично признал, что Хуторянский Классик – это его второе «я», alter ego. И обратился к Гете: «Чего вы всполошились, дураки?! / Про вас / Не написал я ни строки! /Я, может, / вспоминал про вас / Не раз. Но писано все это/ Не про вас!»
Не мафия, не квазиклассики… Кто же? Раб, которого мы ленимся выдавливать из себя, наше трусливое «я», которое не находит в себе смелости поднять голос против неправедного суда, нашептывает: прикуси язык.
«Иногда человеку хочется прикусить язык, – изрек один из героев романа «Смерть в Киеве». – Но считаю, лучше умереть с чистой совестью, чем с прикушенным языком».
«Бездарный всегда выберет бездарного, – рассуждает молодой Карналь в пьесе Павла Загребельного и Михаила Резниковича «Предел спокойствия». – Дьявол двадцатого века – это посредственность. Человек, который ничего не умеет делать как следует, и мешает тем, кто может. Посредственность сидит в каждом из нас, и каждый по капле должен выдавливать ее из себя, как Чехов выдавливал из себя раба. Это работа на всю жизнь. Без передышки. Увидеть посредственность в другом не трудно! А вот в себе! Увидеть и установить предел, ниже которого ты не имеешь права опуститься, что бы ни было! Предел спокойствия!»
«Конечно, жить на сломе эпох, сломе обществ непросто. Я родился в одном обществе, практически достиг всего того, чего я достиг, в том обществе. Вдруг появляется новое общество и следует уже как-то жить по-иному. Вот почему сейчас труднее всего людям моего поколения. Нам приходится так или иначе или оправдываться, или искупать какие-то грехи.
А виноватых на свете нет…
Когда вы начнете искать виноватых, окажутся все виноватыми. Нужно будет судить всех. Общество не может жить только тем, чтобы искать виноватых. В чем же трагедия, в чем кровавость советской эпохи – все время искали виноватых! То «вредители», то «враги народа»… – размышляет Загребельный в начале нулевых. – После войны пошло-поехало: писатели виноваты, философы виноваты, космополиты виноваты, генетики – «вейсманисты-морганисты, кремлевские врачи виноваты! Вот так, куда ни глянет Сталин – все виноваты! Те, кто сегодня требует покаяния, – это те самые сталинисты. Они так же ищут виноватых! Все виноваты, кроме них! А нужно перевернуть, только вы виноваты – те, кто считает кого-то виноватым».
Советская культура против Загребельного. 1986
Советскую культуру отличало умение колебаться вместе с линией партии. В 1957 году Академия наук Украинской ССР издает второй том «Истории украинской литературы», где упомянут роман О. Т. Гончара «Прапороносцы»: «Первые две части трилогии были удостоены Сталинской премии II степени за 1947 год. Через год была удостоена этой награды также и “Злата Прага”».
В 1964 году украинские академики «переделали и дополнили» том истории родной литературы образца 1957 года. Оглавление уточнили: «История украинской советской литературы». И «Прапороносцы» не забыли: «Трилогия О. Гончара целиком заслуженно отмечена Государственной премией». «Забыли» академики о двух Сталинских премиях и легко «разменяли» на одну Государственную.
В 1964 году в Москве выдвигают «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицина на Ленинскую премию. Произведение о ГУЛАГе провалили. В 1964 году Ленинскую премию присудили, но не бывшему зэку А. Солженицину, а лауреату двух Сталинских премий (или одной Государственной?) О. Гончару.
Новое руководство СПУ, изгнав из своего номенклатурного рая Павла Загребельного, летом 1986 года триумфально заявилось в Москву на съезд писателей всего Советского Союза.
Неизгладимое впечатление произвели победители с Андреевского спуска на российского литератора Наталью Иванову. В воспоминаниях «Ностальящее» и спустя десять лет перед ней, словно вживую, восстает лик Бориса Олийныка:
«Процитирую, дабы продемонстрировать высший пилотаж советской мысли, как можно, говоря о Чернобыле, выехать на оптимистической риторике: “И высшим проявлением сочувствия здесь являются не слезы и вздохи, а реальные дела, которые в эту минуту вершат сыны всех наций и народностей в Чернобыле, подавляя взбунтовавшийся атом”». И интернациональный пафос финала выступления Олийныка, начавшего с тревоги по поводу украинской мовы, идеологически уравновешивает и нейтрализует возможные обвинения в национализме.
Иванова отмечает антиначальственный пафос Олийныка:
«…Критикуя отжившее, мы пытаемся изъять себя из отжившего, к которому причастны, и как ни в чем не бывало ставим задачи другим, начисто забывая о себе…. Отрезать путь к трибунам тем, кому вольготно жилось именно в застойниках прошлого и кто, не страдая элементарной совестью, конечно же, первым полезет на трибуну учить, как жить и работать по-новому».
В кулуарах съезда поговаривали об особой приближенности Олийныка к Горбачеву. Так что выпад его можно было интерпретировать как непосредственное озвучивание мнения очень даже выше стоящего товарища, которого в дальнейшем – всего через четыре года! – Олийнык проклянет и назовет Сатаной.
Дорожа истиной, приведу запись Гончара от 24.06.1986: «Відкриття VIII з\'їзду письменників СРСР.
Присутній Генеральний секретар і весь уряд, атмосфера уваги і доброзичливості… Одразу ж після перерви мені доручено було головувати на засіданні. Надав слово (після Михалкова) Б. Олійнику, який виступив блискуче, викликав овацію. Взяв під захист «Собор». Ніхто з промовців у цей день так Олійника і не перевершив. Всі поздоровляють з успіхом Україну».
В октябре 1986 года Павло Загребельный убедится, какие тучи начали над ним сгущаться еще с 1983 года, после выхода романа «Я, Богдан». Удар нанесла газета ЦК КПСС «Советская культура», которая давно вошла в черносотенные анналы своим доносом на Владимира Высоцкого. Высоцкий дал сдачи, за словом в карман не полез: «Вот незаслуженный плевок в лицо, оскорбительный комментарий, который может послужить сигналом к кампании против меня…»
«В октябре 1986 года… появилась огромная (на целую газетную полосу, с портретом автора) статья Бориса Олийныка, – вспоминал Загребельный, – которая фактически перечеркивала не только роман «Я, Богдан», а и Загребельного как писателя. Главное обвинение было идеологическим: Богдан Хмельницкий ценен для нас только как творец Переяславской рады, а Загребельный пишет о каком-то супермене, целиком пренебрегая обязанностью писателя, который берется за такую тему… и т. д., и т. п.».
Прошел месяц. И в поддержку Олийныка все та же газета ЦК КПСС печатает заявление киевских ветеранов партии. Они призвали считать роман «Я, Богдан» вредным. Один из этих ветеранов трудился секретарем ЦК КП(б) Украины по пропаганде и агитации в годы студенчества Загребельного. В библиотеке отца сохранилось исследование Аркадия Долинина «В творческой лаборатории Достоевского», изданное в 1947 году. На второй странице обложки заметки рукой Загребельного: «Критику этой книги см. Лит. Газета № 66 за 1947 г. и покаянное слово Долинина в Лит. Газете №91 за 1948 г.». У Долинина отец подчеркнул высказывание Федора Михайловича о романе «Обрыв»: «Экая старина! Экая дряхлая пустенькая мысль». Думаю, в адрес тех, кто Павла Загребельного в 1986-м «прорабатывал», лучше не скажешь.
«И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он», – вспомнив оценку, данную поэтам Александром Сергеевичем Пушкиным, в 1990-х в своих беседах с Иваном Безсмертным Загребельный назовет статью Олийныка ударом в спину: «К сожалению, многих украинских писателей это касается прямо. Многие из них не являются людьми высоких моральных качеств. Они часто поучают – как следует жить, и очень часто не умеют сами… И потому для меня было огромным облегчением, когда я ушел из Союза (СПУ – Авт.). Во всяком случае, две вещи я уже не обязан делать – читать графоманов и жать руку негодяям».
«Тем же, кто козыряет неприкасаемостью традиций, я мог бы сказать: разве от таких козыряний зависит истина? – отвечал он своим хулителям. – Да, без традиций нельзя. Дерево не вырастает из воздуха. Ему нужна почва. Но дух людской бунтует против традиции ограниченной, куцей, тупиковой. Нужно уметь различать уважение и идолопоклонство.
О Богдане написаны целые тома. Моими предшественниками и моими современниками тоже. Книги наших историков, романы М. Старицкого, П. Панча, Н. Рыбака, И. Ле, пьеса А. Корнейчука были для меня тем основанием, на котором только и можно выстроить задуманное. Но вместе с тем мучила жажда чего-то большего; ты вслушиваешься в голоса прошедшего, и тебе кажется, что начинаешь слышать то, чего не смогли – тогда не смогли – услышать твои предшественники.
Самым трудным для писателей было удержаться на той высоте, на которую вознесся Богдан благодаря силе и величию своей мысли, унаследованным от народа, который не спал перед тем целые столетия, а в незаметных, но титанических усилиях рождался, собирался, готовился заявить о себе всему миру!
Богдан для меня в этом романе – великая неповторимая личность, но вместе с тем и некая таинственная сила, до сих пор до конца не разгаданная, как бы высшее средоточение народной гениальности во всем: в разуме, мужестве, одаренности, воле…
К сожалению, исторические источники не дают свидетельств о тех годах, когда формировался характер Богдана, о его стамбульской неволе, о пребывании при королевском дворе в Варшаве, о путешествиях по Европе, о французских приключениях. Все это в романе – лишь намеки, все это еще ждет своих исследователей и своих, если так можно выразиться, воспевателей.
В наше время нет-нет да и сталкиваешься с ситуацией, когда власть и слово размежевываются. Когда-то было иначе. Без слова не было власти – и наоборот.
Именно поэтому казалось мне, что жизнь Хмельницкого нельзя ни представить, ни понять вне слова. Это я попробовал сделать в романе. Целиком построив его на монологе. Искать справедливости и власти в слове, как это делали во все времена писатели.
Сумел ли я?
Быть может, слишком злоупотребил словами, заставил Богдана говорить чересчур много, иногда быть непоследовательным в мыслях и высказываниях, допускать несогласованность поступков. В свое оправдание могу сослаться разве что на невозможность представить жизнь как нечто одномерное и упрощенное до примитива, кроме того хочется мне, отнюдь не претендуя сравниваться с великими, а только стараясь учиться у них (ибо у кого же тогда учиться!), привести здесь одно соображение Гете, высказанное им по поводу произведений Шекспира своему помощнику и секретарю И. П. Эккерману 18 апреля 1827 года: Шекспир всякий раз заставляет своих персонажей говорить то, что наиболее уместно, действенно и хорошо в данном случае, пренебрегая тем, что их слова, возможно, вступают в противоречие со сказанным ранее или позднее. Свои творения он видел живыми, подвижными, быстро протекающими перед взором и слухом зрителя, которые, однако, нельзя настолько удержать в памяти, чтобы подвергнуть их мелочной критике. Ему важно было одно: моментальное впечатление.
В наше время, когда над миром нависают страшные угрозы всеобщего уничтожения, когда пренебрегают величайшими святынями, когда обесцениваются самые высокие и дорогие чувства – литература обязана стать на защиту любви, добра, благородства, мудрости и величия».
Травлю 1980-х Загребельный перенес стоически. Он прекрасно был осведомлен, с кем имеет дело. В «Южном комфорте», в разделе «Деекомфортник» повествует о той «общности советских людей», которая не знала иной цели, ценности, как мещанская «благосклонность», пиетет перед званиями, наградами и должностями:
«Как у Шевченко: «И благосклонно пребывали…» А ежели не «пребывали», а «пребывая»? Деепричастие, которое тут следовало бы переименовать в деекомфортник, поскольку «Южный комфорт», отдохновение для тела, и комфорт для души, и сплошная “благосклонность”…»
Герой «Южного комфорта», как Загребельный в 1980-х, «…внезапно очутился в положении Фауста, которому угрожал черт: «Ты затеряешься в дали пустой. Достаточно ль знаком ты с пустотой?».
Эти люди были сплошной пустотой. Что-то они вроде защищали, что-то оберегали, от чего-то отступались, еще на что-то закрывали глаза, там поднимали руки, там затыкали уши, там отворачивались, в ответ на наглость улыбались, от угроз съеживались, жалобы отбрасывали, просьбы не слышали, при необходимости отсутствовали, вместо настойчивости напускали на себя наивность, шелестели словами, шуршали одеждой и фигурами и зевали, зевали до хруста в челюстях, так что в этих зевках могли бы утонуть все заботы мира. Когда-то они вышли из народа, потом оказались над и вне народа, но не замечали и не хотели замечать. А что им, действительно? Кого-то снимут, кого-то переставят. Этого возвысят, а того спустят в ад…
Есть устав, есть незыблемость, есть традиция, есть история. Они ничего не охватывают, ничего не обобщают, ни за что не отвечают, у них только протяженность от макушки до стоп, и песок под подошвами, и суесловие, и пустословие. Они нашли комфорт для души, избавившись от обязанностей, а комфорт для тела – в этом приюте покоя и лености».
Герой «Южного комфорта», как член ЦК Компартии Украины, депутат Верховного Совета СССР Загребельный «…решил, что с него достаточно. Теперь здесь до утра будет продолжаться соревнование в изобретательности раболепства, и никто не заметит его исчезновения.
Что же выходит: пока он боролся за справедливость, пока миллионы людей выращивали хлеб, добывали руду и уголь, строили и созидали, где-то на окраинах жизни игралась комедия суетности и никчемности.
Как же так? И почему такое возможно? Или, быть может, это расплата за то монструальное добровольно-принудительное порождение, которое называется государством и объединяет в себе и то, что защищает человека, и то, что его пожирает?»
В диалоге Роксоланы и Сулеймана возникает образ наполненного пустословием и глупостью мешка Шемси-эфенди, воспитателя царственного сына:
«– Он же глуп, ваше величество.
– А кто это сказал?
– Я говорю.
– Чем можно измерить ум?
– Знаниями, которые приносят пользу.
– А что приносит пользу? И кому?
Хуррем горько засмеялась.
– Мы с вами в этом споре можем стать похожими на Шемси-эфенди.
Умоляю вас, ваше величество, не подпускайте этот наполненный пустословием и глупостью мешок к вашему царственному сыну! Разве вата и огонь могут быть вместе?»
Однажды Шемси-эфенди решил «проявить перед падишахом всю глубину своих знаний… Он откашлялся, прочистил нос и, натягивая мосластыми коленями полы праздничного халата, изрек:
– Всевышний Бог своею волей может все твари, составляющие и этот видимый, и тот небесный свет, совокупить воедино и поместить их в уголке ореховой скорлупы, не уменьшая величины миров и не увеличивая объема ореха. Если мы хотим постичь всю безмерность вселенной, следует вспомнить хадис пророка, который приводит Ибн аль-Факих: «Земля держится на роге быка, бык на рыбе, рыба на воде, вода на воздухе, воздух на влаге, на влаге же прерывается знание знающих».
Дальше Шемси-эфенди привел в свое оправдание цитаты из Корана о человеческом несовершенстве. Из суры четвертой: «…Ведь создан человек слабым». Из суры семидесятой: «Ведь человек создан колеблющимся…» Из суры семнадцатой: «…ведь человек тороплив». Из суры двадцать первой: «Создан человек из поспешности». Муфтий, улемы, все присутствующие немедленно высказались о цитатах: «Точны, правильны, совершенны». Султан милостиво высказал согласие с единодушным мнением ученых, и опасение исчезло из сердец. Шемси-эфенди расцветал, а Сулейман думал о том, какой мудрой оказалась султанша Хасеки, добиваясь устранения этого ученого глупца, напоминавшего легендарную Манусу из Тарса. Когда джинны спросили ее: «Где Аллах был до того, как он сотворил небо?», Мануса, не растерявшись, ответила: «На светозарной рыбе, которая плавала в свете». Шемси-эфенди не теряется, как и Мануса, но может ли такой человек учить будущего Повелителя Века, и чему он может научить?»
«Сегодня (интервью 1991-го. – Авт.) я считаю, что вся моя административная работа – это потерянные для творчества годы, – возвращался в прошлое Загребельный. – Так случилось, что я трудился для какой-то идеи, что-то хотел сделать (и я, кстати, кое-что сделал, полагаю, что многим талантливым людям помог), а с другой сторны – я жил в каком-то мире абсурда».
Мир абсурда Союза писателей Украины (Интермедия)
Не самый большой стаж «министра украинской литературы» у Загребельного – 7 лет. Шеф СПУ как любил выражаться Гончар, Юрий Мушкетик побыл за кормчего в 1986—2001-м (15 лет), его наследник Владимир Яворивский руководит Союзом писателей почти 10 лет (с 2001 года и не переизбран с тех пор). Сам Олесь Терентьевич Гончар шефствовал в СПУ 12 лет (1959—1971).
Шефы Союза писателей Украины, как Бурбоны, ничего не забыли и ничему не научились. Они заискивают перед каждой новой властью, не решаются выбраться из ловушки зависимости от благосклонности атаманов-чабанов. Даже интернет-страницы у СПУ приличной нет. СПУ сотрясают имущественные скандалы. Ветшает на Банковой, 2, памятник архитектуры, обитель дореволюционного сахарозаводчика с мраморными каминами. Серы ее облупленные залы. Где-то в их дебрях стоит несгораемый шкаф, куда, как гласит нелицеприятная молва, предусмотрительные писатели прятали от своих чрезмерно любопытных жен сберкнижки с утаенными гонорарами-заначками. Вывеску «Союза писателей Украины», прямо по Иудушке Головлеву, перелицевали, прибавив эпитет «национальный». Что изменилось?
«Это довольно широкий вопрос. Во-первых, Союз, как и любой творческий союз (художников, кинематографистов), обслуживал идеологию, и в этом смысле он мог руководить творцами, т. е. своими членами. Сейчас идеологией никто не занимается, ибо сейчас есть другие проблемы: распределение денег, приватизация и т. п. Соответственно Союз избавился от своего статуса, и это инерция, что он еще существует в таком виде. Они даже сами не понимают, что превращают его в центр социальной помощи малоимущим писателям, которые уже давно не пишут или вообще не писали… Из времен советской украинской литературы во времена украинской постсоветской литературы в действительности перешло, может, 5 —6 фамилий. Все другие по своей ментальности и творчеству остались в Советском Союзе. Конечно, они не могут ни на что влиять. Они до сих пор думают, что должны играть большую роль в обслуживании идеологии, сегодня – идеологии патриотизма. Хотя я не понимаю, что произошло с этим патриотизмом, потому что его разобрали политические партии, изменили, и ныне много различных патриотизмов. Единого патриотизма уже не существует – то есть это все люди безработные, которых нужно поддерживать финансово и помогать с похоронами. Я не думаю, что когда-то возродится тот статус писателя, который был в советские времена. Если он возродится, то будет не в Союзе, а у отдельных писателей. В каждой стране есть какой-то авторитет-писатель – Петер Хандке в Австрии, Джон Ирвинг в Америке, в Англии немного больше. И у нас будет так, – в 2001 году пытался разобраться в ловушке СПУ Андрей Курков. – Сейчас такой потенциальный авторитет – это единственный живой классик Павел Загребельный, который до сих пор много пишет, издается в переводах, хорошо продается и не обращает на все это внимания. За что его и не любят. Просто нужно пережить это поколение, а потом оно как-то «устаканится». Новое поколение будет вести себя по-другому: это будет или профсоюз, или гильдия литераторов. Но оно не будет иметь никакой политически-государственнической окраски».
Когда придет эта благословенная пора? Исходя из той свистопляски, которая развернулась после смерти Загребельного, – не скоро. Вокруг имени и произведений моего отца разразился шабаш окололитературной мелюзги с целью его имя зачеркнуть и, что самое печальное, не издавать. Все это мы уже слышали, и лакейский тенор Смердякова, и выверт песни лакейской: «Я всю Россию ненавижу… В двенадцатом году… хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы…»
Когда романы Загребельного ревнители советской культуры объявляли вредительскими, Риангабар – Винничук живописал в 1983—1984 годах в разделе книги «Ги-ги-и» о встрече Александра Евдокимовича Корнейчука, «ОЄК», с литературной молодежью Киева:
«ОЄК зібрав у себе на дачі цвіт літературної молоді Києва. Чого там тільки не було на столі! Кав\'яр їли ложками, коньяк юшили шклянками.
– Література – це я! – сказав ОЄК після третьої. І ніхто не міг йому заперечити…
… Боря Олійник виліз на стіл, насадив собі на голову баняка і почав читати вірші про партію.
Дрозд пускав дрозда, Чхан чхав під Скирдою, Петрук-Попик грав на арфі, а Іваничук співав народну турецьку думу.
– Братня російська література вийшла з шинелі Гоголя, а українська – з загибелі ескадри! – вигукнув зіпрілий Пушик. Всі заплескали і підняли тост за ОЄКа.
Пізно ввечері гості хропли під столами. Один ОЄК мужньо залишався тверезим. Він гордо оглянув поле бою і презирливо мовив:
– Хіба це література? Одне п\'янво. Як добре, що ми в тридцятих зробили селекцію.
– А може, й зараз їх, поки п\'яні, пустить в расход? – спитав Лазар Санов.
– А на фіга? – здивувався ОЄК. – Хіба ж серед них є хоч один Плужник?
– І правда, що нема.
– Так отож».
Может, за подобные эскапады проспект Александра Корнейчука в Киеве переименовали в Оболонский проспект? Каждый раз по приезде в Киев его пасынок, режисер Владимир Бортко ищет ответ на вопрос, почему на независимой Украине места Корнейчуку не нашлось. Зато в Киеве есть не только проспект Павла Тычины. В центре Киева на Терещенковской улице (бывшая Репина) музей-квартира Павла Тычины, как уже говорилось, расположен не в одной, а почему-то двух квартирах. «Правильному» Павлу Тычине воспетые им чабаны подарили две квартиры. Была в Киеве улица летчика Чкалова. Чкалов, конечно, известный летчик и любимец простых советских людей. Но ведь Сталин его любил! Улица Чкалова стала носить имя Олеся Гончара. И никаких тебе криптонимов и недоговоренностей, о которых предупредила в предисловии к «Дневникам» их составитель Валентина Даниловна Гончар.
В 2006 году в Киеве в Доме художника проходил съезд писателей независимой Украины. Накануне его открытия Евгений Пашковский, которому недоговоренности так же претят, принес под стены СПУ на Банковской «Памятник бездарям», – метлу. И унитаз, который служит ей постаментом. И разъяснил: «Такая судьба ожидает произведения нынешних руководителей СПУ».
Наука Загребельного быть самим собой. 1986—2009
С середины 1980-х годов Павло Загребельный живет и работает на южной окраине Киева в поселке, садовом кооперативе писателей Конча-Озерная. Двухэтажный кирпичный дом постройки конца 1950-х отец купил у дочерей Петра Панча (1891—1978). Режиссер Юлия Лазаревская сняла в этом доме документальный фильм «Сонет 29» (2000), он доступен в интернете.
Отец полностью отошел от какой-либо официальной, публичной деятельности. Иногда его вырывали из отшельничества в Конче-Озерной помимо его воли. На двух таких эпизодах я остановлюсь.
В начале 1990-х известные украинские поэты проигнорировали торжественный вечер памяти Павла Тычины. Пришлось прозаику и пенсионеру Павлу Загребельному взять обязанности председателя поэтического собрания на себя. Почему поэты не явились на это мероприятие, известно только им. Возможно, изобретали очередные трактовки творчества Павла Григорьевича «на злобу дня»? Недавно меня изумили «открытием чудным». Оказывается, изданные в 1934 году пісні, пеани, гімни «Партія веде» есть не что иное, как зашифрованное обличение сталинских злодеяний…
Во второй половине 1990-х Павла Загребельного пригласили участвовать в заседании Шевченковского комитета. Ему часто приходилось на этих заседаниях отстаивать свои знания и убеждения. Одно из них запомнилось тем, что пришлось не просто, как обычно, защищать свои взгляды, но и проявить свой бескомпромиссный и жесткий характер. На последнем, решающем этапе этого заседания обсуждались и утверждались кандидатуры творческой группы телеспектакля «Этот симпатичный бес» по повести «Иван Иванович» Николая Хвылевого (1893—1933). Все шло к позитивному решению, как вдруг спокойствие нарушил председатель комитета Владимир Яворивский. «Нужно Татьяну Назарову, супругу Дмитрия Табачника, вычеркнуть, – изрек меланхолично, – а то не ровен час обидится Сам. Он ведь только что главу администрации с треском с работы выгнал».
По иронии судьбы, Яворивский еще недавно приходил на прием к главе администрации президента Дмитрию Табачнику и испрашивал должность. Леонид Кучма назначил В. Яворивского председателем комитета именно по представлению главы администрации Дмитрия Табачника. А в тот день председатель комитета забил тревогу. Но для соблюдения «демократичности» процедуры предложил раздельно голосовать: сначала за Т. Назарову, потом за остальных создателей фильма. Режиссер спектакля Михаил Резникович возмутился и предложил вообще снять вопрос с рассмотрения. Но голосование прошло по задумке Яворивского. Тогда Загребельный и Резникович, не сговариваясь, поднялись и хлопнули дверью. Оставшиеся члены комитета провели переголосование и поддержали двух коллег-мятежников. Может, совесть проснулась или проснулся характер!
Герой «Юлии…» Шульга, рассматривая «Меланхолию» Дюрера, соглашался со своей собеседницей, что меланхолия – глубинная суть украинского характера. Если к ней добавить горилки.
Библиография последней четверти века жизни Загребельного до конца 1990-х запутанна. Некоторые его новые произведения не издавали вообще. Другие изредка выходили такими смехотворными тиражами, что их судьбу невозможно проследить. Только в нулевых харьковское издательство «Фолио» издало пятитомное собрание сочинений Загребельного, стало постоянно переиздавать и печатать его новые книги. Всего за последнюю четверть века своей жизни отец написал одиннадцать романов и повестей, около 20 рассказов. Он оставил несколько неоконченных рукописей, в том числе исторические романы «Зограф» и «Имперский заложник», не чурался публицистики. Его интервью, статьи, выступления постоянно публиковали мастера украинской журналистики Дмитрий Гордон и Александр Швец. Лариса Копань способствовала двум изданиям книги статей «Думки нарозхрист», основу которой составили публикации в 1990-х в «Українській газеті» при содействии Валерия Жолдака.
Загребельный продолжал свои любимые темы – приключения, детектив, фантастика: «Бесследный Лукас» (1989), «Ангельская плоть» (1993), «Пепел снов» (1995). Отец уважал мастеров детективов, триллеров, авторов украинских бестселлеров, произведения которых и сегодня читают в самом непредвзятом сообществе – интернете. Это и Владимир Кашин, и Ростислав Самбук. Кстати, отец Кашина до 1941-го был фотографом в полтавском райцентре Кобеляки, и у него однажды сфотографировалась семья Загребельных с маленьким Павлом. В 1960—1970-х в Ирпене Загребельный и Кашин устраивали иногда баталии один на один в карты – в «дурака». Семья Самбук жила около Кончи-Озерной, в селе Плюты, они часто наезжали к моим родителям в 1980-х – первой половине 1990-х. В конце 1960-х отец познакомил меня с Игорем Рощуком, который пришел к творчеству через испытания по ту сторону добра и зла.
Загребельный обращался к теме истории, войны: в «Николае…» он публикует два раздела из романа «Я, Богдан», которые даже при «гласности» Горбачева вырезали.
Также он занимался театром абсурда нашего современника: «Голая душа, или Исповедь перед диктофоном» (1992), «Брухт» (2002), «Столпотворение» (2003).
«…У меня есть небольшая книжечка под названием «Стовпотворіння», – рассказывает автор. – Там я описываю вымышленного президента. Он идет на выборы, и в его предвыборной программе написано следующее: курс на реформы, евроинтеграция и т. д. Тогда я оттолкнулся от Корана… Аллах, обращаясь к верным, сказал: «Я обещаю вам сады!» А ведь для пустыни сад – это наибольшее блаженство. И вот я взял эту формулу и как бы вручил своему герою следующую фразу: «Я обещаю вам столбы!» А что такое столб? Для мужчины – это символ его силы. Для строителя – это опора всего… И вот этот герой становится президентом… И он движется курсом «столбореформ», переименовывая государство в Столболандию, а столицу в Столбостав. И у столицы устанавливает самый высокий столб в государстве… И эта книжечка – словно бы аллюзия на наши реалии, на уже давно обещанную нам “цяцю”…».
У позднего Загребельного запорожский филолог Наталья Санакоева нашла продолжение присущей писателю закодированности персонажей путем использования отдельных мифологических параллелей (миф о Тристане и Изольде, Елене Прекрасной), типичных образов и сюжетов (Тристан и Изольда – Ромео и Джульетта – Роман Шульга и Юлия). Обработку классических тем (любовь и измена, любовь и смерть, любовь и вечность). Диалог и продолжение традиционных сюжетов, как в романе «Юлия, или Приглашение к самоубийству»), создание собственной мифологии (роман «Брухт»).В молодости отец мечтал стать ученым. Он возглавлял студенческое научное общество, а будущий академик РАН Трубачев был его заместителем. Однажды, когда Загребельный решил взять в библиотеке «Академию» Платона, от него потребовали разрешения проректора. Издание 1913 года оказалось с неразрезанными страницами. В романе «Бесследный Лукас. Роман из четырех сообщений и не без фантастики» героиня пишет Лукасу из Самарканда, города, где, как семнадцатилетний красноармеец в «Юлии…» в первый год войны, познала древние письмена любви, счастья и жизни: «Возможно, и тебе было суждено стать великим ученым: ведь в тебе кровь Востока». Если бы меня спросили, какой ответ можно было ожидать от Павла Загребельного на вечные вопросы: «В чем смысл жизни? Что такое счастье?», то как один из возможных допущу такой: «Чтение». Тем отраднее было Загребельному уединиться в собственном Миллесгордене в последние 25 лет жизни. Писатель Владимир Базилевский оставил словесный портрет Загребельного: «Высокий человек в очках с раскрытой книгой в руках».
В начале 1960-х в Югославии отец овладел сербскохорватским. Читал на польском, чешском, английском. Шекспира – на староанглийском, в тяжеленном однотомном полном собрании его сочинений. Постоянно интересовался новинками российского издательского рынка. В 1990-х ему их привозил из Москвы Виталий Коротич. Знакомство с Александром Красовицким состоялось на библиофильском грунте. В конце 1990-х отца пригласил президент Кучма на совещание о судьбе книги на Украине. Узнав, что рядом сидит издатель, Загребельный спросил Красовицкого, как найти дефицитный в Киеве 4-томник Гюнтера Грасса. Ветеран Красной армии хотел почитать ветерана вермахта.
«С возрастом к любимым писателям отношение изменяется. Это можно утверждать со всей ответственностью, имея читательский стаж свыше полстолетия, – делится Загребельный. – Но есть привязанности на всю жизнь. Шевченко вошел в мое сознание где-то в пять лет и остался там навсегда. Рядом с ним стал Пушкин, затем были открыты Гоголь, Коцюбинский и Горький, позже – Чехов и Тургенев.
После войны – Фолкнер и Томас Манн. Но все же из прозаиков для меня самые высокие имена: Толстой, Достоевский, Сервантес. Перед ними останавливаешься, как у подножия недоступных горных хребтов с сияющими вершинами. Подражать – бессмысленно, учиться – трудно, вдохновляться – можно всегда».
Томаса Манна отец читал на русском и немецком: «У него есть такое высказывание: «Тому, кто заинтересован в значимости собственного повествования, полезно пребывать в контакте с высокой эпикой, словно набирая у нее сил».
Для меня «контакт с высокой эпикой» – чтение наших летописей, сочинений средневековых хронистов и даже античных авторов («Анабасис» Ксенофонта лежит у меня всегда под рукой, и я не ленюсь заглядывать в него). Вот где великая школа писания для всех нас! Непревзойденное умение выбирать самое главное среди суеты повседневности в летописи Нестора. Чеканность латинской фразы в «Галльской войне» Цезаря и внезапная ее изысканность и даже украшенность у Титмара Мерзебургского. Вулканическая энергия «Жития протопопа Аввакума» и загадочной «Истории Русов». Веселые побасенки по-славянски хитрого Кадлубека».
Загребельный вырос в селе Солошино за столами из вербы и сосны, их скребли и мыли ежедневно, накрывали скатертями только по большим праздникам, за столами, где главное внимание обращали на то, что есть, не как есть, где господствовали простота и непринужденность. Эта природная простота выручала позже его везде, где бы он ни был, она подсказывала ему, как себя вести.
Семнадцатилетним, в Иране он будет гостем старосты кишлака, кедхода. Вся сельская власть: гизир, мираб, коруючи, кешикчи придут и усядутся вокруг огромного металлического блюда. На блюде – гора баранины, которая напоминает египетскую пирамиду в миниатюре. Пирамида окружена крутым валом риса, смешанного с морковью и душистым шафраном. По бокам – вареные бараньи головы, уложенные таким образом, что их уши, коричневые и сморщенные, свисают над рисом. Слуга приносит кедходу котелок с кипящим бараньим салом, староста поливает баранину и рис. После нескольких приглашений гости, засучив рукава халатов, запускают руки в горячее, жирное месиво. Гость, который хорошо ест, уважает хозяина дома.
А двадцатилетним в Европе, по Томасу Манну, – маленькой смекалистой провинции огромной Азии, он сядет в освобожденном Кельне за трапезу с богемским хрусталем, тарелками из мейсеновского фарфора, серебряными приборами. Английский майор будет приглашать советского лейтенанта на традиционный чай, а еще он посидит за одним столом с Конрадом Аденауэром.
В 2008 году Загребельный с сожалением пишет Владимиру Базилевскому: «Пока цивилизованными нациями руководили, приведя их к расцвету, Рузвельты, де Голли, Аденауэры, нами правили чабаны» (это он имеет в виду майдан из стихотоворения Тычины. – Авт.).
К моей маме в день рождения отца 25 августа 2010 года, пришли Владимир Яворивский и Михаил Слабошпицкий. Я безуспешно попытался завязать с ними беседу о том, что литературные дискуссии на Украине (по Игорю Бондар-Терещенко) превратились в «літературне краєзнавство, утикане жовто-блакитним пір\'ям». Я не открывал Америку. Последние годы жизни Павло Загребельный читал не украинские, а российские профессиональные издания: «Новое литературное обозрение», приложение «Экслибрис» к «Независимой газете».«Буквально чуть что – и расплата.
И сразу вокруг командиры.
Имейте же совесть, ребята.
Имейте ее во все дыры», —
возможно, так бы редактор «Экслибриса» поэт Евгений Лесин отозвался о нижеследующем.
«Літературі, як виду мистецтв, дозволено все. І змалювання «дна», як, для прикладу, в Олеся Ульяненка, у Павла Вольвача… Література може все. А хто що використовує, те вже характеризує конкретного митця. Скажімо, у нашого патріарха Павла Загребельного останні романи на кшталт «Брухту» мають усе. Є адюльтер і таке інше. Якщо навіть у Загребельного це все є… Він зображає ту категорію компартійних «женщин», у яких справді це було. Слава Богу, що зараз нема ніякого цензора в білих рукавичках, який пильно дбає, щоб до читача не прослизнув якийсь матюк, чи щось інше. Просто зараз кожен у міру своєї розбещеності, своєї культури чи в міру своїх поглядів сам собі виставляє цю межу. І це нормально, – расставляет литакценты в октябре 2006 года в «ЛУ» шеф СПУ Яворивский перед писательским съездом, где его переизберут. – Мені, скажімо, як письменникові перевантаження ненормативною лексикою чуже. Але, з другого боку, я не є пуританином. Просто дуже часто хлопці цим зловживають, думаючи: «Ось мені можна». Мабуть, ми живемо у такий собі перехідний період, він з часом мине, і все унормується».
В «Роксолане» Загребельный размышляет: «Ученые обладают знаниями, поэтому они часто могут проявлять независимость, а поэты обладают лишь словами, потому им необходимо покровительство. А за покровительство приходится бороться. Призвание ученых – оберегать знания, поэты же нередко напоминают петухов, которые кукарекают даже тогда, когда еще не рассвело. Им не терпится незамедлительно познакомить мир с первым пришедшим на язык словом».Последние годы жизни, как Максим Горький, один из наиболее почитаемых им писателей, Павло Загребельный угасает от туберкулеза, его легкие становятся все меньше, от одной томографии к следующей. С именем автора «Жизни Клима Самгина» пришли на память буквально единичные (ведь отец терпеть не мог указывать или разжевывать, «что и как») слова для меня о литературе. Когда я только начинал путь книгонавта, отец советовал мне «Мертвые души», трилогию Горького о его университетах. В мои студенческие годы спросил, читал ли я «Самгина…». Я выразил свой восторг по поводу этого романа. Отец промолчал, но мне показалось, что он разделял мое мнение. Увидев у меня в руках Бунина, Джозефа Конрада, отозвался одобрительно. Заметил, что Бунин находит в прозе точные слова, как поэт. Павло Загребельный никогда не жаловался, никого ни о чем не просил. Сам ездил за рулем белого «опель-астра» до последних своих дней. С утра до обеда, а потом до вечерних новостей писал или читал на втором этаже или на веранде. Обедал после неизменного аперитива на первом этаже за массивным столом. Столовый гарнитур с несколькими неподъемными тумбами он купил в начале 1970-х. Тогда Египет поставлял мебель в обмен на советское вооружение. Антикварной мебели в доме у нас никогда не было. За исключением старинного кресла венецианской работы – память о Сергее Параджанове. Отец рассказал о кресле в романе «Диво». Красноватые мавры несут на своих крепких плечах подлокотники, на высокой спинке резвятся козлоногие фавны, из-под резных ножек выглядывают еще какие-то мифологические физиономии. Вероятно, триста или четыреста лет назад везли через Адриатику в Венецию далматинские дубы, и мастер, стоя на берегу канала, еще издалека выбирал себе бревно, приказывал доставить его в свою мастерскую и уже там принимался за работу и колдовал над одним таким креслом год, а то и несколько лет, и жизнь его измерялась не количеством прожитых лет, а количеством сделанных чудо-кресел, как у Страдивариуса – количеством скрипок.
На сорок дней после смерти отца Первый национальный канал УТ показал документальный фильм режиссера Елены Соломатиной «Неудобный классик».
«Романы Павла Загребельного крали из издательств еще «тепленькими» и перепродавали втридорога. А еще его «Роксолану», «Диво» и «Смерть в Киеве» можно было купить в книжном магазине, только сдав в приемных пунктах 20 кг макулатуры и получив специальный талончик. Выходит, украинцы покупали свое самосознание по блату, у перекупщиков, собирая в макулатуру произведения других украинских писателей, о которых мы теперь и не помним? Или, может, Павло Загребельный в первую очередь был – после смерти остается – одним из наиболее тиражных и популярных у читателя авторов, а уже потом – правофланговым нашего самосознания? – комментирует писатель Андрей Кокотюха фильм «Неудобный классик». – Мы услышали воспоминания коллег Загребельного о том, что Павло Архипович в самом деле был человеком, не совсем удобным для советской системы. Поэтому сначала утратил должность редактора «Литературной Украины», а потом – 1-го секретаря Союза писателей Украины…
Но совсем не прозвучала интересная тема: Павло Загребельный не был народным депутатом Украины и, насколько я понимаю, даже не хотел политики и мандатов. Не лез в каждую щель Верховной Рады, не работал в командах Кучмы, Ющенко, Януковича, Тимошенко и даже Тягнибока. Не издавался за счет фондов и грантов. Не был трибуном разноцветных политических сил, а жил только за, поверьте мне, не слишком высокие гонорары от изданий и переизданий и деньги, которые получал, сдавая квартиру в аренду. Во всяком случае, так честнее, считал, очевидно, неудобный классик.
Мы увидели, как около здания Союза писателей дают интервью, говорят хорошие слова… В общем, те, кто давно знал его при жизни, говорили хорошо и правильно. Вот только на заднем плане во время интервью посвященные могли увидеть кроме коллег еще и книготорговцев. Так вот, пусть меня простят все товарищи Павла Архиповича…но произведения никого из них после 1991 года не переиздавали так массово и в полном объеме. Во всяком случае, те издатели, которые трудятся на рынке, стремясь продать книжку и заработать на этом копейку. Значит, от всей украинской советской литературы остался только Павло Загребельный? Может, именно из-за этого – по причине заметной в любом большом книжном магазине востребованности – он стал неудобным сегодня? При том, что его романы не просто сложны для прочтения: отдельные из них даже не пройдут экспертизу одиозной НЭК (комиссия, которая запретила в 2009 году роман Олеся Ульяненко – «Женщина его мечты». – Авт.)».
Ушедший недавно Олесь Ульяненко вспоминал о встречах с отцом:
«Те, що Павло Архипович хоче зустрітися зі мною у Спілці письменників, дійшло до мене через десяті руки. Навколо – коло недоброзичливців, а Загребельний зустрічає мене у кожусі, на носі – масивні окуляри. Ми вітаємося, він бере мене – худого («Письменник має бути худим») – за плечі й проводить у двір… Ми їдемо в Кончу-Озерну. За кермом «Волги» – Павло Загребельний. Авто шамкотить колесами розталу снігову жижу, а я не можу звикнути, як вправно водій вирулює між великими фурами й куцими авто. Тільки через 20 хвилин ми почали говорити відверто. Загребельний здебільшого мовчав, але давав відповіді чи розпитував із простотою і ввічливістю…
Тоді вже налазить другий спогад. Загребельний дає інтерв\'ю. Він говорить упевнено і без злості. Тільки чорний завиток кривди падає на його чоло. Кажуть, не мати близьких друзів краще, ніж мати близьких ворогів. Напевне, таке трапилося з Павлом Загребельним. Натовпи топтали до нього дороги, щоби потім оббрехати. Кажуть, геній живе поза людством, але насправді він існує в кожній людині. Пам\'ятаю слова Павла Архиповича: «Я стільки перебачив горя, стільки знущань, тому усіх людей прозираю, як скло».
… Він уперто хоче знову йти. Куди? Аби ж заглянути в його тріпочучу душу. А він пише. Багато пише. Його друкують, ним захоплюються діти, як і я у своїй юності, коли сидів на горбку і з задоволенням читав «Євпраксію» у м\'якій обкладинці. Тоді було багато сонця, життя, незрозумілих планів. Тоді я ще думав: от би мені побачити Загребельного. Тоді був інший світ – світ рожевих ілюзій, коли ти рухаєшся, розкинувши руки і підставляючи обличчя вітру. А потім приходить холодний світанок… Напевне, ти бачив, як янголи мочать свої крила у Дніпрі, і мовчать торжественно нескорені дзвони Софії – плач український плаче, міцно стуливши зуби. Загребельний не піддавався мальованому українству, коли біла сорочка з вишиттям наче списує всі гріхи і, одягнувши її, ти стаєш великим цабе…»
Загребельный мечтал об Украинской академии словесности. Даже составил ее годовой бюджет – не выше цены одного «майбаха». Радовался литературным удачам, новым именам. Первую книгу Тани Малярчук «Эндшпиль Адольфо, или Роза для Лизы» выдвинул на Шевченковскую премию. Понимал, как непросто пробиться таланту. Евгений Пашковский, прозой которого отец восхищался, вспоминает:
«Когда-то П. А. Загребельный в доверительной вечерней беседе, за столом, у себя на даче, объяснил мне сокрушенно всей жизни наблюдение: «Америка развивается, потому что со всего мира собирает лучших из лучших, а Украина – из худшего худших». Именно эта бездарная уродская псевдострана, а не империя, живьем закапывает всех самых искренних, самых сердечных десятилетия последние».
В 2004 году Павло Загребельный выступает в прессе с публичным протестом против забвения прошлого: «Передача коллекции Кенигса Нидерландам – эффектный жест. Его организаторам он кажется очень мудрым, но в нем есть забвение нашей трагической истории в XX веке. Коллекция Кенигса – лишь толика компенсации Украине за ее жертвы во Второй мировой войне. По Украине она прокатилась дважды: с запада на восток и обратно. Поэтому остались ограбления, виселицы и выжженные сердца.
Никакие политические соображения и дипломатические жесты не могут быть оправданны, когда речь идет о национальной трагедии. Ценности, принадлежащие Украине, должны оставаться на ее территории».
Мне запомнилась наука отца быть самим собой. Как в отношениях отца и сына Отава из романа «Диво».
«Утром Борис твердо знал, что теперь его отец, профессор Гордей Отава, добровольно никуда больше не пойдет. Правда, юноша не мог простить отцу, что тот сам, без принуждения, только подчиняясь бумажке, ходил в гестапо, но видел, как отец страдает, и потому молчал. Да и сам Гордей Отава сказал, когда обо всем уже было переговорено с сыном за эту ночь, обращаясь не столько к Борису, сколько к самому себе: «Ignavia est jacere dum possis surgere» – малодушно лежать, если можешь подняться».
«– Мученики всегда мудрее тиранов, потому и становятся мучениками, – тихо сказал Гордей Отава. – К сожалению, мудрых никогда не слушают те, в чьих руках сила. Но зачем нам спорить? У нас с тобой одинаковые убеждения. Давай лучше подумаем, что делать дальше…»
«Так профессор Гордей Отава принял решение создать свой собственный фронт против фашизма, чуточку наивное, но честное, возможно, единственно правильное в его безнадежном положении решение; никем не уполномоченный, кроме собственной совести, никем не посланный, никем не поддерживаемый, должен был встать он, никому не известный, на защиту святыни своего народа перед силой, превосходившей его, быть может, в тысячи и миллионы раз, но не пугался этого, как не пугался когда-то великий художник, создававший Софию, затеряться во тьме столетий со своим именем и со своими страданиями».
Его сыну «…хотелось спасти отца, он отдал бы все за это спасение, он выступил бы против всей фашистской армии, если бы мог защитить отца, но что он мог, если всерьез разобраться? И что мог теперь его отец, который и в мирное время не отличался практицизмом, а скорее демонстрировал почти детскую наивность во всем, что касалось будничной, простой жизни, не связанной с научными теориями и размышлениями…»
Старомодна наука Загребельного быть самим собой – «совесть и слово вместе».Дорогой Павло Загребельный,
Пусть вокруг беспредел запредельный,
Слава Богу, что в беспределе
Оказались Вы не при деле.
Но зато Вы при деле чести,
Там, где совесть и слово вместе,
И спасибо за то, что когда-то
Вы пробили так хитровато
Мой мальчишеский стих сквозь цензуру,
Обманув ее, словно дуру.
И за это, дыша свободно,
Благодарен я вам старомодно.
(Неспособные на благодарность,
Приговор Вам от Бога – бездарность!).
Вам хочу пожелать, молодые
Всей земли, Украины, России,
Чтобы все вы в грядущей дали
Старомодностью этой страдали!
1999 год. Евгений Евтушенко



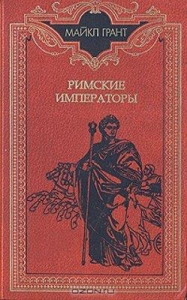


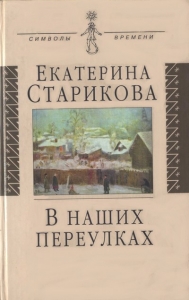
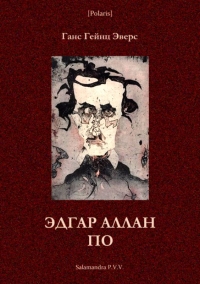

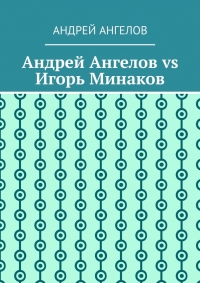

Комментарии к книге «Павло Загребельный», Михаил Павлович Загребельный
Всего 0 комментариев