Надежда Киценко Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ
Прот. Борису и Тамаре Киценко, моим любимым батюшке и матушке, посвящается.
К российскому читателю
Лето 1988 г. ознаменовалось двумя важными событиями — тысячелетием Крещения Руси и возрождением дореволюционной традиции научного изучения православия. Эта традиция достигла высшей точки своего развития накануне Первой мировой войны. Правительство активно поддерживало тогда множество научных организаций. Императорское археографическое общество, Императорское филологическое общество, Общество любителей российской словесности, четыре духовные академии — все эти организации публиковали как источники, так и исследования по православной культуре. В некоторых областях, например в изучении истории Византии, вклад русской науки был настолько значителен, что знание русского языка считалось обязательным для иностранных исследователей.
Однако, несмотря на заслуженную международную репутацию, дореволюционные исследования православной культуры оставались очень мало развитыми в одной области. Это императорский период. Из-за тесной связи между правительством и Церковью, а также чтобы избежать двойной цензуры (церковной наряду с обычной), ученые не были склонны заниматься исследованиями церковной культуры той эпохи, которая была хронологически наиболее к ним близка. Более того, поскольку в последние десятилетия XIX — начале XX в. в русской исторической науке доминировали «государственная» и «буржуазно-экономическая» школы, роль Церкви в истории России сводилась в многотомных трудах Соловьева и Ключевского к чисто экономической функции.
Примером такого небрежения является отношение историков к святым имперского, или синодального, периода. В то время как почитание святых, занимая центральное место в православной религиозности, распространялось и на фигуры 1700–1917 гг., дореволюционные историки сосредоточивались главным образом на святых эпохи Киевской Руси и Московского государства. «Древнерусские жития святых как исторический источник» В. О. Ключевского служит примером ограниченных возможностей фактографического подхода. Е. Голубинский предпринял попытку написать историю канонизации святых в Русской православной церкви, но его методология критиковалась такими русскими историками, как Н. Суворов и болландист Питерс{1}.
Парадоксально, но притом, что синодальный период оказался наименее изученным, в особенности в том, что касалось агиографии, именно тогда было накоплено огромное количество материала. Бесчисленные дешевые издания, работы о ревнителях благочестия и подвижниках благочестия, епархиальные журналы, массовая литература представляют собой золотую жилу для историка. То же можно сказать и о приходских и синодальных документах, многие из которых сохранились в архивах, причем некоторые хранятся в тех же зданиях, где были написаны (хотя может оказаться и так, что важнейшие архивы Синода и его обер-прокурора будут недоступны исследователям очень долгое время — это зависит от того, какова будет судьба РГИА).
Самые сильные спады в изучении русского православия в XX в. совпадали с крупными историческими событиями: Первая мировая война, революции 1917 г. и Гражданская война, затем десятилетия советского правления. Унылую картину этого развития иллюстрирует внешний вид журнала «Византийский временник»: неслыханной толщины книжка в 1914 г. постепенно усыхает к 1917–1918 гг. до размеров почти ничтожных, затем возрождается в 1920-е гг., но остается очень тонкой. Вряд ли нужно добавлять, что эпоха воинствующего атеизма, когда тысячи представителей духовенства, монашества и простые миряне пополнили ряды пострадавших за веру, не создавала благоприятных условий для изучения русской религиозности. Продолжать традицию старались зарубежные ученые. Здесь нужно назвать работы Федотова, Зернова, Смолича, Концевича и Карташева, представителей духовенства Шмемана, Мейендорфа, Помазанского, Шавельского, Семенова-Тян-Шанского и Храповицкого — вот только самые известные имена историков русской церкви. Традиции русских Духовных академий продолжали публикации Института Св. Сергия в Париже, Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (Нью-Йорк) и Семинарии Св. Владимира в Крествуде (Нью-Йорк). Некоторые из их работ изданы не только за границей, но и в России.
Но эмигранты немногое могли сделать. Долгие годы большинство историков в Европе и США, специализирующихся по России, в своих подходах и периодизации следовали за советскими коллегами, сводя значение православия к минимуму. И только в конце 1970-х годов вышел сборник статей, в котором были поставлены ключевые вопросы о русском православии при старом режиме{2}. Одновременно специалисты по Западной Европе дали новую жизнь изучению христианства в целом. Прежде чем их подходы проникли в русистику, прошло более десяти лет{3}.
Эта книга, появившаяся в 2000 г., стала одной из первых ласточек англоязычного возрождения. С тех пор на изучение православия в России оказывают влияние подходы, заимствованные из истории культуры, антропологии, социологии, истории искусств, семиотики и теологии{4}. Наконец, после 1988 г. взаимопересечение религии и политики в России и в Украине способствовало возникновению обширной полемической литературы, с одной стороны, и значительной читательской аудитории — с другой. Доступ в архивы в настоящее время представляется достаточно простым. Переиздаются дореволюционные работы. Появилось больше возможностей для совместных проектов (конференций, книг, грантов), включая уровень семинарий и духовных академий{5}. Чтобы использовать эти возможности, а также чтобы не подвергаться риску вновь изобретать колесо, русские ученые должны знать иностранные языки{6}. В целом сейчас наилучшее время для историков, изучающих православие дореволюционной России, и мы с удовольствием ожидаем, что русские ученые внесут свой вклад в это плодотворное и многостороннее предприятие.
Предисловие
Вся русская история читается как жития святых.
Константин АксаковСвятые — это воистину живые иконы. Будучи одновременно и зримыми Божьими посланниками, и бесспорными нравственными идеалами, они как бы концентрируют в своих образах духовные чаяния породивших их эпох. Несмотря на очевидный вневременной характер христианских ценностей, подобная привязка святого ко времени, в котором ему было предначертано прославиться, несомненна. Поэтому изначальный образ святого может со временем начать все меньше и меньше отвечать духовным запросам потомков. Так, например, крутой нрав, востребованный ситуациями сильных потрясений, позже, в более мирные времена, может показаться излишне агрессивным. Если святой при жизни избрал политическую стезю или преуспел на ином мирском поприще, не исключено, что впоследствии подобные обстоятельства обернутся досадным анахронизмом, существенно осложняющим его церковное почитание. Если же расхождения между велением времени и церковной практикой становятся слишком заметными, то меры преодоления такой ситуации могут стать самыми радикальными, вплоть до перемены канонических текстов. Так, в XX в. политическая конъюнктура вынудила Русскую православную церковь прекратить молиться о здоровье императора и о его победе над врагами; заставила Римскую католическую церковь исключить св. Христофора из сонма святых и исключить из богослужебных правил фразы, которые могли бы трактоваться как антисемитские; обязала протестантские конфессии переработать песнопения, где просматривалась женская «дискриминация».
В этом смысле образ святого праведного Иоанна Кронштадтского парадоксален. Несмотря на его нескрываемую и даже нарочито демонстрируемую политическую позицию, он остается непререкаемым авторитетом вот уже для нескольких поколений верующих, причем самых разных идейных убеждений и пристрастий. Поражает его удивительная органичность как для пореформенной России, так и для рубежа XX и XXI вв. Сегодня он современен для нас в такой же степени, как и сто с лишним лет назад — для своей воистину многомиллионной паствы, разбросанной по бескрайним просторам Российской империи. Не потому ли и сейчас, как и веком ранее, многие православные величают о. Иоанна «святым нашего времени»?
Так кто же он, этот «святой нашего времени»? Иоанн Ильич Сергиев, или святой праведный Иоанн Кронштадтский, родился 19 октября 1829 г. в семье дьячка в глухой архангельской деревушке Суре. Он появился на свет настолько болезненным ребенком, что родители немедленно окрестили его, опасаясь, что дитя не доживет до утра. Получив духовное образование сначала в семинарии, а затем — в Санкт-Петербургской Духовной академии, он в 1855 г. стал священником. В это время империя вступала в полосу модернизационных Великих реформ, кардинально ее преобразивших. На фоне всколыхнувшей всю Россию общественной активности о. Иоанн сумел найти собственную стезю — он помогал бедным, участвовал в создании приютов и организации новых рабочих мест, призывал к трезвому образу жизни. И вместе с тем в первую очередь о. Иоанн оставался пастырем. Он самозабвенно молился, призывая верующих почаще причащаться. Люди же так стремились попасть на его службу, что церковные иерархи дозволили ему регулярно проводить общую исповедь. Несмотря на то что отдельные представители как духовных, так и светских властей пытались «остудить» пыл священника, его популярность среди верующих стремительно возрастала, и люди все больше и больше говорили о действенной силе его молитв.
Настоящая известность пришла к о. Иоанну в 1883 г., когда в столичной газете «Новое время» было опубликовано открытое письмо благодарных прихожан, исцеленных молитвами батюшки. После этого Кронштадт, где служил о. Иоанн, стал одним из главных в России объектов паломничества. Туда начали прибывать целые корабли желавших обрести от пастыря чудесную помощь и облегчение. Те же, кто не мог добраться до Кронштадта, буквально заваливали батюшку письмами о помощи. Совсем скоро о. Иоанн стал «знаменитостью»: его изображение появлялось на сувенирных платках, кружках, плакатах и открытках; по сути дела, вся страна стала его приходом. В 1894 г., когда о. Иоанн был приглашен помолиться у одра умирающего Александра III, его известность перешла через границы империи, и пастырь начал получать письма из Европы и Америки.
Уникальным образом совмещавший бурную общественную деятельность, исполнение сугубо священнических обязанностей, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, о. Иоанн, казалось, воплощал собой внятный и своевременный православный ответ на вызовы секулярной цивилизации Нового времени. Когда же о себе громогласно заявили революционные радикалы и террористы, о. Иоанн стал убежденным консерватором, вошел в ряды некоторых монархических организаций и даже освятил хоругви «Союза русского народа». После подобных демонстративных шагов практически не осталось тех, кто бы относился к нему нейтрально. Правые провозгласили его пророком, либералы стыдливо отвернулись от пастыря, а левые радикалы сделали о. Иоанна одним из главных объектов шельмования. Батюшка оказался своеобразным индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения Церкви и государства, Царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин.
И после завершения своего земного пути в конце 1908 г. пастырь продолжал оставаться своеобразным мерилом правды и кривды. Революции 1917 г., политика государственного атеизма в советские годы, эмигрантское инобытие, перестройка, тысячелетие крещения Руси в 1988 г., перипетии последних полутора десятилетий — в каждую из этих эпох творился новый образ о. Иоанна, соответствовавший реалиям текущего момента. Потребность изменения биографии в угоду исторической конъюнктуре стара, как сам жанр агиографии, однако стремительность подобных «уточнений» в случае с о. Иоанном уникальна.
В настоящей книге описываются взаимоотношения о. Иоанна Кронштадтского и современного ему русского общества. Отталкиваясь от образа пастыря, я также постаралась выявить и обобщить сложившиеся и укоренившиеся в менталитете людей пореформенной эпохи представления о святости и проследить, насколько сам батюшка им соответствовал. Его общественные начинания рассматриваются в тесной взаимосвязи с исполнением им своих церковных обязанностей. Духовная практика о. Иоанна вписана в более широкий контекст социально-церковной проблематики. В частности, обращается внимание на такие, казалось бы, трудноуловимые аспекты данной темы, как роль священника в укреплении благочестия верующих, а также в явлениях «высокой» политики, или значение прессы в популяризации жизнеописаний святых-современников. И здесь я попыталась проанализировать особенности современных взглядов на святость. Наконец, специальное внимание уделяется посмертной «репутации» о. Иоанна и представлениям о его образе, сложившемся после кончины батюшки. Подобный подход помогает понять, что именно из наследия о. Иоанна Кронштадтского оказалось наиболее долговечным и как его имя продолжают использовать в наши дни.
Изучение личности о. Иоанна выводит на целый ряд весьма значимых для понимания русской политической истории и духовной культуры проблем. Здесь и роль Русской православной церкви в последние десятилетия существования Российской империи, и образ народного благочестия, и гендерные различия вероисповедания, и взаимное переплетение традиционных и новых обычаев почитания святых, и, наконец, политический контекст диалога Церкви и общества.
Удивительно, но устоявшиеся в русской культуре представления о народном благочестии не подходят для описания о. Иоанна, хотя современники и указывали на его «всенародную» известность. Видимо, в данном случае само понятие «народный» оказывается неоднозначным в силу определенной условности и искусственности деления социокультурных феноменов на «высокие» и «низкие»{7}. Применительно к России «народный» подразумевает «деревенский», «крестьянский» или даже «пролетарский» в противоположность «городскому» или «элитарному»{8}. Западные исследователи предлагают целый ряд дефиниций, альтернативных определению «народный». Так, У. Кристиан использует термин «местный», И. Даффи — «традиционный», a Л. Бойл, отталкиваясь от литургической практики, говорит о «полулитургической» и «паралитургической» разновидностях благочестия{9}.
Однако ни одна из этих характеристик не может стать ключом к воссозданию образа святого праведного Иоанна Кронштадтского. Его влияние распространялось на представителей не только самых разных социальных групп, от рабочих и до аристократов, но и на людей иных национальностей, и даже конфессиональной принадлежности. Поэтому если «народное» благочестие рассматривать в отрыве от благочестия элитарного или официального, то такой подход явно диссонирует с почитанием о. Иоанна — почитанием, далеко выходящим за традиционные и, казалось бы, устойчивые и самодостаточные социальные, географические, гендерные и конфессиональные барьеры. Отсюда совершенно очевидной становится потребность в смене самой парадигмы исследовательского мышления, и в настоящей книге такая попытка предпринята на основе метода «живого религиозного опыта»{10}. Этот метод позволяет разглядеть взаимосвязь, а не противопоставление понятий «высокое» и «низкое», а также «легализовать» для академического стиля изложения взгляд на религиозную практику «изнутри», из свойственных ей смысловых и ценностных ориентиров.
Для анализа личности о. Иоанна весьма продуктивными могут стать и еще два наблюдения. Одно из них основано, если воспользоваться понятийным языком Э. Канторовича, на идее напряженного противоборства двух «ипостасей» святого священника: частной, связанной со спасением собственной души и сугубо личным духовным опытом, и общественной, предопределенной высокой миссией священника и ответственностью перед приходом{11}. Как показывает жизненный путь о. Иоанна, эти две ипостаси не только дополняли друг друга, но почти столь же часто вступали в противоречие. Второе наблюдение исходит из идеи «самовоспроизводящегося» роста известности, когда уже непосредственно культ святого превращается в некий энергетический импульс, действующий независимо от Божьего избранника и даже порой побуждающий его к весьма неожиданным поступкам{12}.
На протяжении многих лет как советские, так и западные исследователи не считали нужным даже слегка отойти от стойкого представления о Русской православной церкви как о наиболее верной и преданной «служанке» самодержавия{13}. В 1970-е гг. на Западе стали появляться более взвешенные суждения, констатировавшие, что Церковь прежде всего стремилась обеспечить свои собственные интересы, лишь отчасти совпадавшие с интересами абсолютистской монархии{14}. Между тем, несмотря на подобные коррективы, фигура о. Иоанна по-прежнему не вписывается в одномерную схему церковно-государственных отношений. Вся его неординарная и яркая жизнь убедительно доказывает, насколько тесно в его собственной пастырской практике были переплетены официальная идеология и личные убеждения и какую колоссальную роль сыграло духовенство вообще во взращивании и поддержке идей о невозможности бытия Святой Руси без венценосного предстателя, о России как оазисе русской православной самобытности. Пример кронштадтского пастыря наглядно демонстрирует, что живой религиозный опыт отнюдь не всегда прямиком приводит к сектантству, а харизматические личности способны не только разрушать, но и поддерживать и укреплять законность и порядок, а значит, и стабильность существующего режима{15}.
Имеется немало биографий о. Иоанна, причем большинство из них было опубликовано еще при его жизни или сразу после смерти. Очевидно, что все они были главным образом подготовительными материалами для некоего сводного жизнеописания агиографического характера. Однако, несмотря на то что данные биографии содержат массу полезной информации, в частности и для анализа восприятия пастыря современниками, они, бесспорно, «перегружены» дидактической назидательностью, в то время как общественная и политическая деятельность батюшки в них рассматривается весьма поверхностно{16}.
Воспоминания об о. Иоанне, выходившие одновременно с биографиями, либо, как и зарождавшаяся тогда же агиография пастыря, выдержаны в духе пиетизма, либо, напротив, полны резких и злобных нападок на него и напоминают, скорее, карикатуры. Кое-где встречаются вопиющие неточности — остается только гадать, преднамеренные или случайные{17}. Многие историки на Западе просто повторяли подобные крайне субъективные негативные оценки, принимая их за аксиому{18}. На этом фоне утвердившийся в работах советских авторов демонический образ старца-черносотенца и подавно выглядел как нечто само собою разумеющееся.
Если же говорить об обстоятельных и информативно насыщенных публикациях об о. Иоанне, то одним из первых подобных изданий стало фундаментальное двухтомное исследование И. К. Сурского (Ильяшевича), вышедшее в 1930-е годы в Белграде{19}. Вообще, в русском зарубежье на протяжении всего минувшего века не ослабевала память о кронштадтском батюшке. Во многом это стало результатом обширной издательской деятельности Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле и Мемориального фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского в Ютике, находящихся в штате Нью-Йорк (США). Наиболее серьезный вклад в воссоздание жизнеописания о. Иоанна внесли работы епископа Александра (Семенова-Тян-Шанского) и Аллы Силори{20}. Фрагментарные и, к сожалению, весьма ограниченные упоминания о батюшке присутствуют и в общих трудах, посвященных проблемам русской религиозности{21}.
В настоящей книге использованы материалы из всех упомянутых публикаций. Причем столь «пестрое» оценочное панно оказывается для поставленной исследовательской задачи весьма полезным. Ведь в соответствии с тем, как разнятся представления о святом, можно довольно точно представить себе, каким образом различные группы и даже поколения его почитателей интерпретируют жизненный путь пастыря через призму собственных ценностных ориентиров и мотивационных установок — столь зыбких и неустойчивых в реалиях всепоглощающей обыденности.
Впервые как в западной, так и в российской историографии для анализа фигуры о. Иоанна привлекаются его дневники, которые он вел со дня своего рукоположения и до самой кончины, а также значительный объем адресованных ему писем. Эти материалы находятся в Российском государственном историческом архиве. В книге использованы также и документы Департамента полиции, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации.
Дневники о. Иоанна — это своеобразный ключ к пониманию конфликта между частной и общественной жизнью человека, которого общество считает великим праведником. Фиксируя вехи его духовной эволюции, они дополняют каноническую версию жития событиями из повседневности, отражают путь религиозного опыта пастыря — от размышлений над Священным Писанием к подвигу личного аскетизма по примеру отцов-пустынников, а в конечном итоге — к осознанию предопределенности своей священнической миссии: сделать все возможное и невозможное для спасения своего народа.
Следует отметить, что дневники о. Иоанна крайне бедны той фактической информацией, которая прежде всего интересует историков. Там упоминается крайне мало событий или впечатлений, прямо не касающихся того или иного аспекта православного вероучения; в записях нет последовательной датировки, практически полностью отсутствуют сведения об общественной деятельности батюшки. Однако эти «неудобства» полностью утрачивают какое-либо значение, если принять во внимание саму природу дневников, их жанровую специфику. Чрезвычайно самокритичный, даже откровенно негативный по отношению к самому себе тон, кажущееся мелочным и несерьезным пристальное внимание к каждой собственной оплошности становятся объяснимыми, если рассматривать ежедневные записи о. Иоанна не как дневники в общепринятом значении этого слова, а как особую духовную хронику, которую предписывалось вести каждому православному священнику для укрепления веры и поддержания должного «градуса» своего пастырского служения{22}. Не являются дневники о. Иоанна и цельной ретроспективной автобиографией наподобие записей блаженного Августина, святой Терезы Авильской или протопопа Аввакума. Тексты батюшки, скорее, фиксируют динамику его внутреннего мира — размышления о Священном Писании сменяются перечислением его нескончаемых встреч и визитов. Новая тема часто вынуждает избрать и иную интонацию, что позволяет воочию проследить все специфические особенности восприятия о. Иоанном божественного и мирского.
Адресованные пастырю письма — еще один уникальный массовый источник. Около десяти тысяч писем хранится в ЦГИА СПб. И это — всего лишь незначительная часть эпистолярного наследия о. Иоанна, поскольку в последние годы его жизни одна лишь исходящая от батюшки корреспонденция насчитывала в среднем пятнадцать тысяч писем в год{23}. Безусловно, настоящая книга не претендует на исчерпывающий анализ этого массива, однако даже приведенные в ней самые общие характеристики просьб паствы помогают глубже осмыслить феномен живой святости о. Иоанна. Мы видим, что от батюшки ожидали помощи практически в любой проблеме, с которой мог столкнуться человек в своей жизни, будь то деловые переговоры или выбор номера для счастливого лотерейного билета, излечение больных родственников или обучение Иисусовой молитве. Ведь, в конце концов, как бы ни был популярен и почитаем святой, но если он реально, на деле не помогает людям, причем самых разных слоев общества, то народ неминуемо отворачивается от него и начинает искать того, кто способен взвалить на себя такую миссию.
Глава 1 СОТВОРЕНИЕ ПАСТЫРЯ
Приходское духовенство и православная традиция в модернизирующейся России
Детство Иоанна Сергиева выпало на эпоху Николая I. К этому времени запущенные Петром Великим модернизационные преобразования уже заметно осложнили жизнь приходского духовенства и даже серьезно понизили его общественный статус. Да, русские продолжали оставаться одним из самых воцерковленных и благочестивых народов Европы{24}. Однако народное благочестие отнюдь не всегда автоматически подразумевало почитание священника, поставленного вести свою паству. После петровских преобразований незыблемое положение приходских пастырей заметно пошатнулось, к ним даже могли теперь применяться телесные наказания{25}. Наиболее распространенные религиозные обычаи — будь то паломничество, почитание местных святынь, икон и мощей — не были напрямую связаны с приходским духовенством. Зато монашество по-прежнему высоко чтилось и считалось наиболее богоугодной формой церковного служения. Традиционное почитание монашества неизбежно приводило к определенной десакрализации приходских батюшек, бывших в подавляющем большинстве людьми семейными и, следовательно, остававшимися в этом бренном земном мире. В то же время монашествующие, а также различные Божьи люди — странники, отшельники, блаженные — в сознании большей части как мирян, так и самого клира находились как бы ближе ко Творцу{26}.
Священники уступали не только чернецам и подобного рода подвижникам, но и архиереям. Только если в первом случае приходским батюшкам не хватало личной харизмы, то во втором явно недоставало официальной влиятельности и материального достатка. Столь несообразное значение священников — самой массовой части духовенства, на которую менее всего обращали внимание, — отразилось и на русской святости. К XIX в., спустя восемь с лишним веков после крещения Руси, практически ни один из представителей белого духовенства не был канонизирован. Основные «персонажи» Минеи — монашествующие и архиереи, светские правители и воины, разного рода Божьи люди. В Российской империи середины XIX в. святость по-прежнему определялась либо некоей врожденной «неотмирностью», либо причастностью к власти{27}.
Маргинализация приходского духовенства в русской традиции благочестия была также связана и с постепенным снижением роли таинства Святого Причастия, изначально центрального в церковной жизни. Подобное отношение к этому таинству имело долгую предысторию как в России, так и вообще в православной церковной традиции, восходящей к словам Кирилла Иерусалимского о благоговейном трепете и утвердившейся в богослужебной практике множеством канонических правил{28}. В соответствии с церковным учением о Евхаристии считалось, что если причастник принял Святые Дары, не подготовив себя должным образом, то его неминуемо ждало суровое наказание за небрежное отношение к этому ключевому и установленному Самим Спасителем таинству. Поэтому нередко случалось, что прихожане не отваживались подходить к Святой Чаше, даже исповедавшись и получив отпущение грехов{29}. В результате установившаяся к XVI в. практика Святого Причастия только раз в году считалась нормой и продержалась вплоть до XIX в. Более того, в России евхаристические правила были зафиксированы и на законодательном уровне. В итоге целые государственные учреждения, гвардейские полки и гимназические классы были обязаны причащаться в определенные и строго установленные для них дни. Таким образом, церковное таинство становилось не только религиозным обрядом, но и верноподданнической обязанностью{30}.
Изменения в архитектуре русских храмов также стимулировали усиление особого отношения к Евхаристии. В отличие от католической традиции, где расположенные на дароносице Святые Дары были доступны для лицезрения людей, православный иконостас, отделявший алтарь от остальной доступной для прихожан части храма, на протяжении веков становился все выше и выше и в итоге полностью скрыл от глаз молившихся престол; в итоге центральная часть литургии верных, во время которой происходит пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Господни, оказалась недоступной для их взглядов. Вместе с тем иконы и другие святыни, как, например, святая вода или просфоры (а также куличи, яйца, пасхи или фрукты на праздники соответственно Светлого Христова Воскресения или Преображения), миро, святые мощи и кресты, стали казаться более доступными средствами укрепления веры, нежели вызывающее трепет Святое Причастие{31}.
Великие реформы сделали неизбежными (хотя и умеренные и осторожные) модернизационные преобразования внутри Церкви. Русские архиереи оказались поставленными перед непростой задачей совершенствования духовного просвещения как самого клира, так и в целом всей паствы. Улучшалось образование, даваемое ученикам церковно-приходских школ, повышалось значение проповеднической работы, помощи больным и немощным, вообще подчеркивалась активная общественная деятельность священников{32}. Совместно с государственными ведомствами Церковь наладила выпуск периодических изданий, призванных улучшить духовное воспитание читающей части паствы. В таких журналах, как «Душеполезное чтение», стали появляться сообщения о чудесах, происходящих в храмах во время литургии. Подобные публикации были призваны укреплять воцерковленность грамотных и, следовательно, наиболее уязвимых для «прогрессивной» пропаганды верующих{33}.
Для более глубокого понимания прихожанами богослужения стали выпускаться толкования литургии и иных богослужений, остававшихся, по признаниям некоторых церковных авторов, непонятными для большей части населения{34}. Особой популярностью среди мирян пользовались составленные в виде ответов священника на вопросы паствы популярные изложения основ вероучения{35}. Архиереи начали уговаривать мирян чаще причащаться. Митрополит Филарет (Дроздов), например, призывал причащаться не один, а четыре раза в год. Как и церковные иерархи, придворные композиторы, создававшие духовную музыку и песнопения, также стали уделять преимущественное внимание именно смысловой стороне своих сочинений, а не их эстетическому воздействию на молящихся. Они убеждали церковных певчих отказаться от итальянской музыки XVIII в.: «…совокупное действие священной музыки с светской при богослужении быть не должно, потому что светская застилает достоинство, назначение и цель первой». В то же самое время «мелодии священные должны быть неминуемо кратки и определены постоянно, дабы они укоренились в памяти, и ни новостью, ни разнообразностью не развлекали внимания; они должны быть просты и оживлены огнем сердечным, дабы разогревали сердце и возносили дух!»{36}
Таким образом, архиереи одновременно преследовали две цели: сделать осмысленное участие в литургии основой православного благочестия и повысить роль священника, усилив как его проповедническую работу с паствой, так и в целом мероприятия, направленные на просвещение прихожан. Новый импульс в XIX в. обрела и миссионерская деятельность{37}. В Казанской Духовной академии миссионерская деятельность стала отдельной дисциплиной, был сделан перевод Священного Писания на языки большинства народов Российской империи{38}.
Ко времени, когда о. Иоанн вставал на путь своего пастырского служения, преобразования, начатые как церковными, так и светскими властями, существенно синхронизировались. По сути, в России стремительно формировался принципиально новый духовный опыт, основанный на заметном возрастании роли проповеди и церковного просвещения, более ревностной личной молитве и превращении паломничества из удела немногих в довольно массовый феномен православной жизни. Этот духовный опыт стал своеобразным ответом в общем-то по-прежнему традиционного русского общества на вызовы «цивилизации» и «прогресса», порожденные Новым временем. Сходные процессы переживали традиционные христианские конфессии и в Европе, в частности во Франции{39}. К тому же стремительный рост численности сектантов и старообрядцев вынуждал Русскую православную церковь более грамотно и отчетливо излагать догматы веры{40}.
Кронштадтский пастырь стал одновременно и порождением, и символом всех этих перемен. Его нововведения следует рассматривать в контексте как быстро менявшихся реалий мирской жизни, так и намерений церковных иерархов не только не утратить контроль над данными процессами, но и придать им максимально возможную православную окраску.
Детские годы и начало пастырского служения о. Иоанна
Иоанн Сергиев родился 19 октября 1829 г. в небольшой деревне Суре Архангельской губернии в семье дьячка местной церкви, Ильи Михайловича Сергиева, и его жены — Федоры Власьевны.
Новорожденный выглядел настолько немощным, что родители сразу же окрестили его: если младенец и не выживет, то по крайней мере покинет этот мир уже христианином. И впоследствии Иоанн оставался слабым и болезненным ребенком, однажды он едва не скончался от оспы. В своей автобиографии о. Иоанн описывает Илью Михайловича и Федору Власьевну как людей чрезвычайно набожных — по его словам, именно они привили ему любовь к молитве и воспитали в духе глубокой религиозности{41}. Хотя семья была бедной, родители смогли отправить десятилетнего Иоанна на свои скромные сбережения в Архангельск в церковно-приходское училище. К сожалению, несмотря на все свое усердие, отрок поначалу не обнаруживал ни малейшей склонности к учебе и мучился при мысли, что родители тратят на него впустую свои последние гроши. Однако после упорных ночных молитв он внезапно начал полностью понимать уроки и стал одним из лучших учеников. После школы он поступил в духовную семинарию, которую окончил в 1851 г., показав самый блестящий результат в своей группе. Благодаря этому Иоанн получил возможность продолжить образование в Санкт-Петербургской Духовной академии.
Однако в том же году скончался его отец, оставив Федору Власьевну практически без средств к существованию. Чтобы помочь матери и сестрам, Иоанн хотел отказаться от учебы в академии и немедленно поступить на работу дьяконом или даже пономарем, однако Федора Власьевна решительно настояла на том, чтобы сын продолжал образование. Тогда Иоанн параллельно с учебой устроился в администрацию академии переписчиком бумаг и посылал все свое жалованье — десять рублей в месяц — домой.
Служебная должность Иоанна позволяла ему иметь собственную комнату, и он ценил эту редкую для слушателя академии возможность уединяться для глубокой молитвы и самостоятельных занятий. Он серьезно изучал философию, историю, латынь, литературу, физику, математику, иностранные языки, а также патристику и богословие. Хотя пастырь позднее и мало писал об этом времени своей жизни, оно во многом определило его дальнейший путь. Он получил основательное образование, полюбил святоотеческую литературу, особенно творения св. Иоанна Златоуста, а также митрополита Филарета Московского, и почувствовал, что его истинное призвание — стать священником{42}. У Иоанна не было близких друзей, и спустя годы его однокурсники могли вспомнить о своем бывшем товарище лишь то, что «он все время говорил о смирении». В последний год обучения в академии Иоанн впал в необъяснимую депрессию и, как он признавался позднее, смог выйти из нее только благодаря непрестанной молитве{43}.
Еще будучи слушателем академии, Иоанн как-то раз увидел во сне, как он заходит в апсиду большого собора и выходит через его южные врата (миряне, как правило, передвигаются в обратном направлении). Случилось так, что именно в этом увиденном им во сне соборе Иоанну довелось потом прослужить всю свою жизнь{44}. Иоанн женился на дочери протоиерея Константина Несвицкого, служившего в Кронштадте в Андреевском соборе — том самом, который ему приснился и в котором он прежде никогда не бывал. После венчания с Елизаветой Константиновной Иоанн был рукоположен в сан диакона, а в конце 1855 г. — иерея{45}.
Сведения об этом периоде жизни о. Иоанна весьма скупы и представляют собой либо более поздние воспоминания, либо пересказ с чужих слов; однако после начала священнического служения появляется возможность приоткрыть завесу над внутренним миром о. Иоанна благодаря его дневнику. Подобно тому как преп. Антоний Великий рекомендовал монахам для духовного самосовершенствования записывать свои мысли и поступки, семинарские наставники призывали студентов вести дневники. Это правило оказывается крайне полезным после принятия священнического сана, когда возникает потребность неусыпного контроля за собственными словами и действиями, а также непрестанного духовного окормления прихожан{46}. Дневник о. Иоанна — подлинная находка для постижения его внутреннего мира. Ведь характерное для батюшки понимание святости столь необычно, что неизбежно вызывает многочисленные вопросы. Было ли его стремление к святости сознательным? Если да, то насколько это стремление встраивалось в тот образ пастыря, который он создавал? В конце концов, как увязать стремление о. Иоанна к духовному совершенству, неотделимому от аскетического или монашеского образа жизни, с уделом семейного священника?
Дневники о. Иоанна раскрывают его понимание святости. Это неземное качество, по мысли пастыря, представляет собой своеобразный переход вовне, в окружающий его мир, напряженно и непрестанно развивающейся личной духовности. Представление о двух ипостасях священника способно существенно облегчить подобное понимание святости. Как и описанные Э. Канторовичем средневековые монархи, священник существует как бы в двух ипостасях: частной, занятой своим собственным спасением, и общественной, призванной окормлять паству. Многие христианские авторы, начиная с Иоанна Златоуста, с грустью отмечали неизбежное внутреннее противоборство между обеими ипостасями священнослужителя. И уж тем более — священнослужителя, стремящегося к святости{47}.
Первое впечатление, которое производят ранние дневники о. Иоанна, заключается в их явном ученическом содержании. Составленные в первые годы после рукоположения в сан иерея, они практически полностью посвящены размышлениям о Священном Писании. Это и понятно, ведь сначала надлежит досконально изучить традицию, в которой придется прожить жизнь, затем сделать эту традицию неотъемлемой частью собственного мировоззрения и только после того ступать на стезю наставничества. Учитывая исключительное внимание о. Иоанна к экзегетике, можно было бы предположить, что он намеревался всерьез заняться богословием{48}.
Однако при более внимательном рассмотрении его экзегетических размышлений становится очевидным совершенно иное побуждение молодого иерея. Интерес о. Иоанна к Священному Писанию был отнюдь не исследовательским или богословским, а глубоко личным. Подобно некоторым отцам-пустынникам, он стремился к непосредственному и личностному восприятию Слова Божьего с той лишь разницей, что, в отличие от древних подвижников, он записывал результаты своих размышлений{49}. В отличие от таких мастеров «умного делания», какими можно считать, например, оптинских старцев, опиравшихся как на собственный иноческий опыт, так и на наставления других авторитетных представителей монашества, о. Иоанн продвигался по избранному пути один. Единственными его спутниками и наставниками были Священное Писание и собственный, пусть и небогатый, но уже наметившийся опыт непосредственного постижения Божьей воли{50}. У пастыря не было духовного отца или наставника, что, кстати, является весьма необычным для православной традиции фактом.
Отсутствие в дневниках кавычек или каких-либо других знаков, отделяющих слова Священного Писания от авторских, показывает, что о. Иоанн воспринимал его текст органично, как неотъемлемую часть своего внутреннего мира. Весьма показательно также и то, что же именно привлекало его в Библии. Он каждый раз стремился вычленить заложенный в ней важнейший и вместе с тем простейший нравственный урок, а не отдаляться от текста, чтобы оценивать его или анализировать. Его утилитарный подход к Священному Писанию чем-то напоминает подход художника-новичка к работам своих предшественников: он одновременно и благоговеет, и стремится достичь мастерства. Почти все отрывки из Библии, которые о. Иоанн переписывал и комментировал, от Книги Бытия и до Книги пророка Исайи, разбираются по единому образцу: пересказ, выделение главного и размышления. Характерен его комментарий по поводу сюжета о Вавилонской башне[1]:
«Вот тебе поблагодарила тварь… не умела поддержать себя в твоем достоинстве. Посмотри на твое начало: из земли, из грязи, из бездушной материи Бог создал такую дивную тварь, состоящую из прекрасного тела и еще прекраснейшей души, одаренной разумом и свободою: вместо того, чтобы жить да благословлять и благодарить Бога и повиноваться Ему, человек забылся в своей красоте и в своем величии, тварь сама захотела быть Божеством… так худо, несовершенно понимали они Бога. Так мало они знали, что такое — земля, и что — небо»{51}.
Таким образом, целый ряд тем, которые впоследствии постоянно присутствовали в проповедях о. Иоанна, как, например, изначальное и непреодолимое расстояние между Богом и человеком или бессмысленная гордыня и примитивное высокомерие людей, отказавшихся признать свое подчиненное Творцу положение, впервые были проговорены кронштадтским пастырем именно как его дневниковые комментарии к Священному Писанию. Долгие размышления над библейскими выписками усиливали внутренний диалог о. Иоанна с боговдохновенными текстами. Он ведь и без того уже с самого детства был просто пропитан языком и образами православного богослужения и Нового Завета{52}. Понятно, что уже через несколько месяцев после того, как он начал ежедневно переписывать выдержки из Священного Писания, совершая при этом регулярные церковные службы, думать и говорить на этом литургическом и библейском наречии стало для о. Иоанна органичной и естественной потребностью. К примеру, восклицание «Живодавче Христе, Боже наш, помилуй мя» столь же типично для его дневника, как и для церковной ектеньи или канона. Подобным же образом богослужебный язык у него с легкостью сочетается с разговорным. Когда он пишет «Слава силе Твоей, Господи!», он может запросто продолжить данный возглас фразой: «Слава и вам, святые апостолы, верные слуги Христа, Бога нашего!». Благодаря фамильярному «и вам» канонические церковные выражения как бы утрачивают свою почти что эсхатологическую неизменность и вводятся в повседневный речевой обиход{53}.
Совмещение церковного и личного было главной задачей первых лет пастырского служения о. Иоанна. Эта задача явственно прослеживается в его дневниковых записях. Он жаждал их слияния как в его внутреннем мире, так и в исполнении своих священнических обязанностей. Батюшка стремился к максимальной прозрачности чувств и помыслов, дабы стать достойным сосудом для Господа. В первые годы службы в Кронштадте он по-прежнему рассматривал себя преимущественно как пытливого исследователя Священного Писания, стремящегося как можно глубже постичь и впитать заложенную в нем идею спасения. Пастырь пока не считал собственные духовные искания уникальными. В самом начале своего первого дневника, начатого 14 декабря 1856 г., он заявляет:
«Не истребить этой книги и по смерти моей: может быть, кто-нибудь найдется подобный мне по мыслям и по чувству и покажет свое глубокое сочувствие написанному в этой книге, если не всему (на что я и не смею надеяться, потому что могут найтись здесь, при строгой критике, и ошибки), то по крайней мере некоторым местам ее. Все хорошее и справедливое в этой книге почитаю не своим, а Божиим… мои только ошибки и недостатки»{54}.
Таким образом, несмотря на то что о. Иоанн еще и не думал о возможной читательской аудитории в первые годы ведения дневника, он не отвергал возможности духовного родства с некоторыми читателями и, возможно, даже сознательно обращался к ним в своих записках. Эта сознательная установка на потенциального читателя может объяснить еще одну особенность его сложившегося ранее отношения к Священному Писанию. Библия была для него не просто своеобразным инструментом для спасения души. Он использовал библейские события в качестве кода к событиям собственной жизни. В ранних дневниках, датированных 1856–1860 гг., о. Иоанн цитировал фрагменты из Писания для того, чтобы выявить параллели или совпадения со своим жизненным опытом, а не описывать эти эпизоды непосредственно, как он станет это делать позднее.
Как именно такая «кодировка» работала на практике, можно проследить на следующем примере. Биографы о. Иоанна позднее отмечали, что в самом начале его служения в Кронштадте и церковное начальство, и многие из его прихожан резко критиковали батюшку{55}. Начиная с 1862 г. он открыто упоминал о насмешках, которым подвергался, и писал: «Радуйся, когда над тобою издеваются и унижают: это — верный знак, что ты на тесном пути, вводящем в живот вечный»{56}. Однако в более ранних дневниках о. Иоанн прятал искушения, с которыми сталкивался, за библейскими параллелями. Так, комментируя 22-й Псалом, он писал: «Так больно для человека, когда враги радуются его несчастию, и так нужна помощь Божия против таких врагов»{57}.
Несмотря на то что о. Иоанн явно отождествлял себя с библейским автором, взывающим к небесам о помощи для победы над недругами, он избегал конкретных упоминаний о своих собственных конфликтах, стремясь к отстраненному тону нравственного назидания. Однако для пастыря оказалось трудновыполнимым делом долго выдерживать такую дистанцию. Спустя лишь несколько недель после того, как он начал вести дневник, о. Иоанн уже воспринимал гнев псалмопевца как свой собственный. Первый намек на то, что он думал о себе как о слуге Божием, которого не принимают окружающие именно потому, что он стремится быть таковым, просматривается в его сравнении себя с царем Давидом:
«Быша слезы мои мне хлеб день и нощю, внегда глаголатися мне на всяк день: где есть Бог твой? Боже мой! И в избранном народе Твоем были такие безбожники, которые каждый день смеялись над рабом Твоим, говоря: где Бог твой? Ах, как это тяжело для души благочестивой!»{58}
Таким образом, уже в первом дневнике о. Иоанна видны признаки того, что он отождествлял себя с библейскими «слугами Божиими», которых он считал своими предшественниками. Стремление искать параллели с собственной судьбой побудило его сравнивать свои искушения с искушениями Иисуса Христа. Сущность этого сравнения была совершенно иной, нежели при отыскивании общих черт с Давидом-Псалмопевцем. Православная церковная традиция редко апеллирует к самоотождествлению с Христом — как правило, подчеркивается божественная сущность Христа (и, следовательно, существенное расстояние между Ним и людьми), а не Его человеческая природа{59}. Поэтому желание о. Иоанна провести параллель между собой и Христом означало претензию на некую особую близость к Богу, совершенно не свойственную для русского православия того времени, и определенное «дерзновение» перед Всевышним, допустимое разве что для святых, ходатайствующих перед Ним за людей.
«Иисус Христос, перед тем, как он служил в миру, искушаем был от диавола. И всякий человек, чем больше его служение, тем сильнейшему он подвергается в начале нападению от диавола; потому что этому последний старается в самом начале уничтожить то благотворное влияние, какое может произвести со временем в обществе человек, принимающий на себя служение обществу»{60}.
Восприятие о. Иоанном своего собственного призвания и места в мире просматривается в этом высказывании наиболее отчетливо. Намерение пастыря служить обществу и обращать его на путь истинной веры встречало препоны и враждебное отношение в самый первый год после принятия иерейского сана. Он озабочен не столько описанием конкретных обстоятельств и природы такого противодействия, сколько тем, как найти в себе силы продолжать идти к цели. Батюшка приводит в пример Спасителя, чтобы подбодрить себя: если уж всемогущему Христу посылаются искушения, то и он сам, безусловно, также должен быть готов встретить испытания. Аналогичным образом о. Иоанн рассматривает то, что пришлось претерпеть Иову, Иезекиилю и другим библейским героям, дабы укрепиться в служении Господу и закрыть глаза на противостояние врагов.
От ученического периода копирования, когда он стремился к тому, чтобы слова Писания отпечатывались на нем, как на чистой доске, о. Иоанн быстро перешел к более личностным взаимоотношениям и с Богом, и с Библией. Страницы сухого текста расцвечены теперь яркими лирическими отступлениями:
«Как в Псалме 23, Господь пасет мя и ничтоже мя лишит… Как мне хорошо при мысли, что Господь Всемогущий и Всеблагий Сам пасет меня на месте злачне; что Он наставляет меня на стези правды, меня, великого грешника, имени ради Своего. Я чувствую, что слова псалма Давидова как будто для меня и составлены: так они близки были моему сердцу, так — к моему состоянию. О, пастырю мой предобрый, сладчайший Иисусе! Паси Ты меня Сам на местах злачных: поели сладость Твою, мир Твой в сердце мое, как сочную траву овце, чтобы чрез лишение ее я обратился к горькому зелью страстей и пороков и не убил им души своей»{61}.
Сила веры о. Иоанна раскрывает природу его отношения к Богу. Все остальные эмоциональные привязанности пастыря были неизмеримо слабее. Для него Бог был одновременно и отцом, и матерью, и невестой; он переживал малейшее отчуждение от Творца столь же остро, как романтический герой, разлученный с возлюбленной. В подобные минуты одиночества батюшка ощупью прокладывает дорогу назад к Богу, достигая особого лирического состояния:
«Господи! Дай мне опочить на лоне любви Твоей, как некогда я имел блаженство почивать на нем. Ах, я знаю ответно, Боже мой, Отче мой, как сладко быть в любви у Тебя. Маленькое дитя не утешается так на объятиях матерних после слез своих, как утешаются любовию Твоею достойные Твоей любви. Твоя любовь успокоительна, мирна, полна неизъяснимой радости возвышенной и святой… Пребывающий в любви Твоей не боится ничего, хоть бы ему угрожал неисчисленными бедствиями целый мир. Без Тебя мне тяжело и грустно, душа в беспокойстве и смущении; сердце болезненно занывает и кручится; я весь — сам не свой как отверженный, заблудший. Я презрен тогда в собственных своих глазах; прекрасный мир Твой тогда как бы не существует для меня… Я остаюсь как бы один — без Тебя, и будто вне Твоего творения, покинутый, жалкий, отчаянный. Но когда я почиваю на лоне Твоей Божественной любви, тогда и Ты со мною, а вместе с Тобою — Творцом всего — и все со мною: святые и сияющие ангелы, все отцы, которых делает мне присущими любовь к ним, как и братьям и вся тварь, весь мир видимый, небесный и земной. Тогда мир как единый дом Твой делается моею собственностью; так как тогда я — сын Твой, а собственность Отца есть вместе и собственность сына»{62}.
Это страстное стремление приблизиться к Богу определило все дальнейшее развитие религиозности о. Иоанна. Он, как правило, разделял взгляды тех аскетов, которые искали такой же глубины общения с Господом, и начал затрагивать в дневниках идею формирования особого типа аскетизма. Составленные им списки книг для покупки — Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста (любимого духовного автора батюшки еще со времени его обучения в семинарии и академии), Григория Нисского, «Историческое учение об Отцах Церкви» архиепископа Филарета — свидетельствуют о его стремлении досконально изучить классику аскетической литературы, а также постигнуть глубины литургики{63}. Запись, сделанная им в начале 1860-х гг., показывает, как он воспринимал этих духовных авторов:
«Хочу весь быть орудием Бога моего, как пророки и апостолы: хочу быть Храмом Божиим, хочу, чтоб сердце мое было престолом Божиим, чтоб слово мое было слово Бога, во мне живущего, чтоб руки мои делали только угодное Владыке. Достойно и праведно: я весь — Владыки, не свой; да действует же Он чрез всего меня»{64}.
Самая значительная веха аскетического опыта о. Иоанна — его намерение пройти все тридцать ступеней к аскетическому совершенству, которые св. Иоанн Лествичник обозначил в основополагающем руководстве по монашеской жизни — «Лествице, возводящей на небо преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы». Эти наставления столь высоко ценились в православной традиции, что люди откладывали их чтение до тех пор, пока не чувствовали готовность полностью посвятить себя духовной жизни; обращение к ним о. Иоанна свидетельствует о предельной серьезности его намерений{65}. Несмотря на то что в конце 1850-х гг. проповеди, помощь бедным и, наконец, собственно церковные службы занимали практически все его время, в дневниках тех лет речь идет почти исключительно о внутреннем борении, взаимоотношениях с Богом и стремлении к самосовершенствованию. Здесь о. Иоанн как будто следует классической аскетической модели — покидает мир, чтобы достойно служить ему позже, однако с той только очевидной разницей, что, будучи священником, он должен был совершать литургию и служить миру, при этом еще и одновременно совершенствоваться, борясь с собственными искушениями. Именно потому, что в более зрелый период подавляющую часть жизни он проводил с людьми, велико значение этого раннего этапа, когда закладывались духовная основа для будущей напряженной общественной деятельности и волевые качества, позволившие заниматься ею. Батюшка тогда и помыслить не мог, что сможет ограничиться исключительно благочестивыми поступками и помощью ближним (хотя позднее многие обновленцы пошли как раз по такому пути): взаимоотношения с Богом служили ему как мерилом неистовой заботы о пастве, так и ее главным оправданием. Поэтому в его первых дневниках основное внимание сосредоточено на том, как совершенствовать эти взаимоотношения, опираясь на опыт аскетов, которым это лучше всего удавалось{66}.
Люди, которых о. Иоанн благоговейно цитирует, приводя в пример, являются для него воплощением аскетического идеала. Среди них и пророк Илия, и преподобный Савва Соловецкий; в первые годы службы пастыря больше всего поражал именно их аскетизм, а вовсе не другие стороны деятельности — будь то проповедничество или пророчества. К примеру, принеся обет не поддаваться тщеславию, он напоминал себе об Илие и Савве, говоря: «Носили грубые ризы — зато были великие души: ибо не было внешней прелести. Имей в виду внутреннее одеяние»{67}.
Особое внимание к аскетизму и самоотречению, выраженное в осуждении чрезмерного внимания к одежде и церковному облачению, тем более примечательно, что православному святому, особенно имеющему сан, вовсе незазорно помнить о своем внешнем виде. Святитель Василий Великий обычно одевался очень просто, однако держал зеркальце и расческу в алтарной ризнице, чтобы, как он говорил, должным образом совершать Евхаристию и прославлять Бога. Прославленных представителей духовенства также изображают на иконах в полном облачении{68}.
Поэтому о. Иоанну, нащупывавшему свою дорогу, не было нужды ограничивать себя по образу отцов-пустынников или их последователей, монахов-отшельников. Однако сделанный батюшкой в самом начале священнического пути выбор показывает, что именно они являлись для него подлинными примерами святости. Кроме того, он избрал наиболее простой идеал аскетизма:
«Вспомни притрудную жизнь странника Никитушки, как он подвизался ради Господа, ради Царства Небесного, нося тяжелые вериги, никогда не умываясь в бане, допуская множеству вшей есть себя, не дозволяя пресыщения, лакомства, ни малейшей гордости, подвергаясь за правду насмешкам, побоям, — и подражай его житию по силе своей. Сравни жизнь его с своею… ты живешь в неге, роскоши, пресыщении»{69}.
По тому, как о. Иоанн восхищается странниками, видно, что, даже привыкая к благам, неизбежным для священника, он не переставал напоминать себе об истинных образцах для подражания. Коль скоро пастырь считал крайнюю (и исключительно русскую) форму умерщвления плоти, как, например, ношение вериг, наиболее подходящей для стяжания святости, очевидно, что богословы или менее исступленные аскеты не являлись для него примером.
Примечательно также, что о. Иоанн воспринимал свою теперешнюю жизнь как утопание в роскоши по сравнению с прежней нищетой; он инстинктивно отождествлял себя с бедными, которые служили для него мерилом оценки всех остальных слоев общества, а не со средним или высшим классом. В ту пору, когда пастырь уподоблял себя Никитушке, он жил весьма скромно, на втором этаже дома приходского священника, сильно напоминавшего армейскую казарму. Однако по сравнению с трудностями детских лет или лишениями наиболее почитаемых им святых теперешние условия казались ему просто роскошными. По мере того как бедность и лишения юности отдалялись в прошлое, он бывал все сильнее поражен религиозной добродетелью, порожденной любыми проявлениями самоограничения: «Сегодня у меня был сборщик, крестьянин из Рязанской губернии. Замечательный человек! Кроткий и смиренный, добрый и простосердечный и — постник; не ест ничего скоромного и в скоромные дни уже 11 лет. Видимо, Божия благодать на нем почивает. Какая преданность Богу!»{70}
Все эти примеры укрепляли собственный аскетизм о. Иоанна. Его взгляд на человеческую природу был пессимистичнее, чем у многих отцов-пустынников, учивших, что в душе человека заложено и добро и зло. Он писал: «Сердце — это клоака, бездна смердящая и скверная: лишь слезами покаянными и помыслами о Господе возможно исторгнуться из бездны той и очистить сердце свое»{71}. Рвение ко Творцу и жажда самосовершенствования охватывали все стороны жизни пастыря, причем в гораздо более разнообразных формах, нежели у Отцов Церкви и в аскетических наставлениях. В отличие от своего знаменитого современника, святителя Игнатия (Брянчанинова), а также отцов-пустынников, отвергавших и презиравших сновидения как уловки дьявола, о. Иоанн считал, что «жизнь человека-грешника полна мерзости наяву и во сне: наяву — в действительности, в поступках, а во сне — в нечистых видениях, так что всякий человек может хорошо видеть свои недостатки, свои слабые стороны в сновидениях. Даже человек, живущий, по возможности, свято, но имеющий слабые стороны, которые самолюбие иногда закрывает от него наяву, может видеть их ясно во сне. Сновидениями не следует пренебрегать — в них, как в зеркале, отражается наша жизнь»{72}.
Батюшка анализировал свои ночные видения гораздо более глубоко, нежели большинство православных святых, извлекая из них информацию о своей духовной жизни. Например, когда он во сне грыз и жевал серебряные монеты, то он толковал это как знамение, порицавшее его за скупость{73}. В конце 1860-х, после сна, в котором «враг бросал» его «то на балы великосветские, то на простые обеды», где он «глазел и суетился и тщеславился… и ел бездну с жадностью», пастырь обвинил себя в необузданности желаний{74}. В другой раз ему приснилось, что зайчик, преследуемый собакой, залез на дерево, а он подсадил наверх собаку, чтобы животные вступили в схватку: «Зайчик храбро боролся, но враг схватил его зубами и разорвал на куски». Вспоминая этот сон позднее, о. Иоанн обвинял себя в том, что отдал слабое существо на растерзание сильному, устроив кровавое зрелище «для потехи», и усматривал здесь аналогию со своей духовной паствой, которую он разлагал собственной леностью и невниманием{75}.
Трактовки пастырем собственных сновидений могут показаться спорными, однако несомненно рвение, с которым он изобличает свои недостойные деяния, сотворенные им во сне, улавливает с их помощью даже самые незначительные изъяны натуры и укорительно побуждает к исправлению. Налицо напряженная духовная работа глубоко верующего человека. Он пытливо исследовал не только сознательные, но и подсознательные побуждения. Чувство ответственности за неосознанные стремления усугублялось тем, насколько буквально он воспринимал сновидения: для него совершенный во сне поступок фактически был совершен наяву, особенно когда дело касалось плотских искушений. Несмотря на то что о. Иоанн как будто и не испытывал осознанного плотского влечения в реальной жизни в первые после принятия сана годы, лишь постоянно отпуская другим грехи и искушения, он не был свободен от физических желаний во сне. К примеру, он писал в середине 1860-х гг.: «Вообще время сна не утрачено для христианина — это время нападений на его целомудрие»{76}. Он ощущал непосредственную личную ответственность за такие «нападения». Если ему снился искусительный сон, он немедленно просыпался и читал «Молитву от осквернения», «ибо душа, хотя не тело, была осквернена страстию плотскою»{77}.
Столь суровое отношение к чистоте поступков и помыслов было почти неслыханным для священнослужителя. В сущности, о. Иоанн, будучи женатым священником, живущим в миру, стремился соответствовать тем же аскетическим идеалам, которым следовали монашествующие. Аскетическое подчинение Господу являлось ключевым для религиозности батюшки. В его мировоззрении все пронизано верой; любую сторону своей жизни он выставлял на суд Божий. Пастырь анализировал повседневные фразы и находил их ущербными, если они казались ему недостаточно праведными:
«Говорят друг другу: желаю тебе покойной ночи, приятного сна, а не говорят: усердной молитвы на добрый сон, что было бы гораздо правильнее (молитва, как условие приятного сна)… обычные благожелания наши должны носить в себе христианский отпечаток, а не мирской только, или плотской. Везде духовное должно быть впереди плотского, чувственного»{78}.
О. Иоанн использовал многозначное слово «изнеженность» для обличения слишком сильной привязанности к основным мирским благам, стремясь к полному отстранению от них: «Как знать, если я изнежен: если я отношусь плохо к запахам, вместо того, чтоб быть равнодушен (подумай о св. отце, который держал смердящий сосуд в своей келии, если я стону и стону, когда болен, если невыносимы комариные укусы или некрасивое лицо)»{79}. Таким образом, о. Иоанн, как и аскеты, старался подчинить все стороны своей жизни Богу и пытался сдерживать любые желания и помыслы, которые могли бы помешать ему на этой стезе. Например, в 1868 г. он писал: «Систему принуждения над собою чаще употреблять»{80}. Иногда, призывая себя «искоренить» страсти и желания, он прибегал к характерным образам аскетов: «Жизнь моя должна быть ежедневно всесожжена Богу жертвою самоотвержения… то есть я должен благодатию Духа Святаго попалить все восстающие во мне страсти»{81}.
Чтобы окончательно искоренить страсти, о. Иоанн обращался к духовной практике аскетов, заимствованной из самых разнообразных источников. Некоторые святые концентрировали свое сознание на образах. Используя их духовный опыт, пастырь приказывал себе смотреть на распятие и, глядя на Христа, ударять себя в грудь, говоря: «Это за меня страждет Бесстрастный и умирает Бессмертный; я бы должен страдать и погибать вечно по правде Божией»{82}. Он следовал и еще одной православной аскетической практике, когда благодарил Господа за «дар слез покаяния». Подобное отношение к слезам как к дару Божьему имеет довольно глубокие корни в восточнохристианской традиции{83}. В некоторых отношениях его стремление подавить личностное начало превосходило по изобретательности известные аскетические практики. Он писал: «Тебе нравится гулять на свежем воздухе и дышать его с наслаждением; этого мало, только телу полезно: во время прогулки надо помышлять о Боге, житиях святых, Евангелии»{84}.
Ключевая идея аскетизма о. Иоанна заключалась в совершенной убежденности в том, что физическая сторона жизни оказывает определяющее воздействие на духовную. Многие из конкретных способов собственного телесного воздержания он заимствовал у монашествующих. «Под очень теплым одеялом не спать, чтобы не расслабить излишним теплом тела и вместе души, — писал он в 1867 г., — потому что душа тесно связана с телом, и слабость, нега в теле отзывается слабостью, негой в душе». Выход из этой ситуации заключался в том, чтобы использовать одеяла «умеренно теплые, полупрохладные, ни в коем случае пуховые»{85}. Батюшке на протяжении первых двадцати лет его пастырского служения приходилось, как и большинству мужчин, и особенно женщин, ведущих аскетический образ жизни, обуздывать плотские желания, связанные не с чувственными помыслами, а именно с едой{86}. В самом деле, складывается впечатление, что в тот период все его телесные вожделения имели исключительно гастрономическую природу. Его восхищало самоограничение странника Никиты, который употреблял только постную пищу. В первые десятилетия своего священства батюшка ощущал, что пища — наиболее труднопреодолимое препятствие на пути к самоочищению. Он с самого начала понимал и трактовал пост в традиционно православном смысле: «Как велика сила поста и молитвы! Не мудрено, во время поста душа становится господствовать над похотьми тела, вообще подчиняет его себе… чем победил диавола сам Господь? Постом и молитвою»{87}.
Тем не менее о. Иоанн ощущал власть еды над собой и четко осознавал прямую взаимосвязь между употребленной пищей и собственными греховными деяниями, причем гораздо более сильно, нежели это подразумевалось самой аскетической традицией. Как человек, выросший в бедности, он подвергался особенным искушениям, когда слышал о гастрономических изысках из литературных произведений или меню со званых обедов{88}. В дневнике пастыря приведено множество фактов его борения с подобным искушением; более того, досконально прописаны самые мельчайшие подробности его питания: о. Иоанн столь сильно ощущал влияние на него еды, что устанавливал прямую взаимосвязь между тем, что он употребил в пищу, и тем, как себя вел. Так, например, он обличал себя за равнодушие к случившемуся в Кронштадте 18 октября 1867 г. пожару. Равнодушие заключалось в том, что батюшка позволил себе в этот день съесть рыбу, и не только черный, но и белый хлеб, а также выпить чай{89}. По другому поводу он писал: «По причине пресыщения накануне (каша гречневая с миндальным молоком) я подвергся сильному искушению во время служения утрени в Успенской церкви»{90}. Его понимание «искушения» включало в себя целый спектр болезненных духовных состояний, от вялости до раздражительности; причем неподобающая еда и питье воздействовали на него просто разрушительно. Случайными виновниками его плохого духовного состояния могли стать маринованные миноги, зеленый сыр («он к тому же вызывает еще и зубную боль»), пироги (особенно с рыбой, рисом и подсолнечным маслом), сладкий кисель («он хуже молока разжигает страсть»), пиво в постные дни («это пьянство»), рыба («она приводит к плотскому искушению; ее следует употреблять с осторожностью»), омлет с мясной подливкой и густым винным соусом («вина» этого блюда заключалась в том, что, по словам батюшки, превращала его в «пса») и вообще любая другая вкусная пища{91}.
Такая связь между едой и питьем и отсутствием духовной бдительности побудила о. Иоанна разработать подробные и продуманные до мелочей правила «потребления» пищи, правила, напоминавшие соответствующие установления отцов-пустынников. Исключались недопустимые, по его мнению, сочетания пищи («никакого хрена с уксусом!»). Жестко регламентировалось количество съеденного и выпитого: «Можно выпить три маленьких чашки кофе со сливками часа через три после обеда; четыре [чашки] — это уже чрезмерно и, следовательно, греховно. Пить чай и кофе вместе — вообще недопустимо». Разные блюда четко ранжировались по своему воздействию на душевное состояние: «Гречневая каша хороша, сливки плохи». Наконец, почти отчаявшись, он отбросил многочисленные изобретенные им самим гастрономические руководства и постарался свести их к одному краткому правилу, написанному заглавными буквами: «НИКОГДА НЕ УЖИНАТЬ!»{92}.
Осуждение о. Иоанном гурманства связано с его изначально жестким отрицательным отношением к чувствам, в которых не было подлинной религиозности. Употребление пищи было той сферой, где он наиболее остро чувствовал склонность увлечься преходящим, вместо того чтобы обратиться к Богу. Священнический сан лишь усилил его борение с пищевыми искушениями. Особенно интересно наблюдать процесс самоопределения о. Иоанна как священника, а не просто как духовного аскета, впервые зафиксированный в его дневниках в связи с физическим воздержанием:
«Священнику не шло бы употреблять молоко, масло особенно (хотя по нашей слабости это не запрещено). Что идет мирянину, то не идет священнику. Особенно не идет ему пить водку, разве самую малость, и курить или нюхать табак. Все это лелеет нашу плоть, которую должно распинать с ее похотями, и запутывает ее в приобщении к Богу, в соединении с Ним. Да, с крайним разбором должны принимать пищу и питие усты, освящаемые так частоупотреблением пребожественных Таин и служащие для них дверями. С каким тщанием и благоговением должен быть охраняем вход Царя Славы!»{93}.
Прослеживаемая здесь взаимосвязь между пищей и безгрешностью особенно существенна. Еда и питье служили причиной многих искушений пастыря, из коих самым серьезным была их способность пробудить в нем иные физические проявления и желания. К примеру, он писал в 1866 г.: «Я был в гостях и выпил три стакана сладкого чаю, рюмку водки, две рюмки вина — хересу и малаги; ел дичь; хлеб с маслом; дома стакан молока выпил. От того ночью — осквернение»{94}. Он чувствовал почти антропоморфную связь между едоком и съеденным и описывал ее в красках: «Лучше не есть мяса, которое превращает тебя в животное»{95}.
Трактовка связи между едой и чувственностью, будучи глубоко укорененной в аскетической традиции, никогда ранее не была столь реалистичной и детальной{96}. Характерная черта духовной жизни о. Иоанна — постепенный переход от соблазнов, почти всегда связанных с едой, к чувственным желаниям, носящим осознанный и независимый характер. Пробуждение плотского влечения также связано с его славой и возникновением почитательниц — оба явления относятся к периоду после 1880-х гг. и будут обсуждаться далее. Для начального же этапа аскетического пути о. Иоанна уместнее затронуть тему его отказа от близких отношений с женой.
Эта сторона его аскетизма, как и ограничение в пище, также совпадала с монашескими установлениями. Однако если для иноков целомудрие наравне с нестяжанием и послушанием было обязательным правилом, то для белого духовенства брак дозволялся. Более того, в православной традиции священники просто должны были жениться. Кронштадтский пастырь состоял в браке и одновременно сохранял целомудрие. Данное обстоятельство вносит непривычный диссонанс в четкие каноны православной религиозной жизни и требует комментариев.
К сожалению, нет достоверной информации, которая могла бы объяснить данное решение батюшки. Долгие годы он не касался этой темы в дневниках. Единственное убедительное упоминание встречается 19 октября 1866 г., — спустя десять лет после женитьбы и рукоположения, — когда он позволяет себе отечески размышлять о коллеге: «…что де, живу девственником — не то, что ты»{97}. Если бы не это вскользь оброненное замечание, можно было бы усомниться в том, что о. Иоанн вообще думал на эту тему. Он никогда не заявлял открыто, что сознательно избрал воздержание в супружестве, и лишь позволил себе сказать в краткой официальной автобиографии: «…у меня нет и не было детей»{98}. Вместе с тем, по утверждению биографов пастыря, на самом деле всем было известно о его необычном выборе. Однако такие предположения бездоказательны, поскольку возникают в поздний период его жизни и поэтому в лучшем случае являются попытками восстановить прошлое. Что же можно сказать об обстоятельствах, побудивших о. Иоанна к воздержанию?
Отчасти ответ на этот вопрос содержится в православной трактовке полового влечения. Отцы Церкви утверждали, что оно противоречит истинной природе человека. Изначально, до грехопадения, совершенный человек, созданный по образу и подобию Божиему, не имел ни малейших признаков чувственности{99}. О Еве упоминается только как о спутнице и помощнице Адама; их любовь была бесплотной{100}. Половое влечение пришло в мир из-за греха и неразрывно связано с грехом. Поскольку чувственность — знак нарушения изначальной гармонии и совершенства, то чем больше человек приближался к совершенству, тем менее он был подвержен плотскому влечению. Славянские духовные авторы проводят эту мысль особенно отчетливо, настаивая на том, что чувственные импульсы идут только от лукавого, который пытается отдалить людей от Бога и спасительного пути{101}.
Для человека, стремящегося к святости, девственность была намного предпочтительнее брака. Подобная точка зрения заставляет вспомнить слова апостола Павла:
«…Хорошо человеку не касаться женщины. Но, в избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа… Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтоб быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу» (1 Коринф. 7:1–2, 34).
Монашеская жизнь рассматривалась как наилучшее состояние для верующего — так он ближе всего к ангелам. Если кто-либо все же хотел жениться, это считалось уступкой падшей человеческой природе («лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Коринф. 7:9)).
Главная мысль, заложенная здесь, — близкие отношения между мужчиной и женщиной по сути своей «нечисты», даже в браке. Православные были необычайно крепки в этом убеждении. Сохранилось множество дневников, в которых благочестивые семинаристы с сомнением пишут, стоит ли «осквернять» супружеское ложе половой жизнью; миряне исповедовались о. Иоанну в близких отношениях в браке как в «законном грехе»{102}. Неудивительно, что воздержание святых от близости даже в законном браке (то, что иногда называют «духовным браком») высоко ценилось и на Востоке, и на Западе{103}. Отношение Церкви к половой жизни было столь отрицательным, что целомудрие о. Иоанна могло быть ни чем иным, как закономерным следствием его религиозного воспитания.
Это предположение представляется особенно правдоподобным, если принять во внимание фактическое отсутствие в середине XIX в. сколько-либо заметных работ православных богословов о таинстве брака. Здесь взгляды о. Иоанна наиболее явно, чем в каких-либо иных вопросах, отражают одновременно и внутреннее противоборство двух его ипостасей, и умонастроения эпохи. В своей общественной ипостаси, связанной с миссией священника, он был духовным пастырем прихожан, а потенциально — и всех православных христиан. Однако в кругу семьи он должен был осуществлять иную духовную задачу. Здесь, в частной ипостаси женатого человека, его духовное предназначение состояло в достижении особого мистического единения с женой{104}. О разделении Церковью этих двух установок можно судить уже хотя бы по тому, что священникам запрещалось исповедовать своих жен. То есть у о. Иоанна были различные духовные обязательства к жене в частной ипостаси и к пастве — в общественной. Однако из-за отсутствия примеров, когда святость достигалась при физической близости в браке, он отклонял семейные обязательства, заставляя себя относиться к жене так же, как к прихожанам{105}.
Существовали, правда, и практические причины воздержания пастыря. Литургия и совершение таинства Евхаристии были для о. Иоанна главным делом его служения. Но по церковным канонам и мирянам, и духовенству запрещалось вступать в близость накануне причастия; а священникам предписывалось воздержание накануне служения литургии{106}. Представление о том, что проявления чувственности могут осквернить Евхаристию, восходит еще к раннему христианству, когда Эльвирский Собор накануне 303 г. постановил, что «епископы, священники, диаконы, а также и другие представители церковного клира, вовлеченные в служение литургии, должны воздерживаться от жен»{107}. Несмотря на то что к середине XIX в. некоторые городские священники, служившие литургию ежедневно, игнорировали данное ограничение, оно все еще продолжало в силу традиции сохранять свою значимость{108}. Учитывая, сколь ревностно о. Иоанн совершал таинство Евхаристии и сколь буквально следовал церковным канонам, он не мог нарушить существующие правила. Таким образом, целомудрие было практической необходимостью для тех, кто желал служить литургию ежедневно, и, несомненно, главной причиной девственности пастыря. Однако поскольку батюшка не служил каждый день без исключения, следует искать иные объяснения его сугубо «духовного брака».
Хотя предположение о влиянии на пастыря православных догматов и традиций и кажется правдоподобным, его умалчивание о своей жизни в браке позволяет лишь строить догадки. Отсутствие этой темы в его ранних дневниках, по крайней мере, отчасти обусловлено временем их составления. В самом начале священнической службы (1856–1858 гг.), то есть тогда, когда можно было бы более всего ожидать упоминаний о молодой жене, он посвящал свои дневники исключительно размышлениям о Священном Писании. К тому времени, когда в дневники стало просачиваться что-то личное, период привыкания к жене и ее семье должен был уже завершиться. Ни Елизавета Константиновна, ни другие члены семьи также не оставили дневников или писем, которые могли бы пролить свет на взаимоотношения супругов. Вопрос остается загадкой.
Однако ясно одно: избрав путь целомудрия, о. Иоанн совершил уникальный в агиографической традиции поступок. Случаи, когда супруги сохраняют целомудрие или дают обет воздержания, встречаются в жизнеописаниях святых, но инициатива исходит, как правило, от жены, а не от мужа, и обычно выражается в убеждении супруга, а не в категорическом отказе{109}. Но о. Иоанн принял решение сохранить девственность еще до женитьбы — решение, о котором, судя как по косвенным данным, так и по намекам, содержащимся в его дневниках, его невеста и не подозревала{110}. Как это можно трактовать? Сколь бы прагматичной ни была подоплека браков в среде духовенства, в которых обе стороны осознавали, что будущий муж унаследует приход отца жены, нормальные супружеские отношения считались неотъемлемой их частью. Если учесть силу установившегося порядка вещей и оправданные ожидания второй половины, то ссылки на литургические правила, связанные с причастием, явно недостаточно. Здесь возникают сразу два вопроса. Во-первых, если о. Иоанн не намеревался исполнять супружеский долг, зачем он вообще женился и почему не постригся в монахи? Во-вторых, если он хотел соединять каждодневное совершение литургии и служение мирянам, унаследовав место протоиерея Константина Несвицкого в Андреевском соборе Кронштадта после женитьбы на его дочери, то он, несомненно, должен был заручиться согласием невесты до свадьбы, а не поставить ее перед фактом?
Нельзя отрицать, что если о. Иоанн хотел служить миру, бедным и в то же время совершать литургию, то путь приходского священника, который в России XIX в. предполагал женитьбу, был единственно возможным. Иеромонахи в большинстве случаев служили в своих общинах; административные обязанности архиереев сводили к минимуму их возможности служить своей пастве — отсюда стремление святителя Феофана (Затворника) жить в уединении, дабы писать сочинения и окормлять духовных чад. Кроме таких исключительных людей, как епископ Тихон Задонский и митрополит Филарет (Дроздов), официальные обязанности архиереев, как правило, оставляли им немного времени для пастырского служения{111}. Таким образом, в чисто духовном смысле белый (приходской) священник гораздо больше общался с мирянами, чем архиерей или иной монашествующий. Если о. Иоанн стремился быть духовным наставником для мирян, он мог еще до свадьбы сообщить невесте о своем намерении сохранить целомудрие в браке.
Очевиден, по крайней мере, тот факт, что в своих дневниках в первые после венчания годы о. Иоанн отводил крайне мало места семье. Его единственное упоминание о жене записано неразборчивым почерком и звучит буквально так: «В снах ты видел любезные черты любимой твоей жены — как бы ее саму»{112}. Батюшка замечал привязанность жены, но чувства Елизаветы Константиновны побуждали его не столько отвечать взаимностью, сколько извлекать духовные уроки из ее теплоты. К примеру, когда он в 1862 г. писал «трогательна любовь ко мне жены моей», он тут же продолжал: «так я должен любить всякого ближнего, особенно нищих, хотя б между ними были и недостойные»{113}.
Противоречие между горячей привязанностью Елизаветы Константиновны к о. Иоанну и его отстраненностью усиливалось. Однако при анализе дневниковых записей следует проявлять осторожность. Подобно тому как в вечерних молитвах христиане перечисляют свои грехи — а не свои заслуги — за минувший день, так и в дневниках, выполнявших аналогичную функцию, о. Иоанн уделял основное внимание негативным моментам собственной жизни. (Как и в случае с дневниками Софьи Андреевны, жены Л. Н. Толстого, было бы опрометчиво полагать, что раз о хорошем ничего не написано, значит, его и не было{114}.) Например, он упрекал себя за то, что подмечает малейшие недостатки жены, в то время как она «не замечает мои слабости и покрывает все, что я делаю, из-за ее любви ко мне»{115}. Однако и здесь он тут же экстраполировал отношения между ним и Елизаветой Константиновной на его устремленность к Богу: «Как горячо любит тебя жена, и как холоден ты к ней? Как горячо любит тебя Христос, и как холоден ты к Нему? Если жену не любишь — как Бога будешь любить?»{116}
Батюшка приучал себя думать о Господе всякий раз, когда он думал о жене. Вскоре данная последовательность мыслей стала почти автоматической: «Как жена бережет меня везде, с какой любовью! Но как Господь меня бережет — вообразить нельзя». «Принимай советы жены с почтением, как от друга и помощника, и не презирай ее и не огорчайся ею, да и вообще почтительно обращайся со всяким человеком, как образ и подобие Божие и имеющим бессмертную душу». В результате такого мысленного переноса о. Иоанн достигал сразу двух целей: отдалялся от жены и приближался к Богу. Ему гораздо легче было справиться с двойственными чувствами к жене, растворив их в собственных отношениях к Творцу. Даже когда он корил себя за гнев и нетерпение в адрес Елизаветы Константиновны, он говорил: «Во-первых, она тебя любит; во-вторых, она Господне создание и образ Его Церкви»{117}. Можно, конечно, сказать, что батюшка воспринимал жену со всей возможной серьезностью, делая ее частью своей философии спасения, что, отрицая в ней иную роль, кроме той, которую пастырь приписывал всякому православному христианину, он даже косвенно превозносил ее, однако в конечном счете он лишал ее тех чувств, каких она искала.
Вместе с тем при описании семейной жизни о. Иоанна и Елизаветы Константиновны следует проявлять осторожность и предельную корректность. Могла ли душевная и духовная близость в достаточной мере компенсировать отсутствие близости физической и возможности иметь детей? Вполне возможно, так как культ телесного удовольствия был совершенно чужд для среды духовенства, в которой воспитывалась Елизавета Константиновна; в этом замкнутом сословном мире очень многое значили самопожертвование и взаимная ответственность — в особенности это касалось девушек и женщин{118}. Здесь наиболее явственно проступает различие между о. Иоанном и Елизаветой Константиновной. Будучи не в состоянии одновременно уступить желанию супруги иметь детей и сохранить целомудрие, он мог тем не менее больше впускать ее в свою жизнь и идти с ней рука об руку по пути к спасению. Иногда кажется, что Елизавета Константиновна именно к этому и стремилась и потому многократно упоминала о роли, которую может сыграть семья в чьей-либо — читай: его — духовной жизни. О. Иоанн цитирует ее слова, сказанные в 1860-е гг.: «Жена моя сказала: надо домашних любить, ласкать, беречь, прежде всего, — а потом уже других. Люби ближнего твоего прежде всего дома, в этой малой церкви. Когда научишься любить и уважать домашних непрестанно, тогда будешь любить и уважать всякого человека»{119}. Ей представлялось непостижимым, что ее собственный муж может отвести ей весьма незначительную роль в своем пути к спасению.
Однако дневники о. Иоанна показывают, что единственный вид сотрудничества, который был созвучен его натуре, касался не каких-либо брачных или личных отношений, а его рвения ко Господу; в его понимании духовный путь — это стезя, по которой человек движется в одиночку. Следовательно, в первую очередь он стремился извлечь из своей семейной жизни некий нравственный урок или наставление всем женатым мужчинам, а затем — наставление самому себе, дабы молитвой укрепить добродетели жены:
«Дай выразиться действиям любви женской к тебе и не огорчайся, не сердись на нее за то, что действия этой любви бывают иногда неразумны, докучливы, надоедливы; уважай намерение жены — оказать тебе любовь. Мужи — любите свои жены, и не огорчайтесь к ним. Не пренебрегай любовию, не оскорбляй ее капризами, пренебрежением. Любовь ревнива, мстительна, как медведица, разъяренная лишением детей своих. Благодари Бога за любовь жены и моли Его, чтобы Он утвердил ее и соделал ее разумною и Богоугодною»{120}.
Упоминание об отверженной любви — необычное для о. Иоанна проявление не религиозной, а психологической зоркости. Для него было более характерно прятать свои комментарии под маской нравоучения или притчи. В самом начале пастырского служения он завуалированно излагал как конфликты с прихожанами, так и напряженные отношения с женой и ее родственниками, прибегая к аналогиям из Священного Писания и даже античной литературы. Например, он писал в конце 1850-х гг.: «Ксантиппа была оружием диавола, стараясь потрясти Сократа, но Бог превратил ее в оружие, укрепляющее и возвышающее его»{121}.
О. Иоанн, безусловно, исходил из библейского и святоотеческого представления о женщинах. Так, например, он писал в дневнике: «Для Бога все женщины, как одна Ева: потому они пред Ним нечисты в крови своей с самого рождения своего». Однако новаторство пастыря заключается в том, что он существенно расширил данный взгляд. Далее он пишет: «И мужчины — также. Во гресех и в беззакониях, и сквернах все есмы пред Тобою»{122}. Данная трактовка показывает, что, разделяя взгляд на женщин как на более греховные и приземленные создания, нежели мужчины, он не во всем придерживался традиционной точки зрения и иногда отменял некоторые церковные ограничения — например, был против того, чтобы женщины, находящиеся в нечистоте, не допускались к причастию; в подобных случаях он отказывался считать мужчин менее грешными. Более того, чувство долга пастыря по отношению к своей семье, а также повышенное внимание к семейным христианским добродетелям позволяли ему прибегать к метафоре семьи в дневниках и проповедях, одинаково применимых как в церковной практике, так и в семейной повседневности: «Мать учит дитя, а дитя повинуется и не сомневается в ее уроках, будучи уверен, что мать лучше его знает, чему учит»{123}.
Отцы Церкви видели «зло» в женщинах как существах болтливых, предрасположенных к язычеству и «от природы» более чувственных{124}. О. Иоанн свидетельствовал об относительном равенстве мужчин и женщин, и этим отчасти объясняется, почему так много женщин обращалось к нему за духовной поддержкой. Проявляя великодушие к женщинам как таковым, не считая их априори «плотскими» и, следовательно, нечистыми, он тем не менее гораздо сложнее относился к собственной жене.
Если воссоздавать всю историю семейной жизни о. Иоанна по его дневникам, то получается, что отношения пастыря с женой постепенно ухудшались. Возможно, что определенную роль здесь сыграла и обстановка в семье, в которой он появился на свет. Биографы пастыря много пишут о благочестии его матери, приводя знаменитый пример, как она отказалась благословить сына на употребление скоромной пищи во время поста. Однако сам о. Иоанн не преувеличивал религиозность обоих родителей. В 1864 г. он напоминал себе: «Помни, что ты сын дьячка, сын бедных родителей, не отличавшихся особенным благочестием, — и вот Господь возвысил тебя во священника — градского»{125}. Не исключено, что в сознании о. Иоанна его происхождение резко контрастировало с той средой, в которой он оказался, начав служить в Кронштадте. Принадлежность семьи его жены к городской, сравнительно культурной среде могла тревожить и задевать его в той же степени, как и знатные прихожане. Батюшку возмущали постоянные упоминания свояченицы о высоком происхождении их семьи:
«Если твоя сестра Анна бредит графами да князьями, не сердись на нее за видимую гордость. Ибо такой дух есть плод ее воспитания: у нее крестный отец граф, с ними жил; она училась с дочками графов и князей… как она может иначе? Когда дерево получило такое, а не другое, какое надо, направление, еще в ранней юности, как можно это поправить? Надо смотреть, как сквозь пальцы, снисходительно»{126}.
Болезненная для о. Иоанна проблема его происхождения еще более обострилась, когда вскоре после женитьбы его мать поселилась в новой семье сына. Она стала постоянным живым напоминанием батюшке о том, что он пытался преодолеть. Проводя в соответствии со стилем его дневниковых записей параллель между личными переживаниями и духовной практикой, пастырь сравнивал свою неловкость от отсутствия в матери изысканности с неловкостью, которую он испытывал в религиозных вопросах, будь то неудачно нарисованная икона святого или даже самого Христа:
«Вспомни, как лукавый водил тебя за нос и мучил из-за не по вкусу написанной иконы Божией Матери; ненависть, отвращение внушала… как будто к неправильно написанным ликам и молитва не давалась, пока не победил его. Также с Мамашей: ее грубый образ мешает мне достойно хвалить ее»{127}.
«Маменька своею простотою, смирением, незнанием крайне смиряет мою гордость. Не любишь ты бесчестия Христова, не носишь Его поношения в матери своей в ее простоте и небрежном положении волос. Вспомни, каков был Христос на суде и на кресте, как бесчестен был вид Его… твое положение есть плод ее молитв и награда для нее от Бога»{128}.
Когда религиозные образы не помогали о. Иоанну побороть помысел отодвинуться от матери и, следовательно, от своих корней, он пытался взывать к простым, но сильным чувствам сыновней привязанности: «Смотри: твоя маменька здесь одинокий человек; оказывай ей все возможные ласки и услуги; сделай для ней незаметным, по возможности, разлучение с своими родными и с своею родиною»{129}. Однако, несмотря на эти попытки, внешний вид, манеры и речь Федоры Власьевны постоянно смущали о. Иоанна. Только ему показалось, что он избавился от своего деревенского прошлого, как оно вернулось к нему в лице собственной матери. Даже обязав себя выполнять сыновний долг перед ней, он тем не менее хотел вести себя по городским правилам, усвоенным им за годы пребывания вне родного дома и деревни. Например, когда мать как-то зашла к нему пожелать спокойной ночи, о. Иоанн не смог заставить себя поцеловать ей руку, как прежде, и мучился бессонницей, пока не пересилил себя и не зашел к ней в комнату попросить прощения{130}.
Провинциальное наречие Федоры Власьевны доставляло батюшке даже еще более ощутимое неудобство, нежели ее жесты или внешний вид. О. Иоанну пришлось даже жестко приказать себе: «Не гнушайся деревенским, грубым, неграмотным языком ее, как не брезгаешь языками самоедскими, зверьим, татарским»{131}.
Несмотря на свое беззаветное неистовое служение пастве, особенно из простого народа, сам батюшка испытывал довольно сложное чувство к людям бедным и необразованным, среди которых вырос. Ощутимая дистанция между его новой семьей и такими людьми не только крайне болезненно воспринималась о. Иоанном, но и фактически поставила его перед неизбежным выбором между домом и приходом. В этой непростой ситуации он сделал именно приход главным и, по сути, единственным объектом своей пастырской жизни. Семья же, вместо возможной опоры в духовной жизни, превратилась для него в камень преткновения, если даже и не реальное препятствие, на пути к спасению.
Глава 2 ЛИТУРГИЧЕСКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
Аскетизм, при всей его колоссальной роли в религиозном самоопределении о. Иоанна, оказался лишь одним из направлений его духовного роста. Характерные для начального этапа его пастырского служения ориентиры — ограничение физических потребностей и обращение к отцам-пустынникам и отшельникам как образцам святости — постепенно дополнились новыми, в частности особым рвением в совершении церковных служб и благотворительностью.
Шаги пастыря навстречу миру были отчасти вызваны той враждебностью, с которой окружающие восприняли его аскетические устремления, раздражавшие не только близких, но и прихожан с духовенством. Батюшкино намерение творить непрестанную молитву, к примеру, приводило к тому, что он с отсутствующим видом шел по улицам Кронштадта, скрестив руки на груди и не узнавая никого вокруг. Несмотря на то что такая манера поведения была напрямую заимствована им из практики Студитского монастыря в Константинополе, устав которого св. Феодосий Печерский ввел в Киево-Печерском монастыре, люди нередко находили ее подозрительной по той же самой причине, по которой с недоверием относились к желанию о. Иоанна отдать нищему последнюю копейку и даже собственные ботинки. Юродство не одобрялось и считалось нарушением синодальных установлений{132}. Сослуживцы пастыря находили подобное поведение несовместимым с его духовным саном, а возможно, и усматривали здесь скрытый упрек их собственному равнодушию. После того как церковное начальство о. Иоанна решило перечислять жалование батюшки непосредственно его жене, дабы напомнить ему о его финансовой ответственности перед семьей, пастырь начал преподавать в местной школе, чтобы иметь деньги на благотворительность{133}. Той части местного общества, которая воспринимала Кронштадт как «пригород Петербурга» и, более того, привыкла к «элегантным» священникам, также пришлись не по вкусу «чрезмерно» скромный внешний вид и резкая, эмоциональная манера служения о. Иоанна; поэтому она отвергла его как «сельского попа»{134}.
В определенной степени именно нерасположенность окружающих к аскетическим идеалам о. Иоанна побудила его культивировать и другие религиозные добродетели, важнейшей из которых являлась взаимная ответственность христиан. Сама эта идея была не нова для русской православной мысли. Стремление А. С. Хомякова возродить соборное мирочувствование и твердая убежденность Ф. М. Достоевского в том, что «все ответственны за всех», — характерные примеры, наглядно демонстрирующие значимость русского общинного духа, особенно по сравнению со «сверхиндивидуалистическим» Западом. Однако если славянофилы и Достоевский полагали, что соборность и взаимная ответственность — это изначальные национальные особенности и добродетели, проявляющиеся в общественной жизни, то о. Иоанн рассматривал их как духовные качества личности, которые нуждаются в особом пастырском попечении{135}.
Главный смысл взаимной ответственности заключался в осуществлении на практике заповеди «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матф. 22:39). Эту евангельскую заповедь можно также понимать и как недопустимость заботиться о собственном спасении за счет других. Потенциальный конфликт между обоими способами стремиться к спасению души проявился в ситуации, когда о. Иоанн одолжил кому-то одну из любимых книг, а получил ее назад испорченной. Он был огорчен и рассержен, однако в итоге пришел к следующему заключению:
«Если кто-то одолжит от тебя книгу и вернет ее запачканной, не раздражайся или не говори, больше не дам. Таким образом ты освободишься от твоей привязанности к вещам и поверхностям. Не более важна ли духовная польза брату твоему, чем твоя книга? Если он получил от нее пользу, книга исполнила свою цель. Давай твои душеспасительные книги каждому, который просит. Если твои книги только стоят у тебя на полке, они будут тебя осуждать как злато и серебро в сундуках богача»{136}.
Это чувство ответственности за других и готовности к самопожертвованию ради ближнего подвигнуло о. Иоанна к осознанию непреходящей ценности общества других людей самого по себе. Исключительная роль, отводимая пастырем общению, заметно расходилась со знаменитыми словами св. Серафима Саровского: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»{137}. О. Иоанн был одним из первых русских религиозных деятелей, который не просто признал необходимость общения с ближними, но и придал ему особое значение в деле духовного восхождения. По сути, батюшка задумал взращивать некий светский аналог общежительного монашеского идеала. Преимущества монашеской жизни, включающей в себя одновременно и духовное взаимообогащение членов общины, и совет духовного наставника, оценил еще в III в. авва Пахомий, назвав такой путь наиболее подобающим и спасительным для большинства желающих духовного водительства. Василий Великий также подчеркивал сходство между общежительным монастырем и раннехристианской апостольской общиной{138}. Однако даже после тысячелетней практики монашеского общежития сохранялось мнение, что лишь через затворничество возможно обрести высоту святости. Такие старцы, как Феофан Затворник, нередко советовали женщинам искать спасения в служении ближним, в то время как сами старались избирать уединение и действительно считали затворничество наивысшей ступенью духовной жизни{139}. Согласно данной точке зрения, община — это полезная промежуточная стадия на пути ко Всевышнему, в то время как лишь наедине с Богом, ангелами и самим собой человек способен достигнуть наибольших высот. О. Иоанн, напротив, как, кстати, и некоторые другие священники его времени, начал рассматривать общение как исключительно действенное средство спасения; более того, оно необязательно лишь низшая стадия, через которую должен пройти христианин в покорении духовных вершин, но верный его спутник в течение всего жизненного пути.
Осознание ценности общения пришло благодаря семейной жизни и неизбежным тесным контактам с близкими. О. Иоанну, стремившемуся к уединению, чтению и размышлению о спасении души (то есть, как правило, о себе самом и о своих взаимоотношениях с паствой), было непросто стать общительным. Поначалу для этого потребовались серьезные усилия, что видно из его самоувещеваний, например, в записях 1872 г.: «Не должно пренебрегать посещением гостей: при этом посещении открывается, насколько мы обязательны друг ко другу и сердечно ли уважаем друг друга; общения не забывайте, сказано; также — открываются наклонности и расположение сердца нашего, страсти наши… вообще наши добродетели или страсти узнаются в служении ближним, кому бы то ни было»{140}.
Осознание исключительной роли ближних в своем духовном развитии изменило образ жизни о. Иоанна. Он стал проводить больше времени среди людей, приглашая их к себе и бывая сам в гостях. По воспоминаниям знавших батюшку в 1870-е гг., он был частым и желанным гостем во многих домах{141}. Однако значение, которое он придавал общению, не ограничивалось лишь простым совместным времяпрепровождением; пастырь, по сути, включил его в свою философию спасения. Рассматривая чувство братства и потребность в общении как способы углубления религиозного опыта, он использовал сходные формулировки для прославления общежительного уклада отцов-пустынников:
«Потому хорошо ходить в гости, что это есть дело общительности христианской. Наблюдая других, мы присваиваем хорошие качества друг друга, замечая и собирая духовные сокровища: ибо сами по себе мы бедны и немощны и неискусны не только в христианском, но и в общечеловеческом житии. Ничто так не располагает к добродетели, как хорошие, живые примеры»{142}.
Однако рассуждения о ценности общения являлись не просто абстрактным риторическим и назидательным приемом. О. Иоанн отчетливо осознавал его неимоверную утешительную силу. Считая себя слишком замкнутым и мрачным, он писал в дневнике: «Принуждай себя к разговорчивости: слово прогоняет уныние души, успокаивает, расширяет недра души, просвещает, оживотворяет ее слово. Слово — златая связь, цепь разумных существ. Диавол повергает нас часто в уныние чрез бессловесие, не давая нам свободно мыслить, чувствовать и говорить»{143}. С проницательностью, которая была бы почти невозможна для человека, живущего уединенно, он особенно высоко оценил пользу общения вне дома для уменьшения внутрисемейных разногласий: «Надо иметь общение с людьми, ходить в гости: и свои домашние почему-либо враждующие сблизятся, сдружатся, бывают мягче, откровеннее; в гостях и жена, и свои — все бывают любезны и любезные»{144}.
Вместе с тем о. Иоанн считал взаимоотношения с окружающими одной из своих прямых обязанностей как священнослужителя.
В 1870-е гг. он дал обет молиться «за других так же горячо… как за себя, подобно Моисею, Самуилу, Даниилу, Илии, Елисею, божественному Исаии, Иеремии, Павлу апостолу, Петру, Иоанну… Сергию [Радонежскому], Дмитрию, Златоусту Ростовскому, св. Тихону, новопрославленному чудотворцу»{145}.
Личности, упоминаемые о. Иоанном, — не аскеты-отшельники или странники, превозносимые им в первые годы его пастырского служения, но люди, творившие богоугодные деяния в миру во имя Господа и во благо людей. Для о. Иоанна двенадцать апостолов Христовых — прежде всего метафора идеальной близости к Богу и Его народу, своеобразная идеальная форма посредничества между ними. Читая дневники о. Иоанна, можно почувствовать, что он отождествлял свое предназначение с их миссией — параллель, отсутствовавшая в его описании шедших путем аскетизма отцов-пустынников. Тем не менее наибольшее впечатление на него произвела та сторона служения апостолов, которая менее всего поддается подражанию: их способность совершать чудеса. Комментируя в первые месяцы после принятия сана Евангелие от Матфея 10:7–8, он писал:
«“Болящие исцеляйте…” и пр. В этих словах Апостол видел Бога в плоти, Творец всего, которому довольно сказать, чтобы было известное дело, или известный предмет — чтобы на самом деле осуществилось это. Может ли так говорить об этом человек? Пусть бы ты сказал мне: болящих исцеляй. А я б тебе сказал: дай средства, например, лекарства, совета, который я бы мог передать больному к его пользе, и пр. Сам я не в силах, не могу: как я восстановлю порядок в теле больного, когда я не знаю хорошо, что за беспорядок произошел у него и как помочь из беспорядка возникнуть порядку. Как послушается меня эта дивная машина? Как бы мне не испортить ее»{146}.
Казалось бы, столь прагматичный подход должен был бы поставить под сомнение саму возможность чуда, однако с его помощью о. Иоанн все больше убеждался в Божием всемогуществе. Его собственная неспособность совершать такие подвиги только оттеняла чудесные возможности апостолов; их необычайная близость к Богу и позволяла им творить чудеса:
«А если бы ты сказал мне “воскрешай мертвых”, я счел бы тебя помешавшимся в уме и не счел бы нужным долго говорить с тобою. Я сказал бы тебе только, что один Бог силен есть воздвигнуть нас из мертвых, а люди без чрезвычайного дара Божия не могут этого сделать. А когда бы ты сказал “прогоняй бесов”, я сказал бы тебе: разве ты сильнее бесов; так как для того, чтобы изгнать сих, непременно надобно быть сильнее их. Но как они — духи бесплотные, хотя и духи тьмы и были некогда ангелами, — сильнейшие крепостью, то, без сомнения, они сильнее тебя, плотского. Если же ты пересиливаешь их, то или с тобою Бог, или ты Сам — Бог»{147}.
Здесь наглядно проступает буквальность восприятия, характерная для о. Иоанна, будь то толкование Священного Писания или собственных сновидений. Даже будучи поражен тем, какая бездна отделяет апостольскую эпоху и дар, ниспосланный ученикам Христовым, от его времени и возможностей, он воспринимает это расстояние в большей степени как духовное, нежели историческое. Апостольский дар мог же ведь передаваться другим. Если чудеса совершались раньше, то почему их невозможно творить сейчас. В отличие от своих светских — и даже некоторых в сане — современников, о. Иоанн не считал, что чудеса апостольского периода — отличительная черта раннего христианства, с тех пор безвозвратно утерянная{148}. Он полагал, что апостолы воплощают и сохраняют идеальную гармонию между небесным и земным. Их путь наиболее совершенный, ибо они совмещали любовь и служение Господу с любовью и служением людям во имя Господа. Несмотря на то что в дневниках пастырь неоднократно подчеркивал, что для достижения Божией благодати необходим подвиг аскетизма, он не исключал и возможности несения в миру апостольской миссии. Например, 9 мая 1856 г. о. Иоанн восторженно писал: «Даруй и мне, Господи, незнатность, скорбь, нищету и дерзновение к миру апостолов твоих, чтобы и мне иметь их знаменитость, их радость, их богатство, их обладание всем, нужное к моему счастию временному и вечному спасению»{149}.
По его мнению, теперь наиболее созвучным миссии апостола является священническое служение. Эта мысль диссонирует с традиционным представлением о том, что именно епископы как ближайшие наместники апостолов являются преемниками их благодати. Как в католичестве, так и в православии апостольская преемственность епископов утверждается и на богословском, и на каноническом уровне. Так, например, в кондаке св. Тихону Задонскому указание на такую преемственность просто включено в славословие: «Апостолов преемниче, архиереев Божиих украшение, учителе Православныя Церкве». В раннехристианской церкви пресвитеру предписывалось «совместное с остальными старейшинами служение и руководство народом Божиим с чистым сердцем». Однако сам по себе пресвитерский (священнический) сан не предполагал каких-то особенных богослужебных обязанностей; епископ же, по словам папы Григория X, обладал «абсолютной монополией на совершение богослужений и таинств как высший священник единого “священнического” тела церкви»{150}.
Однако, согласно другой раннехристианской традиции, роли епископа и священника в совершении таинств распределялись иначе. В 115 г. св. Игнатий указал на различия между епископом и пресвитерами. Первого он назвал «престолонаследником Бога», а последних — «престолонаследниками коллегии апостолов»{151}. Первоначально не проявленная возможность священника совершать таинства, на что намекал Игнатий, стала повседневной практикой в IV в. при императоре Константине, когда Церковь не просто превратилась в устойчивый и легальный институт, но и оказалась неотъемлемой частью византийской модели церковно-государственных отношений — симфонии властей. В этих новых условиях паства стремительно увеличивалась, и епископам было все труднее оставаться единственными исполнителями таинств. Поэтому пресвитеры также стали выполнять литургические, или подлинно «священнические», обязанности{152}.
Превознесение о. Иоанном священнической миссии явилось следствием его убежденности, что совершение таинств — неотъемлемая функция священника. Тот факт, что он отождествлял с лицом, предназначенным для совершения таинств — ключевой обязанности апостольского служения, — именно священника, а не епископа, неизбежно следовал из реалий тогдашней России. Епископ был настолько обременен управлением подчиненными и исполнением своеобразной роли посредника между Церковью и государством, что был практически недоступной фигурой не только для прихожан, но даже для нижестоящего духовенства. Так что у него, по мысли о. Иоанна, оставалось явно недостаточно времени для того, чтобы аккуратно исполнять две главные задачи пастырского служения — творить молитвенное заступничество и совершать таинства. Поэтому неудивительно, что апостол-пастырь, живущий среди людей, скорее ассоциировался у о. Иоанна со священником, нежели с епископом и его канцелярией{153}.
Батюшкина трактовка пастырской миссии была проникнута его страстным рвением ко спасению мира. Собственно, именно в спасении гибнущего человечества он и видел главную цель священника. О. Иоанн писал в автобиографии:
«Размышляя о чудном, любвеобильном домостроительстве Божием в спасении рода человеческого, я проливал обильные и горячие слезы, сгорая желанием содействовать спасению погибающего человечества. И Господь исполнил мое желание. Вскоре, по окончании высшей школы, я возведен был поднят на высоту священнического сана»{154}.
Для него это действительно была подлинная вершина. Священник, писал о. Иоанн в духовном очерке «Моя жизнь во Христе», это «посредник между Богом и людьми; он — ближайший сподручный Господа. Он как бы даже и сам для людей вроде Бога, исполненный властью отпускать их грехи, делать их причастными страшных и животворящих Христовых Таин, и через то пребывать со Спасителем самому и возводить к нему других»{155}.
Возможность совершать таинства, особенно Евхаристию, поднимает священника над теми, кто лишен духовного сана, каких бы высот святости ни достигали они сами по себе:
«Через священство Бог вершит великие и искупительные деяния для человечества: Он очищает и освящает людей, животных и все создания Свои; Он избавляет людей от злодейских ухищрений дьявола; Он восстанавливает и придает силы; Он обращает хлеб и вино в чистейшие Тело и Кровь Самого Господа; Он достойно венчает сынов и дочерей Своих и очищает от греха их брачные ложа; Он отпускает грехи, исцеляет болезни, преображает землю в небеса, соединяет небесное с земным, а людей — тварных созданий Своих — с Самим Собой; Он объединяет ангелов с людьми в сонмище едином… разве может быть хотя бы в чем-то достаток у людей, не ведающих священства! Лишены они спасения. Недаром Господь, Творец нашего Спасения, называется Первосвященником»{156}.
Восклицая «священник — ангел, не человек», о. Иоанн осмыслял священство в образах монашества и ангельской жизни. Он настаивал на априорном, внеличностном превосходстве священника над любым, имеющим рвение к святости. Например, монахиня, хотя может и должна молиться за мир, однако действенность ее молитвы зависит от ее личных душевных качеств. Другое дело — священник; он имеет доступ к постоянному потоку благодати, исходящему прямо от Всевышнего через таинства. Именно таинства как источник абсолютной и истинной благодати позволяют ему служить посредником между Богом и людьми и доносить их молитвы ко Господу: «Священник возвышается, совершая церковные службы и особенно таинства: тогда он наделяется Господом величайшей властью, становится всемогущим, способным вымолить у Бога весь мир»{157}. Именно потому, что источник добродетели священника является никоим образом не его заслугой, а благодатью Божией, о. Иоанн приравнивал священство к святости, а священника — к святым, как сосудам, через которые Божеское перетекает в человеческое.
Посредничество священника, через которое происходит встреча людей с Творцом, совершается по-разному. Сразу после рукоположения о. Иоанна переполняла радость от осознания, что наконец-то он обрел сан, к которому так стремился. Он, обращаясь к образам и стилю псалмопевца, воспринимал свое предстоящее служение Господу прежде всего как прославление Его:
«Вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою: исповедаемся тебе в гуслех — Боже, Боже мой! Я имею счастие часто подходить к жертвеннику Божию и исповедати ему — не в гуслех, а собственным голосом и голосом поющих и читающих. Слава Тебе и благодарение за то, что Ты даровал мне счастье Давида, — даже больше его»{158}.
О. Иоанну главным в священнической стезе представлялось служение миру, своим прихожанам. Если священник, подобно средневековому королю, существовал в двух ипостасях — частной и предписанной обрядом общественной — нет сомнений, какая из них имела для него большее значение. Священнику мало стремиться к спасению своей души; он также должен постоянно помнить о спасении паствы, за которую он в ответе. Батюшка заявлял: «Священнику молиться только о себе — грешно; молитва о пастве всегда должна за ним следовать». Эгоизм и погруженность в собственные проблемы — самый тяжелый из возможных проступков священника, который просто не имеет морального права на частную жизнь. В дневниках о. Иоанн упрекал священников за то, что они читают, но не применяют уроки, извлеченные из чтения, в общении с паствой: «Итак, пастыри Христова стада, читайте — но и сами говорите, сами пишите, будьте как пчелы. Ваша жизнь должна быть посвящена благу пасомых, как посвящена жизнь родителей благу детей»{159}.
Право совершать таинства являлось для священника вернейшим средством всколыхнуть сердца паствы и увлечь ее на путь спасения. Важнейшим из них и центральным для всей духовной жизни о. Иоанна являлась Евхаристия. Он постоянно упоминает об этом таинстве в дневниках, восторженно свидетельствуя о силе и радости, которые он получает от принятия Святых Таин. Для него Евхаристия была самой жизнью, и ежедневное причащение означало небывалую прежде напряженность духовной жизни и общения с Богом: «О, величайшее блаженство св. Тайны! О, живот дающие св. Тайны! О, любовь неизглаголанная божественные Тайны!»{160} Батюшка приписывал свое физическое и духовное здравие исключительно Евхаристии{161}. Если прежде его изумляло чудо, сотворенное Христом над хлебом и рыбой (Евангелие от Иоанна 21:11), то теперь его волновало, как становится возможным таинственное превращение частиц.
«Что удивительного, что тебе предлагает в пищу и питие Тело и Кровь Свою Господь?.. Как прежде в младенчестве ты питался матерью и жил ею, ее молоком, так теперь, выросши и ставши греховным человеком, ты питаешься кровью своего Жизнодавца, дабы чрез то был жив и возрастал духовно в человека Божия, святого, короче: чтобы, как тогда ты был сыном матери, так теперь был бы чадом Божиим, воспитанным, вскормленным Его Плотию и Кровию, паче же Духом Его (ибо плоть и кровь Его суть дух и живот)»{162}.
Однако утверждение, что обыкновенные хлеб и вино во время литургии верных становятся буквально Телом и Кровью Христовыми, до такой степени находится за пределами обыденной логики, что таинство Евхаристии требует от приобщающегося настоящего прорыва в его вере. Поэтому для кого-то данное таинство становится искушением и повергает в сомнение, а кого-то, напротив, побуждает уверовать{163}. Отношение о. Иоанна к Евхаристии было постоянным подвигом веры. Так, в 1860 г., в Великий и Святый четверг (четверг Страстной недели, когда православные вспоминают Тайную Вечерю, положившую начало таинству Евхаристии), он подверг сомнению абсолютное присутствие Бога в каждой частице причастия; однако его молитвы о преодолении сомнения были услышаны. Такие утверждения, как «верую и исповедую, что малейшая частица агнца и малейшая капля вина Его кровь», следует понимать как ответ на другие возникающие сомнения и как способ их преодоления. Утверждение переходило в проповедь: «Сколько бы ни было частиц, а все они — дух и живот или всецелый Христос, и все они — от одного хлеба… так и христиане, сколько бы их ни было — единое Тело Христово»{164}.
Однако подобного рода сомнения возникали лишь в первые годы пастырского служения о. Иоанна. В дальнейшем он пришел к выводу, что нет рационального объяснения превращению хлеба и вина в Плоть и Кровь, и, освободившись от пустопорожних схоластических измышлений о природе этого чуда, он просто стал уделять большее внимание состоянию причастника во время таинства Евхаристии. В его последующих записях о причастии преобладает описание практических путей преодоления возможных сомнений на этот счет. Так, например, он писал:
«“Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем”. Это осязательно и опыт подтверждает это. Преблажен, преисполнен жизнью тот человек, который с верою причащается св. Таин, с сердечным раскаянием во грехах. Это истина осязательна, ясна еще из противного. Когда без искреннего раскаяния во грехах и с сомнением приступаешь к св. Чаше, тогда входит в тебя сатана и пребывает в тебе, убивая твою душу, и это бывает чрезвычайно ощутительно»{165}.
В последней фразе речь идет одновременно о страхе и угрозе — боязни причаститься, будучи недостойным, — которая должна была передаваться его пастве, доверявшей ему свои религиозные проблемы. С годами пастырь стал еще более твердо придерживаться данной точки зрения. О. Иоанн утверждал: «Кто приходит к св. Чаше с какою-либо страстью на сердце, тот Иуда и приходит льстиво лобызать Сына человеческого»{166}. Он писал так не для того, чтобы запугать своих прихожан; он сам ощущал себя предателем в случае «недостойного» причащения и мучительно переживал это в течение нескольких дней. Но как же в таком случае он мог, поборов страх, подойти к чаше? Он изобрел методы, позволявшие ему принимать причастие. Один из них отсылал к словам Яхве, торжественно сказанным Моисею: «Аз есмь Сущий» (Исход 3:14). Он звучал так:
«Чтобы с верою несомненною причащаться Животворящих Таин и победить все козни врага, все клеветы, представь, что принимаемое тобою из Чаши есть “Сый”, т. е. Един Сущий. Когда будешь иметь такое расположение мыслей и сердца, то от принятия св. Таин вдруг успокоишься, возвеселишься и оживотворишься, познаешь сердцем, что в тебе истинно и существенно пребывает Господь, и ты в Господе. — Опыт»{167}.
Емкий термин «опыт» демонстрирует стремление о. Иоанна использовать собственные духовные испытания как доказательство Божьего присутствия. Именно за такое апеллирование к опыту, а не за богословские изыскания полюбили пастыря современные ему протестанты{168}. Перестав тратить силы на логическое доказательство того, что требовало мощнейшего духовного прорыва, он теперь приводил чудо Евхаристии как пример — а на самом деле и как доказательство — существования иных явлений религиозной жизни, непостижимых для человеческого разума:
«Из постоянного чуда пресуществления хлеба и вина в истинное Тело и Кровь Христову, с Его Божеством и Душою соединенные, я вижу чудо постоянного оживотворения человека божественным дыханием и сотворения его в душу живу. “И бысть”, сказано, “человек в душу живу”, а на св. Трапезе хлеб и вино по пресуществлении становятся не только в душу живу, но и “в дух животворящ” (1 Кор. 15, 45; Быт. 2, 7). И это все на моих глазах; и я это испытываю душою и телом, ощущаю живо. Боже мой! Какие страшные Таинства Ты творишь! Каким неизглаголанных Тайн Ты сделал меня зрителем и причастником. Слава Тебе, Творче мой! Слава Тебе, Творче Тела и Крови Христовых!»{169}
Сам факт пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы был настолько чудесен, что другие чудеса на его фоне или просто меркли, или даже вытекали из него: если человек способен поверить, что хлеб и вино суть Божественная Плоть и Кровь, то он сможет воспринять и другие явления, непостижимые уму. Отношение о. Иоанна к чудесам зиждилось именно на изначальном уверовании в чудо Евхаристии. Евхаристия — основа основ христианского обряда, она непостижима для человеческого разума и опровергает все естественные законы. Это по определению многократное, регулярно повторяющееся чудо. Христиане должны быть постоянно готовы к чуду, особенно в момент Святого Причащения, соединяющего человека с Богом наикратчайшим путем. О. Иоанн описывал чудодейственную силу причастия в весьма реалистичной манере:
«Хорошо молиться мне о людях, когда причащусь достойно: тогда Отец и Сын и Святый Дух, Бог мой во мне, и я имею великое пред Ним дерзновение. Царь тогда во мне, как в обители: проси чего хочешь. “К нему приидем и обитель у него сотворим. Елика хощете, просите, и будет вам” (Иоан. 14, 23; 15, 7)»{170}
Внутреннее чувство присутствия Божьего позднее дало о. Иоанну «дерзновение» молиться об исполнении просьб мирян и испытывать уверенность, что они будут исполнены. Более того, он чувствовал, что его миссия как священника состоит в том, чтобы хотя бы отчасти зажечь паству своим религиозным рвением. Спустя менее чем пять лет после рукоположения он уже считал неотъемлемой частью своей жизни ответственность за духовное становление прихожан, так что даже жаждал, чтобы они разделили его собственные достижения на пути к Господу. Так, в 1866 г. батюшка писал в дневнике: «Сегодня соединился с Господом в таинственном причащении на ранней литургии и бых полнота Исполняющего всяческая во всех. О, если бы это было всегда!.. то есть чтобы наполнить всех — все сердца»{171}. Неразрывная связь с паствой и совместное приобщение к Святым Тайнам стали сущностью его общественной пастырской ипостаси.
В своем стремлении полностью разделить духовные плоды православного богослужения с прихожанами о. Иоанн кардинально изменил сложившееся в России восприятие как самой службы, так и священника. Характерное для середины XIX в. стремление сделать литургию более близкой для паствы нашло в батюшке самого горячего сторонника. Любовь к Святому Причащению в сочетании с чувством ответственности перед паствой толкала его к более глубокому проникновению в евхаристический канон и к передаче собственного духовного опыта всем присутствующим в храме. Усилия пастыря на этом поприще имели большой успех и стали буквально откровением как для мирян, так и для самого церковного клира, знакомого с манерой его служения.
Эта манера сильно отличалась от традиционной богослужебной практики большей части духовенства. Будущих священников и чтецов наставляли и в семинариях, и на начальном этапе их самостоятельной практики максимально убирать личностный момент во время совершения литургии или чтения канонических текстов. От них требовалось как можно точнее передавать содержание прочитываемого, идя размеренным темпом и не выделяя какую-либо часть фразы. Это очень точно в свое время выразил митрополит Антоний (Храповицкий):
«Размеренное чтение, исполнение духовных песнопений, благоговейные поклоны сообразно с установленным порядком, правильное и неторопливое наложение крестного знамения — все это уже само по себе отрывает душу от земного и возвышает до небесного… С другой стороны, любое проявление самовольства даже благочестивым священником во время общей молитвы неизбежно ввергает в прелесть, то есть в духовный самообман; это, в свою очередь, подталкивает священника к следующему соблазну, когда прихожане начинают благоговеть не перед службой, а перед его собственной персоной; и пастырь из организатора общей молитвы превращается в актера»{172}.
На фоне подобного устоявшегося отношения церковных иерархов глубоко личный подход о. Иоанна к церковной службе не мог не изумлять. Он стремился вовлечь в духовные глубины богослужения каждого присутствовавшего в храме. В то время как православный устав (как и устав Римско-католической церкви вплоть до II Ватиканского собора) предписывал священнику и диакону читать молитвы лицом к алтарю и спиной к прихожанам, о. Иоанн нередко поворачивался лицом к молящимся во время таких молитвенных воззваний, как «Станем добре», «Горе имеим сердца» и «Благодарим Господа». Всякий раз при упоминании в молитвах паствы батюшка либо указывал жестом на часть прихожан, либо проводил рукой над всеми. Прежде прихожанину было довольно легко оставаться лишь зрителем литургии, абстрагировавшись как от самой службы, так и от окружающих. Теперь же, внезапно встретившись взглядом с о. Иоанном перед началом Евхаристии и услышав, как он обращается прямо к тебе и стоящему рядом «Пийте от нея вси», молящиеся чувствовали, что от каждого из них батюшка ждет подлинного приобщения к празднику принятия Святых Христовых Тайн{173}.
Отличие пастыря от других священников проявлялось не только в том, что он обращался непосредственно к каждому прихожанину. Вместо привычного заунывного тенора священника, намеренно бесстрастно читавшего молитвы, он плакал, восклицал и выкрикивал слова заутрени и литургии, блаженно улыбался при упоминании Богородицы и святых и разгневанно потрясал служебником, произнося слова «сатана» или «дьявол»{174}. Его рвение передавалось окружающим, благодаря чему паства встряхивалась и переставала безучастно взирать на богослужение. Поэт-публицист Константин Фофанов, однажды стоявший в алтаре во время службы о. Иоанна, писал: «И слова выговаривал он резко, отрывисто, точно убеждал, точно приказывал, или вернее — настаивал на своей просьбе. “Держава моя! Свет ты мой!” восклицал он, поднимая руки со слезами в голосе, и вдруг, мерцая драгоценною митрою, падал ниц»{175}. Один синодский чиновник, присутствовавший на литургии батюшки, впоследствии вспоминал: «Вдруг во время исполнения песнопения о воплощении Христа — “Единородный Сыне и Слове Божий” — он стремительно схватил крест с престола и поцеловал его, трепетно стискивая крест обеими руками и глядя на него нежно и в то же время возбужденно; затем снова поцеловал его три или четыре раза подряд, прижимая ко лбу»{176}.
Многие воспринимали подобные богослужебные импровизации о. Иоанна с недоумением и предвзятостью. Так, знаменитый адвокат Анатолий Кони не скрывает своего неприятия батюшкиной манеры:
«Когда стал читать Евангелие, то голос его принял резкий и повелительный тон, а священные слова стали повторяться с каким-то истерическим выкриком: “Аще брат твой спросит хлеба”, восклицал он, “и дашь ему камень… камень дашь ему!.. Камень! И спросит рыбы, и дашь ему змею… змею дашь ему!.. Змею! Дашь ему камень и змею!”… и т. д. Такое служение возбуждало не благоговение, а какое-то странное беспокойство, какое-то тревожное чувство, которое сообщалось от одних другим»{177}.
Несмотря на то что люди по-разному реагировали на столь неординарную манеру богослужения, о. Иоанн поломал устоявшийся стереотип восприятия приходского священника. Батюшка превратился в своего рода громоотвод, способный заряжать присутствующих собственным рвением. Даже скептики, приходившие на его службу, неизменно ощущали, что источник такой экспрессивной самобытности о. Иоанна — в усердной молитве и духовной самодисциплине, что полностью исключает какое-либо проявление театральности. В 1897 г. о. Михаил Паозерский вспоминал слова руководства для церковных пастырей, глядя на лицо о. Иоанна, застывшее в полном внутреннем сосредоточении перед началом херувимской песни: «На нем можно было прочесть, как в книге: “Да не отважится подступить всякий, затронутый плотскими страстями и сладострастием”»{178}.
Глубоко индивидуальная трактовка литургии, характерная для о. Иоанна, распространялась не только на манеру его богослужения. Он также свободно переиначивал канонические тексты, чем ввергал сослуживший ему клир в еще большее недоумение. Чтобы понять, насколько могла шокировать подобная практика, следует вспомнить, что, в отличие от протестантов, которые делали акцент на «даре языков» и молитве своими словами, Православная церковь следовала строгому уставу и канону, где всякая ектения, всякий взмах кадила были четко прописаны в служебнике, тщательно проштудированном каждым диаконом и священником. Некоторые элементы богослужения достигали почти что барочного уровня сложности, вынуждая духовенство обращаться к Типикону, где расписаны все служебные обряды и сочетания канонических текстов на любой день. Поэтому искусность иерея или диакона часто оценивалась не по манере их служения, а по способности своевременно отыскать требуемый в тот или иной момент текст{179}.
И на таком фоне о. Иоанн позволял себе неслыханные вольности. Он вставлял в тексты служб собственные фразы и даже целые молитвы. Например, перед началом Символа Веры, после молитвенного воззвания «Возлюбим друг друга», когда священнослужители в алтаре должны обняться со словами «Христос посреди нас», он добавлял: «и есть, и будет» (или «живый и действуяй»). Студент-прихожанин, позднее ставший священником, писал о своем потрясении от этих слов:
«Я стоял, как вкопанный, и ошеломленный этими словами и вдруг подумал: да, действительно Христос Спаситель здесь, посреди нас, а не где-то далеко, не мертвый, не задвинутый на недосягаемую высоту каким-то отвлеченным учением и не являющийся всего лишь знакомым историческим персонажем, а именно живой, “живой и действующий”. Он среди нас. И даже “действующий”. От этого осознания меня охватил страх и ужас, моя душа начала трепетать и содрогаться. Я был готов пасть ниц перед престолом»{180}.
Пастырь позволял себе и более развернутые вставки. Возможно, из-за того, что о. Иоанн вырос в краях, где исстари проживало значительное количество старообрядцев, он всегда беспокоился о том, чтобы направить неверных в лоно Православной Церкви. Тяга к служению людям и забота об их спасении, лежащие в основе его миссионерских устремлений, отразились и в сочиненной батюшкой молитве, читавшейся во время Символа Веры:
«Соедини в вере сей все великие христианские общества, бедственно отпадшие от единства св. православной кафолической и апостольской Церкви, яже есть тело Твое и ее же Глава еси Ты и Спаситель тела, — низложи гордыню и противление учителей их и последующих им, даруй им сердцем уразуметь истину и спасительность Церкви Твоей и неленостно ей соединиться; совокупи Твоей святой Церкви и недугующих невежеством заблуждением и упорством раскола… К сей вере привлецы все языки, населяющие землю, да единым сердцем и едиными устами вси языцы прославляют Тебя единого о всех Бога и благодетеля»{181}.
Несмотря на то что данные добавления не входили в какой-либо канонический текст, они тем не менее абсолютно соответствовали духу православного канона. Использование церковнославянского вместо разговорного русского (например, «живый» и «действуяй» вместо «живущий» и «действующий») только укрепляло ощущение, что батюшкины интерполяции идеально вписывались и даже становились органической и неотъемлемой частью канонического текста. Молиться за тех, кто находится вне лона Церкви, во время службы было необычно, хотя само по себе не уникально: достаточно вспомнить молитвы из молебнов, не входящие в литургию, и обряд крещения. Однако нередко о. Иоанн употреблял выражения, имеющие не просто отчетливо современное звучание, но, возможно, и протестантский подтекст. Например, сразу после причастия он мог сказать: «Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, освятительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворительно, что я и ощущаю в себе»{182}. Несмотря на сохранение таких православных богословских понятий, как «ипостась» и «сущность», акцент на индивидуальном впечатлении и индивидуальном опыте (даже применительно к Богу, а не к о. Иоанну) в сочетании с разговорным русским, чтобы усилить непосредственность восприятия, явно шел вразрез с механистической манерой говорить, свойственной другим православным священникам.
Парадоксально, но когда пастырь молился за сектантов как за отпавших от истинной Церкви и надеялся на их обращение в веру истинную, то прибегал к языку, напоминавшему их язык. Безусловно, благодаря тому, что в Петербурге активно действовали протестантские и римско-католические общины, о. Иоанн был знаком не понаслышке с их практикой исповедания веры. Так, в 1873 г. о. Иоанн припоминает разговор с англиканским пастором, который критиковал некоторые стороны православия, сравнивая его с протестантизмом: «Разговор с англиканским пастором. Отзыв его о странниках как о фанатиках и о монахах как эгоистах, живущих только для себя; об иконах как об идолах». Однако хотя о. Иоанн и знал о «протестантской критике» и мог обсуждать ее с неправославным духовенством, его последовательная критика лютеран и англикан основывалась как раз на осуждении осознанного соперничества{183}. Более вероятный источник его молитв — традиция сочинения собственных молитв для особых целей. Не только святые, но и простые смертные прибегали к молитвам, очень похожим на заклинания, для таких целей, как гарантия супружеской верности, хороший урожай или завоевание чьей-либо благосклонности{184}. Дохристианское происхождение заклинаний очевидно, и в то же время существует достаточное количество православных по духу неканонических молитв, чтобы предположить, что именно они и могли подтолкнуть о. Иоанна к составлению молитвенных воззваний{185}.
Конечно, существовало различие между молитвами на каждый день и молитвами, входящими в богослужение. Молитвы на каждый день, по сути, могли быть любыми, а богослужебные молитвы должны были строго вписываться в церковные каноны. Если бы все священники позволяли себе столь свободное обращение с каноническими текстами, то в результате возникла бы угроза не только для цельности, но и даже для самого существования православия{186}. Просто удивительно, каким образом батюшке удавалось беспрепятственно импровизировать во время богослужений. Вероятно, разгадка заключается в том, что он просто «не выпускал» свои импровизации за пределы, предписанные догматами и таинствами Православной церкви. Он верил, что «объективно» познать Бога можно только через таинства Православной церкви; возвышение до живого восприятия Господа прихожанами и другими священниками, служившими вместе с ним литургию, составляло для него самую суть таинств. Поэтому при всем своем стремлении к более углубленному и частому приобщению паствы к таинствам о. Иоанн никогда не отвергал сами таинства, как это делали протестантские секты того времени. Однако он мог изменять и изменял правила приобщения к таинствам, упрощая сложную, многоступенчатую процедуру, сопутствующую каждому таинству.
К примеру, перед Евхаристией прихожане должны были поститься от трех дней до недели, а те из них, кто умел читать, — прочитывать Последование ко Святому Причащению{187}. Женщины не могли причащаться во время нечистоты даже при условии выполнения всех остальных предписаний; более того, данный запрет распространялся и на такие непосредственно не связанные с литургией обычаи, как поклонение иконам и целование креста{188}. Православное духовенство того времени (как, впрочем, и современное) апеллировало к понятию чистоты, характерному для иудаизма, ислама и раннего христианства, как к непременному условию принятия причастия. На самом деле это была одна из причин, по которой русские редко причащались: для того чтобы говеть «как полагается», требовалось бы потратить больше времени и усилий, чем было возможно{189}.
О. Иоанн стремился преодолеть атмосферу страха, царившую вокруг причастия. В своих проповедях он проводил параллель между духовным здоровьем и принятием Святых Тайн{190}. Он шел вразрез с традицией и современной ему практикой, в некоторых случаях позволяя женщинам во время нечистоты подходить к чаше и разрешая прихожанам, которых он хорошо знал, причащаться почти совсем без подготовки. Однако с учетом сложившихся веками традиций о. Иоанну приходилось проявлять в этом вопросе немалую осмотрительность. Он не мог настолько уклоняться от православного устава, чтобы предоставлять прихожанам самим решать вопрос о причастии. Последнее слово по-прежнему оставалось за ним; так, он не позволял причащаться очевидным и нераскаявшимся пьяницам и прелюбодеям, а также молодым людям, приходившим в храм непричесанными{191}. Может быть, нововведения о. Иоанна, сделавшие причастие более доступным, сегодня и не кажутся столь радикальными, однако это первый подобный пример в истории Русской православной церкви. Тем более что ко времени начала пастырского служения батюшки порядок вечерни, заутрени и литургии не претерпевал изменений более двух веков, и на этом фоне любое изменение являлось прорывом. Даже те, кого о. Иоанн считал готовыми к восприятию его нововведений, воспринимали их как неслыханное послабление правил{192}.
Однако убедить паству причащаться чаще было непростым делом. Поверхностное отношение прихожан к своим «обязательствам» вызывало у о. Иоанна глубокую внутреннюю тревогу: «Как бедно вы причащаетесь, — восклицал он на страницах своего дневника, — а как необходимо причащаться чаще! Ведь душа ваша томится духовным гладом и жаждой. Алчба и жажда благодати. Подумайте о Самарянке и Спасителе — умейте искать живую воду благодати»{193}.
Он плохо переносил, когда его собственное восприятие таинств не совпадало с восприятием собратьев-священников и прихожан. Этот праведный гнев (позднее побудивший батюшку заняться политической деятельностью), чувство, что только они с Господом вдвоем противостоят бесчувственному миру, появляются у о. Иоанна с самого начала его пастырского служения:
«Что, если бы Ты, Господи, Боже мой, Иисусе Христе, возблистал свет Божества Твоего от Пречистых Твоих Таин, когда они почивают на св. престоле — на дискосе во время литургии, или в дарохранительнице, или дароносице, когда иерей твой несет их на персях своих, идя к больному или от него! От этого света поверглись бы в страхе на землю все встречающиеся или воззревшие на них из домов своих, ибо и Ангелы от страха неприступной славы Твоей покрываются! А между тем как равнодушно иные обращаются с этими пренебесными Таинами! Как иные равнодушно совершают страшное священнодействие св. Таин!»{194}
Благоговение пастыря перед всем Божиим и его стремление приобщить каждого к этому чувству побуждали батюшку проявлять заботу о самых разных сторонах богослужения. Так, почти такое же пристальное внимание, как и таинствам, о. Иоанн уделял пению церковного хора и других представителей клира, ибо именно оно создавало должную молитвенную атмосферу. В краткой автобиографической заметке, написанной для журнала «Север» в 1888 г., он особо подчеркивал, что с самого детства любил молитву и церковную службу, особенно хорошее пение{195}. Внимание к уровню церковной музыки сохранится у о. Иоанна и в более поздние годы. В его дневниках имеются многочисленные высказывания о пении, в частности:
«Я служил литургию с чувством нежности и покаянной тишиной в душе, как вдруг во время херувимской песни враг исторг меня из этого состояния, вызвав раздражение на певчих, монахинь Леушинской обители, которые исполняли мотив Львова для слов “Иже Херувимы тайно образующе”, показавшийся мне фальшивым. Я подвергся искушению и возопил ко Господу даровать мне мир и кротость — греховный, своевольный и своенравный раб Твой»{196}.
Конечно, многие разделяли приверженность о. Иоанна к высокому уровню церковного пения. Миряне всех сословий порой охотнее шли на службу в мужской или женский монастырь, чем в свой приходской храм, лишь потому, что там лучше пели, а иные старообрядцы возвращались в лоно Православной церкви только из-за «сладкоголосого пения»{197}. К аналогичному выводу приходят и западные исследователи: музыку, и особенно пение, русские крестьяне высоко ценили{198}. Однако внимание о. Иоанна к тексту и музыке богослужения имело несколько необычный характер. Один очевидец писал:
«Начали петь стихиры на “стиховне”. О. Иоанн в это время уже почти облачился, чтобы служить литургию. На нем не было только ризы. Быстро, стремительно, скорее выбежал, чем вышел, он из алтаря на клирос, присоединился к певчим и начал петь с ними. Пел с воодушевлением, глубокой верой в каждое слово, регентуя сам, опять подчеркивая отдельные слова и замедляя темп там, где это было нужно по логическому смыслу, содержанию песнопения. Певцы чутьем угадывали эти слова, этот темп и такт, и вторили ему с немалым искусством и одушевлением. Пение, сначала не совсем стройное, быстро стало гармоническим, сильным, звучным, мощным, воодушевляющим, лилось по всему храму, наполняло всю душу молящегося. Как трогательно было смотреть на певцов в это время. Пела как будто бы одна какая первохристианская семья с своим отцом во главе, пела свои победные, священные, великие гимны»{199}.
Иными словами, о. Иоанн хотел, чтобы верующие пережили полноценный во всех отношениях литургический опыт. Более глубокое переживание причастия неминуемо было сопряжено с покаянием, и пастырь также внес изменения в таинство исповеди. На этом обстоятельстве следует остановиться особенно подробно. Поскольку проповедь в середине XIX в., несмотря на усилия духовенства, все еще оставалась редким явлением, исповедь во многих случаях являлась единственным способом получить духовное наставление, и прихожане высоко ценили способность священника внимательно выслушать их покаяние{200}. Здесь о. Иоанн был на высоте. Он ставил себя на место исповедующегося, отмечая, что «покаяние должно быть искренним и совершенно свободным, без какого бы то ни было принуждения временем, обычаем или самой персоной исповедника»{201}. Он старался, чтобы исповедь прошла максимально плодотворно, и проводил ее в специальном помещении с вратами, находящемся в церковной стене (впоследствии подобные помещения стали органичным элементом церковной архитектуры). Батюшка также снисходительно относился к нарушению существующих правил подготовки к исповеди — подготовительной недельной молитвы, посещения церкви и соблюдения поста{202}. Подобная позиция пастыря демонстрирует его убежденность в том, что полноценная, действенная исповедь — плод «сотворчества» священника и прихожанина. Когда исповедующийся бывал краток или равнодушен, задача священника заметно усложнялась: «Горе, когда сухость встретится с сухостью — когда священник на исповеди, уязвленный врагом, встречает духовного чада, который совсем не приготовился. А как таких много!»{203}
Поначалу, сразу после принятия сана, о. Иоанн старался как можно дольше исповедовать каждого. Один из его прихожан вспоминал:
«Он не довольствовался простой формальной исповедью, но брался за всеохватывающее изучение и проверку душевных чувств и религиозных познаний раскаивающегося. Иногда он проводил с ним часы и, откладывая отпущение грехов, заставлял его снова и снова произносить покаяния. С годами количество исповедующихся у батюшки необычайно увеличилось»{204}.
Со временем самозабвенное рвение о. Иоанна в совершении таинств принесло свои плоды. Вокруг батюшки начал формироваться круг людей, регулярно исповедовавшихся и причащавшихся; постепенно это сообщество вышло за пределы Кронштадта и Санкт-Петербурга. Несмотря на то что он вроде бы никак особо не выделял девушек и женщин в своей священнической миссии, среди прихожан, приобщавшихся к таинствам (и писавших пастырю о своем духовном опыте), их было намного больше, чем мужчин, как и в практике Жана-Мари Вьяннэ, французского кюре из Арса, современника о. Иоанна{205}. Феномен массового паломничества в Кронштадт с единственной целью — регулярно исповедоваться и причащаться у пастыря — затронул исключительно женщин. Их преданность о. Иоанну была поразительной: одна женщина писала, что ей посчастливилось жить «в такой благодати» — то есть регулярно причащаться у пастыря — в течение семнадцати лет{206}.
Особое внимание к таинствам Евхаристии и исповеди, как, впрочем, и к личности самого исповедующегося, не было характерным явлением в русской церковной практике. Хотя у многих наделенных Божьим даром старцев и стариц и были последователи, они приходили к своим наставникам в первую очередь за советом, а не за причастием, на исключительной значимости которого настаивал о. Иоанн. Как и кюре из Арса, он стремился, чтобы любое посещение, духовное наставление, молитва или даже исцеление прихожанина соединялись с его причащением{207}. Самозабвенное совершение Евхаристии было напрямую связано с личной харизмой и энергией о. Иоанна; одна женщина по имени Варвара писала ему: «Приобщилась дважды св. Христовых Таин, чтобы приблизиться к Вам духовно». Батюшка настолько вкладывался в Евхаристию и привносил в ее совершение Божию искру такой силы, что она не погасла и после смерти пастыря{208}. Возможно, более регулярное и вдумчивое причащение стало самым существенным вкладом о. Иоанна в традицию русского благочестия. Как изменение общепринятых стандартов «подобающего» поведения, которое прежде не предполагало частого причащения (ведь считалось, что оно могло дискредитировать таинство), так и возрождение евхаристического богословия в русском православии, сохраняющегося в нем и по сей день, стали яркими приметами этой «тихой революции»{209}.
О. Иоанн так горячо желал, чтобы прихожане шли к нему исповедоваться, что встречал их, особенно в первые годы пастырского служения, с распростертыми объятиями, не выражая недовольства ни временем, избранным ими для исповеди, ни громадным числом желавших ему покаяться. В 1859 г. батюшка писал: «Дивное дело! Я вчера исповедовал с 4 до 11 ч., и хоть немного устал, но, легши спать в 12 ч. и вставши в 4 1/2 ч., я чувствовал себя бодрым и здоровым! Как хорошо работать Господу! Как Он подкрепляет — дивно!»{210}
Однако даже при всем рвении о. Иоанна его вдохновенное отношение к таинствам имело такой успех, что выслушать должным образом исповедь всех желающих становилось просто физически невозможно. В 1882 г., как раз когда его известность стала распространяться за пределы Кронштадта, он благодарил Господа «за благодать св. Причастия, давши мне силы исповедовать 243 человек (стоя) с 3 до 10 1/4»{211}. На практике это означало, что каждому исповедующемуся уделялось в среднем менее двух минут. Тремя годами позже ситуация еще более напряженная: «Четыреста человек на причастии сегодня. Слава Богу!» Когда число исповедующихся стало измеряться тысячами и о. Иоанну приходилось выслушивать исповедь всю ночь до утра, он прибегнул к беспрецедентному новшеству — начал проводить общую исповедь{212}. К концу 1890-х гг. исповедь в Андреевском соборе Кронштадта в самые напряженные моменты являлась невиданным в истории Русской православной церкви зрелищем — тысячи людей собирались вместе и выкрикивали свои грехи. То есть из глубоко личного таинства (по существу, даже и не зависящего от личности духовника, ограничивавшегося лишь заученными вопросами к прихожанам) исповедь превратилась в некий общественный обряд, основанный прежде всего на харизме исповедника. Иными словами, сама природа таинства изменилась практически до неузнаваемости.
Можно лишь удивляться, что среди церковных иерархов не возникало особых разногласий по поводу допустимости подобного новшества. Тому было несколько причин. Эпоха Великих реформ всколыхнула всю империю, в том числе и Церковь. На этом фоне и стали возникать самые разнообразные инициативы, нацеленные на то, чтобы несколько оживить «синодальное» православие. Тем более что в первые века христианства исповедь уже имела подобную форму: грешники должны были признавать свои грехи публично, перед всей паствой, чтобы вновь стать частью единой церковной общины, совместно совершающей Евхаристию{213}.
Впрочем, существовал также исконно русский и более поздний — хотя и не церковный по форме — вариант подобной исповеди. Достоевский неоднократно заострял внимание читателя (самые наглядные примеры — разговор Сони и Раскольникова в «Преступлении и наказании», Зосимы и Алеши в «Братьях Карамазовых») на потребности русского человека каяться и просить прощения публично, «перед матерью-землей», если людей вокруг нет, и подтверждал тем самым весьма распространенное убеждение, что истинное покаяние должно быть прилюдным. Во всем православном мире на Прощеное воскресенье перед Великим постом было принято отвесить земной поклон и попросить прощения перед всей семьей дома и перед всем приходом в церкви{214}.
Более того, существует многочисленная литература, посвященная распространенному некогда обряду покаяния перед матерью-землей, ссылки на который обнаруживаются и в самом богослужении{215}. Публичное покаяние высоко ценилось не только в сугубо религиозном контексте: к примеру, наказание за преступление против сельской общины уменьшалось вдвое, если преступник сознавался и просил прощения{216}. В некоторых местностях России считалось, что супружеская пара, испытывавшая трудности с рождением детей, должна попросить прощения у живущих по соседству женщин{217}. Таким образом, можно предположить, что о. Иоанн привнес в православную литургию элементы архаичной дохристианской практики.
И тем не менее существовало несколько особенностей, отличавших общую исповедь батюшки от иных форм публичного покаяния. В случаях, когда грешник каялся перед соседями по общине, он делал это один. На исповедях пастыря была обратная ситуация. Несмотря на то что каждый прихожанин по-прежнему исповедовался в грехах от себя, он слышал собственный голос, который тонул в общем покаянном хоре, и испытывал совсем иные ощущения. Невольно человек переставал стыдиться собственных прегрешений, что отметили и подвергли особенно резкой критике другие священнослужители — об этом речь ниже. Тогда о. Иоанн стал намеренно пренебрегать внешними атрибутами священника, служащего литургию, — полным облачением, ризой, митрой; это заставило прихожан призадуматься. Выходя служить только в рясе и епитрахили (как обычно облачались священники для исповеди), он хотел напомнить прихожанам, что покаяние — все-таки сугубо личное дело каждого, несмотря на то, что оно произносится чуть ли не хором. По словам одного благочестивого прихожанина, о. Иоанн начинал службу «без привычного нашего “во имя Отца и Сына, и Святаго Духа”»{218}. Отсутствие этой обязательной и неизменной молитвенной формулы усиливало непосредственность восприятия, выходящего за привычные рамки церковной службы.
Сектанты того времени также отказались от этой формулы{219}. Несмотря на то что подход о. Иоанна сугубо внешне как будто бы и имел сходных черт с протестантскими воззрениями, конечный результат — таинство литургии, совершаемое священником, — оставался совершенно иным. Пастырь сразу же обращался к прихожанам со словами «мужчины и женщины, грешники, которые как я», чем подчеркивал скорее связь между священником и мирянами, чем различие в их религиозном статусе. Кроме того, о. Иоанн сам читал молитвы перед исповедью — действие, обычно совершаемое чтецом или даже мирянином, — с огромным чувством и с многочисленными собственными вкраплениями. Тем самым пастырь помогал преодолеть малейшее чувство формальности происходящего и передавал присутствующим свое ощущение связи с Богом. По мере того как тысячи людей слушали его прерывистый голос, накал их чувств возрастал. Настрой прихожан, в свою очередь, передавался о. Иоанну. Взаимодействие между священником и паствой, в котором обе стороны наполняли друг друга энергией, создавало атмосферу экстатического духовного освобождения. Очевидец писал:
«Он закрыл свое лицо руками, но из-под них капали на холодный церковный пол крупные слезы… Отец Иоанн плакал, соединяя свои слезы со слезами народа, как истинный пастырь стада Христова, скорбел и радовался душою за своих пасомых. А эти овцы заблудшие, грешные, увидя слезы на лице своего любимого пастыря и поняв состояние его души в настоящие минуты, устыдились еще больше самих себя и разразились еще большими рыданиями, воплями, стонами, и чистая река слез покаяния потекла еще обильнее к престолу Божию, омывая в своих струях загрязненные души. Громадный собор наполнился стонами, криками и рыданиями; казалось, весь храм дрожал от потрясающих воплей людей»{220}.
Положительное или отрицательное восприятие окружающими данных преобразований таинства исповеди в равной степени зависело не только от каких-либо представлений о соответствии канонам, но и от разного отношения к коллективному опыту. Консистория сопротивлялась введению общей исповеди, усматривая в ней опасное сходство с неистовствами членовредительской секты хлыстов{221}. Другим нравились отказ от собственного «я» и слияние с коллективом. Чтобы описать силу и притягательность общей исповеди, горячие сторонники о. Иоанна обращали внимание на всеобщее единение и преодоление социальных преград между людьми:
«В эти минуты перед нами была уже не масса отдельных людей, а как бы один человек, единое тело, один живой организм, двигавшийся туда и сюда. Все слилось и объединилось в этой массе. Нет более никаких разделений. Богатый и бедный, знатный и незнатный, ученый и неученый, мужчина и женщина, — все были вместе, у всех была в эти минуты одна душа и одно сердце, как у первохристиан»{222}.
Принося многим верующим неслыханное облегчение, подобные моменты расхолаживали и отталкивали более скептичных очевидцев. Чуждый религиозности, А. Серебров с отвращением отмечал:
«…при виде его толпа пришла в неистовство; каждый пробивался вперед, поближе к амвону. Толкались, лезли на лавки, на приступки, едва не растоптали плащаницу, чтобы лучше видеть старца. Тысячи рук тянулись ему навстречу, тысячи уст выкрикивали его имя…
…дьякон задул горевшие свечи. Из купола церкви опустилась темнота и придавила людей к земле. И вот тут-то и началось страшное. В темноте не видно, в темноте все дозволено. В темноте языки у людей развязались. Мерзость души человеческой хлынула наружу. Заголосили, завыли, запели юродивые. Ударились оземь припадочные. Темнота наполнилась воплями, стонами, рыданием. И все, кто был в церкви, вдруг оказались преступниками:
— Украл!
— Соседа поджег!
— Батюшка, помилуй, — со свекром сплю!..
Кто-то уже рвал на себе платье — трещал ситец:
— Робеночка… робеночка вытравила!
Кто-то уже чувствовал себя в преисподней:
— Спасите… Геенна огненная… Ад! Ад! Ад!
Нарядная дамочка тыкала в ладонь шляпной булавкой:
— Дрянь… дрянь… потаскуха!
У соседа-мещанина изо рта текла кровь — вышиб себе зубы.
Будь у этих сумасшедших ножи, они искровянили бы себя до бесчувствия»{223}.
Впечатление от общей исповеди было поразительно одинаковым у самых разных прихожан. Описания как сторонников, так и противников ее совпадают и в деталях, и в признании магнетической власти о. Иоанна над толпой. Например, свидетельство благочестивого духовного лица мало отличается от рассказа А. Сереброва:
«Стоял страшный, невообразимый шум. Кто плакал, кто громко рыдал, кто падал на пол, кто стоял в безмолвном оцепенении… “Кайтесь, кайтесь”, — повторял от времени до времени отец Иоанн. Иногда он обращался своим взором в какую-либо одну часть храма и там все чувствовали на себе его взор. Тотчас в этом месте начинали громче раздаваться голоса, заметно выделяясь в общем хоре голосов и заражая еще более толпу… Как могуче владел он всей этой массою народа, он был как бы какой маг или чародей. Скажи о. Иоанн народу, чтобы он шел за ним в эти минуты, и он всюду пошел бы за своим пастырем…»{224}
Связь между харизмой о. Иоанна и искупительной силой самого таинства показана с исключительной точностью. Люди шли к пастырю потоками, и по крайней мере в одном случае, когда более восьми тысяч паломников прибыли в Кронштадт на исповедь, более двух тысяч вынуждены были уйти (невозможно было приготовить так много Святых Даров){225}. Безусловно, возникал очевидный соблазн злоупотребления общей исповедью, позволяющей избежать более ответственной, откровенной и, возможно, вызывающей большую неловкость частной исповеди. К примеру, свящ. Борис Николаев обвинял прихожан в том, что многие из них предпочитают общую исповедь именно потому, что она освобождала их от обязанности признаться в своих проступках наедине со священником. Другие представители духовенства считали, что состояние катарсиса, в которое впадают прихожане, при отсутствии личной ответственности может только ухудшить их поведение после исповеди{226}.
Именно названные особенности общей исповеди, получившие распространение в советскую эпоху, вызывали наибольшую критику. В 1926 г. прот. Валентин Свентицкий счел необходимым прочитать цикл лекций о вреде общей исповеди, в которых объяснил, что «общая исповедь» абсолютно противоречит православным канонам и должна быть исключена из православной практики во что бы то ни стало. Тогда возник резонный вопрос, почему это было позволено о. Иоанну? Все дело в том, что обладающий даром ясновидения о. Иоанн не был похож на других священников. Предостерегая возможных подражателей, о. Валентин, а вслед за ним и многие другие священнослужители-эмигранты, особо подчеркивал его уникальность:
«Необходимое условие индивидуальной исповеди — обязанность исповедника знать грехи исповедующегося — исполнялось отцом Иоанном с богоданным ясновидением. Отец Иоанн… мог видеть грех на душе у человека; он зная это, даже если не расспрашивал его… Общая исповедь отца Иоанна Кронштадтского была уникальным, невиданным явлением. Это по существу недоступно для нас как пример для подражания»{227}.
Ему вторил другой священник — он говорил, что на общей исповеди о. Иоанн достигал больших результатов, чем удавалось ему после получасовых индивидуальных бесед, — он также чувствовал, что о. Иоанну была дарована необыкновенная благодать{228}. (С другой стороны, как заметил епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский), если о. Иоанн был истинным праведником, священникам следовало брать его в пример{229}.) Поскольку в дневниках о. Иоанна отсутствуют какие-либо рассуждения об общей исповеди, трудно решить, была ли она просто вынужденной мерой в сложившихся тогда обстоятельствах, или же он приписывал ей самостоятельную духовную ценность. В любом случае можно предположить, что общая исповедь стала оптимальным решением в ситуации, когда число кающихся превышало число минут в сутках, так что избежать массовости здесь едва ли было бы возможно.
Однако иной пример дает нам Жан-Мари Вьяннэ, французский римско-католический кюре, современник о. Иоанна. Как и о. Иоанн, Вьяннэ был приходским священником, собиравшим самое большое число паломников во Франции середины XIX в. и ставшим, как сказано в его житии, «квинтэссенцией» священнослужителя. Как и о. Иоанн, кюре из Арса прославился своим даром исцеления и тем, что настаивал на более частом причащении. Однако, в отличие от о. Иоанна, Вьяннэ отказался от активной апостольской миссии и по существу заточил себя в своей исповедальне, где проводил пятнадцать часов в день круглый год. В то время как о. Иоанн большую часть дня находился в разъездах, совершая разнообразные требы, которые полагалось служить русскому священнику (особенно молебны), Вьяннэ ограничил свои пасторские обязанности только проведением исповеди и причастия{230}.
Это свидетельствует как о более широком круге обязанностей православного священника по сравнению с католическим, так и о деятельной натуре о. Иоанна, который едва ли согласился бы свести свою миссию только к Евхаристии. Можно также предположить, что батюшка не смог изменить устоявшиеся привычки мирян в соответствии со своими желаниями. Стремление о. Иоанна, чтобы его прихожане и все православные христиане причащались чаще, на практике тормозилось тем, что общая исповедь совершалась не ежедневно и даже не еженедельно, а только во время постов, когда русский народ традиционно шел в храм исповедоваться и причащаться. Надежда митрополита Антония (Храповицкого), что этот обычай можно изменить, более рационально распределив исповедь и причастие по всему годовому циклу, в Кронштадте оправдалась лишь частично. Привычка мирян, ассоциировавших исповедь, пост и причастие с традиционными церковными праздниками, оказалась сильнее, чем официальное заявление иерарха или личная харизма батюшки.
О. Иоанн помимо литургии служил много индивидуальных и «заказных» молебнов — благодарственных, об исцелении или о помощи. Чтобы дать некоторое представление о том, какое место они занимали в его деятельности, отметим, что о. Иоанн утром служил литургию (с 5 примерно до 11 часов утра, в зависимости от количества причащающихся), а остаток дня вплоть до полуночи ездил по разным домам и учреждениям, встречаясь с людьми, в том числе с приезжавшими в Кронштадт паломниками. О. Иоанн не противился этому выходящему за пределы литургии служению и не воспринимал его как нечто далекое от истинной веры и благочестия — даже когда из-за него приходилось сокращать время, отведенное на исповедь и причастие. Именно во время молебнов и других частных служб люди выражали свои самые сокровенные и сильные желания. И пастырь, и его чада слишком высоко ценили молебны и не допускали даже мысли от них отказаться.
Глава 3 АПОСТОЛЬСТВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПУТЬ К СВЯТОСТИ
Как считал о. Иоанн, идеальный священник помимо выполнения своих прямых обязанностей, связанных с литургией, должен давать наставления прихожанам, а также заниматься благотворительностью и помогать бедным. Деятельная любовь являлась лишь одним аспектом священнической общественной деятельности. Не менее важна была и апостольская миссия — наставления паствы, — понимаемая в самом широком смысле: это и просвещение, и проповеди, и попытка устранить несправедливости и язвы общества. О. Иоанн был преисполнен решимости переустроить окружавшую его действительность в соответствии с православным идеалом, и его ранние проповеди предвосхищают те политические убеждения, к которым он пришел в последние десять лет своей жизни. Осознание несоответствия своего социального статуса тому положению, которое он как священник должен был бы занимать, делало его критику еще более острой.
Несколько буквальный подход к Писанию, отличавший аскетизм о. Иоанна, распространился и на его трактовку общественного устройства. Его представление об идеальном миропорядке выражалось не в идеализиции императорской России, а в попытке соотнести страну с собственным идеалом христианского общества. Возлюбить ближнего так же, как Господь возлюбил нас, — основа мировоззрения пастыря. Батюшка буквально воспринял наиболее бескомпромиссные строки Евангелия. Например, «и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Матф. 5:40). Или: «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Матф. 19:21). Он полностью проникся духом альтруизма, пронизывающего евангельский текст. В 1861 г. о. Иоанн так описывал в дневнике апостольскую эпоху: «Ни един же от них глаг. что свое быти, но бяху им вся обща. Вот характер христианской жизни! Единение во всем! Вот слова, которые служат для душ наших во тьме страстей любостяжания, сребролюбия, необобщенности, скупости!»{231}
Убежденность пастыря в том, что община и единение людей — дело благое, а любая индивидуальность, «самость» подозрительна, имеет как частные, так и общественные предпосылки. С социальной точки зрения уменьшение пропасти, разделявшей богатых и бедных, было одним из основных способов преодоления классового неравенства. Для этого имущие должны заниматься благотворительностью и делиться с неимущими — на том зиждилась христианская социальная доктрина о. Иоанна. Он стремился воплотить свой замысел и в частной жизни, чувствуя потребность облегчить участь обездоленных, которых встречал на улице, и помочь ближнему, проявив простое человеческое сострадание. Он считал для себя непростительным не подать милостыню бедняку с протянутой рукой.
О. Иоанн в принципе считал, что евангельское предписание все отдать ближнему следует понимать буквально, однако он обнаружил, что осуществить это на практике нелегко. Если бы он мог отдать часть своего состояния бедным и удовлетвориться этим и не считал бы за грех оставить и себе кое-что, возможно, он и не испытывал бы таких внутренних терзаний. Однако он думал, что все, чем он владел, должно принадлежать неимущим: «Морская вода, пропущенная чрез трубу в мой дом, разве уже не есть морская по тому одному, что она пропущена в дом мой?.. Как вода морская есть общее достояние всех: так и мои деньги разве не общее достояние всех бедных? И что за слепота, что я смотрю на них как на исключительно мою собственность?»{232}
Масштабы благотворительности пастыря намного превосходили принятую тогда норму, которая была очень высокой по сравнению с дореформенной эпохой. Недостатка в возможностях заняться благотворительностью не было: Кронштадт тогда являлся своего рода «мусорной свалкой» Санкт-Петербурга — туда отправляли «отбросы общества», городских бродяг, дабы не портить элегантный облик имперской столицы{233}. Став священником, о. Иоанн посвятил себя заботе о посадских. Он обходил кронштадтские трущобы, приносил продукты и лекарства голодным женщинам с больными детьми, оказывал им и духовную поддержку. Двери его дома были открыты буквально для всех нуждающихся, и любой мог рассчитывать здесь на теплый прием и отдохновение; вскоре за батюшкой начали ходить толпы нищих и требовать денег. Священник, который не просил, а давал деньги, был столь необычным явлением, что рассказы о его неслыханной щедрости быстро разлетелись по стране, и бедняки начали съезжаться к о. Иоанну в Кронштадт{234}.
Щедрость о. Иоанна тем более была примечательна, что давалась ему нелегко. Напоминали о себе угнетающая нищета в детстве и трудное материальное положение в семинарские годы. Сколь сильно он ни верил, что гостеприимство — его долг перед всяким и что ближний — это образ Божий, ему было мучительно трудно раздавать, а не откладывать «на черный день». Вопреки своей воле, он, случалось, пристально следил за тем, что каждый родственник или странник положил себе в тарелку, мысленно жалел о каждой лишней ложке сахара и потом ненавидел себя за это{235}. На людях о. Иоанн был щедрым хозяином; однако из дневников видно, каких усилий стоило ему это великодушие. Он ругал себя за скупость и постоянно напоминал себе, что приехавшие в гости родные не отбирают у него «последний кусок»{236}.
«Как отвечать, когда кто из гостей безумеренно ест твои сладости, которые тебе дорого стоили, и твое сердце сжимается с преступной жалостью? Используй эту молитву»{237}.
Силу внутренних переживаний о. Иоанна, стоявших за его благотворительностью, можно оценить только после анализа отрывков из его дневника. Малейшее проявление щедрости требовало от него волевого усилия, направленного на преодоление собственной натуры. Дело не в том, что он был скуп: просто он вырос в большой бедности и знал, что такое жить в постоянном страхе остаться голодным и быть неуверенным в завтрашнем дне. Раздать все и ничего не отложить на будущее означало для него полностью побороть свою бережливую натуру. Как бы часто он ни заставлял себя это делать, каждый раз ему было нелегко «не обращать внимания на снедомое: представлять, что все это — дары Божии, общие для всех; что ты только приставник»{238}. Каждая трапеза, каждое чаепитие были для батюшки испытанием, во время которого он старался преодолеть природную склонность приберечь то немногое, что имел. Этот мучительный процесс преодоления занял даже не годы, а десятилетия.
Единственное, что подбадривало о. Иоанна в данном испытании, — мысль о том, что он исполняет Божий завет творить добро ближнему, а также большая отдача, которую он чувствовал от своих многочисленных добрых дел. Соотношение между тем, что было отдано, и тем, что он получал, оказывалось почти прямо пропорциональным:
«Дивно, осязательно Господь промышляет о творящих милостыню: милующие других сами получают щедрое подаяние от людей, под. к тому от Самого Бога. Так я, многогрешный, подая сегодня (5 мая) милостыню бедной старушке и 2-м бедным мужчинам. — И что же? — Пришедши домой, вижу, что мне самому принесены подарки от доброго человека: большой горшок пресного молока, горшок свежего творогу и 10 свежих яиц. Дивна дела Твоя, Господи! Явна десница Твоя, Преблагий, на меня грешнем»{239}.
Столь буквальное толкование окрашивало отношение о. Иоанна к благотворительности на протяжении всей его жизни. Раздача милостыни и гостеприимство были наглядным свидетельством не только его великодушной натуры, но и мучительно обретенного чувства долга и веры в Бога. Пастырь был твердо убежден, что если он исполнит евангельский завет раздать все имущество нищим, то ему сторицей воздастся за веру его.
О. Иоанн развил подобную мотивацию еще дальше. Поскольку он считал своим долгом делиться, то полагал, что и остальные должны поступать так же. Это убеждение, однако, не соответствовало принятым обычаям — так же, как и его подход к литургии. Предшествующие поколения православного духовенства трактовали раздачу имущества ближнему как некий идеал и дело в конечном счете сугубо добровольное. Русские епископы и священники, как правило, призывали паству вести себя сообразно положению: бедных — смиренно нести свой крест, богатых — проявлять «милосердие». Даже св. Тихон Задонский, который писал, что обижать богатого — грех, а обижать бедного — бесчеловечно, осуждал мошенничество торговцев, начальников, которые не платят жалованье, и чиновников-взяточников, тем не менее всегда подчеркивал, что следует довольствоваться тем, что имеешь{240}.
Социальное неравенство воспринималось как часть естественного порядка вещей, при этом в оправдание приводилась цитата из Евангелия от Марка: «Ибо нищих всегда имеете с собою…» (Марк 14:7). Позиция о. Иоанна была иной. Он полагал, что для Российской империи, которая должна быть обществом христианским, вопиющий контраст в уровне жизни является настоящим злом. Сам факт наличия бедных делал комфортабельное существование людей зажиточных и богатых отвратительным.
Эти элементы раннехристианских воззрений были в ту пору адаптированы приверженцами социалистических взглядов, однако даже в либеральную эпоху Великих реформ Александра II странно было услышать такие идеи из уст духовного лица{241}. О. Иоанн подвергал особой критике предпринимателей и всех, кто активно стремился разбогатеть. Он писал: «Всего больше неправды делают на земле люди богатые и желающие обогатиться, которые загребают в свои лапы богатство всеми возможными мерами, невзирая на страдания людей бедных»{242}. Однако он не проводил никакого различия между состоянием, полученным в наследство, и богатством, нажитым нечестным путем. Благосостояние и неравенство сами по себе были для него не просто издержками капитализма, а абсолютным злом:
«Господь все создал членением, мерою и весом — даров Его благости и щедрот так много, что их с избытком довольно для всех людей и всех тварей. Но богатые, собирая в свои руки сундуки, многое множество даров Божиих и удерживая их хищнически у себя, лишают пития, одежды, работы тысячи людей и дары и таланты Божии зарывают в землю»{243}.
Сама мысль о том, что богатые тратят свои средства на предметы роскоши, в то время как их ближние умирают в нищете, возмущала пастыря. К середине 1860-х гг. он стал раздавать милостыню еще более широко и призывал к этому других. При этом о. Иоанн предъявлял к остальным столь же высокие требования, что и к себе. Поскольку он считал все хорошее, что происходит в жизни, даром Божьим, то для него представлялось совершенно естественным, что, получая щедрые дары свыше, человек должен так же щедро отдавать. В результате о. Иоанн ожидал благотворительности не только от тех, кто выиграл крупную сумму или получил ее в наследство, но и от тех, кто заработал деньги «честным трудом». В дневниковых заметках за 1869 г., позднее переделанных в проповедь, он писал:
«Лавочники, малознающие, торгующие кожаными и мягкими товарами, скольких бедных могли бы одеть, обуть — а между тем у них не допроситься ни одной рубашки, ни одной обуви, ни одного кафтана — и много товара лежит у них без движения. О, если бы они сочли за счастие одеть нищего, как Самого Иисуса Христа! О, если бы они стяжали от Господа духовный разум, который бы внушил бы им считать эту трату за величайшее приобретение…»{244}
Отчасти неприязнь о. Иоанна к богатым и состоятельным людям объяснялась их желанием потратить деньги на различные удовольствия, а не поделиться «излишками» с менее обеспеченными ближними. Явное расточительство — а таковым являлось для него любое проявление тяги к мирским благам — было особо тяжким проступком. Пастырь все школьные годы ходил босиком, экономя на обуви, и поэтому неудивительно, что он имел совершенно иное представление о жизненно необходимых вещах, чем богатые аристократы. При этом протест о. Иоанна против неумеренных расходов знати исходил не столько из неопуританского отрицания роскоши, сколько из понимания, что на деньги, потраченные на дорогие обеды и наряды, можно купить огромное количество хлеба и одежды для неимущих.
Увлечение изысканными туалетами представлялось ему постыдной тратой времени и денег. «Если б мы имели христианскую любовь, она бы не допустила такое неравенство в одеянии и домах: богатые бы делились с бедными, ели бы менее роскошно; христианская любовь бы заставила нас бросить эти губительные тунеядства (красивую обстановку, обильный стол, модные наряды, коляски)»{245}.
Не прошел о. Иоанн и мимо новейших тенденций в обустройстве жилища и архитектуре. В середине XIX в. все более широкие слои общества начали считать роскошь и изобилие хорошим вкусом. Люди стали активно покупать мебель, бесконечные украшения и старинные безделушки, что должно было свидетельствовать об определенном социальном статусе{246}. Безусловно, все это шло вразрез с аскетическим идеалом пастыря. (Любопытно, хотя и неудивительно: его радикально настроенные современники, особенно те, которые были родом из духовного сословия, а также советские и западные историки также осуждали эти модные тенденции, причем почти в тех же выражениях{247}.) Строительный бум в Санкт-Петербурге и Кронштадте, начавшийся в середине XIX в., вызвал не меньший гнев батюшки:
«В настоящее время одолела людьми больше чем когда-либо страсть строить и переделывать часто то, что вовсе не надо, и на эти постройки и переделки затрачиваются огромные суммы (600 тысяч на поправку Академии Художеств), часто добытые потом, кровию, слезами народа. Это — признак близости второго пришествия Господня: Сам Господь говорил, что до этого люди будут иметь страсть к постройкам и садам… Для чего переделки ненужные начинать инженерам и архитекторам? — От того, что где дрова рубят, там щепки летят. А здесь — щепки золотые: их много попадает в карманы архитекторов и инженеров. Люди богатые строят да переделывают потому, что некуда денег девать»{248}.
Здесь о. Иоанн также расходился во взглядах с основной частью православного духовенства. Священники редко заходили так далеко, чтобы провозглашать, что богатые для спасения души должны проявлять милосердие, должны делиться своим богатством. Пастырь связывал спасение с благотворительностью. По его мнению, помощь бедным была не просто желательна, а обязательна: «Богатые! Неправды свои правдою искупите: неправедные прибыли же дать милостынею убогим: и тогда вы можете надеяться на спасение. Иначе не спаситесь»{249}. Иными словами, о. Иоанн полагал, что невозможны ни такое явление, как «праведно нажитое добро», ни такой христианский, нравственный подход к труду, который исключал бы немедленную раздачу приобретенного беднякам{250}. Его принцип «воздаяния» необходимо учитывать при рассмотрении христианской модели общества: человек всегда вправе рассчитывать на то, что Господь или братья по вере защитят, подстрахуют его. А российское общество, согласно о. Иоанну, на практике, в действительности не являлось христианским, ибо не защищало бедных.
Не менее прагматичный подход демонстрировал пастырь и в отношении благотворительности. Батюшка старался разъяснить своим духовным чадам, что если кто-то не в состоянии искренне посочувствовать бедным, то он может по крайней мере увидеть в них потенциальное средство для своего спасения, и это побудит его облегчить их участь. Он стремился пробудить в прихожанах чувство взаимной ответственности:
«Муравьи делают муравейники, в которых им бывает и зимою тепло и сытно; звери — логовища; пчелы — ульи; птицы — гнезда, пауки — паутины… и так как человек создан для общежития, и все множество людей должно, по намерению Божию, составлять одно тело, а порознь члены, то сильные должны носить немощи немощных (Рим. 15:1). Рука руку моет, и палец — палец. При таком богатом разнообразии сил нашего общества, при такой его талантливости, при таком множестве людей и образованных, и дельных, и искусных, и с состоянием было бы и пред Богом грешно, и пред людьми стыдно оставлять такое множество наших членов (разумею наших мещан) оторванными, изолированными от общественного тела и от его благосостояния. Отчего не связать их с общественным организмом, соорудив для них помещение и дав каждому из них дело, тем более что многие из них способны к разным мастерствам, — и с делом дав им хлеб и все нужное? Опять я обращаюсь к обществу с покорнейшею просьбою. Во имя христианства, во имя человеколюбия, гуманности взываю: поможем этим бесприютным беднякам: поддержим их и нравственно и материально, не откажемся от солидарности с ними, как с человеками и собратами… Ужели муравьям и пчелам мы дадим преимущество пред собою?»{251}
Понятие «общественный организм» и сравнение его с животным миром были типичны для общественных воззрений тогдашних мыслителей-радикалов, и прежде всего Добролюбова. Можно также обратить внимание на христианскую метафору организма: Церковь есть Тело Христово, и каждый христианин становится частицей сего Тела, принимая Кровь Христову во время Евхаристии{252}. Каков бы ни был источник пастырских взглядов, растущая убежденность в необходимости рассматривать все с общественной, а не с личной точки зрения вынуждала о. Иоанна искать такую модель социального устройства, которая была бы основана не столько на импульсе отдельной личности, сколько на коренном переустройстве всей системы{253}. Он полагал, что Православная церковь должна многому поучиться у других общин (как политических, так и религиозных), в первую очередь заботе о своих членах. В отличие от славянофилов, о. Иоанн считал, что и России, и православным христианам недостает общественных отношений, сложившихся на Западе и в других религиях. Он призывал посмотреть на евреев, мусульман, на раскольников в России, которые оказывают своим собратьям взаимопомощь и поддержку{254}.
Представляя прихожанам и городским чиновникам свои предложения по улучшению условий быта и труда горожан, батюшка осознавал, что его религиозные и социальные функции сливаются воедино. Его понимание общества как религиозного и политического целого означало, что он может изъясняться в строго гражданских терминах и вместе с тем чувствовать, что таким образом служит Богу. Служение Господу осуществлялось через служение ближнему; добродетельный гражданин должен быть истинным христианином:
«Всякий гражданин имеет право высказывать свое мнение пред обществом в пользу обществу: поэтому я, во-первых как гражданин, во-вторых как священник, хорошо знающий вопиющие нужды значительной части мещанского общества, решаюсь подать свой голос в пользу его: значительная часть мещанского общества не имеет места и приюта; между тем как мещане непременно должны быть помещены где-нибудь; положение общества не естественное: оно оторвано от настоящего городского населения и брошено на произвол судьбы, без всякого попечения со стороны Городской Думы; оно не имеет ни угла для помещения, ни работы для пропитания: ни денег, ни одежды. Оно лежит черным пятном на здешнем городском обществе»{255}.
Будучи убежден, что всеобщими усилиями можно создать лучшее общество и обязать городские власти бороться с нищетой, о. Иоанн, призывая к переменам, предпочитал подчеркнуть свой светский статус гражданина, а не духовный сан священника. Порыв пастыря дать каждому кров и пищу был связан с тем, что он сам прошел через ужасы нищеты. Он был уверен, что, прежде чем говорить с бедняками о Боге, необходимо удовлетворить их материальные нужды и обеспечить им крышу над головой{256}. Таким образом, предоставление бедным крова стало его первоочередной задачей.
Однако, по мнению пастыря, мало просто подавать бедным на хлеб насущный; необходимо ликвидировать бедных как класс. В соответствии со своим пониманием христианского общества как объединения равноправных христиан о. Иоанн хотел, чтобы неимущие стали полезными членами общества. Он представлял себе такое социальное устройство, при котором у каждого были бы еда, одежда и кров — и в то же время дееспособные граждане обучались бы ремеслам. Уже в 1868 г. батюшка обратился к городской Думе с запиской, в которой излагал свои предложения о создании Дома Трудолюбия для бездомных Кронштадта. Однако предложенный им проект был реализован лишь в 1881 г.{257}
О. Иоанн разработал модель «работного дома» («Дома Трудолюбия»), в котором бедные получали бы непосредственную, практическую помощь, а богатые, желавшие проявить действенную благотворительность, находили бы своего рода отдушину. Особый акцент делался на труде — бедным полагалось работать, а не бездельничать. О. Иоанна нередко обвиняли в том, что благодаря ему число бедных только возросло, а не уменьшилось. Как только разнеслась весть о его благотворительности, противники батюшки (среди которых был и священник Георгий Гапон, впоследствии возглавивший демонстрацию рабочих в Кровавое воскресенье) заговорили о том, что нищие фактически мигрировали в Кронштадт, чтобы улучшить условия жизни за счет о. Иоанна{258}. В ответ на эти обвинения и для поощрения желающих помогать «достойным» бедным о. Иоанн писал, делая особый упор на плодотворности идей, заложенных в проекте:
«Как хорошо было бы устроить Дом Трудолюбия! Тогда бы многие и из них могли обращаться в этот дом с требованием сделать нам за известную плату то или другое дело, ту или другую вещь, а мещане наши жили бы, да трудились и благодарили Бога да своих благодетелей. И нравственно многие поднялись бы. А если бы кто, будучи здоров, не захотел работать, того из города долой: Кронштадт не рассадник тунеядцев»{259}.
Дом Трудолюбия стал образцом для других работных домов{260}. Сначала его работники занимались простой деятельностью: склеивали поля шляп, мяли коноплю и т. п., получая в обмен еду, ночлег и скромное жалованье. Затем круг работ расширился, и в доме появились мастерские и жилые помещения специально для женщин (о. Иоанн особенно старался уберечь их через это от проституции), а также наладилось обучение сапожному и плотницкому делу; открылись бесплатная лечебница, библиотека, магазин, школа, стали проводиться публичные лекции и вечерние занятия для взрослых. Одним словом, Дом Трудолюбия послужил примером того, как нужно организовывать помощь беднякам, что вызвало одобрительные отклики в тогдашней прессе{261}. Отчасти успех был связан с тем, что авторитет о. Иоанна сделал это начинание «модным», так что помощь Дому Трудолюбия стала одним из излюбленных занятий таких законодательниц общественного мнения, как Л. Римская-Корсакова{262}.
О. Иоанн стремился предоставить труженикам не только материальную, но и духовную помощь. В 1881 г. в конспекте проповеди он писал:
«Хорошо бы позаботиться, чтобы мещане, имеющие работать, а некоторые и — жить в Доме Трудолюбия, могли ходить по воскресениям и праздничным дням в Церковь, как члены ее, и ежегодно причащаться св. Таин: а то известно, что многие из них по 10 и больше годов не были в Церкви за бедностию и неимением приличной одежды»{263}.
Последнее замечание — прямое следствие того, что в своих письмах пастырю многие писали, что не могут ходить в церковь, так как «плохо одеты»{264}. Несмотря на то что порою это могла быть уловка для получения денег, о. Иоанн сам в детстве испытывал подобные переживания и понимал чувство неловкости, которое постоянно испытывают бедняки. Поэтому при Доме Трудолюбия существовала домашняя церковь (ее посещение не было обязательным), в которую любому можно было ходить без стеснения. Дом Трудолюбия стал подспорьем для такого огромного количества людей, что постоянно финансировать и поддерживать его в хорошем состоянии стало насущной необходимостью. В первые годы после принятия сана о. Иоанн не мог рассчитывать только на свои средства и непрерывно беспокоился о том, как содержать Дом Трудолюбия. Как-то раз он погрузился в мечты:
«Идучи со св. Таинами я долго стоял в молитвенном положении и настроении, смотря на ДТ, выстроенный по моей мысли и слову печатному, моля о нем Господа, да даст этому человеколюбому учреждению материальное обеспечение и долгое, до скончания града, существование. Дай Бог!.. О, если бы видеть мне осуществление моего желания при жизни моей! А теперь мы в долгу, и капитала основного нет, кроме 1600 руб. ежегодной субсидии от Государя, от вел. кн. Михаила Михайловича и от Думы (500 руб.)»{265}.
С этой целью пастырь разработал специальную программу по сбору средств. Он регулярно приезжал в Москву и другие крупные города, собирая деньги для Дома Трудолюбия. Он также рассылал прошения высокопоставленным чиновникам{266}. Прошение о субсидиях на неограниченный срок, поданное Опекунским советом Дома Трудолюбия обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву, свидетельствует, к примеру, о том, что о. Иоанн прекрасно умел найти необходимые слова и заострить внимание на нужных вопросах. Для начала, рассказав о том, как создавался и как функционирует его центр (и детский приют, и мастерские, и больница, и бесплатная столовая), он указывал, что Дому Трудолюбия требуется от пяти до шести тысяч в год, три из которых можно собирать в Кронштадте. Отмечая, что Дом Трудолюбия, созданный «в память незабвенного Царя-освободителя», способствует развитию ремесел и производительных сил народа, он просил о ежегодной субсидии в 1000 руб. для его поддержания{267}.
Упоминание об Александре II не было простым совпадением. После того как император был убит, о. Иоанн встретился с губернатором, желая убедить его поддержать идею переименования Дома Трудолюбия в «Дом императора Александра II». Будучи искренне потрясен гибелью царя, он в то же время отдавал себе отчет, что одно только упоминание имени императора станет залогом финансовой помощи, и хотел таким образом одновременно и проявить патриотизм, и укрепить материальное положение своего детища{268}.
Помимо Дома Трудолюбия, существовавшего в основном за его счет, пастырь поддерживал множество других начинаний и учреждений: Красный Крест, общества трезвости, организации ветеранов, пострадавших во время войны, стипендии для семинаристов Санкт-Петербургской Духовной академии (его альма-матер), сиротские приюты и просто своих земляков{269}. Он получал благодарственные письма практически из всех благотворительных и религиозных организаций Российской империи, из больниц и даже из обществ пчеловодов, Общества по предотвращению жестокого обращения с животными и из ассоциации, оказывающей «братскую помощь армянам, пострадавшим от турок»{270}. В своих письмах члены этих организаций подчеркивали гигантское символическое значение его помощи: по их словам, благодаря поддержке пастырем какого-либо начинания, финансовые вложения в него возрастали. Люди со всех концов империи, желавшие помочь ближним, но при этом знать, куда лучше вкладывать деньги, следовали примеру пастыря. В результате вложенные ими сто или пятьсот рублей умножались во много раз.
То, что о. Иоанн часто был единственным спасителем многих начинаний, видно из благодарственных писем. Их авторы указывали на черту, отличавшую о. Иоанна от множества так называемых «друзей бедняков» с другого политического фланга — как, например, Лев Толстой и священник Георгий Петров{271}. В то время как Толстой, Петров и другие рассуждали о необходимости помогать бедным, в письмах к о. Иоанну утверждалось, что только он регулярно осуществлял это на практике. Можно было бы подумать, что авторы намеренно превозносили его в надежде на дальнейшую помощь, однако индивидуальные особенности слога позволяют предположить, что большинство корреспондентов были абсолютно искренни, утверждая, что исчерпали все источники помощи, а ответ получили только от пастыря. К. М. Татаринова, председатель отделения Красного Креста, писала ему во время голода 1907 г. следующее послание:
«Батюшка наш родной, кормилец, что бы мы делали без Вашей помощи, и представить себе трудно. Мы еще, как я Вам и писала, открыли столовую, всегда теперь питаются 214 человек… Писала я, батюшка, разным лицам, прося помощи: в Комитет трудовой помощи, вел. кн. Константину Константиновичу, свящ. Петрову, последнего просила указать мне только лиц, к которым бы я могла обратиться за помощью, и все же получила отказ, а от вел. князя ни слова. Батюшка наш дорогой, направьте нас к кому-нибудь. Ведь только Вы, Вы один отзываетесь на это потрясающее горе. Наше голодающее население готово Ваши ноги целовать за Ваше благодеяние им, тем более что никто не откликнется на их громадное бедствие… Говорят, “народ пьет” — все это ложь; не только пить, а своей молодежи и петь-то запрещают, видя страшное наказание Божие в голоде» (на письме отметка о. Иоанна: послано 500 руб. 6 фев. 1907){272}.
Хотя о. Иоанн изначально считал, что нищета и социальное неравенство являются следствиями неверного воплощения в жизнь евангельских заповедей, тем не менее он составил свое мнение и о причинах болезни. Представление об ответственности власть имущих перед обществом было центральным для пастыря, предложившего ряд гражданских, политических и религиозных мер для искоренения общественных язв. Именно поэтому — что нехарактерно для духовного лица XIX в. — он не считал, что нищета была чем-то неизбежным или что в ней виноваты сами нищие; бедняков порождала политика правительства. Он предлагал социалистические по своей сути меры, но с консервативных позиций Писания. Он нарисовал конкретную схему социально-экономического перераспределения, отличающуюся и от капиталистической, и от марксистской моделей. В начале 1900-х годов он выразил свою точку зрения с еще большей убедительностью:
«Вопрос о нищенстве в нашем городе да и вообще в России должен быть поставлен прямо и решительно и Церковью, и правительством. Нищета у нас крайне умножилась, ей деваться некуда — нет спроса на труды ее — и нам деваться с ней некуда. Она нас одолевает, она бьет нам в глаза на улицах и перекрестках, на дорогах и изгородях. Что делать с ней? Есть у нас Дума, и Думе надо об ней подумать, тем более, что нищета наша есть ее приемное детище. Разрешение этого вопроса в положительном смысле требует Евангелие, Церковь — сам Господь; Глава Церкви и Государь, Глава государства… о, если б среди нас было больше Закхеев!»{273}
Еще одним знаком того, что пастырь мыслил в масштабах всей страны, стал его яростный призыв бороться со злоупотреблением спиртными напитками не только на частном, но и на государственном уровне. В 1869 г. он писал:
«Что надо сделать в России неотложно? Ограничить продажу водки (известную меру на известное число) и запретить ее продажу в дни воскресные и праздничные — для простого народа, запретить под строгим наказанием, в случае нарушения запрещения… Государю Императору надо обратить особенное внимание на это зло. Иначе он ответит за невнимание на Страшном Суде перед Царем Царей и не избежит строгого осуждения за нерадивое пастырство»{274}.
Таким образом, о. Иоанн относился к самодержцу скорее как к пастырю — то есть лицу, явно наделенному религиозными полномочиями. Однако, согласно его философии, функция каждого члена общества определялась ответственностью перед другими и христианским долгом, и точкой отсчета в данной системе координат оказывался священник{275}.
Миссия священника
Ответственность священника перед обществом включала в себя несколько аспектов. По убеждению о. Иоанна, для того чтобы его прихожане жили «сознательной» духовной жизнью, как он того желал, им необходимо было растолковать смысл христианских таинств, к которым надлежало буквально приучить паству. В соответствии с общим курсом Православной церкви на «работу с населением», курсом, отвечавшим духу эпохи Великих реформ, он стремился сделать церковные наставления понятными и логичными. В 1869 г. он писал: «Прихожанам и ученикам надо показывать смысл богослужения, обрядов, молитв, св. Креста, икон, отношение их к нашей жизни — а не заставить учить наизусть ектении и молитвы, которые и без нас непрестанно повторяет Церковь»{276}.
Кажущееся легкое раздражение о. Иоанна начетническим подходом к богослужению объясняет его требования к духовенству: чтобы преуспеть в наставлении паствы, следует решительнее проявлять инициативу. Дабы полноценно воспринять церковную службу, которая, по признанию пастыря, может быть загадочной и непонятной, недостаточно просто ходить в храм: ее смысл должен стать предметом изучения — и обучения. Это требует усилий как от мирян — «надо готовиться к исповеди, как ученик к уроку: подробно разбирать себя, вдуматься в разные стороны, душевное состояние»{277}, так и от священника: «устроить чтение Ветхого Завета в зале — особенно познакомить с пророками»{278}.
Сравнение с учениками неслучайно. Параллельно со служением в храме святого Андрея о. Иоанн в 1857–1882 гг. преподавал в местной средней школе, чтобы иметь лишние деньги для раздачи бедным. Его методы преподавания резко контрастировали с более распространенной «зубрежкой», характерной для духовного и начального школьного образования в России. Батюшка, который сам провел первые школьные годы в отчаянной «борьбе» с тяжело дававшимся учением, страдая от насмешек товарищей и наказаний учителей, стремился к тому, чтобы его ученики и его прихожане хорошо усваивали материал{279}. Несмотря на то что растущая слава, в конце концов, вынудила его оставить работу в школе и посвятить себя священническим обязанностям, ученики неоднократно вспоминали его уроки как единственное светлое пятно за все время обучения{280}.
Благодаря преподавательскому опыту о. Иоанн научился делать свои наставления понятными для каждой конкретной аудитории. Он проповедовал необходимость самостоятельной духовной работы и усвоения вместо пассивного принятия (более характерного, по его мнению, для низших классов) или пассивного отторжения (более типичного для высших сословий). Поэтому он чувствовал, что должен «внушать ученикам и мирянам приучать ум и сердце свое к самодеятельности во всякое время, и особенно во время молитвы… это весьма полезно и оживляет душу»{281}. Апелляция к разуму и к личной инициативе резко контрастирует с погружением в литургию, забвением и потерей себя, что считалось естественным для православия{282}. Призыв о. Иоанна к трезвой рефлексии и сосредоточенности мог, согласно гипотезе Саймона Диксона, рассматриваться как «протестантская» тенденция в русском православии, однако подозрительное отношение к смутным мистическим порывам было свойственно и самому православию. Отцы-пустынники и многие духовные авторитеты Русской церкви постоянно подчеркивали необходимость духовной «трезвости», предостерегая от избыточного экстаза и экзальтации{283}. Призывая к личностному принятию православия через разум и чувства, о. Иоанн не просто довел до логического конца церковные дидактические устремления эпохи Великих реформ, но пошел еще дальше.
Ключ к пониманию чувства ответственности пастыря за просвещение своих прихожан — осознание ее масштабов: он считал своим долгом направлять людей во всех их поступках. Батюшка столь остро ощущал свой долг священника, что не мог ни помыслить, ни допустить никакого компромисса:
«На Страшнем Суде Бога нашего в ответе за вас. Я не буду смотреть, приятно или нет вам слушать меня, а буду делать свое дело… Какой врач бы не старался исцелять или посещать больных? Но что же тогда звание мое, избранность моя? Разве я призываю на церковной кафедре? Разве я не учитель веры? Разве я не пастырь вверенных мне овец? Разве я не совершитель тайн веры? Нет: забвена буди десница моя, если она не будет начертывать на хартии слова истины: прильпни язык мой гортани моему, если он не будет обращаться в устах моих для изглаголания правил веры и благочестия!.. Да распалится сердце мое, охладевши к делу Божию! — Нет, пока я имею смысл и память, дотоле буду помнить, что и горе мне, аще не благовествую, что Небесный пастырь взыщет от руки моей крови от погибших от моего нерадения и лености овец своих»{284}.
Образование и культура
Поскольку о. Иоанн в своей пастырской и благотворительной деятельности как никогда много стал соприкасаться с образованными людьми, интеллектуальная сфера требовала от него все большего внимания. Разум и культура угрожали простой, идеальной картине общества, созданной священником, даже в большей степени, нежели такие привычные пороки, как жестокосердие или алчность. О. Иоанн чувствовал, что светский интеллектуализм представляет собой своего рода нравственный суррогат, настойчиво претендующий на автономность, независимость от всех законов, кроме своего собственного, — и открыто соперничающий с Церковью. Видя бедняков и их страдания каждый день, он обличал поборников мифического «прогресса»:
«О дивный прогресс! О премудрый прогресс! О приближающий ко дну адову прогресс! — А прогресс веры сердечной, живой? А прогресс любви христианской… христианской любви не только в самом простом смысле, но так, чтобы восполнить вопиющие, ужасающие недостатки других, не имеющих насущного куска хлеба, необходимой одежды и кровли? Где ты, истинный прогресс? О тебе забыли, твое имя похитили у тебя и приложили к этому чудовищному, сатанинскому прогрессу!»{285}
Но еще хуже было то, считал пастырь, что люди, которые иначе обратились бы к Церкви за нравственным наставлением, теперь искали его в других местах. На заре своего священнического пути он был склонен сочувственно относиться к интеллектуальным исканиям или нерелигиозным развлечениям прихожан, считая их метания следствием блаженного неведения{286}. Сначала он думал, что проблему можно решить с помощью просвещения, например путем перевода богослужебных текстов на разговорный русский язык для домашнего чтения, чтобы люди знали их так же хорошо, как европейскую художественную литературу и философию. Другой путь, который мог бы помочь христианам привести все стороны своей жизни в гармонию с православием, — утилизация искусства: «Пой песни церковные, псалмы Давида, разыгрывай их на инструментах»{287}. Позиция о. Иоанна была оптимистичной: он полагал, что большинство проблем — от неведения, а не от сознательного протеста. Если бы люди получили должное православное образование, светская культура стала бы для них менее привлекательна.
В то же время он осознавал, что люди должны искать утешения (и радости) в вере, а не где-нибудь еще. Так, в 1866 г. о. Иоанн размышлял: «Карамзинский праздник. У мира свои праздники, у Церкви — свои. Жаль, что у христианского мира — праздники свои — светские, — а церковные праздники — пренебрегаются. Это — что-то язычеством пахнет»{288}.
Противостояние между христианством и язычеством было ядром его картины мира — «языческими» могли быть и современные феномены, если они не несли в себе христианские ценности. Вдохновители языческой культуры той поры совершали гораздо более тяжкий грех, чем ее потребители, ибо они сознательно игнорировали православие и его доктрины. Поскольку сам пастырь был поглощен верой и ощущал ее как обжигающее, непосредственное присутствие Бога, он не мог простить пренебрежение религиозными темами, свойственное тогдашним искусству и прессе:
«За что я ненавижу светские театры и журналы — за то, что в них никогда не слышно имени Отца и Сына и Св. Духа; никогда не говорится о великом деле на его искупления от греха, проклятия и смерти, а все одна светская суета, пустословие светское»{289}.
«Услышишь ли когда в театре имя Христово не в шутку? Услышишь ли слова: сердце чисто созижди во мне, Боже? — Нет: зачем же театр называют еще нравственным, едва не христианским? Это — язычество в христианстве: он и перешел к нам из язычества»{290}.
Не меньшему, чем театр, осуждению подвергал о. Иоанн и другие проявления светской культуры. В 1867 г. он предвосхитил «Крейцерову сонату» Толстого, обвинив музыку, которая возбуждает мирские мысли и страсти, вместо того чтобы умиротворять, очищать и укреплять душу «в благодати Божией»{291}. Его представление о язычестве не ограничивалось светской культурой. Он отвергал и «народную», или «низовую», нерелигиозную культуру, считая ее греховной{292}. Поскольку сам пастырь оценивал любую сторону своей жизни с христианской точки зрения — будь то прием пищи или то, как он пожелал ближнему спокойной ночи, — он не допускал, чтобы недуховные сферы жизни или деятельности были просто нейтральны с христианской точки зрения. Его собственное мировоззрение было столь всепоглощающе религиозным, что он едва ли мог представить жизнь по иным законам и просто отвергал другие ее трактовки. Либо деяние укрепляло человека в православной вере, либо нет{293}. Пастырь считал справедливым и тот принцип, согласно которому «невинные» развлечения и занятия считались греховными только потому, что лежали вне сферы активной духовной жизни и не способствовали решению самой, точнее, единственно важной задачи — спасению души:
«Согрешил пред Богом: на оленьем бегу вчера был; на горе катальной. — Все у нас богопротивное: и горы, и беги оленьи и лошадиные и музыка при горах: а где занятые спасением души? Где забота о угождении Богу? Душа во гресех погибает, а спасти и никто и не думает. — На что дана нам эта краткая жизнь? Для потех разве?»{294}
Корни последнего утверждения — в неприятии о. Иоанном современного ему общества. В соответствии с тогдашней модой широкое развитие получила индустрия развлечений, посвященная исключительно досугу и увеселению людей — от оперетт до летних садов и каруселей{295}. Неприятие пастырем этой индустрии демонстрирует такие черты его духовности, которые связаны именно со временем и эпохой, в которые он жил.
На первый взгляд его суровость кажется не более чем характерной формой аскетической критики тщеславия и суеты — это важнейшая тема всех христианских проповедей с незапамятных времен. Однако при более пристальном рассмотрении в христианской критике о. Иоанна того периода обнаруживается ее привязка ко времени и месту — это Россия середины XIX в., Кронштадт и Санкт-Петербург. К концу 1860-х годов пастырь пришел к выводу, что Россия переживает особенно недобрые времена, и в доказательство выделил конкретные пороки эпохи. Благодаря сочетанию злободневности с незыблемыми православными истинами проповеди пастыря мощно воздействовали на аудиторию, а сам он стал восприниматься многими русскими как святой, посланный на землю с определенной целью — изменить их жизнь. Прихожане находили в его речах ответ на свои тревоги за разрушение традиционных и незыблемых устоев: он облек эти тревоги в православные рамки, благодаря чему православие стало намного ближе к людям. Он видел причины тогдашнего положения дел в социальных язвах, которые стремился вылечить, и призывал Бога осудить и покарать виновных: «Офицеры кронштадтские на исповедь и к причастию не ходят. Вот плод вольнодумства! Вот плод театров, клубов, обедов, маскарадов! Развращение души! Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли»{296}.
Призыв к Господу воздать тем, кто, по мнению о. Иоанна, был безнравственен, начал звучать с особой силой, когда речь зашла о Льве Толстом и революционерах. Однако еще до обретения всенародной славы пастырь осознавал свою священническую миссию столь широко, что призывал Господа действовать от его имени. Виновны были все разносчики «развращения», а особенно те, кто развращал простых людей. Однако простой народ, если и являл когда-то в давние времена коллективный образец добродетели, теперь был поражен той же болезнью, что и просвещенные сословия. Таким образом, все российское общество становилось более «языческим», а церковные иерархи не ведали об этом. В конце 1860-х годов пастырь писал:
«Современный мир, по научению лукавого, усиливается внести и внес в жизнь народа прежние растленные обычаи, часто языческие… Народ снял с себя узду страха Бога, страха суда будущего, геенны неугасающей, — и предается пьянству, разгульству, а Св. Синод и местные архиереи, мало зная свою паству, ничего не предпринимают против общего зла»{297}.
К концу 1860-х годов о. Иоанн определил, кто виновен в падении нравов, о котором он так сокрушался. Самые страшные преступники — просвещенные люди, они были главным препятствием для воплощения в жизнь его идеального христианского общества. Для человека, получившего религиозное воспитание и столь глубоко погруженного в православие, как о. Иоанн, невежество образованной части его паствы в вопросах веры было позорным явлением. В 1866 г., спустя немногим более десяти лет после принятия сана, он писал о представителях высшего сословия: «(Воспитанники мира)… куклы, статуи бездушные. Смех и горе, как они являются в церковь, особенно к исповеди!»{298} Как бы ни было сильно невежество неграмотного простолюдина в вопросах православия, в нем присутствовало, по мнению батюшки, живое осознание греха, и он не предлагал отличных от православной моделей социального переустройства. Образованные члены общества, напротив, отказывались признать первостепенную роль православия даже формально.
Отпадение образованной части общества от духовной жизни стало темой, которую о. Иоанн начал разрабатывать в конце 1860-х годов. Когда в 1869 г. раздались голоса в защиту нового перевода богослужебных книг, который мог бы сделать их более «доступными» для всей грамотной общественности (нечто подобное он и сам предлагал когда-то), пастыря встревожила предложенная кандидатура переводчика. Он использовал этот случай, чтобы показать разрыв между образованным обществом и Церковью:
«Наша нерелигиозная, атеистическая натура мало имела общего с церковью в своем развитии. Выходя из школы или из семинарии и выступая на общественную деятельность, наши писатели и учители забывали Отче наш и Верую, и окончательно порвали с Церковью. До начала столетия связь кое-как держалась. С 14 декабря она лопнула. Или почти не существует. Откуда же было нам иметь Библейский язык? Кто читал у нас Божественные книги? Кто занимался религиозными вопросами? То, что писалось духовенством, не читалось никем из лучших и из передовых писателей (потому что они передовые, рассмеивали), кроме, разве одного Гоголя (честь ему), как то погиб от своей связи с религией (нет: религия оживляет, а не погубляет)… Вследствие этого отчуждения общества (мнимого) от Церкви, мы не сочли нужным удерживать и полумертвый церковный язык в нашем переводе. Чего же ожидать нам от такого переводчика, как Вадим? Вадим, который сам себя называет атеистом?.. Кто такой Вадим? Самозванец. Бог и не дал ему этих внешних средств. Он сам сознает, что у него под руками не было ни Павского, ни Скормы — переводов с еврейского на русский и даже славянского перевода Библии… и он положился на английский перевод доктора Бепписа, чтеца в Лондонской Синагоге — на Б. — врага христианства?»{299}
Знаменательно, что о. Иоанн отмечает дату восстания декабристов — 14 декабря 1825 г. — как момент отпадения образованной части общества и интеллигенции от Церкви. Несмотря на то что на первый взгляд этот мятеж был в значительной степени политической акцией, проведенной дворянством в военных мундирах, это, прежде всего, был бунт интеллектуалов{300}. Для батюшки восстание декабристов означало не просто стремление к новому политическому порядку, не затрагивающее российские христианские традиции, но и первый шаг просвещенного сословия в сторону от старых устоев, воплощавшихся в самодержавии и православии. Впервые мы видим, как пастырь неосознанно ставит знак равенства между православием и самодержавием; это проявится и позднее, после убийства Александра II в 1881 г. Ощущаемая о. Иоанном пропасть между образованной частью общества и Церковью стала постоянным лейтмотивом всех его трудов, начиная с 1860-х годов. Провозглашая принцип простоты, он был одним из первых церковников, который высказал мысль, что образованное общество не выражает и не может выражать глас народа; только Церковь обладает истинными полномочиями для этого. Данный принцип простоты надолго закрепился в Русской церкви, что имело как положительные, так и отрицательные последствия{301}.
Напряженное отношение о. Иоанна к просвещенной части общества имело и личную подоплеку. Проявляя к себе жесточайшую требовательность в отношении благотворительности, пастырь становился не менее требовательным и к другим. Так и безжалостная борьба пастыря с собственными вспышками сомнения приводила к тому, что он становился нетерпимым к тем, кто отказывался вступить на путь мучительных исканий Бога. Его посещали сомнения, но он осознавал, что должен бороться и преодолевать их. Почему же просвещенные члены общества не делали того же? На протяжении 1860–1870-х гг. он постоянно проводил противопоставление образованных людей всем остальным.
О. Иоанн полагал, что образованные люди страдают от множества пороков, начиная с того, что развивают свой ум в ущерб другим качествам. Неприятие интеллекта, подменяющего нравственность и «целостность», ранее высказывалось многими русскими мыслителями, от издателя и масона XVIII в. Николая Новикова до св. Тихона Задонского{302}. Несмотря на то что о. Иоанн пошел дальше своих предшественников в осуждении «ложного» образования, по сути дела, он только развил существующую традицию. При этом низкое социальное происхождение побудило батюшку добавить акцент, отсутствующий у его родовитых предшественников. Он считал, что образование позволяло привилегированным членам общества занять особое положение. Здесь, как и в случае с настороженным отношением к чувственному наслаждению, он предварил Толстого и идеологов соцреализма — и завоевал сердца социально близких ему обездоленных людей. В наброске проповеди за 1866 год он писал о типичном представителе знатного сословия:
«Как только получает книжное образование, да наденет на себя студенческую тужурку или чиновнический мундир, так и воображает себя, что он стал иной человек, как бы другой природы, чем необразованные грубые простяки, за божество какое-то по сравнению с ними считает себя — но ты такой же окаянный грешник, смертный. Так же женщина в шелковом или бархатном платье с золотом и драгоценностями в отношении бедных»{303}.
Это острое ощущение классового неравенства импонировало многим из тех, кто недавно приехал из деревни и чувствовал себя неловко как в Кронштадте, так и в Санкт-Петербурге, а потому радостно соглашался с неприятием элитарности, декларируемым не только о. Иоанном, но и такими печатными органами, как «Санкт-Петербургские полицейские ведомости». В 1860-х годах, до того как народнические организации начали свою террористическую деятельность, пастырь усматривал главный грех «либералов» в том, что они защищали свои узкие классовые интересы и отказывались трудиться во имя всеобщего блага. Таким образом, получалось, что социальный эгоизм и атеизм — явления одной природы, а виной всему — образование:
«От чего либералы, изуверы, эгоисты, несочувствующие ближним… люди, коих цель — жить для себя, для удовольствия, не для дела? От того, что у них сердца не согреты любовию Богу и ближнему, они отрицают Божие, основы и начала общей святой жизни, правила нравственности. Вот вам и воспитание, студенты! Это за ваше глупое воспитание, господа педагоги!»{304}
Главная идея о. Иоанна — и здесь опять-таки он перекликается с Толстым и радикально настроенной интеллигенцией 1860-х годов — состоит в том, что талант бесполезен, если он не несет духовной пользы народу. Существует единый критерий для всех, и только им имеет смысл руководствоваться{305}. Из-за такого бесхитростного подхода ко всему он, к примеру, не мог смириться с тем одобрением, которое получили «самоубийства» (к которым батюшка приравнивал гибель на дуэли) Пушкина и Лермонтова.
Проблема для пастыря коренилась в несоответствии духовных и светских идеалов. Прежде о. Иоанн верил, что их можно примирить, но к 1890-м годам — по иронии судьбы, именно в то время, когда светская культура начала осваивать духовную ниву — его отношение к светской культуре стало жестко оппозиционным. Особенно его возмущало восторженное отношение общества к «безнравственному» Толстому и Чайковскому:
«Вот кого славит мир — и как славится: просто обожают! Тысячами венцов награждается! Памятники водружают, стоящие сотни тысяч, на которые можно было бы выстроить много благотворительных учреждений? Чего же ожидать от Господа на Суде Его — по смерти никаких светских деятелей, столь беззаконных и не покаявшись Богу, и награждены без числа светскими людьми, подобны им!»{306}
Пастырь пришел к выводу, что предназначение священника в том, чтобы указывать, что способствует духовному росту личности, а что нет. По-прежнему считая возрождение таинств основой духовного обновления, он также полагал, что социальная роль священника в том цельном обществе, которое он рисовал в своем воображении, должна расшириться. Священнику следует брать пример с пророков Израиля и вдохновлять паству страстными речами{307}.
Ключевое слово в понимании пастырем общественной миссии священника — «обличать». Священник не мог закрывать глаза на зло или людские заблуждения — он должен был «обличать нещадно»{308}. Необходимо преодолевать страх перед богатыми и сильными мира сего (слабость, в которой о. Иоанн признавался и сам себе), находить в себе смелость и все равно бороться:
«Священнику надо быть выше этой барской спеси людей благородных и изнеженных и не раболепствовать, не потворствовать этой спеси, не унижаться, не малодушествовать пред лицом сильных мира, но держать себя сановито, степенно, ровно, пастырски — в служении неторопливо, нечеловекоугодливо. Капризы, недовольство, спесь барскую, холодность к делам веры надо обличать»{309}.
Один из примеров такого обличения касается ряженых — о. Иоанн старался показать им, насколько плохо они поступают, и даже преследовал на улицах экипажи самых буйных гуляк{310}. Он занял более агрессивную позицию в своих проповедях и публикуемых трудах. Батюшка чувствовал, что противостояние между ним как священником и самой непокорной частью паствы переросло в войну. Эти непокорные считали (и пастырь осознавал это), что о. Иоанн не имеет права вмешиваться в их жизнь; и тем не менее он продолжал настаивать.
Именно бескомпромиссное и даже где-то агрессивное неприятие пороков тогдашнего общества отличает о. Иоанна от большинства других святых, его ближайших современников. Если назвать только двух самых прославленных, то Серафим Саровский и Тихон Задонский почитались за кротость и мягкость; Оптинские старцы Амвросий и Макарий предпочитали порицать людей косвенно и иносказательно, в форме притч{311}. О. Иоанн, вместо того чтобы сосредоточиться на внутренней духовной жизни или давать совет, только когда к нему обратятся с просьбой, вместо того чтобы видеть миссию священника только в проведении таинств или утешении, был убежден, что священник должен быть воином и стремиться изменить окружающий мир. Здесь, как и в случае с его антиэстетическим утилитаризмом, у него было больше общего с такими мыслителями радикально-социалистического толка, как Добролюбов и Чернышевский (кстати, оба родом из церковных семей), чем с преимущественной частью современного ему православного духовенства.
Оппозиция
Однако все энергичные устремления о. Иоанна натолкнулись на сопротивление. Будучи третьим священником в соборе св. Андрея, он должен был подчиняться не только настоятелю, но и его заместителю. Он мог заниматься благотворительностью, и изредка ему доверяли прочитать проповедь, однако его богослужебные обязанности были строго определены, и возможность проводить учебные занятия для прихожан храма или оказывать им пастырскую помощь на дому ограничивалась как церковным начальством, так и прихожанами, которым не нравилось активное внимание пастыря к их порокам.
Дневники о. Иоанна полны упоминаний о том, что на каждом шагу ему мешала враждебность, которая исходила от петербургского митрополита Исидора и вышестоящих священников. Церковное начальство настороженно относилось к начинаниям пастыря, которые воспринимались как чрезмерное усердие и отклонение от подобающей священнику модели поведения. Его пытались наказать самыми разнообразными способами: и прибегали к пренебрежительным замечаниям, и заставляли его надевать самое старое и запачканное облачение в большие праздники{312}. Однако сопротивление было не чуждо и самому пастырю. Согласно уставу собора св. Андрея, священники должны были складывать все средства, заработанные на не входящих в литургию службах (требах), и делить их поровну. Бо́льшая часть этих служб проводилась о. Иоанном как младшим священником; и затем на его глазах деньги уходили к другим. Уже одно это было неприятно; но позже он обнаружил, что один из священников недодавал часть дохода в общую казну{313}. Лишь о. Иоанн помогал бедным, тогда как другие священники не выказывали подобного сострадания. Пастырь ясно осознавал, что не имеет права осуждать других, однако цветущее буйным цветом неравенство все же продолжало тяготить его:
«Я завистник, ибо завидую своей братии, видя воздавляемые им почести и умноженное внешнее благосостояние, т. е. богатство, умноженное и сохраненное чрез сбережение и не подаяние бедным; досадую, что мне одному приходится расточать всюду собранное малое достояние великими трудами моими; что братия, для которой я много тружусь и богатство которой увеличиваю трудами моими, — не участвуют со мною в милостыне, не облегчают мне и милостыню на нищих, особенно младший иерей, получающий наравне со мною, с крайне малым и ленивым трудом, — и от того часто негодую на вопиющую несоразмерность в воздаянии за труд и в подаянии нищим, коим нет числа; раздражаюсь, озлобляюсь на настоятеля, который накопил многие десятки тысяч рублей и никому не дает, спокойно живет и служит как ни в чем не повинный, как чистый совестию»{314}.
В школе нововведения и религиозное усердие о. Иоанна также натолкнулись на протест начальства. В 1865 г. он жаловался, что директор школы водит учеников в театр, устраивает для них танцы, позволяет им есть скоромное в пост, но не разрешает ему читать в классе душеспасительные книги{315}. Его коллеги тоже не всегда одобряли его. В 1869 г. он пишет о смертельной обиде, которую нанес ему учитель рисования, поприветствовав на собрании педагогического совета всех, кроме него. Это происшествие так сильно его задело, что не выходило у него из головы по меньшей мере два часа, и, лишь взглянув на икону Спасителя, он испытал мгновенное облегчение. Однако даже это не помогло в должной мере: по окончании собрания он попрощался со всеми, кроме злополучного коллеги{316}.
Реакция о. Иоанна на подобные коллизии любопытна. Отношения пастыря к Богу были столь доверительными, что он не сомневался: Господь на его стороне. Подобно тому как позднее пастырь будет молить Всевышнего усмирить Толстого и министра финансов Сергея Витте, точно так же в начале своего священства о. Иоанн призывал Его покарать — или, по крайней мере, вразумить — тех, кто делал его жизнь невыносимой, особенно если они подвергали его публичному унижению. К примеру, когда пьяный купец оскорбил его на людях, сказав, что священники никчемные люди и пальцем не могут пошевелить без благословения митрополита, о. Иоанн молился, чтобы Господь наказал обидчика и научил его не святотатствовать и не оскорблять священнический сан. Он пометил себе, что должен осудить такое поведение на проповеди, начав ее словами: «В одном городе жил богатый купец…»{317}. После другого аналогичного происшествия о. Иоанн писал о той обиде, которую нанес ему директор школы по поводу молитвы, читавшейся учениками перед занятиями. По мнению школьных властей, молитвы только отнимают время от уроков. «Отнимают время! — комментирует о. Иоанн. — Это занимает полминуты, а он иногда по четверть часа болтает в учительской. Боже, обуздай лукавство директора; пусть его гордость обратится в горе. Буди!»{318}
Ощущение пропасти между сознанием праведника и толпы, неизбежное фактически в любой ситуации, было особенно острым в случае с о. Иоанном, ибо он осознанно связывал собственное спасение со спасением своей паствы. На самом деле две ипостаси священника сливались в одну. Его духовный путь был неразрывно связан с духовным развитием его прихожан: уникальность его апостольской, священнической миссии определялась тем, насколько успешно он обращал в свою веру окружающих. Это был скорее симбиоз, чем независимое существование двух ипостасей. И это неудивительно: на литургии, как и в театре, налицо живое, активное взаимодействие между теми, кто служит, и теми, кто стоит и молится. Если батюшка или певчие равнодушны к тому, что делают, мирянам трудно молиться; если же равнодушна паства, то и священнику трудно продолжать службу с должным сосредоточением и рвением. Нередко прихожане помогали о. Иоанну: глядя на них, он чувствовал в себе силы побороть искушения и демонов{319}.
Однако чаще от людей исходила не поддержка, а сопротивление. Одна из основных причин нервозности о. Иоанна, когда он пытался искоренять пороки своих прихожан, — положение священника в тогдашней России. Противоречие между уважением самого пастыря к своему сану и статусом, который священник на деле занимал в российском обществе, проявлялось на каждом шагу. Чаще всего оно возникало в такой повседневной ситуации, как благословение. Согласно православному уставу, священник или епископ должен был поднять руку, перекрестить в знак благословения и завершающим жестом протянуть руку благословляемому мирянину для приложения. Соответственно мирянин должен был склонить голову перед священником или епископом, скрестить руки на груди и затем поцеловать протянутую духовным лицом руку.
Несмотря на то что процедура благословения именно так и выглядела в теории, на практике в XIX в. она стала означать уже нечто совершенно иное. Многие представители высшего общества и интеллигенции, якобы православные, не могли заставить себя целовать руку кому-то, кто, по их мнению, занимал более низкое положение в обществе (или отказывались это делать просто из принципа). Многие священники смирились с таким отношением и старались не давать благословения, если только их особо не попросят, что тонко отобразил Н. С. Лесков в романе «Соборяне»{320}. Напротив, о. Иоанн стремился благословить практически каждого и приходил в ярость, когда встречал отказ. В случаях, когда мирянин не целовал ему руку и буквально оставлял ее висеть в воздухе, пастырь воспринимал это как пренебрежение и знак неуважения к его сану. «Священник должен знать, кому подавать руку, и особенно не подавать ее молодым благородным дамам», — писал он в дневнике за 1867 г.{321} Он был настолько разгневан людским пренебрежением к его благословению, что сочинил молитву-проклятие на церковнославянском языке, в которой заклеймил гордецов{322}.
После подобных выходок прихожан о. Иоанн все чаще испытывал тревожное чувство, что все его надежды на общественное переустройство России рушатся. Его рукоположение пришлось на эпоху Великих реформ, пришедшую вслед за отменой крепостного права в 1861 г. Реформы вкупе с общим демократическим настроем способствовали размыванию социальных границ. В наступившем хаосе становилось менее понятно (но не менее важно), кого признавали уважаемым членом общества, а кем публично пренебрегали. О. Иоанн, который, при всей непрочности своего социального положения, уважал свой сан, плохо воспринимал такие выходки, как, например, оскорбительные слова в свой адрес, которые он услышал на улице от проходящего мимо юнкера{323}. Но особенно невыносимым для него было то, что он часто чувствовал неловкость во время служения в храме. Присутствие генералов, чиновников, богачей и хорошо одетых дам повергало его в трепет. Его ужасало, что он чувствует себя спокойно и уверенно перед простыми людьми, а перед образованными мирянами, не обладающими духовной мудростью, испытывает чувство ложного стыда и страха. Он начинает сомневаться в истине некоторых выражений в молитвах, конфузиться и бояться произнести «слова Господа и слова нашей Матери Церкви»{324}.
Сознание того, что он «предает» Христа и Богоматерь, внутренне съеживаясь из-за присутствия на литургии «архиереев, протоиереев, разных чиновных — светских, военных, школьных — богатых и знаменитых», подавляло о. Иоанна{325}. (Кстати, примечательно, хотя и неудивительно, что высокопоставленное духовенство действовало на него не менее обескураживающе, чем великосветские миряне. Он ни на минуту не забывал, что его отец — дьячок, а не рукоположенный дьякон или священник и что он стоит очень низко в неофициальной иерархии православного духовенства{326}.) Он буквально понял наказ Христа: «Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Марк 8:38). Поэтому батюшка считал свои классовые предрассудки грехом и позором. «Разве не черви все они перед Господом?» — мысленно восклицал о. Иоанн. «О ты маловерный! Вознеси голос свой, особенно когда твое глупое устрашенное сердце велит тебе молчать»{327}. Чувство неполноценности могло принимать и крайние формы, например, когда он полагал, что какой-нибудь генерал, присутствующий на службе, мешает ему воззвать к Святому Духу; или когда в присутствии двух капитанов корабля и лоцмана ему казалось, что некоторые места ектеньи неуместны{328}.
О. Иоанн испытывал глубокий стыд и гнев за то, что при всем осознании дистанции между собой и высокопоставленными членами общества он тем не менее тянулся к ним больше, чем к бедным. Отчасти это связано просто-напросто с тем, что священники могли рассчитывать на материальную помощь от богатых. Кто-то начинал служить в более благоприятных условиях, кто-то получал большее вознаграждение за труды, кому-то могли предложить отличную трапезу и бокал вина после службы. О. Иоанн, как и всякий бедный священник, был весьма подвержен подобным соблазнам, но, по крайней мере, сокрушался об этом. Как он виновато замечал в 1868 г., «когда богатый зовет на крестины или молебен, поспешаешь с удовольствием, особенно если ждешь угощения после совершения требы; когда же бедняк просит крестить своего ребенка в церкви после литургии или отслужить молебен, раздражаешься и сердишься»{329}.
Еще хуже, по мнению о. Иоанна, было желание схитрить и сократить молебен, когда он служил беднякам. Он постоянно напоминал себе, что нужно перебарывать такие желания и, придя в перенаселенное, тесное и грязное жилище бедняка, говорить себе: «Помни, что Господь и ангелы здесь, Бог тебя видит»{330}.
Однако причины этих постыдных чувств и желаний о. Иоанна кроются не только в стремлении к земным благам. Его двойственное отношение к богатым и бедным имело сложную подоплеку и не объяснялось лишь материальными причинами, ибо его социальные мотивации имели более глубокие корни. Несмотря на то что биографы постоянно подчеркивают глубинную связь пастыря с народом, он испытывал отчуждение и двойственные чувства по отношению к беднякам, среди которых вырос, начиная с собственной матери. По манере держаться и одеваться можно было сразу определить, кто перед тобой: «белая кость» или чернь, причем отличие особенно ощущалось на уровне элементарной гигиены — принимал ли человек ванну и как часто, благоухал ли он или источал зловония, были ли у него во рту зубы, их гнилые остатки или вообще ничего. Именно потому, что о. Иоанн вырос в нищете и стремился любыми путями ее избежать, он не мог смириться с тем, что его снова толкают в тот мир, из которого он сбежал: в начале 1870-х годов он содрогался при виде бедных, которые вызывали у него отвращение своим неопрятным видом, грубой речью, манерами, походкой, одеждой{331}.
В 1884 г. он упоминает об ужасном смраде, исходившем от собравшейся на молебен толпы{332}. В то же самое время о. Иоанн относился к богатым и тем, кто имел возможность позаботиться о своем внешнем виде, так же как и к физической красоте, — с почти греховным наслаждением. Он записал для себя, что желание видеть людей привлекательных сродни пристрастию к сладкому{333}. Осознавая, что как христианин он должен относиться ко всем одинаково, он был все же не в состоянии оставаться беспристрастным к людям, которые подходили под благословение, и в душе постоянно предпочитал внешнюю красоту прихожан кротости и смирению бедняков{334}.
Тем более значимо, что о. Иоанн смог преодолеть свои инстинкты. Сочетая неустанную самокритику и молитву, он сумел быть равно радушным для любого мирянина. Его слабости удивления не вызывают, удивительно другое: как тщательно и подробно он их подмечал и как самозабвенно боролся с ними. Для окружающих эти его усилия были сокрыты — они видели только его доброту и щедрость. Несмотря ни на что, его путь к святости знаменовался неослабным вниманием как к нуждам других, так и к собственным изъянам.
Глава 4 РУССКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ В ПИСЬМАХ К ОТЦУ ИОАННУ
За первые двадцать лет служения сформировались особенности духовной практики о. Иоанна, которые пребыли с ним до скончания его дней: жизнь в непрестанной молитве, самоанализ в дневниках, благотворительная помощь нуждающимся и твердая решимость изменить общество с помощью христианских заповедей. Однако сначала известность пастыря еще не была всенародной. Он стал знаменит на всю страну только благодаря усилиям мирян. При всей значимости его литургического служения, главной составляющей его неслыханного успеха стало то, что за ним закрепилась слава священника, молитвы которого действительно помогают людям. В начале 1880-х годов он пересек черту, отделявшую обыденную, земную добродетель от сверхъестественной, мистической, которая, по словам современного ему агиографа, отличала от всех Богом избранного святого{335}. До сего момента мы рассматривали путь о. Иоанна к святости с его точки зрения и с его слов. Теперь мы услышим голоса его прихожан, и его судьба предстанет в равной мере и его собственной судьбой, и историей самых разнообразных воззрений и убеждений, определявших путь других людей к добродетельной и праведной жизни.
Движение к святости
В первые годы после принятия сана о. Иоанн мало отличался от любого другого священника: если его просили отслужить молебен во исцеление болящего, он соглашался, при этом у просящего не было никаких особых ожиданий, выходящих за рамки общепринятого канона. Поворотный момент настал, когда жительница Костромы Параскева Ковригина настояла, чтобы он помолился за исцеление ее друзей. Как батюшка рассказывал в 1904 г. священникам в Сарапуле, сначала он отклонил просьбу:
«Я же все время отказывался, совершенно не считая себя достойным быть особенным посредником между людьми, нуждающимися в помощи Божией, и Богом. Но неотступные просьбы и уверения Параскевы Ивановны в помощи Божией, наконец, победили меня, и я с твердым упованием и надеждой стал обращаться с мольбой к Богу об исцелении болящих и расслабленных душой и телом. Господь слышал мои, хотя и недостойные, молитвы и исполнял их: больные и расслабленные исцелялись. Это меня ободрило и укрепило. Я все чаще и чаще стал обращаться к Богу по просьбе тех или других лиц, и Господь за молитвы наши общие творил и творит доселе многие дивные дела. Много чудес очевидных совершилось и ныне совершается. В этом я вижу указание Божие мне, особое послушание от Бога — молиться за всех, просящих себе от Бога милости»{336}.
Здесь отчетливо видны два момента, которые впоследствии окажут влияние на пастырскую «миссию народного заступника»: во-первых, убежденность о. Иоанна, что Господь не отвергнет ничью молитву; во-вторых, то, что он начал ощущать себя орудием, избранным Богом для молитвенного заступничества. Оба эти фактора определили специфику его молебнов, что, в свою очередь, объясняет, почему люди стали обращаться именно к нему, а не к другим священникам. В других высказываниях о. Иоанна его осознание своей роли в молитве за ближнего становится особенно очевидным:
«Младенцы Павел и Ольга по беспредельному милосердию Владыки и по молитве моего непотребства; исцелились от одержавшего их духа немощи. У Павла-малютки немощь разрешилась сном, малютка-Ольга получила спокойствие духа, и личико из темного сделалось ясным. Девять раз я ходил молиться с дерзновенным упованием, надеясь, что упование не посрамит, что толкущему отверзется, что хоть за неотступность даст мне Владыка просимое; что если неправедный судия удовлетворил, наконец, утруждавшую его женщину, то тем более Судия всех, праведнейший, удовлетворит и мою грешную молитву о невинных детях, что Он призрит на труд мой, на ходьбу мою, на молитвенные слова и коленопреклонения мои, на дерзновение мое, на упование мое. Так и сделал Владыка; не посрамил меня грешника. Прихожу в десятый раз, — младенцы здоровы»{337}.
Именно здесь и заложен фундамент грядущей славы пастыря. Убежденность в том, что молиться за других — его особое призвание, а также то, с каким рвением, с каким подлинным самозабвением он молился, передавались окружающим.
Первое упоминание в дневнике о действенности молитвы относится к 19 февраля 1867 г.: «Господи! Благодарю Тебя, яко по молитве моей, чрез возложение рук моих священнических исцелил еси отрока (Костылева). 19 февр. 1867. О, одобрение, о, утешение для недостойного служителя!»{338} В последующие годы подобные свидетельства Божественной милости возникают все чаще, однако вплоть до конца 1870-х годов они по-прежнему оставались чем-то новым и необычным как для пастыря, так и для тех, по чьей просьбе он молился. Он тщательно записывал все имена в дневник, иногда снабжая их комментариями («Раба Божия Мелитина после молебна, отслуженного мною, сделалась вскоре здорова, как будто кто рукой снял с ней болезнь (ее слова); а она была долго больна. Слава Тебе, Господи!»){339}. Милость Божья не ограничивалась только исцелением. 30 июля 1869 г. он записал: «30.VII. 69. Воззвал я ко Господу с полным упованием о прекращении дождевого ливеня и чрез 5 мин. небо просияло»{340}.
По мере того как разносилась весть о действенной силе молитв о. Иоанна, все больше и больше людей обращались к нему с просьбой помолиться. Первоначально не вставал вопрос о том, насколько чудодейственными были его молитвы, да и для большинства людей это было несущественно. Их интересовал конкретный результат — что выздоровел их ребенок, муж или сестра, а не то, какими причинами объясняется выздоровление — естественными или сверхъестественными. Столь же функционально люди с незапамятных времен подходили к целительным святыням и к таким явлениям, как святые мощи или чудотворные иконы{341}. При этом не делалось особых различий между предметами религиозного поклонения и лекарствами — все они считались лечебными средствами. Никакое из них не являлось абсолютно надежным, одни помогали при конкретных болезнях лучше, чем другие, но все принимались во внимание{342}.
Диалектика взаимоотношений о. Иоанна с паствой особенно ясно видна из писем, которые он получал. Язык этих писем, просьбы, с которыми люди обращались к пастырю, и то, что они рассказывали ему о своей жизни, — все это укрепляло его в мысли, что он посредник, заступник их перед Богом. Однако влияние шло и в другом направлении. Люди не просто взывали к авторитету о. Иоанна; они также использовали его в своих взаимоотношениях с властями, с церковными иерархами и с членами своих семей. Их письма показывают, что его жизнь как пастыря складывалась не только под влиянием его внутренних духовных исканий, но и под влиянием бурной окружающей действительности. Политические волнения, терроризм, наращивание темпов индустриализации — все эти процессы с начала 1880-х годов стали явлением не чисто российским, но приобрели общемировое звучание. Письма — уникальное свидетельство взаимосвязи между святым и средой, в которой он жил. Зададимся простейшим вопросом: как и почему, по убеждению людей, о. Иоанн мог им помочь? И что это говорит нам о религиозном сознании Российской империи конца XIX — начала XX века?
Просьбы об исцелении
В своей известной работе «Древнерусские жития святых как исторический источник» В. О. Ключевский сделал наблюдение, которое определило последующие подходы к агиографии не только в XIX в., но и в советской науке. Он обратил внимание, что исследованные им жития святых в отрыве от своей литературной ценности представляют небольшой интерес для историка. Лишь свидетельства о посмертных чудесах исцеления могут оказаться полезными при изучении истории медицины и здравоохранения{343}. И действительно, если подходить с точки зрения Ключевского, обилие разнообразных болезней, от которых о. Иоанна просили вылечить его прихожане, предоставляет богатый материал о положении дел в тогдашней Российской империи. Люди просили его молиться об исцелении любых больных, шла ли речь о дифтерии, о быстрой утомляемости глаз у чиновника, о глухоте швеи, о неврастении{344}. Однако это все же не главное в письмах, адресованных пастырю.
Существуют и другие, более яркие показатели уровня общественного здравоохранения в Российской империи конца XIX — начала XX в.{345} Письма с просьбами об исцелении, которые получал о. Иоанн, особенно информативны с точки зрения того, какой властью, по их мнению, он обладал. Кроме того, письма позволяют выяснить вопрос, в какой степени люди ощущали тогда связь между грехами и болезнями, телом и душой.
Во-первых (и это наиболее существенно), обращавшиеся к о. Иоанну верили в его способность исцелять. В этом смысле он в точности соответствовал христианскому идеалу святости. Считалось, что дар исцеления присущ святому par excellence, и чудеса исцеления служили одним из наиболее распространенных «доказательств» посмертной святости{346}. В то время как другие праведники того времени, как, например, Оптинские старцы, прославились главным образом своей духовной прозорливостью, особым даром о. Иоанна стало исцеление.
Всенародную славу принесло ему появление в газетах писем благодарных людей, исцеленных его молитвами. Грандиозный объем корреспонденции — одно из самых весомых подтверждений того, что подавляющее большинство людей верили в помощь пастыря. Самая большая группа писем к о. Иоанну (около четырех тысяч) — это просьбы молиться об исцелении{347}. Датированные письма относятся к периоду с 1883 г. (когда в «Новом времени» было опубликовано первое благодарственное письмо) по 1908 г. — год его смерти. Чуть более половины этих писем пришло от женщин, которые, как правило, просили за других, в большинстве случаев за своих родственников; мужчины чаще, чем женщины, сознавались в своих «греховных» болезнях.
Авторы писем сообщали пастырю очень подробную и точную информацию, считая, что он должен знать, за кого молиться и зачем. Они без стеснения излагали самые интимные подробности своего состояния. К примеру, в эпоху, когда любые гинекологические заболевания назывались эвфемизмом «женские болезни», одна женщина писала о своей тринадцатилетней дочери: «Лицо дочери моей Эмилии от золотухи очистилось, но меня беспокоит то, что у нее очень много выходит мокроты носом и низом, хотя ей еще только в мае будет 13 лет и она еще не носит регул». Она знала, что стыдно упоминать о таких деталях, и извинялась за это, однако добавляла, что, по ее мнению, о. Иоанн должен знать как можно больше. Люди включали в описание недуга все подмеченные ими симптомы, потому что они либо не знали, что это за недомогание, либо надеялись, что исчерпывающее описание болезни поможет получить полное излечение {348}.
Наибольший интерес для изучения религиозного сознания представляют те письма, в которых просьба об исцелении была не единственной. Письма показывают, что их авторы, по всей видимости, глубоко впитали церковное учение о неразрывной связи тела и души и, как следствие, о зависимости между заболеванием и совершенными ранее грехами{349}. Так, человек просит о. Иоанна помолиться о прощении его грехов: «За которые меня Господь призвал, посылая мне болезнь моих ног»{350}. Полуграмотная Анна «Аликсиевна» писала 23 ноября 1883 г.:
«Желаю радаватца о Господи Ваша высокая благословенная о. Иоан прошу вашего благословения. Простите меня Бога ради я по своей беспечности мало пекущеся о грехах впала в болезнь сильной ознобой и вся раслабла уже 4 дня лежу очень больная. Помолитеся оба мне грешной штобы мне Господь помок поправитца»{351}.
Большинство людей считало болезнь Божьей карой, особенно те, кто полагал, согласно Церкви и Писанию, что некоторые болезни — расплата за родительские грехи. Например, крестьянин Николай Шенарий писал:
«Господу Богу, за грехи наши, угодно было посетить меня и семейство мое великим испытанием. Уже три года моя 17-летняя дочка страдает ревматизмом, истерикой, не может ходить, не может терпеть никакого шума, ругается. Облегчите нашу горькую тяжесть, даруйте исцеление ей, силу и надежду нам»{352}.
Точно так же осознание связи между болезнью и добродетелью побуждало многих женщин молить о том, чтобы характер мужа изменился, «и также его здоровье»{353}.
Конечно, существует соблазн трактовать такое ощущение связи между грехом и болезнью либо как механическое следование церковному учению, либо как сознательную тактику, цель которой — добиться сочувствия о. Иоанна. Однако представление о связи между грехами и болезнью выражалось в настолько разнообразных формах, что это опровергает предположение об автоматическом воспроизведении обычая. Более того, в некоторых случаях вера в то, что болезни — наказание за грехи, приводила к тому, что люди в благодарность за исцеление обещали измениться к лучшему (хотя мало кто был лишен прагматизма и давал такое обещание заранее, до исцеления). Казак Поликарп Литвинцев раскрыл понятие духовной ответственности человека за болезни:
«Меня и жену постигла одинаковая болезнь… докторы открыли катар желудка, думаю что [по] грехам моим болезнь моя более жестока заразительна для жены… хожу посохом лечусь минеральной водой обращаюсь источнику милости Божией покаянием — помолитесь Батюшка прощении грехов исцелении меня и жены моей Елены, верую надеюсь и обещаюсь исправить жизнь. Казак Поликарп Литвинцев»{354}.
Согласно системе ценностей, которой, по мнению мирянина, придерживался Господь (или о. Иоанн), обещание многое исполнить в знак благодарности за исцеление было своего рода компенсацией Всевышнему. Обычно люди просто твердо обещали исправиться, но некоторые были более конкретны, обещая совершить какие-то поступки, например паломничество. Так, некая Акилина писала в мае 1898 г.:
«Прошу твоего благословения, и научи, что мне с этою болезнию делать. [Если] по твоим молитвам о. Иоанн, Господь меня избавит от болезни, то я даю обещание перед Богом и тобою, сходить с сыном моим Киево-Печерской святыне поклонится Успенью Пресв. Богородице и угодникам Св. Божием»{355}.
Наиболее заметно это ощущение взаимосвязи между телесным и душевным здоровьем проявляется в отношении клятв и проклятий. Одна крестьянка пишет о своей глухонемой семнадцатилетней дочери, которая пребывает в таком состоянии с четырех лет. Когда Пелагия (так звали дочь) стала обзывать мать, та прокляла ее со словами: «Чтоб ты оглохла!» После этого девочка заболела, в результате чего перестала слышать и говорить. Любопытно, что мать не просила о. Иоанна об исцелении Пелагии, хотя и желала его. Она просто хотела получить его совет, как молить Бога об исцелении, ибо осознавала свою ответственность за случившееся. Аналогичным образом, когда сын Екатерины оскорбил ее бранным словом, она прокляла его в ответ — и с тех пор он заболел. Она пишет о. Иоанну:
«Сын Егор раз сильно меня бранным словом оскорбил, т. ч. я не могла перенести, и в порыве гнева обругала его проклятым словом, и с тех пор он у меня стал быть нездоровым. Сознаю, что я согрешила пред Богом етим, прости и помни обо мне и о больном моем сыне Егоре». Это чувство ответственности было свойственно не только простым людям. Одна образованная женщина в своем письме выражала опасение, что проклятия, которые она посылала своим детям, — иногда в гневе, иногда в силу дурной привычки — привели к тому, что они серьезно заболели, и умоляла о. Иоанна снять с нее это бремя{356}.
Еще сильнее, чем связь между проклятием и физическим заболеванием, проявляется связь между проклятием и последующим душевным недугом. И те, кто проклинал, и те, кого проклинали, были убеждены, что неосторожно оброненное в пылу конфликта слово чревато тяжелыми последствиями. Так, в одинаковой степени чувствовали свою вину и женщина, которая в гневе прокляла свою глухонемую дочь со словами «Будь же от меня Анафима проклята!», и мать, которая считала, что могла спровоцировать подавленность и своенравие дочери, сказав ей однажды, когда та ее не слушалась: «Ох, ты не благословенное дитятко!» (дети могли использовать это в дальнейшем против своих родителей: как удрученно добавляет мать, «она это иногда вспоминает»){357}.
Страх перед проклятием не был характерен только для русских или для православных, или же для малограмотных. Высокообразованная католичка в письме к о. Иоанну умоляла его освободить от проклятия, насланного на их семью одной родственницей, которая была когда-то «погублена» ее прадедушкой. Девушка отстояла три мессы, моля Бога о возмездии за свою поруганную невинность, и родственница опасалась, что возмездие может коснуться всей семьи{358}. Короче говоря, для тех, кто толковал проклятие расширительно, оно было элементом общения с духовным миром, будь то искушения демонов или загробная жизнь. Несмотря на то что образованные и малограмотные люди описывают свое противоборство с бесами в несколько различных выражениях, совершенно очевидно, что по своей сути их переживания различались не слишком сильно{359}.
Дефиниции здоровья
Здоровье было весьма расплывчатым понятием для корреспондентов о. Иоанна. Отчасти это объяснялось осознанием сокровенной связи между душой и телом. В письмах крестьян нередко рассказывалось о бедах и болезнях каждого члена семьи. Это демонстрирует как прагматическое желание авторов, чтобы письмо принесло максимальную пользу, так и их уверенность в том, что о. Иоанн сможет помочь почти в любой ситуации:
«Высокочтимый и дорогой батюшка прибегаю к стопам Вашим, призываю Ваши святые молитвы за мое семейство все оно больное. Дочь Агафия страдает припадками. Сын Николай страдает гемороем; занимается он рыболовством; и ему нет удачи, все убытки. Александр, Федор и Аким пьют сильно. Зять Иоанн плохо живет с женою, бьет ее, он ее перепугал и она больна. Надеюсь на милость Божию и Ваши св. Молитвы, что Господь не оставит меня многогрешного успокоит меня и простит меня Царица Небесная»{360}.
В письмах находим примеры того, что поведение, заклейменное как греховное, считалось болезнью, которую необходимо вылечить, — так, мальчики-подростки часто просили помочь в борьбе с мастурбацией. Взрослые просили «исцелить» от прелюбодеяния{361}. Таким образом, корреспонденты о. Иоанна не различали физические, психологические и религиозные пороки; все они были частью единого телесно-душевно-духовного целого.
Особенно отчетливо их представление об этом едином целом проявляется в отношении к психическим болезням, «одержимости» и алкоголизму. Несмотря на то что и в Православной церкви, и в русском языке понятия «духовно» и «душевно», охватывающие мир духовный и более широкий мир чувств и физических переживаний, различались, те, кто писал о. Иоанну, как правило, не проводили столь тонкого разграничения. Для большинства из них психические заболевания были скорее связаны с жизнью души и духа, а не с физическим недугом. По этой причине они чаще всего именно в случае психических, а не физических заболеваний были склонны связывать текущие симптомы с поступками, совершенными ранее.
В этом отношении показательны просьбы об исцелении от алкоголизма. О. Иоанн был одним из наиболее активных участников трезвенного движения в начале XX в.{362} Его широко известные проповеди о вреде алкоголя были перепечатаны большим тиражом, переизданы сразу после его смерти, а затем в 1990-е гг.{363} Поэтому следовало ожидать, что письма к батюшке с просьбами о вразумлении пьяниц составят внушительную часть всей корреспонденции. Тем не менее корреспонденты не всегда связывали его фигуру с исцелением от пьянства; он еще не уподобился святому Вонифатию, который «специализировался» на излечении алкоголиков. Из полученных о. Иоанном писем, связанных с проблемой пьянства, более 90 % поступило от жен или матерей, просящих за своих мужей и сыновей, четыре письма — от детей и только два — от самих алкоголиков. В письмах описывается пагубное поведение пьяниц: разрушение семьи, избивание жен и детей и т. д.
Однако наибольший интерес в данных письмах представляет то, что пьянство (как и другие виды болезней) воспринимается и объясняется в религиозных терминах. Даже когда женщины осознавали практические последствия пристрастия мужа и иногда просили о. Иоанна найти им такую работу, чтобы самостоятельно обеспечивать себя и своих детей, больше всего они беспокоились о душе мужа. Более того, они описывали алкоголизм как пагубную зависимость, «одержимость». Александра Тимофеевна Конашкина высказалась с особенной прямотой в письме от 3 августа 1901 г. Прекрасно отдавая себе отчет, что пьянство мужа приносит каждодневные страдания, она содрогалась при мысли, что он может оказаться слугою «врага»:
«Находясь в несчастном семейном положении прибегаю к вашему покровительству и со слезами припадаю к Вашим стопам смиренная раба Александра Тимоф. Конашкина прося Вашей всесильной молитвы наставления и вразумления моего заблудшего мужа… [который] ужасно пьянствует напившись водки всегда начинает ругаться скверными срамными и матерными словами не стыдясь ни малых своих детей ни жены ни старых людей и даже на своих родных наприм. на сестер и братьев часто ругается скверными матерными словами. Моя же супружеская жизнь самая невыносимая, от пьяного я терплю всегда оскорбления и насилия оскверняя свое супружеское ложе не сознавая ни праздников ни постов не меры не времени. На пути кабаков он никогда не минает, как будто его тянет какая невидимая сила, когда же приезжает домой всегда пускается в брань в скверные песни в пляски работники часто скрываются не ужинавши детишки малые как птицы от хищного коршуна стараются скрыться куда либо в угол и льют слезы видя отцовские беспорядки… Помолитесь за нас грешных дабы нам не погибнуть в бездне греховной чтобы Господь избавил моего мужа от этого яда от врагов и губителей но наипаче всего хоть бы Господь его избавил от наглой смерти, хоть дал ему Бог смерть да с покаянием, так как… напившись водки он часто впадает в какой-то бред выражая нечистые слова вспоминая нечистых духов например: отыдите от меня я вам ничего не должен, а вам только должен за водку да за табак»{364}.
Более разнообразны по содержанию письма, ходатайствующие за тех или написанные теми, кого называют «душевнобольными». Это понятие включало в себя целый спектр поведенческих моделей, от одержимости до простого своенравия, и, по-видимому, применялось всякий раз, когда поведение человека отклонялось от нормы или когда он был сломлен тяжелой ситуацией. В некоторых случаях психическое заболевание было связано с алкоголизмом: по свидетельству родственников, у многих жен психика не выдерживала пьянства мужей, и они превращались в истеричных кликуш. Как для мужчин, так и для женщин одним из главных симптомов душевной болезни являлся страх чего-либо, однако страхи у них часто были разными. Русские женщины, как и француженки той эпохи, чаще боялись духовенства, тогда как мужские страхи в большинстве случаев проявлялись в мыслях о самоубийстве и обычно приписывались проискам дьявола{365}.
Реакция окружающих на душевнобольных также в значительной мере зависела от половой принадлежности последних. В целом окружающие, хотя и опасались мужчин с отклонениями, относились к ним все же терпимо. Однако если душевнобольной объявляли женщину, особенно из средних слоев общества, ее, как правило, помещали в лечебницу, с мужчинами так поступали гораздо реже. Такое неравенство отчасти объяснялось тем, что близкие больше боялись реакции мужчины на попытку изолировать его от общества. Родители душевнобольных сыновей, например, признавались о. Иоанну, что физически боятся выгнать молодых людей из дому, но не меньше того опасаются, что погибнут их души или же что их дети станут бродягами. Они спрашивали совета пастыря, как вести себя с детьми: мягко или жестко{366}. Те же, у кого были дочери, сомневались гораздо меньше. Одна молодая женщина, которую предал жених, была отправлена на три года в санаторий. Другая в 1899 г. в письме о. Иоанну утверждала, что мать ошибочно поместила ее в психиатрическую лечебницу два года назад; она жаждала выйти на волю, опасаясь, что уже потеряла душу за время пребывания здесь. Еще одна женщина была упрятана в лечебницу в Хельсинки за то, что увлекалась спиритизмом (она пишет: «Помогите мне отсюда выбраться; я не сумасшедшая»){367}. Все это подтверждает, что в России XIX — начала XX века, как и в тогдашней Франции, женщины, чье поведение не укладывалось в принятые рамки и могло, по мнению близких, стать позором для семьи, гораздо чаще, чем мужчины, помещались в лечебницы под предлогом депрессивности или истеричности{368}. Примечательно, что, находясь в заточении, они видели в о. Иоанне того, кто сможет их вызволить, — и потому что он обладал большим авторитетом в духовной и светской среде, и потому что они знали о действенной силе его молитвы. Именно в подобных просьбах о вмешательстве и заступничестве пастырь выступает как наделенная полномочиями фигура, используемая людьми в их противостоянии несправедливым властям.
Еще одним симптомом душевной болезни, кроме страха, считалось несоблюдение причастия и непосещение церкви. Это были явные признаки удаленности человека от Бога и от общины. Советские авторы утверждали, что, поскольку панику при виде чаши или при звуках Херувимской песни в народе считали несомненным симптомом одержимости, люди в пограничном состоянии могли бессознательно проявлять эти признаки; трудно сказать, что возникало раньше — симптом или состояние{369}. Православные христиане полагали, что непосещение церкви и игнорирование причастия столь же типичны для сектантов, сколь и для умалишенных. Они распространили данный принцип еще дальше, иногда отождествляя сектантство не только с асоциальным поведением, но и непосредственно с помутнением рассудка{370}. К примеру, родители двадцатитрехлетней женщины, которая приезжала в Саров поклониться мощам преп. Серафима, вспоминали, как к их дочери пристали старообрядцы и попытались отговорить ее креститься тремя пальцами и поклоняться недавно канонизированному святому. Молодая женщина была настолько потрясена, что, по словам ее родителей, лишилась душевного равновесия: спустя три месяца после возвращения она буянила и проявляла другие признаки странного поведения. Родители просили о. Иоанна молиться об отпущении ее грехов (и, как следствие, об ее исцелении){371}. Точно так же и жена человека, который вступил в секту хлыстов, а потом попал в сумасшедший дом, связывала болезнь своего мужа с сектантством. Она просила не об исцелении мужа, а о том, чтобы он ушел из секты хлыстов и вернулся в лоно Православной церкви, очевидно полагая, что, как только связь с сектой будет разорвана, болезнь пройдет сама собой{372}.
С психическим расстройством связывали также и насилие, особенно сексуального характера. Воспринималось тогда это иначе, чем теперь, и обычно обидчика не обвиняли: зло сделано, жертва, возможно, сама его спровоцировала, и теперь ей самой и ее близким предстоит это расхлебывать. К примеру, измученная мать одиннадцатилетней девочки описывала, как ее дочь буквально потеряла голову от страха, когда пятнадцатилетний деревенский парень напал на нее в темноте. В письме от 1902 г. она писала с мрачной решимостью:
«Теперь она проводит день и ночь у меня на коленях и не дает мне отступить на шаг; другим не допускает подойти. Помолитесь, батюшка, хоть бы один конец ей или хоть она притихла и меня отпускала от себя хоть на часик, бывают же в семьях идиоты, я смирюсь с этим и не ропщу на Бога, согласна Батюшка каждый труд нести, но только не так»{373}.
Поражает, с каким стоицизмом люди, оказавшись в тяжелых ситуациях, отказывались переложить вину на кого-то другого. Распространенное в русской деревне снохачество, когда глава семейства мог склонить невестку к физической близости, как правило, не считалось болезнью; вместе с тем это могло стать причиной серьезного душевного расстройства. Примечательно, однако, что согрешившего свекра почти всегда упрекали в последнюю очередь. Так, священник с Кубани описывал ситуацию в семье его прихожан-казаков: сын вернулся домой с военной службы и обнаружил свою жену беременной, а по станице ходили слухи, что она согрешила с его отцом (не наоборот). И родственники, и соседи стали смеяться и издеваться над Стефаном. Он ожесточился, начал уходить по ночам из дому и перестал исповедоваться и причащаться. Далее, рассказывает священник, наступило обострение болезни: Стефан повсюду видел демонов, даже в храме. Священник осмелился предположить, что данное состояние весьма напоминает «беснование». Но что самое удивительное, родители Стефана попросили священника написать о. Иоанну, чтобы тот помолился за их сына, которого им было жаль. Нет и намека на раскаяние отца, нет ни слова сочувствия в адрес молодой жены{374}. То есть люди, писавшие о. Иоанну, считали отказ от исповеди и причастия опасным, асоциальным поведением. Отрыв от православия означал, что с человеком что-то неладно.
Врачи, святые и медицина
Если люди воспринимали болезнь как часть духовного и физического целого, то как же тогда они понимали процесс исцеления? Примеры их различного отношения к медицине и к о. Иоанну весьма поучительны. Когда речь шла об излечении больного, врачи, иконы и святые представляли собой средства одного порядка{375}. Сами врачи (особенно женщины) могли попросить о. Иоанна прийти к умирающим пациентам{376}. Однако в большинстве случаев люди обращались к пастырю, только когда их надежды на медицину рушились. К пастырю приходило множество писем от людей самого разного социального положения, где подробно описывалось, как больной пытался получить медицинскую помощь (более обеспеченные корреспонденты упоминали фамилии специалистов, у которых они консультировались), но тщетно{377}. Так, графиня Муравьева-Амурская просила батюшку помолиться за ее пятилетнего сына: «Умоляю Вас помолитесь за моего маленького 5 лет, сына Ваню, он очень опасно болен и доктора видят его в безнадежном состоянии. Но Бог все может и через Ваши усты он внемлет Вашей молитве»{378}. Другая женщина консультировалась со «знаменитым профессором Павловым» и признавалась в письме пастырю, что ее сыну стало лучше, хотя болезнь окончательно не прошла. Она добавляла при этом: «Я знаю, что ребенок страдает за мои грехи, я не ропщу на Бога, но тяжело видеть страдания ребенка, пусть уж лучше я бы сама страдала… я знаю, что Вашими святыми молитвами он поправится скорее, чем всякими лекарствами»{379}. Сравнение действенной силы молитв и лекарств, а также веру в благодатность паломничества находим в письме Павла Афанасьевского от 1897 г.:
«Сын ахнул головой когда упал 2 сажени в подвале. Мази, лекарства не помогали. Тем временем жене моей подходил последний день для отъезда в монастырь к празднику Успения Пресв. Богородицы. Я как муж ее Павел отпустил ее с Богом и сказал ежели будет хуже то дам знать, и представьте себе Батюшка например сегодня жена уехала а завтра сын встает и у его голова совершенно здорова. Не требуется даже помощь врача, только теперь он выговор имеет не ясный и ученье ему дается с большим трудом. Помолитесь чтоб он имел прилежание и охоту в учении»{380}.
Однако здесь к молитве и Божественной помощи прибегли, лишь когда увидели, что медицина бессильна. А например, когда Аверкий Самохин в письме от 5 мая 1906 г. просил о. Иоанна исцелить его сына, он даже не упоминал о врачах: «Всякие меры мы применяли служили молебны брали с чаши св. воды у трех церквей подносили под вынос с Чашой нет перемена этому невинному мученику»{381}. «Всякие меры» означает здесь «все возможные Божественные средства». То, что автор письма называет своего сына мучеником, — еще одно доказательство религиозного подхода к страданию. Сильнейшее подтверждение веры людей в молитвенный дар о. Иоанна находим в трех телеграммах, в каждой из которых описана схожая ситуация: кто-то только что умер, но нет ни малейших признаков разложения тела. Родственники сообщают о. Иоанну, что похороны отложены в надежде на то, что с помощью молитвы удастся воскресить покойного (по сообщению «Нового времени», такой случай был зафиксирован по меньшей мере один раз){382}.
Пастырь, как и многие его корреспонденты, признавал медицину. Сын писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина вспоминал, как его родители старались раздельно принимать у себя о. Иоанна и знаменитого доктора С. П. Боткина, чтобы не обидеть врача, и были поражены, когда увидели, что они приветствуют друг друга, как старые друзья{383}. Был случай, когда батюшка запретил консультироваться с врачами и ударил кулаком по столику с лекарствами; но чаще всего он не только рекомендовал, к кому из врачей обратиться, но и вызывал своего собственного. Он также соглашался выступить на открытии новых аптек или обществ гомеопатической медицины. По иронии судьбы, в период государственной политики атеизма советские исследователи обернули готовность пастыря советоваться с врачами против него же, называя такое поведение лицемерным для священника{384}. Однако здесь, как и во многих других отношениях, о. Иоанн просто разделял убеждения своей паствы: медицина и молитва сосуществовали в православной космологии тогдашней России, повторяя ситуацию позднеантичного периода{385}. Возможно, поэтому некоторые корреспонденты спрашивали, следует ли им обратиться к врачу, отправиться к святым местам (и если да, то куда именно) или приехать к самому пастырю{386}. Наиболее яркое доказательство веры людей в способности пастыря — то, что многие из них самостоятельно принимали решение отказаться от врачебной помощи. Удивительно, что чаще всего так поступали не малограмотные крестьяне, а образованные обеспеченные горожанки. Так, одна состоятельная женщина пишет:
«Мы так много слышали о вашей всеобщей помощи и решили попросить ваших св. молитв и исцеление, и я написала вам в первый раз в июле месяце, в то время муж уехал в Москву по делам и заодно хотел еще посоветоваться с врачами, но я ему отсоветовала, пот. что послала вам письмо и так надеялась ждала приезда мужа была в полной уверенности увидеть его совершенно здоровым, но в каком я была огорчении когда узнала что он также не слышит. Батюшка! Одна надежда на Бога! Умоляю вас помолиться… буду вам очень, очень благодарна»{387}.
Финальная фраза типична для стиля образованных и обеспеченных людей: они считали выражение благодарности и данью приличию, и признаком внутреннего достоинства. У бедных и менее образованных мирян фразы типа «Буду вам признательна» не были в ходу, и они, как правило, писали о. Иоанну: «Я тоже буду за вас молиться».
В этой фразе масса подтекстов. Во-первых, бедные и необразованные намного глубже, чем богатые, осознавали, что ни одна услуга не бывает бесплатной, и это, безусловно, относится и к помощи священника. Большинство из них стремились внести хотя бы символическую плату. Так, например, бедный крестьянин, который описал свою болезнь и поставил диагноз, что это наказание за молодость, проведенную «в пьянстве, разврате и т. п. пагубных поступках», внес свою «посильную лепту» — один рубль. Однако те, кто не мог дать и этого, обещали хотя бы молиться{388}. Вместе с тем здесь есть и иной, более глубокий подтекст. В глазах подавляющего большинства своих корреспондентов о. Иоанн был не одинокой звездой, указывающей путь к праведной жизни, но частью огромного созвездия православного благочестия, к которому они причисляли и себя. Священник или праведник существовал не в какой-то особой божественной вселенной, недоступной для простых смертных. Возможно, он был ближе к Господу, чем они, но корреспонденты пастыря осознавали, что идут вместе с ним по одному пути — тому самому, который был прежде пройден уже людьми, ставшими признанными святыми. Вот почему они особо упоминали, что будут молиться за о. Иоанна, или заканчивали письма такими фразами, как «Да хранит вас Царица Небесная». Будучи «угодным Богу», он все же оставался смертным человеком, подверженным — возможно, дальше в большей степени, чем они, — вражеским искушениям. Говоря пастырю, что будут за него молиться, люди утверждали свою активную роль на пути к спасению. Они были деятельными участниками, а не публикой, ожидающей от фокусника чуда по мановению волшебной палочки{389}. Итак, о. Иоанна воспринимали, с одной стороны, как самое яркое и живое воплощение православия, но с другой — как его составную часть, и потому столь многие стремились помочь ему в его собственных исканиях. Помимо обещания молиться за него, люди дарили пастырю, словно члену семьи или близкому другу, осязаемые частички благодати. Одна женщина прислала ему освященную просфору и частицу мощей св. епископа Митрофана; другая передала святую воду святителя Феодосия Черниговского и масло великомученицы Варвары{390}. Наконец, люди умоляли его вознести молитвы другим святым — Тихвинской иконе Божьей Матери, и Николаю Чудотворцу, и целителю Пантелеймону и т. д.{391}
Отношение к отцу Иоанну и Божественному вмешательству: кто лечит?
Все сказанное выше заставляет нас задаться вопросом: как люди оценивали роль о. Иоанна в молитве и исцелении? Они демонстрировали здесь поразительное единомыслие, и притом в духе православия. Если их собственные молитвы не приносили результата, это лишь доказывало слабость их молитвы и самой их веры. А пастырь, полагали верующие, имел более прямую связь с Господом, чем простые смертные. К примеру, в 1898 г. баронесса Ливен, моля об исцелении детей сестры от скарлатины, так выразила свое пожелание: «Верю, что Бог всемогущ и что чистая, усердная молитва Ему угодных людей творит чудеса»{392}. Такое представление об иерархии приводило к тому, что в случае успешного исхода благодарственные молитвы возносились прежде всего Богу и лишь затем — о. Иоанну.
Однако как быть с теми случаями, когда даже молитва пастыря, казалось, бессильна? Здесь совместная ответственность святого и того, за кого он молится, проступает с особой силой. Если к болезни привел грех, то и выздоровление столь же непосредственно связано с верой. О. Иоанн любил повторять своей пастве, что каждому воздастся по вере его, и поэтому столь многие корреспонденты особо отмечали в письмах свое благочестивое поведение. Однако один почтовый служащий из Торжка, которому не помог пастырь, писал 17 ноября 1890 г.:
«Батюшка когда я в олтаре после литургии подошел к Вам и стал просить Ваших молитв Вы меня подробно распросили о первой моей поездке к Вам и сказали потому не исцелился что маловерен Батюшка да ведь я бесподобный грешник мирянин и живущий в самом вертепе греховном на почте да и во всю свою жизнь я не имел такого случая который бы утвердил меня в вере. О чем я не просил Господа Бога в своих молитвах никогда не получал желаемого просил св. угодников свщм. Пантелеймона о исцелении меня и тоже не получил до сего время оного просил и других святых угодников и об исцелении меня и о помощи в недостатках и нужде которые совсем меня заели но увы не суждено мне иметь этой радости в жизни… Помолитесь за меня об исцелении а равне прошу утвердить меня и в вере в кот. думаю что утвердится могу исцелением меня это будет факт на всю мою жизнь и кот. разрушил бы все мои еретические мысли. Батюшка сам свящм. Пантелеймон утвердился в вере во Христе тогда когда воскресил мертвого — как же нам-то грешным достигнуть этой благодати если Вы святейший пастырь и живой ходатай за нас грешных не наградит нас…»{393}
Таким образом, признавая у себя недостаток веры, просители о. Иоанна вполне логично полагали, что подтверждением их веры должно стать исполнение их просьбы. Конечно, можно интерпретировать это как манипулирование; однако все же скорее это — стремление достичь желаемого в рамках православного мировоззрения.
Просьбы о посещении
Хотя считалось, что молитвы о. Иоанна помогают и на расстоянии, большинство людей все-таки предпочитали личную встречу. Однако к 1890-м годам количество желающих настолько возросло, что посещать всех становилось все труднее. Более того, батюшка даже нанял штат помощников, которые занимались расписанием его дел и встреч. На практике это означало, что позволить себе напрямую встретиться с пастырем можно было только при наличии средств. В результате, начиная с 1890-х годов, бедняки практически перестают уговаривать о. Иоанна посетить их лично, а титулованные дворяне из окрестностей Санкт-Петербурга забрасывают его подобными просьбами. Более того, письма от представителей знати начинают поступать в большом объеме только после 1894 г., когда о. Иоанна попросили совершить богослужение у постели умирающего Александра III. Это показывает, что большинство высшего дворянства ожидало знака императорского расположения, прежде чем обратиться к пастырю. Однако, единожды обратившись к нему, они становились его преданными приверженцами и составили влиятельную часть паствы.
Едва ли найдется хоть одно именитое аристократическое семейство, которое бы не просило пастыря о визите: Волконские, Гагарины, Шереметевы, Апраксины, Кропоткины, Ланские, Шаховские, Татищевы, Кутузовы, Римские-Корсаковы, Святополк-Мирские, Оболенские, Багратионы, Лобановы-Ростовские, Трубецкие, Муравьевы, Ольденбургские, Тизенгаузены, Куломзины, Черкасские, Толстые, Ухтомские, Орловы, Голицыны, Танеевы и т. д. Характерно, что представители знати большое значение придавали своим чувствам. В отличие от корреспондентов более низкого происхождения, которые, обращаясь к о. Иоанну, очевидно, испытывали некоторую робость и были предельно лаконичны, титулованные дворяне нередко упоминали о своих чувствах даже в коротких телеграммах — так, например, в 1895 г. князь Барятинский закончил свою телеграмму следующими словами: «Ради Бога, поезжайте, мы все в отчаянии!»{394} Даже находясь в крайне тяжелой ситуации, они придавали большое значение своим чувствам и полагали, что их чувства не менее значимы и для о. Иоанна.
Члены царской семьи также писали о. Иоанну. Николай II послал телеграмму, в которой выражал радость по поводу выздоровления пастыря. Александра Федоровна просила его благословить три иконы, а вдовствующая императрица Мария Федоровна благодарила его за молитвы и благословение ее на работу с глухонемыми. О. Иоанна приглашали также служить на венчании и коронации Николая II и на крестинах нескольких его детей{395}. В связи с этим кажется странным, что император и императрица словно бы никогда и не рассматривали возможность пригласить батюшку ко двору, чтобы он помолился за здоровье царевича Алексея, после того как с их наследником случился первый приступ гемофилического кровотечения в 1904 г. Они консультировались с кем угодно, начиная с французских шарлатанов и кончая Распутиным; почему-то при этом пренебрегая истинным православным целителем, который находился совсем рядом{396}.
Это недоразумение особенно бросается в глаза в свете того, что на Западе широкое распространение — и совершенно необоснованно — получила версия о том, что именно о. Иоанн избрал Распутина своим собственным преемником и даже представил его императорской семье в 1903 г.{397} Тиражируя распространенное заблуждение, что на самом деле духовником царской семьи был о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский), а не протопресвитер Иоанн Янышев, западные исследователи позднейшей эпохи рисуют невероятную картину. Будто однажды о. Иоанн, взяв потир и произнеся «Со страхом Божиим и верою приступите», вдруг остановил службу, вывел из толпы оборванного Распутина и попросил подойти. Он якобы не только благословил Распутина, но и попросил его благословения в ответ{398}. Затем пастырь «посоветовал императрице поговорить с благочестивым крестьянином»{399}. Столь же фантастично звучат гипотезы, что о. Иоанн предупредил Распутина о том, что его фамилия («распутный») предопределит его судьбу или что о. Иоанн также познакомил императорскую семью с французским «врачом» Низье Антельмом Филиппом{400}.
Безусловно, данные гипотезы не основываются на серьезных научных исследованиях. Тем не менее многие продолжают воспринимать о. Иоанна через их призму. Здесь возникает сразу несколько вопросов: был ли батюшка близок к императорской семье? Общался ли он с Распутиным? Если нет, то когда и почему возник этот миф?
Во-первых, о. Иоанн не был особенно близок к императорской семье. Он относился к ней с почтением, и приглашение помолиться у постели умирающего Александра III было одним из важнейших событий в его жизни, но это была его единственная встреча с членами императорской фамилии. Учитывая его внимание к рангам и почестям и склонность подмечать мельчайшие подробности контактов с царствующим домом, не приходится сомневаться, что он упомянул бы о любом подобном эпизоде в дневниках или письмах. Самые яркие личные встречи, описанные пастырем, — преподнесение императором Николаем в дар Сурскому монастырю рощи в 300 десятин и его звонок в Дом Трудолюбия с целью осведомиться о здоровье о. Иоанна{401}. Пастырь слишком хорошо знал свое место. Для него было бы немыслимо мимоходом предложить императрице поговорить с каким-то крестьянином.
Почти столь же невероятна история о том, что он якобы благословил Распутина. О. Иоанн, который служил литургию в состоянии экзальтации, с мыслью о единении с Богом, не мог остановить таинство ради кого бы то ни было (яркий тому пример: однажды батюшка не остановил причащения даже после того, как одна из прихожанок была задавлена насмерть нетерпеливой толпой){402}. Более того, высокая роль, которую он всегда отводил своему священническому сану, противоречит предположению, что пастырь якобы мог попросить благословения у нецерковного лица{403}. Даже если на минуту допустить, что он предпринял столь странный шаг, это непременно нашло бы отражение в его дневниках; а подобные упоминания там отсутствуют. Наконец — и это наиболее существенный аргумент — в других источниках также нет никаких подтверждений данной гипотезы по той простой причине, что ни один современник в это не поверил бы. Наиболее достоверное свидетельство восхождения Распутина к вершинам славы принадлежит его собственному секретарю, Арону Симановичу, который, как и сам Николай II, отрицает, что о. Иоанн сыграл в этом какую-либо роль. Симанович утверждает, что Распутина познакомили с царицей черногорские княжны Милица и Анастасия, хотя другие современники называют либо епископа Феофана, либо графиню Игнатьеву{404}.
Откуда же в таком случае взялось убеждение, что именно о. Иоанн представил Распутина царской семье? Западным исследователям было непонятно, каким образом Распутин мог бы добиться признания двора в одиночку, без протекции или без помощи влиятельных религиозных иерархов. А поскольку о. Иоанн был одновременно и официальной, и самобытной фигурой, и чисто гипотетически годился на такую роль, и поскольку его часто путали с о. Иоанном Янышевым, позднейшие исследователи могли с достаточным основанием счесть его подходящей кандидатурой. Еще более несуразным является содержащийся в этой версии скрытый намек на то, что о. Иоанн по тем или иным причинам передал свою миссию «духовного отца России» Распутину.
Однако поставим вопрос иначе. Почему, столкнувшись сперва с проблемой отсутствия наследника, а затем — с гемофилией единственного сына, Николай и Александра не обратились за помощью к православному священнику, прославившемуся своим даром исцеления, — о. Иоанну Кронштадтскому? Аргументы, объясняющие, почему то или иное событие НЕ произошло, никогда не имеют под собой достаточных оснований, однако некоторые предположения все же можно выдвинуть. Первое и самое вероятное из них: в тот единственный раз, когда царская семья обратилась за помощью к о. Иоанну в 1894 г., его молитвы об исцелении не помогли, и Александр III скончался. Императорская семья, в свою очередь, могла рассудить, если батюшка потерпел неудачу однажды, это может случиться и вновь. Еще одно объяснение — эклектичный характер религиозности императрицы Александры. По какой-то причине императрица, по-видимому, испытывала слабость не к столпам православия, а к блаженным, юродивым, спиритам и «психо-физиологам»{405}. Как бы то ни было, из-за того ли, что о. Иоанн не излечил Александра III, или из-за того, что он был слишком традиционен, ни Николай, ни Александра не прибегали к его помощи. Лишь сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, проявила к нему нечто большее, чем светскую любезность. Именно она порекомендовала Николаю II попросить совета о. Иоанна, когда император сватался к Александре, и от ее имени Надежда Арсеньева в октябре 1907 г. писала: «Глубокопочитаемый, дорогой Батюшка, вел. княгиня Елисавета Феодоровна очень благодарит Вас за просфоры, которые Вы ей прислали, Она Вас так любит, так почитает и так дорожит Вашими молитвами, что ей было очень отрадно и радостно знать, что Вы молитесь за нее и об упокоении души ее мужа Вел. Князя Сергия Александровича»{406}.
Просьбы о материальной помощи
Вслед за просьбами об исцелении идут письма с просьбами о материальной помощи, образующие еще одну внушительную категорию в корреспонденции пастыря. У него просили все, что угодно: приданое для дочери, деньги на обратный билет или просто на еду. Письма демонстрируют, что тяжелая или затяжная болезнь кого-то из членов семьи могла обернуться для этой семьи полным крахом. Поэтому те, кто просил об исцелении, иногда просили и денег, особенно если речь шла о семьях с маленькими детьми, в которых был болен кормилец. В подобных ситуациях о. Иоанн, видимо, зачастую был для них единственной надеждой. Почти в каждом письме звучало: «Вы единственный, к кому я могу обратиться» или «Вы единственный добрый человек во всем свете». И это не просто вежливые фразы. Один полицейский чиновник писал:
«Из-за болезней жены и матери, я 7 тысяч в долгу. Все заложено, включая одежду, нижнее белье, шинель, сапоги, так что я даже не могу идти на работу, а должен притворяться больным. Родственники и друзья давно перестали нам помогать — они думают, что никогда своего обратно не получат. Если вы мне не поможете, никто другой на свете не найдется. Попросите кого-то из ваших поклонников покрыть хотя бы половину долга (3 тысячи) — спаси меня я совсем погибаю. Даже не могу позволить себе купить хлеб»{407}.
Какого бы рода помощи ни ждали от о. Иоанна, предполагалось, что он выполнит роль щедрого и разумного родителя — и вместе с тем классического святого покровителя, восстанавливающего справедливость и порядок как в мироздании, так и в обществе. Особую категорию корреспондентов пастыря составляют образованные дамы. Их отличает раздраженная и властная интонация. В общем-то все обратившиеся к батюшке считали, что Бог принимает деятельное участие в их жизни, однако образованные женщины воспринимали его более личностно, особенно когда чувствовали, что их надежды не оправдались. Выглядело это так, что они словно бы выполнили свою часть сделки и испытывали возмущение от того, что Господь не отвечает им тем же. Такую тенденцию отмечали и иерархи того времени{408}. В этом отношении образованные женщины отличались как от образованных мужчин, так и от необразованных женщин, которые даже в минуты крайнего отчаяния были далеки от мысли, что Господь им что-то должен. Более того, образованные женщины не стеснялись чуть ли не манипулировать святым. Вся их утонченность улетучивалась без следа, когда они пытались сыграть на самолюбии пастыря, намекая, что нет лучшего доказательства Божьего (и его) могущества, чем исполнение их желаний. Обращает на себя внимание обилие конструкций «если — то» и почти комическое несоответствие между упоминаниями святынь и конкретной целью в письме от января 1891 г.:
«Если Ты добрый отец близок к Богу и Всевышний Тебе доступен — Ты должен — Твое сердце должно чувствовать сострадание ко мне. Сколько слез, сколько мучений сердца пришлось на несчастную долю мою. О, Господи, довольно уже! Иначе Господь жесток, а не Милосерд. Молилась я ему, молилась до беспамятства, но Он не слушает меня. Отче Святый! Молитвы Твои слышит Господь и исполняет Их. Умоляю Тебя Царицею Небесной Всеми Святыми Господом Иисусом Христом Спасителем Нашим, заклинаю Тебя Силою и Властию Животворящего Креста, Непостижимою Святостию Тела и Крови Господней, заклинаю Тебя Св. Символом Веры и умоляю помолись обо мне, да услышит Господь и исполнит малое и скромное желание мое, имею я единственный билет — пусть выиграет он, это даст мне возможность быть дальше от дрязги и гадостей людских, более чем десятую часть отдам я в распоряжение Твое достойный Отец. Если Господь и Его непостижимые Тайны существуют, если молитвы Твои действительны, исполнится желание и просьба моя, и тем укрепится вера в душе моей, и прославлю я Имя Господа и Твое отец духовный… Еще раз умоляю и из глубины сердца заклинаю Св. Дарами Причастия помолись искренно о просьбе моей, столь возможной для Господа, пусть покажет Он Милосердый Свое Могущество и Чудо и Силу и Мощность угодной Ему молитвы Праведного»{409}.
Эта просительница не знала, что о. Иоанн питал отвращение к азартным играм. Но она, по крайней мере, старалась выглядеть благочестивой. Другие же намекали, что дошли в своем отчаянии до предела и теряют всякую связь с православием. Возможно, они считали, что, угрожая потерей души, они могут вынудить о. Иоанна более внимательно отнестись к своей просьбе. Так, одна корреспондентка сознательно пишет слово «Бог» с маленькой буквы, кроме тех случаев, когда она вспоминает свою прежнюю религиозность:
«Вы посланы богом нам скорбящим, послушайте меня и мое горе: попросите бога за меня, чтобы он помог бы мне. Я так много пережила и переживаю, что терпение приходит к концу… Люди отняли у меня все мое состояние после целого ряда страданий. Все что у меня осталось это один выигрышный билет дворянский и 3000 долга чести… Вы можете попросить бога за меня. Он для Вас сделает… Вы сами говорите: что попросите у Бога, только верь, на молитве, то и будет тебе… Я страшно молилась до исступления, до боли… Я молясь верила, что Бог есть и слышит меня… то были только одни думы. Нет мне радости… а смотришь по сторонам на людей они живут и радуются… Разве грех желать радости и жизни той из какого круга вышел человек? Я не говела 3 года будет скоро и никак не могу. Если буду счастлива тогда только пойду в церковь»{410}.
Частые отсылки к лотерейным билетам как решению денежных затруднений свидетельствуют о чем-то большем, чем о популярности лотерей на закате Российской империи{411}. Они представляют интерес с точки зрения изучения религиозного сознания, в котором соединялось отчаяние и праведные порывы. Если деньги были нужны для чего-то, что о. Иоанн не одобрял (например, для оплаты долга за проигрыш в азартной игре), то человеку казалось более уместным попросить его помолиться за выигрышный номер, чем попросить денег напрямую. Получалось бы, что он помогал просящему, не неся при этом финансовых затрат{412}.
Те дамы из высшего общества, у которых были дети, достигали гораздо большего успеха, когда подчеркивали не только свое унизительное положение, но и свое материнство, взывая о помощи от имени всей семьи. Характерно, что за своих детей просили все матери, независимо от социального статуса, но только представительницы высшего сословия рассматривали материнство как особую привилегию. Они все делали как должно — выполняли обязанности, налагаемые на них семьей и обществом, и вели себя в духе христианской покорности, так что теперь они чувствовали, что имеют моральное право рассчитывать на помощь. Так, княгиня Шаховская писала:
«Вы не раз служили молебны у нас, но тогда я была богата. И всякий раз, когда Вы у нас служили, нам Бог даровал счастья! Но теперь все переменилось. Умер мой муж, оставляя меня с 3-мя сыновьями без копейки.
Вам хорошо известен мой брат князь Урусов. Вы бывали у него в Москве. Теперь я прошу на коленях, как мать своих детей. Имеете ли понятие о том, как дети воспитанные в роскоши просят: Мама, дай хлеба! Теперь у нас все заложено, взять негде; и вот причина, что я обращаюсь и прошу Вас, во имя дорогой матушки, не откажите и помогите нам. Для Вас какие-нибудь полтораста рублей не составляют расчета, для меня они — вопрос жизни или смерти. Если эта сумма почему-то покажется слишком велика, то помогите столько, сколько найдете возможным.
P.S. Надеюсь, что Ваше сердце отзовется на мое безвыходное положение. Я несу страшный крест, но как добрая христианка несу его, и не имею права передать его своим детям. Вы — первый человек, к которому я обращаюсь. Вы поймете меня и Ваше отзывчивое сердце скажет Вам, добрый батюшка, свое слово за меня»{413}.
Подобные письма, авторы которых настойчиво подчеркивали, что живут в русле традиционных представлений о христианской женской добродетели, и льстили о. Иоанну в доверительных тонах, имели отклик. То ли из-за своей тяги к знатности и красоте, то ли просто из жалости, но пастырь отвечал незамедлительно. Это подтверждается другим письмом с траурной каймой, которое он получил от княгини Оболенской почти сразу после письма Шаховской:
«Вы наша Святыня, Ваши молитвы достигают Всевышнего. Я только что похоронила моего брата Бориса (кн. Голицына), и это так повлияло на здоровье моего дорогого мальчика что он заболел нервным расстройством. Он все что я имею. Его надо срочно везти за границу. Я совсем недавно похоронила своего мужа, а когда еще выдадут пенсию… Что мать не сделает для своего ребенка, и вот я прошу Вас ради сына, не откажите мне… Я прошу у Вас 225 р., если же Вам это трудно, то поможете сколько можете. Вы дорогой Батюшка недавно помогли моей двоюродной сестре, кн. Вере Шаховской, и я прошу Вас отнестись к моей просьбе так же благосклонно, как отнеслись к ее… Ваш приговор будет приговором Всевышнего»{414}.
Таким образом, даже в тех случаях, когда интерес просителей был чисто материальным, они не рассматривали молитвенное предстательство о. Иоанна в качестве своеобразной личной собственности. Напротив, они охотно делились друг с другом информацией о благодеяниях пастыря.
Еще одна группа просителей, считавших, что они имеют право обращаться за помощью, — те, у кого начинает развиваться классовое рабочее сознание. Они не просто жалуются на нищету и молят о помощи, но и описывают объективные причины своего состояния. В письме, которое написал один рабочий в 1903 г., он обращается к о. Иоанну не только от своего имени, но и от имени всех, получивших травмы на рабочем месте. Характерна параллель, проводимая между Евангелием, с одной стороны, и тред-юнионизмом и социальной справедливостью — с другой. Автор письма, как и многие другие, связывает о. Иоанна с царем:
«Неужели Батюшка Царь, и все законы и правители, смогли забыть этих несчастных лиц!.. Оскорбленные увеченные подают прошение суду за возмещение за свои увечения, а что получается? Хозяева и правление используют все возможные способы — врачей, подкупление свидетелей — чтоб доказать, что раненое лицо само виновато. Или они тянут дело два, три года и потом не находят достаточного повода… Увеченный страдалец не сможет содержать своего семейства и данных ему детей по Закону Божию, так что вся его семья портится… они забывают свящ. Писания Господа Нашего Иисуса Христа, ради труд которого люди шли Его слушать и он их награждал… Я уже прибегал Его Превосходительству Господину Прокуратору и обращался окружному суду, кот. вело производство не по закону, но никто не обращал внимания. Также обращался Вел. Кн. Сергею Александровичу, но все остается как было… Все вышеуказанное мною показывает, что там правда, где Батюшка Царь лично, а где нет его, то там правду повышают ею финансы, заменяющие правду. Прошу передайте это прошение Батюшке нашему Царю, потому более мер никаких нет. Если и Вы не обратите внимание, добрый Пастырь, то постараюсь обратится Царю лично»{415}.
Для подобных людей и царь, и о. Иоанн были последними оплотами нравственности, не «запятнанными» службой в бюрократическом аппарате, стоящими над социальной иерархией. По их мнению, оба они были способны восстановить справедливость на небе и на земле. Тем, кто искал помощи о. Иоанна, своей способностью перешагнуть через общепринятые рамки властных отношений он напоминал царя. Ассоциация с царем возникала и на других уровнях, в том числе в городских легендах и в политических представлениях. Так, монархически настроенные современники считали, что люди помещали портрет о. Иоанна рядом с императорским, потому что «он, будучи всероссийским пастырем, молитвенником и щитом православной веры, такою своею деятельностью сближался с подвигами Помазанника Божия Всероссийского Императора»{416}. Итак, сходство между императором и приходским священником отражалось как в харизматическом даре, так и в реальной власти.
Заступничество и ходатайство
Отношение людей к о. Иоанну с особой силой проявлялось в сфере заступничества — качества, приписываемого святым начиная с Девы Марии. Такие фразы, как «Заступнице усердная» и «Тя ходатайствующую», красной нитью проходят через молитвы и песнопения Православной церкви. Однако у о. Иоанна было то преимущество перед канонизированными святыми, что он был жив, а значит, мог внимать просьбам непосредственно. В соответствии со своим священническим саном, он получал просьбы о заступничестве перед представителями власти как небесной, так и земной. В этом смысле пастыря связывали с царем из практических соображений: люди не просто верили, что батюшка был как царь, но что он сможет ходатайствовать за них перед царем. Люди спрашивали его совета в тех случаях, когда были уверены, что только царь сможет подняться над церковной иерархией. Например, его просили ходатайствовать перед Николаем II, чтобы тот разрешил смешанный православно-католический брак, который в противном случае признали бы незаконным. Люди, чью семейную икону присвоил архиерей, хотели заручиться благословением о. Иоанна на то, чтобы попасть на прием к императору, если им снова откажут, и так далее{417}.
Однако большая часть просьб о заступничестве связана с денежными проблемами. Чаще всего просили устроить на работу. Поскольку Кронштадт находился недалеко от Санкт-Петербурга, многие из тех, кто приезжал из провинции в поисках работы и стремился попасть в столицу, описывали, как обивали пороги различных учреждений в тщетных попытках получить работу, и умоляли пастыря обратиться к какому-либо высокопоставленному лицу, повторяя: «только одно ваше слово, и N. даст мне место»{418}. В их глазах о. Иоанн был покровителем во всех смыслах этого слова. Помимо представителей духовенства, добивающихся получения должности или повышения пенсии (а это значительная группа), большинство составляли рабочие, чиновники и моряки из столичного округа.
Их настойчивость вполне объяснима, так как ходатайство о. Иоанна могло принести желаемые плоды. К примеру, 8 января 1904 г. он получил письмо от Николая Сперанского, главного военного медицинского инспектора, в котором тот писал, что его просьба удовлетворена и что старшего врача 2-го Кронштадтского пехотного полка доктора Соболевского повысили в должности, назначив старшим врачом кавалерийского полка Ее Императорского Величества Марии Федоровны в Санкт-Петербурге{419}. Когда же ходатайство о. Иоанна оканчивалось неудачей, как, например, в 1905 г., когда его уведомили, что помощник бухгалтера в Кронштадтском порту не может быть переведен на ту должность в Адмиралтействе, которую он просил, поскольку она уже обещана другому, представитель властей (в данном случае начальник Главного военно-морского штаба) прислал ему личное письмо с объяснениями{420}.
Покровительство не сводилось к тому, что батюшка стучался в двери всех сильных мира сего. Процесс был обоюдным, ибо каждая сторона осознавала, что другая сторона может однажды также оказать ей ответную услугу. Поскольку о. Иоанн регулярно ходатайствовал за других людей перед военными, Церковью и правительством, те, в свою очередь, также обращались к нему за помощью. Например, Владимир Саблер, позднее обер-прокурор Святейшего Синода, связался с пастырем в 1904 г. и попросил его дать должность в монастыре женщине, которая была отличным бухгалтерским работником{421}. Таким образом, пастырь, с одной стороны, воплощал идеал молитвенного рвения, с другой — являлся элементом властной петербургской структуры.
Однако не все авторы писем с просьбой о заступничестве просили о чем-то материальном или о том, что требовало от пастыря каких-то иных действий, кроме молитвы. Это важно, ибо демонстрирует, что люди, которые писали ему, интересовались не только конкретной помощью, которую он может предоставить, но ценили также его духовное благословение. Присущее его корреспондентам сочетание практичности и религиозности показывает, что для многих о. Иоанн не был только великодушным покровителем либо только человеком, обладавшим даром молитвы; он воплощал для них и то и другое. В мировоззрении его корреспондентов не было четкого и абсолютного разделения материального и духовного аспектов. Анализ писем предпринимателей к о. Иоанну показывает, что они ясно осознавали и материальные, и духовные стороны своей деятельности. Павел Барсков, который вместе с женой Елизаветой владел семейной фруктовой лавочкой на Моховой улице Санкт-Петербурга, писал: «Дорогой Батюшка осмеливаемся беспокоить Вас многогрешные Павел и Елисавета помолитесь перед престолом Всевышнего Создателя о нас окаянных и скверных т. к. я имею лавку и права торговли имею на себя а товар мне покупает дядя, а т. к. я средств никаких совсем не имея для того чтобы мог покупать товар сам по етому мы должны переплачивать дороже…» Однако Барсковы не развивают эту тему дальше; они даже не просят о. Иоанна, чтобы тот упрекнул строптивого дядюшку. Напротив, они продолжают так:
«Дорогой батюшка помолитесь об нас грешных окаянных скверных и недостойных Павле и Елисавете да поможет нам и устроит нас Господь Бог Своим всеведущим св. промыслом но не так как мы сочтем, а как угодно будет Ему Всевышнему Создателю Господу нашему Иисусу Христу. И да утвердит нас Своею благодатию и поможет нам грешным быть твердыми и не поколебимыми во всех делах угодных Ему единому Спасителю Нашу Господу Иисусу Христу да ислиет свою благодать на наши торговые дела»{422}.
Конечно, не исключено и то, что чета Барсковых рассчитывала и на нечто большее. Возможно, они полагали, что о. Иоанн будет настолько растроган их стремлением принять Божью волю, что скорее станет молиться за них, нежели за кого-то, кто вообще не принимал ее во внимание. Однако финал письма, в котором они молят о снисхождении на их деятельность Божественной благодати, не характерен для большинства писем и свидетельствует, по меньшей мере, об определенной искренности.
Духовное значение молитвы о. Иоанна в особенности очевидно в тех случаях, когда люди обращались к нему, уже предприняв все сугубо практические шаги для достижения цели. Например, в 1901 г. Август Брилинский, лесной надсмотрщик, рассказал, что у его жены роман с крестным отцом их младшей дочери. Чтобы помочь Брилинскому разлучить жену с любовником, императрица ходатайствовала о его переводе на работу в Киев, и директор, B. C. Кочубей, обещал содействие. Какова же в данном случае была роль о. Иоанна? Молиться, чтобы перевод произошел как можно скорее, потому что Брилинский чувствовал, что для всех, а особенно для детей, необходимо как можно скорее выйти из этой ситуации{423}. Таким образом, даже в тех случаях, когда от о. Иоанна не ожидали практической помощи человеку, к нему обращались, чтобы произошло духовное освящение происходящего.
Иными словами, к пастырю тянулись те, кто осмыслял свою жизнь через православную веру, а таких в Российской империи было немало. Они стремились получить как материальную, так и духовную помощь, что особенно наглядно проявлялось, когда его просили ходатайствовать в судебных делах. В большинстве случаев просители утверждали, что их друзей обвинили несправедливо. Принимая во внимание, что по устоявшейся традиции важнейшая роль святого — восстанавливать справедливость, искоренять пороки и быть своего рода «заступником обездоленных», подобные просьбы свидетельствуют, что для тех, кто обращался к о. Иоанну, он стал святым уже при жизни{424}. Так, семья полковника Безбрыжого из Варшавы рассказала, как его ударил по лицу пьяный офицер, вернувшийся с пикника. Полковник дал сдачи, за что был приговорен к восьми годам каторжных работ на Сахалине. Безбрыжому оставалось служить всего один месяц, и он снискал любовь сослуживцев и командования; даже многие офицеры, знавшие о происшествии, были на его стороне. Хотя суд и последовал букве закона, о. Иоанн, как считал проситель, мог убедить императора проявить милосердие{425}.
Статус батюшки как святого заступника «маленьких людей» был актуален и за пределами православной общины. Католики, иудеи и мусульмане, жившие на территории Российской империи, также обращались к нему за помощью. Так, в феврале 1898 г. он получил прошение от Магомета Рахима Абдраимова и Ахмета Амирова, которые упоминали, что слышали от многих, как его молитвы могут спасти от несправедливого обвинения:
«Слыша от масса народа о молитв Вашего преподобия, которая в минуты несправедливого обвинения или во время постигшего несчастия избавляет от всяких бед и напастей, по этому мы с умиленным сердцем и не скрывая перед Вашим преподобием факта происшествия, как бы пред самим Богом сказываем сущую правду. 10 июня 1897 г. несколько Киргиз напали на наш табун, украли лошади, бараны. Убили нашего товарища Усендбая Харанбаева… Нас обвинили в его убийстве… и приговорили к восьми годам. Мы писали жалобы в Сенат, но бесполезно… Пожалуйста, помолитесь за нас перед Всемогущим Судией который видит нашу невиновность. Ваша святая молитва освободит нас от незаслуженного наказания»{426}.
Естественность подобной просьбы отчасти объясняется тем, что мусульмане почитают Пресвятую Богородицу или, например, Св. Георгия Победоносца. Однако сам факт приведенного обращения к о. Иоанну показывает, что он уже стал «межконфессиональным» ходатаем и пересек границы между различными вероисповеданиями, оставаясь при этом православным. В самом деле, если вспомнить позднейшие обвинения пастыря в обскурантизме, стоит иметь в виду, что при жизни он не был таковым в глазах многочисленных представителей иных конфессий; они считали его беспристрастным духовным авторитетом. Из их писем явствует, что его уникальная харизма ценилась намного больше, чем сан православного священника. Так, Николай Шаншиев объяснял, что родился и крестился в армянскую (монофизитскую) веру, но не знал армянского и с детства ходил в Русскую (православную) церковь. Теперь он спрашивал совета о. Иоанна, не совершит ли он вероотступничество, если откажется от веры своих предков: «Откровенно Вам скажу, к другому я бы не так смело обратился с такою просьбой, но вы прежде всего убежденный, искренний последователь Божественного Христа, а затем уже православный священник. Я глубоко и искренно верю, что для Вас дороже спасти и наставить колеб. душу, чем исполнить миссионера обязанность»{427}.
Готфрид фон Дорн, восемнадцатилетний студент-лютеранин из Морского кадетского корпуса, выражал схожие чувства в своем письме от 1900 г. Узнав, что в православии семь таинств, тогда как в лютеранстве только два, он попросил о. Иоанна объяснить ему различие между двумя конфессиями. Он предупредил, что не видит необходимости обращаться в другую веру, поскольку считал, что все религии одинаковы, и добавлял, что пишет пастырю для того, чтобы получить объективную точку зрения: «У нас в корпусе нельзя об таких вещах разговаривать, ибо понятно все относятся пристрастно к той или другой стороне»{428}. Как видно из переписки, вопрос о переходе в другую веру был особенно тяжел для иудеев. Так, Лазарь Сац писал пастырю несколько раз, подчеркивая свое намерение стать истинным иудеем — и в то же время размышляя, не обратиться ли ему вслед за своим братом в другую веру. Особенно примечателен тот факт, что Сац, как и Шаншиев, ясно понимал, что о. Иоанн объективен и заслуживает доверия, и просил пастыря молиться за него в любом случае{429}.
Столь высокая оценка о. Иоанна неправославными верующими встречалась и за пределами Российской империи. Люди из самых разных уголков мира, начиная от Австрии и кончая США, не только вступали с ним в переписку, но и приезжали, чтобы познакомиться с ним лично. Французские адмиралы, священники англиканской церкви, немецкие туристы — все считали своим долгом посетить батюшку по прибытии в Россию. Один из учеников Томаса Эдисона даже записал его голос на пленку, так что и сегодня можно услышать устное приветствие пастырем епископа Николая с Аляски. Признание за рубежом только укрепило сложившуюся в России репутацию о. Иоанна как «всемирного феномена»{430}.
Молитвы, советы, наставления и моральная поддержка
В то время как исцеление было традиционной прерогативой святых, а финансовая помощь — уделом покровителей, была еще одна область, в которой роль о. Иоанна была не менее важной. Это своего рода элемент православной старческой традиции — советы и наставления. Письма с просьбой о моральной поддержке образуют почти такую же по величине категорию, как прошения об исцелении и финансовой помощи{431}. Именно эти доверительные письма показывают, насколько часто корреспонденты о. Иоанна нуждались не просто в том, чтобы их выслушали, но в том, чтобы некто, наделенный Божественной властью, дал им верный совет, иначе говоря, наставил бы их на путь спасения. Женщины (вдвое чаще, чем мужчины) писали ему длинные письма, в которых просили его духовного совета и описывали свою жизнь в мельчайших подробностях. Из этих писем становится ясно, как много совет батюшки значил для обращавшихся к нему женщин и насколько они ощущали себя зависимыми от него:
«Мой дорогой Батюшка, пожалуйста не браните меня и не отрешайте от своей великодушной и милосердной защиты и исправьте мою долю потому что я не могу сама направлять себя… Я вверяю себя в ваши руки как сырая глина и непрестанно умоляю вас, сделайте эту глину сосудом Божьим чтобы вместить слово Божье и хранить вовеки веков. Пожалуйста ответьте мне прямо, где и как мне следует жить»{432}.
Для некоторых он заменял и традиционные семейные узы, и религиозные иерархические отношения:
«У меня в жизни только одна отрада это когда я пишу вам о всех моих грехах — и когда вы принимаете их, мой золотой, я твердо верю что Господь простит меня… О как бы я была счастлива, если бы Бог послал мне чтобы вы выслушали мою исповедь с глазу на глаз если я умру… вспомните меня тогда, ваши молитвы спасут мою душу от преисподней. У меня нет больше родственников и родителей, и их молитвы все равно грешные; вы единственный, кто угоден Богу»{433}.
Однако чаще женщины описывали свою внутреннюю жизнь. Они писали о. Иоанну, что хотели бы жить более праведной жизнью, но им мешают земные проблемы, обычно связанные с семьей. Незамужние женщины, которые хотели перестать работать на семью и войти в монашескую или полумонашескую женскую общину, встречали сопротивление родителей, особенно матерей{434}. При этом супруги жаловались друг на друга даже чаще, чем дети на родителей. Прямо в духе традиции, почерпнутой из житий женщин-святых, жены изображали своих мужей помехами в духовном восхождении, особенно когда дело касалось благотворительности.
Александра Зеленова описывает конфликты, которые возникают между супругами, если один из них живет намного более праведной жизнью. Особенно примечательно, что, будучи православной, она прекрасно осознавала, что должна повиноваться мужу. Но что ей было делать, если он вел себя неподобающим образом? В письме, изобилующем церковнославянизмами, что характерно для данного жанра, она пишет:
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа аминь. Св. о. Иоанне услышите меня из глубины сердца к вам вопию, помогите мне вашим словом и наставлением. И приму как слово Божие. Погибаю в жизни греховной и несть во мне разумения воли Божией. Истинно хочу спастися и в разум истинны приити но не знаю истинного пути по которому мне идти. Вот я живу замужем уже пять лет. Муж мой ведет жизнь греховную губя себя и меня и неистовствуя надо мною разрушая мое тело и душу и телесно и душевно, и душевные страдания иногда превышают мою силу и другой раз чуть не дохожу до отчаяния своего спасения…»
Время от времени Зеленова приходила к осознанию, что лучше стремиться к собственному спасению и переехать к родственникам, уйдя от мужа, который пил и настаивал на физической близости в те дни, когда Церковь предписывала воздержание. Однако тогда она испытывала терзания иного рода. Конечно, она чувствовала себя в родительском доме свободнее и могла более сосредоточенно молиться, однако сомневалась, не идет ли она против Божьей воли, уходя от мужа. Она объясняла это так:
«Когда я с мужем то мне вспоминаются слова Евангельские (что кто возлюбит отца или матерь или кого бы не было более нежели меня не достоин меня) и думаю что я нарушаю заповедь Божию тем что исполняю прихоти мужа более чем волю Божию. Когда же уйду то опять страдаю и жалко мужа и думаю что он без меня совсем погибнет, и вспоминаю Евангельского расслабленного… Он (Спаситель) исцелил его за веру других…»
Зеленова видит причину всех затруднений в своем невежестве, о котором часто упоминает. По ее мнению, будь она достаточно праведной, то поняла бы, в чем состоит ее долг, — то есть Божью волю. Однако, по ее собственному признанию, сколько она ни билась, не могла ее постигнуть. Она хотела, чтобы о. Иоанн стал ее духовником и наставил на путь истинный:
«Молю вас святый Отче Иоанне не оставте меня без извещения и не возгнушайтесь моей греховности и невежества, да не аки вещь поест мя отчаяния огнь… Муж мой почти все пьянствует и хочет чтобы были деньги и говорит что я не умею жить и все проживаю и отдаю родным и что он из за меня пьянствует. А я страдаю что я живу и нечего доброго не делаю и мои труды идут не для Бога и не на добрые дела. Молю Вас Отче Иоанне не оставте меня погибнуть от неведения. Напишите как мне жить и могу ли я свои заработанные деньги употреблять по своему произволу без ведома мужа потому что он мне ничего не позволяет сделать доброго. И в чем мне ему повиноваться и в чем противиться. Помозите мне как некогда уязвленному от разбойников. Знаю, что я не достойна, но ведь и пси едят крохи падающие со стола господ их»{435}.
Для стремившихся к благочестию (таких, как Зеленова) о. Иоанн открывал едва ли не единственный законный путь к освобождению от диктата мужа или низвержению его власти. Конечно, неверующие женщины не нуждались в подобных санкциях с его стороны: они могли почерпнуть рецепты поведения из набиравшего в те годы силу феминизма, который стал популярен с 1850-х годов в связи с возникновением в обществе «женского вопроса». Однако женщины, которые хотели жить в соответствии с православными законами добродетели, прекрасно видели скрытое противоречие между заповедями «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» и «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» или же «Чти отца твоего и мать твою». В их глазах только о. Иоанн был способен примирить эти несоответствия.
Мужчины также писали о своих духовных исканиях и внутреннем смятении, однако почти никогда не упоминали родителей. В отличие от описанных в житиях святых-мужчин, у которых основной конфликт, как правило, заключается во взаимоотношениях с матерью, обычные миряне часто становятся набожными в знак протеста против своего семейного положения и видят главное препятствие в жене и детях. Например, слепой молодой человек писал о. Иоанну: «Я слепой и женат вот трети год… благослови меня делать чтобы спастись серце чевото неспокойно и разум слаб, а грехи все тяготят меня где мне лучше спастись или удти от жены и детей или нет душа все чево ищет»{436}. Матери также могли считать своих детей чем-то второстепенным по отношению к своей духовной жизни, а иногда и вовсе видели в них основную преграду на пути к Богу. Для людей, ощущавших давление со стороны членов семьи, вера — и особенно благословение о. Иоанна — помогала найти выход, не отвергаемый общественной моралью. В письме от 23 июля 1899 г. Василий и Параскева Распоповы описывали бедственное положение своей неграмотной знакомой:
«Еще пишем Вам о болящей Дарье когда она ночью наругала крепко своего дитя то она заснула видит сон самаго Господа распятого на кресте и Царицы Небесную вдрух она вскочила! И силно испугалась сотворила молитву и патом легла опять уснула и приснился ей вторичный сон увидела угодника Божьево в живности и он надел на нее крест и что же! теперь образавалось с нею что она хотя идет во храм и ругает самаго Господа и Матерь Божию и всех святых и уней скверныя слова никогда нисходит с мыслей она такая была женщина Богамолиная а сичас с нею последовало очень плохо что она так горько плачет день и ночь и хотит бросить детей и уйти сама не знает где итти просит она Батюшка нова Благословения что он Благословит ли нет итти в путь дети у нея 4 адин одного меньше и она очень бедная и посылает денег 1 р. и по получению сего письма уведомите письменно»{437}.
Иными словами, коль скоро дети явились причиной ругательств, удалить их могло бегство из семьи. Даже если столь драматичный шаг и не требовался, многие корреспонденты пастыря сообщали ему о своей решимости посвятить жизнь духовному восхождению — эта решимость обычно созревала с возрастом. Многие историки отмечают такую закономерность, как цикличность женской духовности: в периоды рождения и воспитания ребенка женщины просто не могут полностью последовать духовным импульсам. Однако данная закономерность касается не только женщин{438}. Если говорить о крестьянской среде, то здесь более благочестивый образ жизни, строгое соблюдение поста, воздержание и чтение религиозной литературы (последнее, естественно, касается грамотных) уважались, а иногда и ожидались в преклонном возрасте{439}. Однако набожность в последние годы жизни — примета не только крестьянского уклада. Так, правительственный чиновник 46 лет также изъявил желание провести остаток своих дней в покаянии и читать псалмы в церкви Рождества перед иконой «Взыскание погибших»{440}.
Тема, проходящая красной нитью через письма к о. Иоанну, — духовное одиночество людей и их желание обсудить с кем-то свою внутреннюю жизнь. Огромный объем писем, особенно из провинции, демонстрирует, что существующих социальных и религиозных форм общения было недостаточно. Люди взывали к о. Иоанну, поскольку хотели не только поделиться своими духовными переживаниями, но и получить наставление от пастыря. Когда они чувствовали, что в их духовной жизни произошло нечто необычное, например их посетило видение, то обращались к о. Иоанну без тени смущения, свойственного тем, кто просил денег или молитв. Словно бы благодаря этому они входили в разряд посвященных и имели право свободно, на равных обращаться к батюшке. К примеру, полуграмотный Лукуллиан начал свое письмо о. Иоанну с фамильярного «Голубушка!» и попросил его благословения: «Земных благ мне не нужно. Голубчик мой для меня выше не было б щастья наземли еслибы Выпосетили мою убогою келью здесь мне нужно Вам сказать»{441}.
Не только духовные видения придавали людям смелость писать пастырю: само содержание видений наводило их на мысль, что на них возложена серьезная ответственность. Образы Царя и судьбы всей Российской империи занимают значительное место во всех видениях, о которых корреспонденты рассказывали пастырю. Например, старица Евдокия хотела сообщить Их Императорским Величествам, что они смогут найти много золота и старого оружия под иконой Казанской Божией Матери: «Но без вашего совета, о. Иоанн, я не посмею ничего сделать»{442}. Малограмотная женщина писала ему, что «великий старец, отец Корнилий» поручил ей оповестить всех о пророчестве, полученном от самого Господа: «Открыто от самово Господа что виликие скорби будут нашему Государю и восплачет вся Россия от старого до малого все будут страдать что такого бедствия еще и не было»{443}.
Однако было бы опрометчиво утверждать, что видения и пророчества — прерогатива крестьян, неграмотных или бедняков. Даже столь образованный человек, как князь В. Барятинский, чувствовал «своим священным долгом» сообщить о. Иоанну в телеграмме из Царского Села от апреля 1905 г. о знамении свыше, полученном американкой, вдовой Мейсснера, бывшего чиновника Министерства внутренних дел. Молясь на могиле сына в Тифлисе о том, чтобы Господь помог русским во время русско-японской войны, она услышала глас свыше: «Пока Россия не обратится к Господу с молитвою и не возложит на себя поста в течение одной недели, она не будет в состоянии одолеть врага!» Г-жа Мейсснер спросила, а нужно ли и войскам поститься вслед за всей остальной страной, и получила ответ: «Конечно нет, т. к. им необходимо беречь все свои силы для работы, которая на них возложена!» Когда она спросила, каким образом должна передать эту весть русскому народу, ей было велено рассказать все князю Барятинскому и его жене, которые должны оповестить о. Иоанна, а он, в свою очередь, — весь народ. Голос не вызвал у г-жи Мейсснер ни толики сомнения — это была воля Отца Небесного. Он предупредил, что если русские нарушат требование и не обратятся в течение недели к Богу с молитвою и постом, то они никогда не оправятся от последствий этой войны{444}.
Подобные знамения во все времена носили апокалиптический характер, новым здесь было то, что они нередко предвещали гибель царя и Российской империи. Убийство Александра II в 1881 г., нарастание межнациональных противоречий, разгул террора, революция 1905 г. — все эти события повлияли на содержание и общий настрой знамений, которые в России, как и во Франции того времени, отражали общественно-политическую реальность{445}. Фигура о. Иоанна, русского священника конца XIX — начала XX в., наиболее тесно связана с мрачными предсказаниями неотвратимого для страны будущего. Влияли ли эти видения, посещавшие самых разнообразных людей, на его собственные видения? Или же люди просто хотели, чтобы он при помощи своего дара прозорливости подтвердил их пророчества? В любом случае сходство пророческих видений о. Иоанна и его корреспондентов — еще одна причина его популярности. Его эсхатологическая религиозность была максимально созвучна умонастроениям его паствы и разительно отличалась от господствовавших в тогдашнем академическом богословии «прогрессивных тенденций»{446}. Здесь четко проявляется различие между паствой и духовенством. Миряне, если их видения не были дурными, радостно спешили поделиться с о. Иоанном посланиями из мира иного. Монахи и монахини, напротив, желали удостовериться, что даже явно благие видения не от лукавого. Письма от духовенства заслуживают особого упоминания и по другим причинам. Будучи образцом для подражания в глазах многих мирян, о. Иоанн играл еще более важную роль в жизни духовенства. Приходские священники обращались к нему как за профессиональным, так и за духовным советом, что отражало социальную ориентацию пореформенного приходского духовенства и свидетельствовало о высокой степени коллегиальности. Л. Манчестер указывала, что сплоченность приходского духовенства была выше славы, счастья и даже святости{447}.
Если принять во внимание взаимную подозрительность, зачастую существовавшую между «черным» (монашествующим) и «белым» (семейным) духовенством, то становится еще более удивительным, до какой степени о. Иоанна любили монахи и монахини. Ведь, несмотря на определенные контакты с внешним миром, монашеская община все же была достаточно замкнутой средой с жесткой дисциплиной и подчинением. Жизнь большинства монахов и монахинь почти всецело была ограничена монастырем{448}.
Однако близость о. Иоанна к монахиням и женским монастырям более объяснима, чем это кажется на первый взгляд. Их пути неоднократно пересекались. Как священники (в том числе и о. Иоанн), так и монахини занимались благотворительностью и просвещением; при этом монахини были более глубоко вовлечены в служение близлежащим мирским общинам, чем монахи. И священники, и монахини были далеки от коридоров церковной власти и погони за престижными должностями (вдовствующий священник мог стать епископом, как это произошло с преосв. Саввой Тихомировым, но вообще это было редкостью). Именно из-за ощущения сходства целей и судеб о. Георгий Шавельский, протопресвитер армии и флота, с воодушевлением писал об известных ему женских монастырях и подвергал острейшей критике монахов и мужские монастыри{449}. Кроме того, в непосредственном служении бедным, нуждающимся и сиротам значительно большую активность проявляли монахини, а не монахи — еще и поэтому о. Иоанн гораздо больше помогал женским монастырям, чем мужским. Он основал три женских обители, не говоря уже о бесчисленных пожертвованиях в другие монастыри{450}.
Монахини и женские монастыри
Некоторые письма монахинь к о. Иоанну касаются практических проблем — перевода в другой монастырь, заступничества за алкоголиков и т. д. Однако подавляющее большинство писем — это просьбы о духовном совете о. Иоанна, например о том, чтобы он помог преуспеть в Иисусовой молитве{451}. Это не столь удивительно, как можно подумать. Как правило, исповедующий священник, прикрепленный к женскому монастырю, был не монашествующим, а «белым». Тут играли роль прагматические соображения: иерархи полагали, что у монахинь будет меньше искушений относительно женатого священника; в свою очередь, женатый священник мог лучше сосредоточиться на своих духовных обязанностях. Правда, нет особых подтверждений, что такой подход помогал эффективно бороться с романтическими соблазнами; кроме того, очевидно, что женатый священник в качестве исповедника монахинь — не самый удачный выбор с духовной точки зрения. Искушения, обязанности и потенциал для духовного роста у монахини, стремящейся к целомудренной жизни, и у женатого священника, погруженного в семейные заботы, кардинальным образом различались. Более того, некоторые священники на самом деле недоверчиво относились к монашеской жизни и старались свести к минимуму аскетические устремления своих подопечных{452}.
Игуменьям, за плечами которых были годы напряженной духовной работы и суровой дисциплины, было даже сложнее увидеть духовных спутников и наставников в рукоположенных священниках. Некоторые из них обращались к таким прославленным душеводителям, как Оптинские старцы или Феофан Затворник. Однако с точки зрения того, насколько высоко религиозные «профессионалы» оценивали духовные достижения пастыря, примечательно и показательно, что многие настоятельницы обращались к о. Иоанну{453}.
Здесь снова связь между пастырем и его корреспондентами не была односторонней. Он ценил возможность духовных бесед с людьми, которых он считал равными себе, особенно с игуменьей Таисией из Леушинской обители. Публикация и широкое распространение их переписки, а также позднейшие воспоминания игум. Таисии о встречах с о. Иоанном показывают, что поучительная эпистолярная беседа была достаточно популярным жанром. Переписка игум. Таисии с одной послушницей и письма Феофана Затворника к неизвестной женщине также подпадают под эту категорию. Присутствие о. Иоанна в этой компании было необычно не с точки зрения формы или содержания, но потому, что, будучи женатым священником, именно он наставлял монахов и монахинь, а не наоборот.
Письма монахов во многом напоминают письма монахинь, что свидетельствует о схожести искушений монашеской жизни для обоих полов — это внутренние разногласия в монастыре, плотские искушения, сомнения в том, переходить ли на следующий этап монашества, и т. д.{454} Однако, поскольку монахи могли также быть рукоположенными священниками, они сталкивались с типично пастырскими проблемами, по поводу коих и обращались к о. Иоанну. Так, один иеромонах спрашивал, поминать ли ему еретика, разорванного волками. Другой иеромонах из Албании писал в 1903 г., что больные или страждущие мусульмане приходят к нему в монастырь и просят помолиться за них. Он боялся соприкосновения с ними таких освященных предметов, как Евангелие, епитрахиль и т. д., и спрашивал у о. Иоанна, как лучше поступить{455}. Это были чисто пастырские проблемы, по сути ничем не отличавшиеся от вопросов, которые приходилось разрешать женатым священникам. Однако тот факт, что они обращались к женатому священнику, свидетельствует как о его духовном авторитете среди всех без исключения верующих, будь то миряне, приходское духовенство, монашество, так и о том, до какой степени верующие любой категории были уверены, что он поможет обойти обычную субординацию, не нарушая ее.
Дары и пожертвования
Судить о том, какое место о. Иоанн занимал в умах и сердцах людей, можно по тем разнообразным подаркам и просьбам, которые он получал. В частности, бедные и малограмотные просители сопровождали свою просьбу помолиться за кого-нибудь пожертвованием. Крестьяне, потратившие все деньги на поездку в Кронштадт, все равно старались что-то преподнести о. Иоанну, например «елею два фунта и сахару немного простите меня ето я без вашего благословения привезла покушать на доброе здоровие пастырь ты наш добрый»; носовой платок, полотенце или цветок{456}. Эта традиция была на удивление не свойственна представителям знати, редко поднимавшим вопрос об оплате оказанных услуг. То ли они считали передачу денег (или прямое упоминание об этом) чем-то неделикатным, то ли стремились избежать этого.
Подарки о. Иоанну в общем и целом делятся на три категории: 1) посмертные дары — исполнение завещания; 2) «пожалуйста, помолитесь за такого-то и, кстати, получите то-то» и 3) «пожалуйста, получите столько-то (рублей) и используйте, как сочтете нужным». Независимо от того, были ли подарки знаком благодарности, авансом или платой за оказанные услуги, они демонстрировали отношение людей к помощи батюшки, которая, как они считали, заслуживает награды. Поражает разнообразие даров: это могло быть все что угодно, от двухсот тысяч рублей до шести серебряных ложек и браслета{457}. Ему преподносили чемоданы водки с Самсоновского завода, рыбные консервы из Томска и ящики орловских яблок из Мценска. Люди выражали свою любовь, даря самодельные вещи, такие как шкатулка, сделанная Георгием, отшельником из Задонска, или бесконечные вышитые пояса, манжеты, перчатки и «пара теплых носков, которые я сама связала»{458}.
Подарки такого рода могли доставить о. Иоанну неприятности. Враждебные пастырю представители протестантских групп и радикально настроенной интеллигенции критиковали батюшку за то, что тот облачался в роскошные одеяния, и твердили на разные лады: «Почему бы все это не продать, а вырученные деньги не отдать бедным»{459}. Однако обвинения не возымели эффекта. Даже если оставить в стороне одобрительное отношение к красоте и пышности богослужения, в целом свойственное и Православной, и Римско-католической церкви, большинство понимало суть преподношения подарков. Так, Гермиона, настоятельница Ключегорского Казанско-Богородицкого женского монастыря, рассказывала, как они с сестрами сшили о. Иоанну атласное облачение, украшенное золотом. Надо было иметь каменное сердце, чтобы отказать в просьбе женщинам, вложившим всю душу в прекрасный подарок в надежде, что он наденет это «хотя бы один раз». Более того, церковные облачения можно было передать кому-то другому. Так, он передал многие подарки нуждающимся клирикам, в том числе больному священнику, который хотел умереть в одной из старых ряс о. Иоанна, и оставил подробные инструкции в своем завещании, согласно которым его рясы, ризы и митры переходили к священникам{460}. Одаривая о. Иоанна, в его лице люди одаривали Церковь.
В том, какие подарки получал о. Иоанн, проявляются как его прагматический подход к дарителям, так и особенности его благотворительности. Ничего удивительного нет в том, что воронежские купцы прислали шесть мешков гречневой крупы, владельцы винных лавок — бутылки вина, торговцы рыбой — банки икры и копченую стерлядь. О. Иоанн не мог все съесть и выпить сам, зато мог прокормить несколько женских монастырей и Дом Трудолюбия. Старая традиция преподнесения снеди, фруктов и вина мужскому или женскому монастырю на годовщину смерти родственника теперь принимала новые формы. К примеру, дарители теперь могли организовать поминальную трапезу по почившим близким в столовых Дома Трудолюбия и в других приютах{461}. Если бы о. Иоанн по-прежнему продолжал заниматься благотворительностью частным образом, в одиночку, ему было бы сложно пользоваться или распоряжаться всеми подаренными натуральными продуктами. При том количестве бедняков, которые ежедневно находились в Доме Трудолюбия, было куда определить присланные соленья, капусту и маринованные грибы и проследить, чтобы такое поминовение считалось столь же «душеспасительно», что и раньше, при пожертвованиях в монастырь.
Зная, что батюшку осаждали бедное духовенство и церкви, житель Нижнего Новгорода прислал набор богослужебных сосудов с предписанием выслать их наиболее нуждающимся{462}. Таким образом о. Иоанн создал своеобразную цепочку материальной помощи, в центре которой находился сам. Те, кто получал от него подарок, знали, что это дар не только священника и Господа, но и конкретного человека, равно как и дарители сознавали, что «конечные получатели» будут связаны с ними и с о. Иоанном любовью и Богом, — таково новое толкование традиционной благотворительности{463}.
Личностный подход сам по себе был традиционен, новаторство проявлялось скорее в форме. Дары о. Иоанну отражают постепенную трансформацию сложившихся на Руси традиций дарения, связанных с поминовением умерших. В то время как одни просто завещали ему свои деньги с просьбой помолиться за «N», другие просили его о подлинном духовном наставлении. Памятуя о старой истине, что самые душеспасительные дары анонимны, дарители неизменно просили, чтобы «это деяние осталось между нами» — например, когда Алексей Маитов захотел увековечить память своих родственников, построив приходскую церковь в Сибири «или в другом каком либо месте нашей Матушки России»{464}. Нередко дарители писали, что чувствуют себя не вправе заниматься распределением денег: о. Иоанну виднее, какие церкви нуждались больше всего{465}.
Что касается других аспектов русской религиозности, внимание о. Иоанна к благотворительности не только изменило традиционный порядок поминания умерших, но и укрепило всегдашнее стремление проявлять милость к ближнему в одобренных Церковью формах. Более того, образ батюшки как покровителя стал как бы совмещаться с образом царя. О. Иоанн начал восприниматься как посредник не только между Богом и дарителем, но и между царем и дарителем. Подарки демонстрировали любовь народа к монархии. Подобно тому как английская королева Виктория и принц Альберт получили в качестве свадебного подарка от фермеров Чеддера сырный шар весом в тысячу сто фунтов, и русскому государю передавали подарки через о. Иоанна. Это отчетливо выражено в письме от малограмотного жителя Тверской губернии Евдокима Макаровича Мешкова:
«Чесь имею я вам представить от своих пчел небольшой гостинец и прошу я вашего благословения на оное мое производство, затем мне желательно получить вашь портрет на память как благословение. 2-е мне желательно представить свой пчелиной подарок нашему молодому Государю. Етой подарок я желаю преставить за 1893й год за выставку пчеловоства меня выставка просветила показала мне все пчеловстеновывядения дело я и желаю поблагодарить за указанный мне путь, но я крестьянин и малограмотен научен домашним способом во училищах нигде не был я на каронацией был в Москве Александра 3. А также и у Николая 2… получен у меня от монархов наградные свидетельства и также пчеловодная выставка меня наградила свидетельством пчеловодства; я за все етое желаю поблагодарить а так я крестьянин и не знаю чрес ково можно послать то укажите мне для етого дела путь»{466}.
«Прижизненная канонизация» и отношение к ней отца Иоанна
Хотя ответы о. Иоанна на присланные ему письма не сохранились, его реакция на полученные знаки внимания нашла отражение в дневниках. Он считал, что люди почитали его только по милости Божьей. Для батюшки, который считал столь важным для себя быть сосудом и молитвенником Божьим, всеобщее признание явилось доказательством, знаком того, что и глас народа, и глас Божий оценили его усилия. Десятилетние старания наконец принесли свои плоды: сложился идеальный союз между народом, священником и Господом, о котором пастырь мечтал все эти годы. Он едва мог сдержать радость от сознания того, что этот союз осуществляется через него. В 1894 г. он отмечает в дневнике:
«Величайшее, несказанное чудо милости Бож. ко мне явление, что все православные, благочестивые христиане по всему пространству земли Русской ко мне распол. и питают доверие и любовь, и — что благодать Божия за такое их расположение и доверие посещает их и избавляет от недугов и болезней, скорбей и напастей, когда православные обращаются ко мне лично, письмами и телеграфом»{467}.
То, как о. Иоанн осознавал свою роль, говорит о многом. Пастырь полагал, что, почитая его, люди переносили на него любовь к Господу. Более того, он был посланником Бога в том смысле, что почитание и уважение пастыря были угодны Господу. От такого отождествления себя с Господом, конечно, один шаг до духовного самообольщения, в православной терминологии — прелести{468}. О. Иоанн это понимал. Он стремился преодолеть эту опасность, неустанно напоминая себе об источниках своей духовной силы: Боге, литургии и особенно Евхаристии. 26 декабря 1893 г. он писал:
«Благодать Божия, во мне обитающая… ради моей искренней веры и молитвы… ради частого, благоговейного причащения Св. Таин соделала меня дорогим, почтенным, славимым и любимым всеми концем России и даже вне ее. Итак я ценю всем существом моим благодать Божию, правду и святыню в себе на всякое время и да пребываю в правде и святыни во славу Божию и во благо себе и другим»{469}.
На первый взгляд, перед нами необыкновенное представление о благодати. Более традиционная трактовка этого чуда состоит в том, что благодать свободно даруется Господом и может исчезнуть столь же внезапно, как и появилась, даже если тот, на кого она снизошла, считает, что приложил немало духовных усилий для ее стяжания. Однако о. Иоанн в стремлении к благодати осуществлял более напряженную духовную работу, нежели многие, и не принижал собственной роли в процессе ее обретения. Теперь он дерзал не только возносить молитвы к Богу за других, но и просить Всевышнего, чтобы Он и впредь избирал пастыря сосудом, через который передавалась бы благодать{470}.
К 1890-м годам о. Иоанн, казалось, имел все, о чем может мечтать праведник, стремящийся обрести святость. Господь благоволил ему, он получил всемирное признание, а ежедневные массовые исцеления подтверждали его редкий дар. Но именно в тот момент, когда, казалось, он уже наверняка стал святым, сами источники его духовной силы словно начали отнимать у него время и энергию. Евхаристия, о которой он по-прежнему восторженно мог отозваться: «…Какое обновление! Какой мир небесный!.. — что такое земная жизнь после этого?» — теперь становилась препятствием в том, чтобы видеть как можно больше людей{471}. Ему приходилось встречаться со многими людьми, чтобы молиться за них и оказывать им требуемую помощь — и таким образом зарабатывать деньги для многочисленных общественных и религиозных начинаний и для бедняков, которых он поддерживал. Становясь общенародным святым, о. Иоанн вынужден был бороться, чтобы сохранить то, что питало изнутри его святость.
Его записные книжки отражают эту борьбу. В 1880-е годы о. Иоанн впервые упомянул о том, что его раздражают люди — и особенно дети, — которые часто причащаются; а ведь именно этого он так страстно желал. В 1882 г. он писал: «Я чувствую такой гнев, видя их [детей], которых приносят, и приносят так часто, что я жалуюсь, — я, кот. причащается каждый день, скуплюсь для этих Богом возлюбленных»{472}. Длинные очереди перед чашей означали, что на молебны остается все меньше времени. Но почему батюшка особо выделял детей? Возможно, из-за того, что у него не было своих собственных, он объяснял свою антипатию к причащающимся детям тем что они еще находятся в несознательном возрасте.
«Они тоже достойны Их, хотя и не сознают их важности и спасительности. Часто, думаю я, подносят их — для чего? — А я, окаянный, для чего часто, чаще их, гораздо причащаюсь — и остаюсь все грешником? Надо радоваться, что безсмерт. дух. трапезу разделяют со мною хоть дети, если взрослых нет — причастников, а не негодовать на них. Помни, что Господь сказал ученикам, когда хотели воспретить детям к нему подходить»{473}.
Здесь поучительно различие между римско-католической и православной практикой. Споры внутри раннехристианской Церкви по поводу того, можно ли крестить и причащать ребенка, завершились принятием православными той точки зрения, что ребенок обладает и душой и потому должен быть крещен и причащен как можно скорее. В римско-католической практике младенца также крестили немедленно, однако причастие откладывали до семилетнего возраста. Православные дети впервые исповедовались также в «сознательном» семилетнем возрасте, однако могли причащаться сразу после крещения; по сути дела, теоретически они, как и о. Иоанн, могли причащаться каждый день{474}. На призыв пастыря причащаться чаще стали откликаться все больше и больше матерей, что отнимало у о. Иоанна колоссальное время. Начиная с 1880-х стали причащаться чаще и взрослые.
К началу 1880-х о. Иоанн был настолько занят, что его дневник стал сильно напоминать деловой ежедневник, и он нередко ловил себя на том, что после литургии его мысли переключались с богослужения на деловые встречи, назначенные на это время. Уже в 1883 г. он сокрушался, что не был душою вместе со своими духовными детьми во время исповеди: «При исповеди духовных детей, сердце мое было не с ними, а с собою и не с Богом — о окаянство! а опять с собою и с деньгами, чтобы начавши скорее кончить, собрав пообильнее жатву»{475}. В тот период ему приходилось по минутам расписывать свое время, и он понимал, что любое отклонение от планов в начале дня неминуемо повлечет за собой крушение надежд всех тех, кто договорился с пастырем на более поздний час. Несмотря на все его старания, такое случалось нередко. В обращенных к пастырю письмах за 1880-е годы содержались такие упреки: «Дорогой батюшка благоволите снова назначить время крещения младенца… у лавры ждали четверг с пяти до 9 часов»{476}.
На о. Иоанна постоянно давила необходимость выполнять настойчивые требования прихожан, настаивающих на встрече. Он справлялся с этим даже слишком хорошо. Грехи, в которых он чаще всего кается с начала 1880-х годов, включают в себя «небрежность в молитве, крайнюю поспешность и изредка недостаток благоговения…»{477}. Все это, конечно, сопряжено с особенностями любой профессии, когда становится привычным то, что поначалу кажется в новинку и в радость. Быть может, его самозабвенное увлечение служением литургии поблекло, и не из-за общественного признания его святости и последовавшего вслед за ним огромного спроса на проведение внелитургических служб. В конце 1890-х годов он писал в записной книжке, что очень быстро провел молебны, поскольку очень спешил в Санкт-Петербург, за что «был наказан стеснением и печалью», и обрести мир и смелость (перед Богом) удалось только большим усилием{478}.
Каждый день о. Иоанн получал по почте жалобные прошения о материальной помощи. Осуществляя на практике свой принцип оказывать благотворительную помощь всем и каждому, он не мог оставить без ответа ни одно из писем — и в результате должен был без конца думать о том, как достать деньги. С другой стороны, вряд ли он мог преуменьшать значение причастия только под тем предлогом, что стал более загружен. Положение усугублялось тем, что чем больше людей приглашали о. Иоанна к себе домой, тем больше появлялось и желающих у него исповедоваться и причащаться. Эти взаимоисключающие требования могли довести его до крайности. В 1894 г. он так писал о литургии, на которой много причащающихся:
«Так бывает со мною и при больш. колич. причастников. Сначала охотно и усердно причащаю народ всякого звания и состояния, а под конец начинаю предаваться нетерпению и огорчению, как бы забывая, какое великое дело я делаю… куда я спешу и тороплюсь от этого дела? К суете мирской, к удовлетворению корысти, к чревоугодию, к любви мира сего, кот. есть враждебен Богу! Тогда раскаиваюсь»{479}.
Итак, по иронии судьбы, воплощение одного из идеалов православной жизни — более частого причащения и более активного участия в таинствах, к чему так стремился о. Иоанн, — привело к сокращению времени, которое пастырь мог посвятить прихожанам вне церкви.
Слава пастыря имела и другие разрушительные последствия для его духовной жизни. Возникшее в 1880-х гг. самоощущение, что он является заступником всей земли русской, которое расцвело пышным цветом к 1890-м, вошло в конфликт с его постоянными обязанностями приходского священника. Несмотря на то что пастырь ездил в столицу почти каждый день, он все же был вынужден считаться с просьбами своих кронштадтских прихожан — особенно бедных, которые были его первыми духовными чадами, — и проводить положенные церковные службы. Он остро чувствовал это противоречие:
«Вскоре после литургии и причащении св. Тайн раздражился и гневался на своих прихожан, пригласивших меня к больным с св. Дарами — из-за того, что мне хотелось ради сребролюбия объехать приезжих, а потом ехать в Петербург для молитв и для нажива денег, хоть и для благотворения и милостыни»{480}.
Как демонстрируют письма к пастырю, он стал своеобразным центром благотворительности: желавшие помочь бедным присылали ему подарки в твердой уверенности, что это поможет «достойным» бедным. Рост пожертвований создал ситуацию, которую пастырь не мог предвидеть: складывалось впечатление, что нуждающихся становится все больше и больше. Просители начали ходить за пастырем по пятам, карауля и у дома, и у Андреевского собора. Он стал воспринимать настойчивость бедняков как тяжкое бремя и начал бояться вообще выходить на улицу. Осознавая всю духовную значимость благотворительности, он почувствовал противоречие между двумя своими ипостасями: молитвенного заступника за людей, священника — и дарителя, оказывающего им финансовую поддержку. Его дневниковые записи отражают минуты мучительной грусти от осознания своей неспособности совмещать молитву с материальной помощью. 20 февраля 1882 г. он писал:
«Крайне расстроился из-за нищих, особенно из-за девочек, кот. я подал милостыню (по 2 1/2 коп.), кот. и после того за мною следили, хотя я нарочно уходил от них, желая наедине тайно молиться; потом 40 чел. нищих взрослых пришли ко мне, прося милостыни, и я, уже раздражен девочками, раздражился на взрослых, отсылая их к богатым городским. — В конце концов я весь разбит нравственно пришел домой… был прощен молитвою перед Тихвинской Б. М.»{481}.
И с духовной, и с материальной точек зрения было необходимо как-то примирить это гнетущее противоречие. О. Иоанн пытался приучить своих духовных чад к определенному порядку пожертвований. Он призвал их сформировать списки по двадцать человек и выдал каждому «капитану» определенную сумму для распределения между членами «полка», однако усилия оказались тщетными{482}. Бедняки до такой степени осаждали его, что он буквально был вынужден спасаться бегством. «Прости мне и тот грех, что я убежал от нищего, бежавшего за мною, — исповедовался он в дневнике за 1882 г., — говоря себе: подам всем в свое время — в 3 часа, а на всяком месте и во всякое время не хочу подавать, т. к. их крайне много»{483}. Создание Дома Трудолюбия не облегчило его бремени и не разубедило его в том, что он должен подавать беднякам из рук в руки, а не через учреждения, даже если они созданы и финансируются им лично. Чем большую славу приобретали его святость и благотворительность, тем больше молящихся начинали считать, что он принадлежит им, а не самому себе. Слова, провозглашенные о. Иоанном в начале пути, — «священник принадлежит всем, а не себе» — сбылись до такой степени, о которой он не мог и помыслить.
Ощущение, что бедные неумолимо окружают его плотным кольцом и что он как святой принадлежит миру, явственно просматривается в дневниках о. Иоанна начиная с 1880-х гг. Хотя современники и писали с восторгом о спокойствии духа пастыря, на самом деле его нервы были натянуты до предела. На первых порах после обретения популярности и славы он впадал из одной крайности в другую. В дневнике за 1883 г. он писал:
«Сегодня я не выходил на улицу с бти до 11ти 1/2, между прочим, потому, чтобы не встретить нищих, ожидающих моего выхода и моей подачки, но вышедши, я как раз встретил 5 чел. (прежде подача нищим была, только не этим), и я подал им по 2 коп., а мальчик назойливый стал просить неотступно еще прибавки, и я в досаде на него надрал его за волосы, и пошел по посадской улице гулять (голова болела); нищие опять за мной, особ. кривой и глухой; я рассердился на него за настойчивость и преследование меня и крепко обеими руками выдрал его за волосы; другие испугались и пошли скоро вперед; я шел вперед; кривой нищий в конце улицы опять подошел ко мне и я пожалел его — подал ему 20 коп., подозвал и еще двоих, и подал по 10 коп.; они давай припрашивать еще, я опять рассердился и хотел ударить крепко большого молодого парня, но он убежал; потом мальчики опять стали приставать, и я велел городовому отвести его в участок за попрошайничество; он заплакал, и я велел его отпустить. Согрешил, и виню себя. Каюсь перед Господом, Божией Матерью, всеми святыми и всеми людьми»{484}.
Несмотря на то что сам о. Иоанн не находил оправданий своему поведению, его паства, по-видимому, не считала этот поступок чрезмерно жестоким, поскольку, с одной стороны, чувствовала свое подчиненное положение по отношению к пастырю, а с другой — телесные наказания были распространены повсеместно и не считались чем-то неприемлемым. Как бы то ни было, об этом эпизоде нигде не упоминалось. Хотя о. Иоанн и обвинял себя в «этом грубом проявлении нетерпения, корысти, жестокосердия, злобы», не возникает впечатления, что его избивание нищих и таскание их за волосы было чем-то большим, чем «грубость», или чем-то из ряда вон выходящим{485}.
Из-за того что бедняки становились все более требовательными и навязчивыми, в начале 1880-х гг. отношение о. Иоанна к ним как к социальной группе изменилось. Их настойчивость сильно отличалась от той сдержанности, которую пастырь отмечал в 1868 г., когда писал: «Бедным мальчикам надо с удовольствием подавать милостыню: они просят от крайной нужды и, получив достаточную сумму, долго не приходят. О, бедные! Они не имеют где главу подклонити, не имеют что есть и пить и чем одеться… как их не жалеть! Как не отказать себе в лишнем, чтобы подать им милостыню!»{486} Однако здесь важно учитывать разницу между статусом святого и частного гражданина. Когда к о. Иоанну относились просто как к священнику необыкновенной доброты, а не как к святому, бедные, как правило, робко просили о помощи, а он, обыкновенно, будучи тронут их ужасающим положением, яростно защищал их от обвинений в бродяжничестве. Несмотря на то что даже в первые годы своей службы он старался проследить, идет ли поданная им милостыня по назначению, он не был тогда склонен упрекать тех, кто, как он подозревал, злоупотреблял его доверием, и всегда стремился сохранять внутреннее самообладание. В 1869 г. он писал: «Если знаете достоверно, что нищие во зло употребляют подаваемые тобою им деньги, не ярись на них, но сохрани кротость и незлобие, смеясь им, подобно Павлу препростому. Стоит разве расстраиваться из-за денег (прах)? — вспомни о своих грехах…»{487}
Напротив, к середине 1880-х гг. его реакция стала намного более жесткой («Осуждаю себя за крайний гнев на нищих, партией ежедневно меня преследующих, всегда праздными, без дела, и просящих у меня щедрого подаяния с наглою неотступностью»){488}. По мере того как бедняки переставали видеть в о. Иоанне личность и простого смертного и стали воспринимать его только как исполнителя своих просьб, батюшка также начал видеть в них некую массу, которой он должен оказать безличную благотворительную помощь. Этот процесс обезличивания со стороны как мирян, так и святого наглядно просматривается в динамике взаимоотношений о. Иоанна с кронштадтскими нищими — возможно, это неизбежное следствие смещения акцента в восприятии «святого человека», когда ударение переносится с «человека» на «святого».
Изменения проявились не только по отношению к бедным. Да, о. Иоанн радовался, что был «любимым для всех, дорогим, славным, вожделенным, сильным верою, упованием, любовию Христовою»{489}, однако потоки людей, жаждущих встречи с ним, изматывали его физически. 16 мая 1883 г. он писал: «Две женщины пришли ко мне по духовной любви — принять благословение Господне чрез меня и выразить мне свое духовное расположение, в 7 м часу утра… а я вознегодовался и озлобился на всех за то, что во всякое время, и рано и поздно, на всяком месте суются ко мне, ловят меня»{490}. О. Иоанну не приходило в голову, что он имеет право возмущаться утратой частной жизни или что надо сохранить какую-то часть личной жизни, чтобы не сбиться со своего духовного пути. Газеты публиковали ошеломляющие факты о последствиях поездок пастыря по стране — во время его пребывания в Харькове все сады и оранжереи в доме, где он остановился, были затоптаны почитателями пастыря, которые устроили там ночевку, чтобы хоть краешком глаза увидеть его; местная полиция не смогла их остановить{491}. Самого о. Иоанна его почитатели регулярно сбивали с ног, тащили в разные стороны и даже кусали, желая заполучить его «живые» мощи{492}.
Показателем того, чего стоило о. Иоанну постоянное пребывание на людях, стал лаконизм дневниковых записей того периода: «Давно я не писал в моей книге — более 4 месяца»{493}. Дневники, некогда служившие вместилищем для его устремлений, переживаний и борений, почти утратили свою прежнюю функцию. Теперь о. Иоанн отдавал всю энергию прихожанам; они, а не дневники, стали главной сферой его религиозной жизни и его духовной опорой.
Перенесение религиозного пыла вовне, на свою паству, повлекло за собой и одно из самых серьезных отрицательных последствий популярности о. Иоанна: ухудшение взаимоотношений с женой. В начале их совместной жизни, с 1850-х до середины 1870-х гг., она, казалось, смирилась с его всепоглощающим стремлением к святости и со своей участью скромной помощницы на этом пути. О. Иоанн не принадлежал ей, но, по крайней мере, он не принадлежал и никому другому, и Елизавета Константиновна могла пытаться создать семейный очаг. Она стала находить душевное утешение в общении с сестрой Анной и племянницами Руфиной и Елизаветой, которых сама вырастила. Когда о. Иоанн был частным лицом, у них с женой существовали собственные сферы деятельности — у него в храме, у нее — дома, которые они взаимно уважали. Кроме того, в начале своего поприща о. Иоанн ощущал на себе придирки начальства и травлю кронштадтских властей; наверняка Елизавета Константиновна жалела гонимого супруга. Он бывал на людях скорее по долгу службы, чем из удовольствия, и лишь в домашнем окружении спасался от превратностей своего нелегкого труда. Несмотря на то что их брак мало напоминал союз двух сердец, по крайней мере, это было семейное соглашение, гарантировавшее обеим сторонам определенную долю независимости и стабильности.
Когда о. Иоанна признали святым, сложившийся в семье образ жизни изменился к худшему. Как только у него появились не только последователи, но и ярые почитательницы, отношения с женой испортились. Елизавета Константиновна примирилась, что он проводил дни напролет с нищими; однако толпы восторженных женщин, бросающих на пастыря томные взгляды и дарящих ему дорогие подарки, не вызывали у нее подобного понимания. О. Иоанн как бы давал ей понять, что вступает с этими женщинами в сокровенную, возвышенную духовную связь, невозможную с ней, и это не могло не задевать Елизавету Константиновну. При отсутствии физической близости с женой пастырь, как казалось Елизавете Константиновне, будто бы обретал в этом повышенном женском внимании к собственной персоне некую замену нормальных супружеских отношений.
Это не только ее впечатление: записные книжки пастыря содержат упоминания о том, как окружавшие его женщины, будь то его собственная уборщица или «прекрасная графиня в белом платье», порождали в нем искусительные помыслы, хотя он и противостоял соблазну{494}. Елизавета Константиновна вступила буквально в яростную схватку с супругом. То ли потому, что после многих лет совместной жизни с о. Иоанном она начала относиться к религиозному послушанию с предубеждением, то ли потому, что была занята, то ли чтобы досадить мужу, но на какое-то время она практически перестала ходить в храм. Поводом для ссоры становилось любое происшествие. О. Иоанн описывает один подобный эпизод в 1882 г.:
«Вечером сегодня вышла крупная неприятность с женою из-за того, что я обличил ее в подделке ключа к моему письменному столу и к внутренним ящикам и во взятии некоторых вещей и денег. Как львица разъяренная она [налетела] на меня и готова была растерзать; от злости ревела, выла, как бешеная; грозила ударить по щеке при детях; корила бабами, т. е. благочестивыми женщинами, имеющими со мною духовное общение в молитвах, таинствах, духовных беседах и чтениях, поносила самым бесчестным образом, а себя возвышала. Господи! Отпусти ей, не вест бо что говорит и творит. Вразуми ее всю омраченную житейскими суетами и сластями, утолсте и расшире и забы Бога»{495}.
О. Иоанн начал подозревать жену в самых разнообразных лживых уловках, например в краже розового благовонного масла, предназначенного для плащаницы и используемого на богослужениях Страстной недели, и в подмене алмазных пуговиц на воротнике его рясы. «Ввел ее в искушение, допустив усердных ко мне лиц пришить бриллиантовые пуговки к воротнику подрясника, и не сказал о том жене»{496}. Взрыв недовольства семейной жизнью случился в 1883 г.:
«Горе мне с домашними моими, с их неуважением к постановлениям церковных, с их лакомством всегдашним, безобраз. в повседневной жизни… забавами, смехами с детьми Руф. и Елисавет., с кошками и собакой, — с их леностию к молитве домашней и общественной (раз 5–6 в год ходят в церковь — Бог им судья!). Какой ответ оне дадут за себя и детей: оне царствовать хотят и царствуют действительно, исполняя все свои прихоти и желания… А как оне воспитывают детей! О ужас! Вне всякого уважения к уставам Церкви! Сами не соблюдают посты и детей также учат: на 1 неделе Великого поста едят сыр и яйца, не говоря о икре и рыбе. — Кто их вразумит? — Меня не слушают»{497}.
Впрочем, есть описания, смягчающие нарисованную священником картину. Так, одна из племянниц, напротив, рисует в своих воспоминаниях благочестивую семейную идиллию, вспоминая, с какой заботой Елизавета Константиновна охраняла редкие часы отдыха пастыря и как о. Иоанн отказывался трапезничать дома без матушки, называя ее своим «ангелом»{498}. Как бы то ни было, точка зрения пастыря в чем-то главном весьма верно отражает положение дел. Теперь, привыкнув к почтению и поклонению народа, он меньше чем когда-либо был готов терпеть отношение к себе как к простому смертному в своем собственном доме. Неудивительно, что после обретения всенародной славы упоминания о семье в записных книжках о. Иоанна сменились фиксацией горестей и радостей общественной жизни. Его почерк стал более крупным и неразборчивым; дневник во многом превратился в деловой ежедневник. Так, после отождествления себя с обществом, завершилось превращение приходского священника и аскета в народного святого.
Глава 5 ПРИЖИЗНЕННЫЕ ОБРАЗЫ ОТЦА ИОАННА И ИХ РОЛЬ В ПРОСЛАВЛЕНИИ СВЯТОГО
Письма к о. Иоанну от представителей различных социальных сословий — лишь одно из проявлений массового поклонения батюшке. Они представляют собой частную, непосредственную форму его почитания. Однако существовала и публичная сторона почитания, и именно она доставляла Церкви больше всего беспокойства. Популяризации о. Иоанна и созданию его публичного образа содействовали не только люди, на собственном опыте убедившиеся в милосердии батюшки и его даре исцеления, но и журналисты, которых он интересовал как общественное явление, и торговцы, продававшие по всей России открытки и сувениры с его изображениями. Следующий слой «имиджмейкеров» составляли сугубо православные авторы, видевшие свою задачу в сборе материала для будущего жития. К ним непосредственно примыкали и церковные иерархи, стремившиеся контролировать каждый шаг, каждую публикацию, дабы удостовериться, что все они приемлемы с канонической точки зрения. Все эти группы совместными усилиями превратили пастыря в объект одновременно поклонения и индустрии. Столкновение интересов этих групп красноречиво характеризует непростую ситуацию в русском православии конца XIX. — начала XX в.
При изучении процесса конструирования образа о. Иоанна необходимо различать его прижизненные образы, сложившиеся посмертно и к 1918 г., в советский период (в том числе в эмигрантской среде) и после 1988 г. Все они сыграли важную роль в распространении культа пастыря, однако в настоящей главе мы обратимся к прижизненным образам о. Иоанна, поскольку их создатели столкнулись с необычной проблемой. Ни один православный христианин не мог быть провозглашен святым при жизни. Таким образом, даже те, кто верил в святость батюшки, должны были крайне тщательно подбирать выражения в его прославлениях. Кроме того, будучи в добром здравии, он мог как-то отреагировать на те формы репрезентации его образа, которые практиковались современниками. После его смерти все, кто писал о нем или изображал его, могли чувствовать себя намного свободнее. Поэтому представляется оправданной именно такая постановка проблемы: какие трудности живущий святой создавал своему православному окружению.
Прославлять о. Иоанна проще всего было тем мирянам, которые хотели, из благочестивых побуждений, сделать всеобщим достоянием истории о своем исцелении, об избавлении от пагубной тяги к спиртным напиткам и вообще о любом добром деле, случившемся с ними благодаря батюшке. Чаще всего это принимало форму кратких заметок в местных газетах. Первым сообщением такого рода явилась публикация письма к редактору «Нового времени» 20 декабря 1883 г. Шестнадцать человек, объяснявшие свое исцеление молитвами о. Иоанна, описывали свои болезни, изъявляли ему благодарность и передавали его «завет», который заключался в следующем: «сообщаем и для других единственный, преподанный нам пагубной тяги к спиртным напиткам многодостойным пастырем-исцелителем, высоко-врачующий спасительный совет жить по Божьей правде и как можно чаще приступать ко Св. Причастию»{499}.
Еще одним видом почитания стало переложение молитвенных размышлений о. Иоанна из «Моей Жизни во Христе» на музыку. Поскольку эти молитвы уже были опубликованы и, следовательно, прошли досмотр высших церковных инстанций, это было вполне приемлемо{500}. Проблемы начались, когда по стране начали циркулировать так называемые мистические «письма счастья». Эти письма, написанные по одному шаблону, включали в себя как магические заклинания, так и православные обороты речи. Следуя образцу широко распространенной апокрифической молитвы «Сон Богородицы»{501}, составители писем объявили, что обладают одной из «тайных, действенных» молитв о. Иоанна, добавляя, что если молитва будет разослана и прочитана адресатом определенное число раз, то его мечта сбудется, а если нет, то будет ему несчастье. Если учесть, что тогдашнее духовенство, включая и самого о. Иоанна, не признавало эти письма, считая их проявлением суеверия{502}, то тем более забавно, что содержание подобных «магических молитв» дошло до нас во многом благодаря негодующим опровержениям пастыря, которые он публиковал в газетах, тщетно пытаясь остановить их распространение. Одна из подобных молитв звучала так:
«О Иисусе Христе, молим Тя, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас и весь мир Твой от всякой погибели. Ты кровию Своей искупил от грехов души наша. О, Боже Предвечный, милосердие Твое великое ради пречистой Крови Твоея, всегда, ныне и присно и во веки веков. Условие молитвы: кто сию молитву имеет, должен передать ее девяти человекам и хотя раз в день должен читать ее с верою и тогда избавлен будет от всякого зла и бедствий, и если не исполнит, то подвергнут будет злу и бедствиям»{503}.
Отрицая авторство молитвы, о. Иоанн писал в кронштадтской газете «Котлин» в 1890 г.:
«Опять колобродит по рукам под моим именем, якобы мною составленная молитва с обязательством передачи ее девяти человекам и с обещанием за эту передачу всяческих благ. Эта мнимая молитва, составленная невежественной и вовсе не церковной головой, — не моя, а послесловие ее, очевидно, принадлежит какому-либо пройдохе, рассчитывающему на доверчивость и суеверие простого народа… В половине марта 1887 года и в январь 1889 года я просил Кроншт. Вестник и другие газеты посредством печати сделать известным эту религиозную подделку. Ныне снова повторяю эту мою покорнейшую просьбу»{504}.
Однако все было бесполезно. Подобные «тайные молитвы» были известны давно, задолго до того, как они стали ассоциироваться с о. Иоанном. Они переписывались и передавались повсеместно в течение многих лет{505}. Отвечая на письмо Георгия Раменникова, который справлялся о том, является ли православной одна из самых известных молитв, обнаруженная им у матери и жены, о. Иоанн и сам признался, что в возрасте десяти лет переписал «Сон Богородицы» («Но, — поспешил он добавить, — когда меня вразумили люди умные — я бросил в огонь»){506}. Публикация в 1908 г. в российских газетах и во «Frankfurter Zeitung» одной такой «тайной молитвы отца Иоанна», призывающей к смерти Льва Толстого и министра финансов Сергея Витте, могла иметь серьезные политические последствия{507}. Что касается политики, то в этой области также существовал ряд интересных легенд. Согласно одной из них, о. Иоанн предостерег царя от поклонения иконе, принесенной ему двумя студентами. Он попросил солдата выстрелить в нее — за иконой прятался татарин с двумя ножами, это была попытка покушения на Государя Императора{508}.
Магические письма счастья — лишь одна из древних форм неканонической религиозности, включенных в почитание о. Иоанна. Попытка установить, какие из дошедших до наших дней форм поклонения считались приемлемыми, а какие нет, даст ценную информацию о структуре и практике народного православия. Некоторые формы являлись по определению недопустимыми. Так, нельзя было одобрить практику украшения чудодейственных изображений о. Иоанна крестиками, кольцами и другими драгоценностями, как это делалось с чудотворными иконами, например Всех Скорбящих Радость или Казанской Божией Матери{509}. Причина здесь более чем очевидна — невозможно было писать иконы о. Иоанна, ни тем более размещать их в церкви при его жизни. Пастырь сам являлся живой иконой, получая при жизни поклонение и дары, которых после канонизации удостаивались его изображения. Как любимые иконы украшали отборным жемчугом и драгоценными камнями, так и его «украшали» крестами с драгоценными камнями, дорогим атласом, бархатом и парчовыми одеяниями с золотой вышивкой и рясами, подбитыми соболями{510}. (При этом не использовались такие знаки исцеления, как миниатюрные органы и конечности, отлитые из воска или вырезанные из жести, хотя они бытовали как в западноевропейской, так и в русской традиции{511}.)
Коммерческая сторона культа о. Иоанна была во многом сходна с ситуацией вокруг таких католических центров паломничества той поры, как Арс и Лурд{512}. К 1880-м гг. о. Иоанн стал знаменитостью. Тысячи людей приезжали в Кронштадт (а в церковные праздники их количество в несколько раз возрастало) в надежде увидеть его и принять Святое Причастие из его рук. Всем им нужны были еда, питье и кров. В результате постоялые дворы для паломников стали прибыльной статьей местного дохода. Началась жестокая конкуренция за паломников: из их рассказов и писем явствует, что охотники за клиентами подкарауливали их прямо на пароме и настойчиво предлагали свои услуги. Сами паломники относились к подобной навязчивости равнодушно и насмешливо — сатирическую зарисовку на эту тему находим в книге А. Сереброва «Время и люди: воспоминания»{513}. Поскольку везде предлагалось приблизительно одно и то же — кровать или тюфяк, подобающая благочестивая атмосфера, религиозная литература, красный угол, перед которым теплится лампада, и регулярное чтение акафистов, — постоялые дворы мало чем отличались друг от друга, разве что качеством тюфяка и близостью к собору св. Андрея{514}. Однако была одна услуга, которую все могли обещать, но никто не мог гарантировать: твердая договоренность, что о. Иоанн посетит жилище паломника{515}.
Проще говоря, спрос на о. Иоанна превысил предложение. И это породило парадоксальную ситуацию. Толпы посетителей, традиционно особенно грандиозные во время Великого поста, создали в Кронштадте атмосферу благочестия и повысили уровень достатка. Однако за популярность приходилось платить. Чем больше было людей, жаждущих увидеть, услышать, прикоснуться к о. Иоанну, тем, в свою очередь, труднее становилось этого достигнуть и тем выше ценились те, кто мог каким-то образом устроить встречу с пастырем. О. Иоанн оказался в безвыходной ситуации. Его главным делом были молитва и совершение таинств; он не хотел быть своим собственным «импресарио». В дневниках 1880-х и 1890-х гг. отразились его сожаление и раскаяние из-за невозможности уделить пару минут самому себе, а к началу XX в. он понимает, что не в состоянии принять каждого и что самому отсортировывать страждущих для него слишком обременительно. К середине 1890-х, по мере того как напор паломников усиливался, пастырь начал прибегать к помощи людей, выполнявших функции отчасти управителя, отчасти личного секретаря: они фильтровали толпы просителей, тщательно изучая каждую кандидатуру. Чтобы пройти отбор и попасть к пастырю, паломники готовились неделями, стараясь заручиться всеми возможными связями. Например, 30 ноября 1903 г. один студент уговорил личного секретаря обер-прокурора Священного Синода разрешить ему воспользоваться одной из его визитных карточек для входа и таким образом прошел{516}.
Однако далеко не всегда все было так просто. Несмотря на то что о. Иоанн платил своим посредникам достойное жалованье, соблазн принять «кое-что» в обмен на обещание организовать встречу с пастырем был очень велик. В результате его секретари — Евгения и печально известная Вера Перцова — сколотили себе небольшой капитал и снискали гнев тех, кто обращался к ним за содействием{517}. В глазах почитателей те вольности, которые позволяли себе эти помощницы, были ужасны. Например, потрясенные паломники описывают, как Евгения собирала себе в карман по десять рублей с каждого за устройство встречи с о. Иоанном (и это помимо стоимости самой встречи){518}; или как Перцова, сопровождая пастыря во время поездки в Астрахань, расхаживала с саквояжем, полным пожертвований, и рявкала: «Если так, то посиди без денег. Посмотрим, как ты поедешь»{519}. Предприимчивые люди быстро поняли, что можно выдать себя за представителя о. Иоанна и неплохо заработать на обмане. В подобном мошенничестве признавались даже женщины, жившие в Доме Трудолюбия. И это неудивительно, ибо к началу 1900-х гг. одна половина Дома была превращена в постоялый двор для паломников, где в каждой комнате было три двери, и все они должны были быть открыты во время визитов о. Иоанна, чтобы он не тратил время на проход по вестибюлю{520}. Бизнес в этой сфере достиг таких масштабов, что к началу XX в. вокруг о. Иоанна сложилась атмосфера торговли и наживы.
К 1890-м гг. к батюшке попадали по существу лишь те, кто мог себе это позволить. Так, Александра Максимовна Лебедева, состоятельная владелица фабрики, продала все, чтобы оказаться рядом с о. Иоанном; в награду она получила квартиру при соборе св. Андрея. Но как только посредники батюшки получили от нее все, что хотели, они перестали ее звать; и лишь о. Иоанн время от времени продолжал заходить к ней. О том, как вели себя его «секретари» по отношению к менее обеспеченным прихожанам, можно догадаться из письма малограмотной женщины, написанного в конце 1890-х гг.:
«Вы были у нас 4 марта петербургская сторона Большая Гребецкая у слесаря. У меня были большие скорби что мой муж пьет и я попросила Катерину Семеновну чтобы она привезла вас к нам и она мне назначила на молебен 100 рублей и я заложила свои вещи которые у меня были и только на 60 рублей и вот когда Семен приехал и прямо схватил за конверт и мне начал говорить почему у вас не 100 руб положено только 60 руб и я сказала что мне негде больше взять и он сказал тогда не привезем а я сказала да будет воля Божья и тогда Семен сказал я доложу 40 своих а я сказала докладывай если у тебя есть и теперь приходют за груть меня треплют оба с Катериной 40 руб требуют и говорят что мы поедем к мировому а я им сказала у меня мировой дорогой Батюшка. Дорогой Батюшка если б у меня были я б им отдала а у меня негде взять что муж выпивает помолитесь дорогой Батюшка чтоб ему исправится и простите меня грешницу Ографену что я вам пишу потому что оне мне не дают покою»{521}.
Пастырь-идеалист, совершавший обходы семей алкоголиков в городских трущобах, теперь стал недосягаем. О. Иоанн не отрицал этого. Под напором возмущенных знакомых он признавался, что посредники действительно продают право на встречу с ним. Однако все, что он мог сказать в свое оправдание, было: «Хорошо, я откажу тем, которые теперь меня окружают. Я их прогоню, что ж, я лучше сделаю, думаешь? Конечно нет — ведь “эти” уже нажились благодаря моему имени… а те, которые начнут торговать, будут беднее этих и им придется с народа еще больше таскать»{522}.
Равнодушие о. Иоанна, может быть, даже граничащее с цинизмом, показывает, до какой степени он устал. Безусловно, дурная репутация секретарей бросала тень на его безупречный образ. Даже его горячие сторонники чувствовали, что их священный долг — оградить о. Иоанна от тех, кто торговал его именем{523}. Сложившаяся нездоровая обстановка имела ряд последствий: создалась благоприятная атмосфера для расцвета секты иоаннитов; появилась почва для сатиры, вроде пьесы Протопопова «Черные вороны»; радикальной прессе стало легче нападать на о. Иоанна после снятия цензурных ограничений в период 1905–1907 гг. Однако пробиться на встречу с батюшкой было хоть и крайне трудно, но не невозможно, и многим это все-таки удавалось, что вселяло надежду в души страждущих. Тем не менее независимо от того, удавалось ли паломникам добиться личной аудиенции, почти все они покупали сувениры. Чаще всего в их воспоминаниях фигурируют большие портреты о. Иоанна с подписью «Дорогой батюшка», сувенирные платки с его изображением и видами Кронштадта в углах, эмалированные кружки наподобие тех, которые раздавались во время завершившихся трагедией празднеств по случаю коронации на Ходынке в 1896 г.; иконы преп. Иоанна Рыльского (его небесного покровителя) и крестики. При этом освященные им предметы стоили гораздо дороже. Лучше всего продавались почтовые открытки с изображением о. Иоанна{524}.
Упоминания об этих открытках встречаем практически во всех воспоминаниях паломников — по всей видимости, они продавались везде, и это был один из самых дешевых сувениров. Заплатив всего несколько копеек, мирянин получал на память изображение о. Иоанна. Однако с массовым выпуском этих открыток возникали трудности разного порядка. Поскольку слава о. Иоанна пришлась на конец XIX в., он стал одним из первых, на ком Русской православной церкви, перефразируя Уолтера Бенджамина, пришлось опробовать подходы к богослужению и святости, сопряженные с наступлением технической эры{525}. Поскольку слава о. Иоанна как святого стремительно росла, его изображения, с одной стороны, должны были быть выполнены с почтением и оттенять те качества, благодаря которым он особенно прославился, а с другой — не напоминать иконы, дабы не смущать верующих. Анализ изображений о. Иоанна на открытках демонстрирует те ограничения, с которыми должны были считаться создатели его образа.
До середины 1880-х гг. слава о. Иоанна еще не была всеобщей, и фотографы, снимавшие батюшку в молодости, избирали типичные для того времени ракурсы: голова задумчиво покоится на руке, а перед ним на столике с вязаной салфеткой лежит книга; пастырь сидит на скамье, держа в руках черную широкополую шляпу: этот головной убор был в почете у священников в России конца XIX — начала XX в. Даже когда о. Иоанну было за шестьдесят и за семьдесят, то есть в самый пик его славы, и до самой его смерти фотографии молодого батюшки можно было без труда приобрести в кронштадтских магазинах.
Совсем иное дело — фотографии о. Иоанна середины 1880-х гг. и позже, когда он стал знаменит. Поскольку большинство изображений на открытках представляли собой студийные снимки, сделанные профессиональными фотографами, на них он предстает при полном параде: в своих лучших рясах, а позже и при государственных наградах{526}. Чаще всего он фотографировался сидя, реже стоя. И выбор одежды, и поза говорят о многом. Носить полное облачение вне церкви было категорически недопустимо. Помимо того что согласно церковным канонам, облачения носились только на литургии, они в самом буквальном смысле слова являлись атрибутом икон. После канонизации епископ или священник должен был изображаться на иконе в облачении, соответствующем его священному чину: это столь же наглядная деталь, как и крест в руке мученика{527}. По этой же причине было непозволительно снимать о. Иоанна благословляющим (как в знаменитой и широко растиражированной, но вместе с тем совершенно неприемлемой фотографии не имеющего сана Распутина, сделанной Буле){528}. Дело не только в том, что сам по себе жест был иконным — получалось, что о. Иоанну пришлось бы позировать так перед камерой и как бы благословлять ее. Единственное исключение касалось тех случаев, когда о. Иоанн благословлял толпы народа с корабельной палубы: такие фотографии снимались очевидцами, и на них можно видеть благословляемую паству{529}. Однако гравюры или рисунки на подобные темы только приветствовались, ибо позволяли избежать проблемы фиксации «живого» литургического действа. Проблематично было даже изображать его стоя, поскольку святых изображали на иконах анфас, стоя или по пояс. Чтобы избежать малейшего уподобления иконам, фотографические портреты о. Иоанна обычно делали с поворотом лица в три четверти (согласно требованиям тогдашнего паспорта) и сидя, чтобы добавить оттенок непринужденности {530}.
Поскольку в России не существовало практики составления систематических предписаний, церковные власти, как правило, ориентировались на прецедент, предпочитая объявлять то или иное явление нежелательным, а не давать заранее точные распоряжения. Портреты о. Иоанна, выполненные в иконографическом стиле, в традиции конца XVIII–XIX в. на эмали и фарфоре, были официально запрещены постановлением Синода от 1 июля 1895 г., после того как комендант Кронштадта вице-адмирал Казнаков конфисковал несколько подобных экземпляров{531}. Столь же неприемлемы из-за явной иконографичности были олеографии о. Иоанна, изображавшие его в виде Христа, окруженного херувимами{532}.
Увы, мода была не на стороне иерархов. На рубеже веков наблюдается всплеск интереса к экспериментированию с традиционными формами икон. Актуальная тенденция 1890-х гг. — изображать на иконах знаменитостей. Так, авторы иконы Св. Петра и Павла использовали в качестве моделей Пушкина и Владимира Даля; И. Е. Репину для одной из его «икон» позировал Владимир Чертков{533}. Однако эти работы были все же выполнены с некоторым вкусом. В 1897 г. «Санкт-Петербургский духовный вестник» сетует по поводу распространения таких сувениров, как распятие, помещенное в бутылку, или иконы, наклеенные на открытки таким образом, что под одним углом можно видеть Святого Николая, а под другим — Святую Варвару. Как с горечью подмечает «Вестник», русские люди по-прежнему крайне далеки от отношения к иконам как к святыням. Иконы должны продаваться в таких «пристойных» местах, как церкви и монастыри, а не выставляться на прилавках рядом с простыми предметами первой необходимости вроде мыла{534}. Портреты о. Иоанна самого сомнительного качества были частью этой тенденции по производству ширпотреба «в угоду самым низменным вкусам». Тиражирование его изображений достигло таких масштабов, что Синод перестал подробно обосновывать свои резолюции. Так, когда некий Теодор Фридман в 1893 г. обратился за разрешением выпустить брелок с изображением о. Иоанна, добавив, что пастырь уже дал свое согласие, ответ Синода на его прошение был краток: «Отказать»{535}.
Пытаясь запретить изображения о. Иоанна, напоминавшие иконы, Синод никак не мог повлиять на то, как эти образы будут использоваться; а они все равно могли использоваться в качестве икон. Какой бы реалистичной ни была фотография о. Иоанна, если кто-нибудь ставил ее рядом с иконами и начинал перед ней молиться, с точки зрения Синода, это приносило вред. Когда в Синод начали поступать сообщения о том, что народ ставит фотографии о. Иоанна в домашние молельни, реакция была незамедлительной и категоричной: этого делать нельзя{536}. Постепенное размывание границ «дозволенного» и постепенное отождествление о. Иоанна со святым, происходившее в народном сознании, создавали благоприятные условия для возникновения «секты» иоаннитов.
Текстовые репрезентации отца Иоанна
Словесные репрезентации о. Иоанна были разнообразны по форме и содержанию. Они включали в себя как статьи писателей и журналистов, чью творческую фантазию будоражила фигура пастыря, так и труды его православных биографов, которые писали с целью ускорить его канонизацию. Данные группы текстов резко отличались друг от друга и по тону высказываний, и по тому, насколько вольно они комментировали приписываемую пастырю святость.
Анализируя статьи профессиональных журналистов об о. Иоанне, необходимо помнить, что в условиях цензуры 1880-х — начала 1890-х гг. религиозно-поучительный жанр давал относительную свободу и безопасность{537}. О. Иоанн был не только интересной и коммерчески ходовой темой, но и приемлемой для цензуры фигурой. Тем не менее многие известные журналисты и писатели, такие как М. О. Меншиков из «Нового времени» и В. В. Розанов, писали о нем с жадным интересом и без всяких практических соображений. (Даже художник Николай Рерих опубликовал сделанное ему о. Иоанном наставление: «Не болей! Придется для Родины много потрудиться»{538}.) Эти авторы не были абсолютно беспристрастны. Подробно описывая святость и популярность о. Иоанна, они часто делали это с целью провести нелестные параллели между ним и церковными иерархами. К примеру, Меншиков регулярно писал об о. Иоанне, и когда в 1905 г. встал вопрос о перестройке властной структуры Церкви, предложил, чтобы он положил начало новой династии патриархов{539}. Позднее, после смерти о. Иоанна, Меншиков писал:
«С оскорбленною завистью относилась к нему значительная часть духовенства, главным образом — высшего. Митроносцы со сверкающими бриллиантами на клобуках, украшенные омофорами и панагиями, не могли не чувствовать, что при всем своем академическом либерализме, при всей тюбингенской светскости взглядов, при всем искусстве царедворства они бесконечно ниже кронштадтского священника, ниже в глазах Божиих и в глазах народных. Без долгих споров в народе установилось, что он — настоящий, а они как будто не настоящие… Этого никак не могли простить великому священнику земли русской, и его затирали долго, сколько могли. Лишь незадолго до смерти, когда он стал совсем немощен, он удостоился назначения в Синод — он, которого часть восторженных поклонников провозгласила живым Христом, сошедшим с Неба!»{540}
Однако при жизни о. Иоанна Меншиков обычно воздерживался от упоминаний о его святости, ослабляя бдительность лишь в таких экстренных ситуациях, как восстание матросов в Кронштадте в 1905 г. А вот Василий Розанов со всей возможной откровенностью публично провозглашал о. Иоанна святым. В 1905 г. он писал:
«Не поражена ли, не удивлена вся Россия наших дней появлением чудного священника, которому доступно многое, что не доступно никому из смертных, и прежде всего — разительное влияние на душу присутствующих… он не блистает умом, как Филарет; посредственной учености; но шепот: “это — святой” несется за ним. Однако м.б. это отшельник, угрюмый постник, нелюдим? “С мытарями ем и пью”, можно повторить о себе слова Христа. Вечно на людях, на народе; да, вечно в движении, в каком движении! В его годы люди хилы, согбены, а он точно еще молодая женщина. Несмотря на седьмой десяток лет, в жизни я не слыхал, что кто-нибудь назвал его стариком, старцем. Как-то даже странно его представить спящим, лежащим и отдыхающим. Точно он весь в бодрости, бессонности, неутомимости в полете… Диву дается русский народ; бегают толпами за ним; целуют края одежды, целуют землю, на которую он ступил; сиденье, на котором посидел он; платок, полотенце, вещицу, побывавшую в руках у него, разрывают на части и эти “частицы” берегут, как реликвии… “Небо сошло на землю”, “явился чудный, невиданный человек”… “ангел во плоти”. И волна движения около обыкновенного священника, всего только протоиерея, действительно прямо чудесная и чудотворная. “Живой Бог” залил значением своим, смыслом, привязанностью к нему народа всех митрополитов, всю официальную духовную власть, весь “синклит” священнический»{541}.
Именно такого рода независимые статьи, в которых подчеркивались особость о. Иоанна и его несхожесть с церковными иерархами, способствовали развитию его культа — и отталкивали от него церковное начальство. Журналисты и писатели, не связанные с официальными церковными изданиями, так же как и простые миряне, посылавшие свои письма в газеты из благочестивых побуждений, могли практически беспрепятственно восхвалять печатно о. Иоанна, едва ли не канонизируя его. Однако ни Розанов, ни его эпигоны не утверждали, что говорят от имени Православной церкви. Конечно, решение о канонизации могли принять только церковные иерархи; но даже они могли это сделать только после смерти о. Иоанна. Итак, церковным властям пришлось направлять поистине всенародное явление в православное русло.
Однако проблема не сводилась к попыткам иерархов укротить свою излишне пылкую паству. У о. Иоанна были сторонники как среди мирян, так и среди низшего духовенства, желавшего убедить своих иерархов, что он действительно святой и должен быть когда-нибудь канонизирован; да и многие архиереи были с ними солидарны. Перед ними встала задача — представить свою аргументацию по-православному. Обе группы — и ходатаи, и те, кто принимал решение, — полагали, что находятся по одну сторону баррикады, и относились друг к другу с уважением. Теоретически после смерти о. Иоанна процедура его канонизации должна была пройти гладко и спокойно. Однако, пока он был жив, обе стороны осознавали, что их духовный долг — не дать ему, как говорится, «попасть в беду». Вознося ему хвалу, они должны были знать меру, чтобы он не возгордился и не потерял в какой-то отчаянный момент все то, чего с таким трудом достиг, — феномен, который был слишком хорошо известен по житиям святых{542}. Иными словами, ходатаи должны были и укреплять, и оберегать святость о. Иоанна — ибо ее потеря сказалась бы не только на нем, но и на всей Церкви. В результате ходатаи сами старались редактировать свои описания таким образом, чтобы они были однозначно поучительными и душеспасительными. Церковные иерархи, со своей стороны, должны были следить за всеми проявлениями религиозности, связанными с о. Иоанном, чтобы они выполняли ту же функцию. Этот процесс тончайшей регулировки прижизненных репрезентаций пастыря особенно заметен в текстах его почитателей.
Некоторые из них стремились просто прославить или сделать более широко известным человека, «угодного Богу». Они в целом следуют традиции и канонам «назидательных» жанров. И действительно, рассказы о жизни о. Иоанна необходимо рассматривать в контексте религиозных литературных жанров, существовавших в России на тот момент. Коробейники по всей России по-прежнему продавали газеты и брошюры религиозного содержания{543}. Помимо Писания и житий святых, которые Церковь выпускала все большими тиражами, существовала также разнообразная «душеспасительная» литература для народного чтения, издававшаяся многочисленными близкими к Церкви организациями. Круг текстов был обширен, от небольших «Троицких Листков», призванных «обеспечить простой русский народ душеспасительным чтением и таким образом просветить его в вопросах веры и нравственности», до целых серий о «Подвижниках Благочестия»{544}. Почти все эти истории повествовали о давно умерших мужчинах, женщинах и детях, явивших миру подвиг самоотречения и крепость веры — добродетелях, культивируемых Церковью. Они дают нам представление о том, что читал народ в те годы, когда начали издаваться материалы об о. Иоанне. Однако эти поучительные притчи редко служили образцом для текстов о нем — уж слишком своеобразен был пастырь. Другие параллели и литературные модели для рассказов о нем — жития святых, детская серия «Жизнь замечательных людей», брошюры о паломничествах на Святую Землю и Гору Афон и, поскольку о. Иоанна, как правило, описывали в контексте его собственных поездок по России, путевые заметки.
Здесь различие между прижизненными текстами об о. Иоанне и последующими его репрезентациями, появившимися десятилетия спустя после его кончины, проявляется с особой силой. Согласно традиции написания житий, авторы, которые приступают к житию святого спустя годы после его смерти, должны приложить все силы, чтобы привести материал в соответствие с агиографическим каноном{545}. Так, всего через двадцать пять лет после смерти о. Иоанна, собирая необходимые сведения для его канонизации, И. К. Сурский предварял вопрос «Как можно молиться отцу Иоанну, если он еще не канонизирован?» резким комментарием: «Сам Господь причислил его к лику святых уже при жизни». Он полагал, что видения некоторых мирян, которым о. Иоанн являлся на иконах, есть мистическое доказательство его святости{546}. Как только о. Иоанн был канонизирован, его «иконизация» (на сей раз в буквальном смысле слова) была окончательно завершена. К примеру, в редакциях житий, изданных в России в 1990-е годы, обнаруживается эпически отстраненная интонация, и написаны они во многом тем же языком, которым описывались первые российские святые XI в.: он причисляется к ним как национальный герой{547}. Эмигрантская редакция 1964 г., в которой делается больший упор на политические воззрения о. Иоанна, тем не менее также следовала стандартным житийным канонам{548}. C. Л. Фирсов находит типичные «язвы конца века» (fin-de-siècle malaise) как в эпоху о. Иоанна, так и на рубеже XXI в.: «Падение нравственности и рост преступности, увеличение злобы и ненависти вокруг — все это говорит о том, что общественный организм, как и в начале XX столетия, тяжело болен»{549}. Однако современников о. Иоанна заботили актуальные проблемы эпохи, и они настойчиво стремились приблизить облик батюшки к «нашим дням», которые с каждым последующим десятилетием неизбежно отходили в прошлое. Детали, на которых они заостряли внимание, содержат важнейшую информацию о том, как именно о. Иоанн в сознании людей вписывался в агиографическую традицию и как сама традиция вбирала в себя новые элементы.
Прежде всего они подчеркивали его современность — он типичный священник, такой же, как остальные. «Он говорит на нашем языке», «он знает нас», «он один из нас» — лейтмотив этих текстов. Можно уловить чуть ли не облегчение мирян, писавших: «Несмотря на его строгость, о. Иоанн не аскет — он пьет вино, общается»{550}. Напротив, после его смерти такое свойское отношение к пастырю испарилось, уступив место житийной интонации. («Хотя о. Иоанн говорил, что он не ведет аскетической жизни, но это, конечно, было сказано лишь по глубокому смирению; в действительности, скрывая от людей свое подвижничество, о. Иоанн был величайшим аскетом»{551}.)
Одна из причин, по которой о. Иоанн был так притягателен для современников, заключалась не просто в его незаурядности (в конце концов, именно она привлекала авторов в первую очередь), а в том, что эта незаурядность была заключена в самый заурядный контекст. Он был женат. Он жил в обычном доме в небольшом городе. Он читал журналы. Он преподавал в школе. Он считал, что действительно надо позаботиться о бедных. Ему приходилось иметь дело с городскими и церковными властями. Он полагал, что богатые должны больше заниматься благотворительностью, что не мешало ему с удовольствием ходить на их званые вечера. Иными словами, он был совершенно земным и абсолютно не походил ни на изможденного отшельника-аскета, ни на могущественного епископа — наиболее распространенные образцы канонической святости в России XIX в., — и вместе с тем, по общему мнению, он почти достиг святости.
Неудивительно поэтому, что современники с такой нежностью подчеркивали те черты о. Иоанна, которые, как им казалось, делали его таким же, как все. На самом деле, конечно, пастырь не был «таким же», как остальные. Ведь именно его непохожесть и привлекала к нему народное внимание. Один из неиссякаемых источников его притягательности заключался в том, что он совмещал в себе не только священника и пророка, но также умудрялся нести на себе печать Божественной благодати и при этом оставаться «священником, живущим по соседству», «деревенским парнишкой, пришедшим в город творить добро». Контраст в любом случае был бы разительным, но он еще больше усиливался тем, какими приемами он достигался.
В сущности, во всех прижизненных описаниях и изображениях, особенно до 1905 г., о. Иоанн предстает как в своей мистической ипостаси, так и в домашней обстановке. Характерно, что его часто фотографировали вместе с матерью и сестрами типично деревенского вида; кроме того, нередко описывалась лачуга, в которой когда-то жила его семья, а также его теперешнее жилище — основательное, но напоминающее барак; и вообще, весьма значительное количество текстов и изображений посвящено его деревенскому прошлому. Все это нельзя назвать простым совпадением{552}.
Данные сюжеты особенно важны, поскольку здесь традиционный назидательный жанр соединялся с новейшим жанром путевых заметок{553}. Интерес к фигуре о. Иоанна сочетался с интересом к местному колориту и этнографии. Так, на открытке с изображением его путешествия в Великий Устюг рядом с изображением батюшки, направляющегося в церковь, помещены образцы устюжских кустарных промыслов; в иллюстрациях его поездки на Русский Север присутствовала врезка с молодой женщиной в местном народном костюме; самой крупной деталью на открытке, посвященной его путешествию в район Онежского озера, была олонецкая крестьянская изба и т. д.{554} В литературе об о. Иоанне также заметно стремление авторов расширить границы жанра, дабы привлечь большую аудиторию. Эта цель достигалась путем слияния наиболее успешных из существующих на тот момент литературных форм. Например, ярко выраженный романтический подход к описанию жизненного пути о. Иоанна проявлялся в зарисовках северной природы и рассуждениях о ключевой роли природы в становлении личности{555}. Конечно, данные особенности не были свойственны только религиозным текстам. Пространные описания рек, пейзажей, летнего неба, которые находим у Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, С. Т. Аксакова и Л.H. Толстого, — вот только самые яркие проявления преклонения авторов XIX в. перед природой. Однако для религиозного повествования литература об о. Иоанне казалась непривычно перегруженной описаниями природы. Так, Александр Семенов-Тян-Шанский писал о родной деревне пастыря Суре, что в Архангельской губернии: «Деревня расположена у слияния рек Суры и Пинеги, правобережных притоков Двины, приблизительно в 500 верстах от Белого моря. Недалеко от деревни неясно вырисовываются горы и белые алебастровые скалы с пещерами и лугами; в лесах много птиц и зверей»{556}. Другой биограф пастыря, С. В. Животовский, пошел на еще более смелые стилистические эксперименты, одновременно предвосхищающие киносценарии и напоминающие житийные описания первозданной природы, окружающей святого:
«На сыпучем песке трудно создать в короткий срок хорошее хозяйство. Здесь нет еще ни сада, ни огородов, ни обработанных полей. Все придется создавать тяжелым трудом при самых трудных условиях, так как северное лето коротко. Пройдет три месяца, в которые солнце почти не сходит с горизонта, и настанет холодная ненастная осень. В начале октября здесь уже все почти покрыто снегом. Солнце сначала показывается всего на несколько часов, а затем и совсем почти исчезает.
Настает долгая, суровая зима.
Почта приходит сюда всего раз в неделю.
Сообщение с далекой Россией только на лошадях да оленях.
Почти девять месяцев вся природа погружена в непробудный сон.
Воцаряется глубокая тишина, нарушаемая только звоном колокола, призывающего сестер в монастырскую церковь, да воем ветра и стоном вьюги, сливающимся с голодным завыванием диких зверей»{557}.
Многие авторы проводили параллель между природой и самим о. Иоанном. Так, Борис Зайцев писал: «Русская народная природа очень сильно была в нем выражена, эти голубые, совсем крестьянские глаза, полные ветра и полей»{558}.
Акцент на описаниях природы не был просто стилистическим приемом. Любовь к природе самого о. Иоанна отчетливо проступает фактически в каждом его произведении. Взять хотя бы «Мою жизнь во Христе», которая изобилует подобными описаниями. Так, например, о. Иоанн уподобляет весеннее таяние льдов и высвобождение скрытых под ними рек и озер отделению души от тела после смерти{559}. Рецензенты зарубежных изданий пастыря также называли любовь к природе отличительной чертой его творений{560}. Они указывали, что юный Иоанн ощутил силу природы во время школьных каникул, когда возвращался домой пешком из Архангельска, и предполагали, что именно тогда, проходя не одну сотню верст по лесам и горам, зачастую безлюдным, он развил в себе эту любовь к природе и научился видеть в ней присутствие Бога. Они также полагали, что эти длительные пешие переходы, напоминающие путешествия паломников или святых странников, сформировали его склонность к импровизированной молитве{561}.
Любовь к молитве вне дома, на открытом воздухе, и к общению с Богом через природу пребывала с пастырем на протяжении всей его жизни. При всей приверженности о. Иоанна к Евхаристии и литургии он предпочитал молиться на природе — каждый день кронштадтского священника начинался с получасовой уединенной прогулки в саду в четыре часа утра. Молитвы на открытом воздухе и лирическое воспевание природы вызывают в памяти образы Франциска Ассизского и преп. Сергия Радонежского{562}. Подобные штрихи из жизни о. Иоанна, а также упоминания о природе в его проповедях могут объяснять популярность последних среди слушателей. Большинство из них также были сельского происхождения и в праздник Троицы покрывали полы церкви травой, а иконы украшали листьями, полевыми цветами и венками. Порою веток, а иногда и деревьев было так много, что все пространство храма производило впечатление перенесенного под церковные своды волшебного леса, и недаром зачастую говорили, что в этот праздник «вся земля именинница»{563}. Вполне вероятно, что упоминания о. Иоанна о природе говорили его слушателям больше, чем ученые проповеди архиереев{564}.
Биографы обращали внимание и на другие характерные черты, ведущие свое происхождение из детства. По их мнению, воздействие на него сурового пейзажа и климата обострялось и усугублялось нищетой родной деревни о. Иоанна. Так, один автор отмечал, что «все здесь, созданное руками людей, было бедным и скромным: непритязательные деревянные дома, две старых обветшалых церкви… с оловянной утварью, дом, в котором родился отец Иоанн, — даже не крестьянская изба, а скорее полуразрушенная хижина»{565}.
Наконец, для авторов жизнеописаний батюшки, появившихся в конце XIX — начале XX в., было характерно подчеркивать, каких материальных благ можно достигнуть, если следовать за ним. Согласно этим текстам, после общения с о. Иоанном нуждающиеся люди могли разбогатеть. Несмотря на то что доступ к батюшке затрудняли секретари, он предстает в описаниях идеальным дарителем, добрым, благоразумным и понимающим, в отличие от «обычных» благотворительных учреждений, которым он противопоставлялся. В связи с этим характерен рассказ одной женщины о бедном гимназисте, датированный 1900 г.:
«Обедня кончилась… батюшка начал разоблачаться в алтаре. К нему подходит юноша лет шестнадцати в гимназической одежде и робко протягивает ему какую-то бумагу.
— Скажите так, на словах, чего вы просите, — сказал батюшка, продолжая свое дело с свойственной ему поспешностью.
— За право учения… не имею… — слышатся отрывочные слова, произносимые шепотом.
— Сколько с вас требуют?
— Пятьдесят рублей.
Батюшка опускает руку в карман, вынимает оттуда деньги. Отделив часть их, он готовится передать просителю, опять-таки делая это между прочим, не прерывая прежней работы. Теперь он в первый раз внимательно взглянул на стоявшего перед ним юношу, по щекам которого текли невольно выступавшие слезы, а на лице подергивались от волнения мускулы. Кто знает? Быть может, он уже не в одном месте робко и напрасно подавал свою просьбу и пришел сюда с последней надеждой, при неосуществлении которой должны были разбиться все его мечты о светлой будущности! Если бы ему отказали здесь, то он ушел бы в полном отчаянии. Но его просьбе внемлют без всяких оскорбительных расспросов, без унижения личности, дают ему якорь спасения так просто, как будто он попросил какой-нибудь пустяк. Слезы благодарности хлынули из глаз юноши. О, как счастлив тот, кто может исторгать у людей такие слезы!
— Успокойтесь, успокойтесь, голубчик! Я очень рад, что могу помочь вам. — Батюшка гладит по голове наклонившегося юношу. Глазам его невольно бросаются короткие рукава гимназического пальто, расползающиеся швы — и рука, готовая было уже передать просимую сумму просителю, быстро опять опускается в карман и уже после этого удовлетворяет просьбу.
Радостный ушел юноша, но вскоре вернулся. Его возвратила боязнь ошибки. В смущении, он опять подходит к батюшке, держа еще в руке поданное.
— Батюшка! Вы ошиблись: тут гораздо больше!
— Нет, не ошибся, — отвечает ему тихо батюшка, — то вам на пальто… на книги…»{566}
Сохранилась масса вариаций на тему щедрости пастыря: купец, который дал о. Иоанну конверт с тремя тысячами рублей и протестовал, когда тот немедленно передал его просителю, не пересчитывая; женщина, которой он велел отдать свое подношение первому встречному и которая затем переживала, что это оказался хорошо одетый чиновник (как выяснилось позже, он в тот момент отчаянно нуждался именно в этой сумме). Во всех этих случаях о. Иоанн видел, кто из просителей в какой сумме действительно нуждался, и следил, чтобы деньги были ими получены. Поскольку такого рода истории постоянно были у всех на устах, неудивительно, что за финансовой помощью к нему обращалось такое количество людей{567}.
Еще более типичны истории о том, как кто-то (всегда мужчина), когда-то богатый, но потерявший все из-за пьянства, попал «на самое дно», а затем был «воскрешен» о. Иоанном. Описания историй алкоголиков следуют всегда одному и тому же образцу: состоятельный мужчина (вариант: еще и преуспевающий коммерсант) начинает вести разгульную жизнь в ресторанах и клубах Санкт-Петербурга, содержит балерин, актрис или других шикарных любовниц. Через несколько лет он проматывает все, включая деньги своей жены. Он падает столь низко, что начинает избивать жену и детей и отдает в залог их последние вещи. О. Иоанн замечает его в Доме Трудолюбия и велит прийти в храм (последовательность может быть обратной). Он заставляет его бросить пить, помогает с деньгами и устраивает на работу. Несмотря на то что пьяница считает себя недостойным, о. Иоанн настаивает, чтобы тот причастился. Бывший алкоголик словно заново рождается. Он начинает хорошо относиться к семье; сперва он живет в честной бедности, но быстро достигает успеха. И всем он обязан о. Иоанну{568}.
Привлекательность такого рода повествования состояла в том, что, будучи житием, безусловно следовавшим евангельским канонам, оно одновременно представляло собой и сказку про Золушку. Поскольку в данном повествовании всегда присутствует семья, с которой герой сначала дурно обходился и которая затем помогает ему совершать первые шаги на пути к о. Иоанну (в результате чего домашняя жизнь превращается в идиллию), можно предположить, что основной круг читателей «жизнеописаний» алкоголиков составляли не столько сами пьяницы, сколько их отчаявшиеся жены и дети. Большой объем писем жен и дочерей алкоголиков к о. Иоанну только подтверждает это предположение. Жизнеописания алкоголиков, в которых явно просматривалась убежденность, что страдания их близких увенчаются счастливой и безоговорочно благополучной развязкой, вероятно, воспринимались их родственниками как мечта, почти недостижимая, но в то же время бесконечно желанная. Угрызения совести, испытываемые раскаявшимся алкоголиком за то, как он унижал своих близких, наверняка особенно отпечатывались в их памяти. Если помнить об этих вероятных читательницах, то детали «жизнеописания» алкоголика становятся еще более говорящими. И действительно, сама интонация, с которой алкоголик рассказывает свою историю, создает впечатление, что рассказ ведется от лица его сокрушающейся супруги.
Посмотрим, к примеру, что пишет Б-в:
«Я получил от отца дом и тысяч полтораста капитала. Кроме того, за женою мне дали триста тысяч. [Подтекст: жена была богаче его, а он потерял все!] Кажется, состояние крупное, и я мог бы с такими средствами не только безбедно прожить свой век, обеспечить семью, но и принести пользу отечеству, как гражданин, предприниматель, промышленник, производитель, капиталист… ведь я человек образованный, был на службе. |Он, наверное, слышал это каждый день!]
[Рестораны] Донон, Контан, Пивато и “Медведь”{569} свидетели того, что я платил по 3 руб. штуку сигар и по 2 1/4 руб. за рюмочку старого вина. Они же свидетели, что я отдавал, иногда подряд несколько дней, по 400–600 руб. за обед или ужин “вдвоем”.
А три мои поездки за границу? Лучше не рассказывать подробности! Когда наличные суммы иссякли и пришлось платить по векселям, я заложил дом, но, конечно, не сократил расходов. Мне казалось, что иначе нельзя жить. Ну, разве мог я отказать Жозефине в коляске или Маргарите в колье?.. Все это невозможно, и я заложил под вторую закладную, стал закладывать бумаги, бриллианты… но вот кредиторы разом нагрянули, продали квартиру, вещи, и мы перешли с женой и с детьми в меблированную комнату… сразу я перешел на сивуху, стал пить запоем и со ступеньки на ступеньку дошел до ночлежного дома, — жена стала ходить стирать поденно.
Имени нет моим поступкам! Из роскоши, богатства я довел жену с тремя малолетними детьми до рубища, нищеты, бил их, истязал, тащил в кабак последнюю подушку из-под ребенка, оставляя малютку спать на голом полу. Моя жена — красавица. Посмотрите, на кого она теперь похожа. Несчастная женщина, неделями не мытая, нечесаная, кажется, дошла до идиотизма. А ведь она играла не так давно роль в обществе, была первая на балу, устраивала приемы, имела салон»{570}.
Когда же речь заходит об о. Иоанне, тон повествования становится менее светским и более благоговейным. Голос о. Иоанна был как «целебный бальзам» на раны Б-ва. Внезапно образы детства — образ распятого Спасителя, кроткий лик Божией Матери, сонм ангелов, поющих хвалебные песнопения, — вновь нахлынули на него, и он пал на колени. Однако в храме Б-в не решался подойти к кресту в конце службы, ибо знал, что о. Иоанн имел дар «видеть людей насквозь». О. Иоанн заметил, как он прижался к стене, и жестом попросил его подойти поближе. Толпа прихожан расступилась. При описании их разговора здесь, как и в других подобных рассказах, делается акцент на призыв пастыря к совместной молитве и на его всеведении:
«— Ты ведь ко мне пришел. Хорошо сделал; давай, помолимся вместе. Ты очень несчастен, но пути Господа неисповедимы… Ты идешь к Нему, и это — великое счастье для тебя… Давно ли ты перестал пить?
— Перестал пить? — переспросил он. — Но откуда же вы, батюшка, знаете, что я пил и перестал пить?
— Не трудно, сын мой, узнать в тебе несчастного пьяницу. Ты не злой человек, христианин не умер в тебе, но враг победил тебя, забрал в руки и вот куда привел. Но могло хуже быть. Враг мог погубить душу твою… Возблагодари Господа за милость Его и проси помощи Его в борьбе с врагом!
Отец Иоанн отвел его в сторону к св. иконам, и Б-в опустился на колени. Первый раз за 23 года Б-в возвел очи к небу, и губы его прошептали слова молитвы. О, что было у него за состояние! Он трепетал от какого-то радостного волнения. На душе сделалось так легко, как не бывало никогда. По лицу катились слезы. Он примирился в эту минуту со всеми в мире, со всеми врагами и недругами. Ему хотелось всех их обнять, чтобы им всем было так же хорошо, как ему в эту минуту».
Здесь также очевидны аллюзии на Псалтирь («Возвожу очи мои к горам» — 120-й Псалом; «и уста моя возвестят хвалу Твою» — 50-й Псалом). После того как о. Иоанна канонизировала Русская православная церковь Московского патриархата в 1990 г., молитва, которую он читал Б-ву, стала канонической «молитвой отца Иоанна», произносимой в конце каждой службы, на которой звучало его имя, будь то собственно церемония его канонизации или молебны, заказанные женами пьющих мужей{571}. Она произвела сильное впечатление на Б-ва: он упал в обморок. Когда же он пришел в себя, о. Иоанн уже ушел, однако оставил вместо себя одного из попечителей Дома Трудолюбия, наказав ему дать Б-ву десять рублей и призвать его прийти исповедаться и причаститься. И вновь в повествование возвращается интонация жены героя:
«Эти десять рублей были для Б-ва очень дороги, потому что и он и семья несколько дней уже голодали. Жена откуда-то добыла 50 к. ему на дорогу в Кронштадт, а сама, верно, осталась с детьми без гроша. Счастливый, радостный вернулся Б-в домой. Давно не видала его семья таким. Сейчас же они перебрались в светлую комнату, купили пищи, сапожишки детям. На новоселье все вместе помолились. Раньше у них не было принято читать молитв, в последнее время не было даже иконы. Дети не знали “Отче наш”. Теперь решили молиться все вместе каждое утро и вечер. Тихо, мирно и счастливо прошел этот день»{572}.
Здесь в жизнеописание алкоголика вторгается третий голос: по воспеванию преимуществ честного физического труда и максимально отталкивающему описанию последствий «культурного» просвещения и легкомысленного образа жизни он напоминает голос Л. Н. Толстого в поздний период его жизни и творчества:
«Он имел постоянную ложу в театре, был знаком со многими “звездами” балета и оперетки, пил как воду лучшие заморские вина и в результате — зевал, страдал головными болями, скучал и часто жалел потраченного времени, сил… Новое же счастье, которое он нашел, не только постоянно, прочно, неизменно, но оно и вечно… Три дня Б-в катал дрова. Сильный, здоровый, бодрый, веселый, он, казалось, был совершенно доволен своею судьбою… Семья повеселела, была сыта и тоже довольна. Рубля с гривенником без пьянства хватает за глаза на все скромные нужды… Жена и дети его воскресли к новой жизни, помолодели, поздоровели. Для детей намечены уже были школы, никто не знал больше никакой нужды ни в чем»{573}.
Финал, вплоть до сказочной формулы «никто не знал больше никакой нужды ни в чем», возвращает нас к образу отчаявшейся жены алкоголика. Буквально все рассказы из цикла H. H. Животова «Пьяницы у о. Иоанна Кронштадтского» сходны по интонации и построению, различаясь лишь в мере изначального богатства пьяницы и его последующего падения. О. Иоанн неизменно предстает добрым помощником, подобным святителю Николаю Чудотворцу (по всей видимости, сюжеты о святителе Николае являются ближайшим прототипом историй об о. Иоанне — причины этого мы рассмотрим ниже); пьяница опустился почти на самое дно и сам решил разыскать о. Иоанна. Однако, при всей шаблонности подобных историй, в них содержались такие детали, как происхождение, имя и отчество раскаявшегося пьяницы, количество детей и их возраст и т. д. — и все это без каких-либо скидок на сохранение инкогнито героя.
Отсутствие анонимности абсолютно понятно. Пока святой и те, кому он помог, живы, рассказчики, как правило, настолько поражены происходящими чудесами, что стараются максимально наполнить повествование конкретной информацией, дабы убедить аудиторию, что «это действительно было». Позднее комиссии по канонизации также стремились добыть точную информацию{574}. Мотивация здесь иная, чем у тех, кто молил о. Иоанна об исцелении и потому подробнейшим образом излагал все симптомы недуга в письмах, — она во многом сходна с отзывами о случаях успешного исцеления. Как в чудесах исцеления, так и в судьбах раскаявшихся пьяниц желанное преображение уже свершилось, и теперь необходимо донести его значение до читателя и убедить его в достоверности события. Такое стремление к точности и конкретности, характерное для конца XIX в., проявляется и во многом другом. Например, современники писали не просто о том, что о. Иоанн известен повсюду, а что «размышления нашего маститого пастыря в настоящее время переведены на многие языки и читаются на всем поясе земного шара между 30 и 70 сев. шир.»{575}.
Именно благодаря стремлению к достоверности в повествование проникают ценнейшие случайные сведения о том, что наверняка оказывало сильнейшее воздействие на современников о. Иоанна:
«Превращение из робкого, приниженного, забитого оборванца в человека с твердой волею, решимостью и почти восторженностью совершилось так быстро, что П.Е. недоставало только костюма, чтобы сделаться совершенно неузнаваемым.
Он весь выпрямился, слегка откинув назад голову, каждое движение сопровождалось такою уверенностью, точно его кто сейчас произвел в коммерции советника или наградил большим орденом…
Года через два Петр Ермолаевич открыл уже свой магазин, а недавно купил каменный дом»{576}.
И последнее, что нужно сказать о жизнеописаниях алкоголиков. Помимо наглядного отображения превращения «богатого, как Крез» человека (используется именно это выражение) в последнего бедняка, а затем в богобоязненного буржуа, авторы подобных жизнеописаний стремятся также утвердить желательные нормы поведения. Даже когда былой алкоголик вновь становится добропорядочным гражданином, этого явно не достаточно. Он также практикует то, что во многих христианских конфессиях называется «служение». Несмотря на то что ни в одном жизнеописании о. Иоанн напрямую не призывает алкоголика жертвовать деньги на храм, — он настаивает лишь на исповеди и причастии, — пьяница и его семейство всякий раз становятся воплощением бюргерской добродетели:
«Каждое воскресенье и праздник семья ходила в церковь, каждый вечер посвящался чтению Св. Писания и молитве… Ни один бедняк не получал отказа в помощи. Предметом особого его попечения была местная приходская церковь. Он золотил ризы и церковную утварь, ремонтировал паникадила, покупал иконы, словом, делал все зависящее от него для украшения и благолепия храма»{577}.
«Теперь И-в владеет домами, капиталом и делает крупные пожертвования на добрые дела. Пьянство никогда не манит его, и хмельного он не берет ничего в рот»{578}.
Итак, выражая в обобщенной форме мечты отчаявшихся родственников, жизнеописания алкоголиков служили также наглядными примерами, одновременно утешая и предлагая модель поведения падшим людям и их близким. Несмотря на то что роль о. Иоанна в счастливой развязке сюжета является ключевой, не он находится в центре истории — его функция в целом сводится к deus ex machina для пьющего мирянина.
Иначе построены произведения, посвященные непосредственно о. Иоанну. Те, кто описывал его жизнь, чтобы способствовать его последующей канонизации, прямо следовали ранним агиографическим моделям: отмечали, что с самого детства он был не похож на других, описывали его постоянное соприкосновение с Божественным и т. д. Так, С. В. Животовский, посетивший родную деревню о. Иоанна, когда тот был в зените своей славы, писал:
«С давних пор привыкла родня смотреть на него, как на человека особенного, не от мира сего. Здесь я узнал, что еще в детстве сын псаломщика Ильи Сергиева, маленький задумчивый Иванушка пользовался среди своих односельчан особенным уважением. Пропадет ли лошадь у мужика, — идут просить Иванушку помолиться, случится ли горе какое, или заболеет кто-нибудь, — опять идут к Иванушке. Но вот дивный мальчик вырос, и слава его, как солнце, засияла над православной Русью»{579}.
Повествования современников об о. Иоанне включали и другие агиографические элементы. Бедность его родного дома вызывала у некоторых почитателей и биографов ассоциацию с пещерой, в которой был рожден Христос{580}. Другие проводили параллель с детством М. В. Ломоносова{581}. Обе попытки усмотреть исторические параллели или предпосылки событий жизни святого — не в смысле строго генеалогического или даже духовного родства — восходят к византийским топосам в православных литургических текстах. С помощью аллегорий и сравнений святого пытались вписать в уже существующий пантеон, а порой и в мир земной. В этом отношении ассоциация с Ломоносовым особенно показательна. Она подразумевает, что, составляя жизнеописания о. Иоанна, его современники стремились использовать его образ как связующее звено между светскими героями России и религиозной историей страны. Для них и религия, и «канонизированная» культура являлись неотъемлемыми составляющими истинно русского человека. Такая точка зрения была характерна для славянофильства и демонстрирует, как часто люди соединяли духовное и светское или даже Божественное и человеческое в истории России. Так, точкой слияния различных начал стала фигура царя, которого Православная церковь полагала помазанником Божьим и чей день рождения, именины и годовщина коронации отмечались и государством, и церковью как важные праздники, с торжественными богослужениями, проповедями и военными парадами. Точно так же и упоминание Ломоносова как одного из духовных предшественников о. Иоанна укрепляло точку зрения, согласно которой служение царю, искусству и стране функционально равнозначно служению Православной церкви. (А некоторые авторы, например, изо всех сил старались показать, что о. Иоанн отличался от «лишних людей» русской литературы — пушкинского Онегина, лермонтовского Печорина или тургеневского Рудина{582}.) Более поздние биографы проводили еще более смелые параллели между религией и культурой: так, в 1990-х гг. Н. Лисовой отметил, что о. Иоанн родился в тот самый день, когда Пушкин написал «Воспоминания о Царском Селе» — 19 октября 1829 года — и высказал предположение, что такие события в духовной жизни нации имели глубинную внутреннюю связь{583}.
Еще более показателен акцент, который делали биографы о. Иоанна — особенно те из них, которые сами были священниками или монахами, — на церковном происхождении пастыря: дед был священником; семья принадлежит к духовному сословию по меньшей мере 350 лет. Жизненный путь о. Иоанна — один из первых примеров, когда церковное происхождение святого особо подчеркивалось в его житии (отчасти, конечно, потому, что он был одним из немногих женатых священников, удостоенных канонизации). Как правило, русские агиографы ограничивались упоминанием о влиянии на будущего святого его ближайших родственников, в частности родителей. Родители, упоминаемые в житии, подпадают под две категории: благочестивые родители, подающие пример для будущего святого, или родители, которые сопротивляются стремлению ребенка встать на путь аскетизма и должны либо уступить ему, либо взять верх{584}. Поскольку в течение всего XIX в. не прекращались попытки сделать духовное сословие открытым для людей любого социального происхождения, явный положительный эффект церковного происхождения о. Иоанна служил весомым аргументом в споре с теми, кто обвинял тогдашнее духовенство в кастовости{585}.
Существовал и еще один, более ранний пример подробного описания церковной родословной. С самых первых лет христианства появилась тенденция включать в жития святых все достоверные сведения, касающиеся их происхождения. Биографии Блаженного Августина, Василия Кесарийского (Великого) и Григория Богослова демонстрируют, какое сильнейшее духовное влияние оказывали на них матери и сестры{586}. В случае с о. Иоанном, как и со св. Григорием Турским, некоторые биографы использовали церковное происхождение, чтобы намекнуть, что более трех веков служения церкви наложили свой отпечаток на формирование облика «аристократа» благочестия{587}. Например, иеромонах Константин с восторгом писал о том, что о. Иоанн — потомок целой «династии» священников и псаломщиков, которые служили в одной деревенской церкви более трехсот лет{588}.
Агиографы о. Иоанна неизменно сталкивались с проблемой «двух ипостасей священника». Будучи святым, о. Иоанн стремился к собственному спасению и отвечал в первую очередь за свою собственную душу. Будучи священником, он стремился к спасению своей паствы и отвечал в первую очередь за нее. И общаясь с ним, и описывая его жизнь, нужно было понимать, в какой «ипостаси» он в данный момент предстает. Если и сам о. Иоанн время от времени ощущал конфликт между двумя этими ипостасями — например, в отношениях с женой — стоит ли удивляться, что это чувствовали и его биографы?
Аспект личной святости, существенный для будущего жития, неизбежно выдвигал на первый план «мистическую» духовную родословную, выявляя, наравне с биологическими, духовных предков и предтеч будущего святого. Это, вероятно, имело особое значение в случае с о. Иоанном, поскольку у него не было духовного отца, а его биологический отец умер, когда пастырь был еще молод. Однако внимание к духовным корням вообще характерно для христианства с его акцентом на спасении личности. Изначально человек связан узами любви и обязательств не со своей семьей, а с Богом («Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня», Матфей 10:37).
Нестандартная семейная ситуация о. Иоанна создавала проблему, которую современные ему биографы деликатно обходили. Несмотря на то что он ощущал внутренний конфликт между семейными и религиозными обязательствами, его биографы с неизменным вниманием подчеркивали его послушание и преданность матери, которые он сохранил в течение всей своей жизни, и его целомудренные, гармоничные отношения с женой{589}. В самом деле, судя по жизнеописаниям о. Иоанна, одно из многих отличий от традиционных репрезентаций святого — это его несомненная преданность своей семье. Его отец умер в 1851 г., как раз когда будущий пастырь только поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Поскольку Иоанн был единственным сыном в семье и единственным членом семьи, получившим образование, обязанности кормильца легли на него. Некоторые биографы указывают, что он ощущал груз семейной ответственности и хотел бросить академию, чтобы устроиться дьячком, но мать великодушно отказалась. Во всех биографиях упоминается, что благодаря отличному почерку и хорошему поведению он смог подрабатывать в академии письмоводителем. Большинство биографов также отмечают, что о. Иоанн зарабатывал девять (или десять) рублей в месяц и все их отсылал домой матери{590}.
Скромная добродетель выполнения сыновнего долга, особо превозносимая в крестьянском и купеческом сословиях, как правило, отсутствовала в житиях монахов и монахинь. Конечно, отсутствие ссылок на семейные узы в житиях святых отчасти объясняется самой природой жанра. В жизнеописаниях первых князей-воителей подчеркивается их военная доблесть и верное служение отечеству; в житиях монахов-отшельников или епископов обычно акцент делается на противостоянии семье и стремлении убежать в монастырь, ибо только в монашестве, как правило, можно было достигнуть истинной святости{591}. И даже несмотря на то, что в нравоучительной литературе уделялась немалая роль женскому служению семье, жития немногочисленных русских женщин-святых также тяготеют к данному аскетическому канону; житие св. Иулиании Лазаревской, посвятившей себя семье, — исключение, лишь подтверждающее правило{592}. О. Иоанн внес изменения в существующий канон — сначала своей преданностью родителям в детстве, затем своей святостью после рукоположения. Его статус женатого священника оказался как нельзя кстати для тогдашней интеллигенции, стремившейся в те годы добиться более благосклонного отношения Церкви к семейной жизни{593}.
Это прославление семейной жизни, которое звучит в житиях о. Иоанна, более чем парадоксально — ведь его биографы знали, что фактически ее не было. Его девственность в браке сыграла на руку таким неправославным мыслителям, как сектанты или, например, Владимир Соловьев{594}. Все биографы о. Иоанна упоминают, что жена была недовольна его решением сохранить девственность, которое, очевидно, было принято без совета с ней и о котором она узнала только после свадьбы (это ключевой момент, поскольку если бы оба супруга договорились по этому поводу заранее, то лишь повторили бы уже существовавший в агиографии прецедент, и проблем бы не возникло){595}. Более добросердечные агиографы предполагают, что о. Иоанн легко убедил ее жить с ним по-сестрински со словами: «Счастливых семей, Лиза, и без нас довольно. А мы с тобой посвятим себя на служение Богу»{596}. (Бросается в глаза параллель с произведениями и взглядами Льва Толстого, будь то «Семейное счастье», «Крейцерова соната» или начало «Анны Карениной»), Некоторые полагают, что таким образом о. Иоанн стал одним из «ста сорока четырех тысяч искупленных от земли девственников», упомянутых в Откровении Св. Иоанна Богослова{597}. Другие авторы приписывают жене о. Иоанна достаточно агрессивное сопротивление. Одни утверждают, будто бы она обратилась с прошением к Санкт-Петербургскому митрополиту Исидору, дабы напомнить супругу о его семейных обязанностях; другие — что она требовала развода; третьи и вовсе убеждены, что ее отец — настоятель собора, чью должность о. Иоанн унаследовал после женитьбы на его дочери, — ходатайствовал за нее перед властями{598}.
Одна из версий столкновения пастыря с иерархами, вероятно, заимствована из раннехристианской агиографии. Согласно этой версии, митрополит Исидор призвал к себе о. Иоанна и угрожал ему увольнением, разводом и т. д. О. Иоанн якобы ответил ему примерно следующее: «На то воля Божья [чтобы я так жил], и вы это скоро поймете» — и вышел. В ту же минуту митрополит ослеп, и зрение вернулось к нему лишь тогда, когда он вернул о. Иоанна и попросил его простить и помолиться за него{599}.
История, конечно, абсолютно нереальная, и о. Иоанн никогда не упоминал о ней в своем дневнике, при том, что он в мельчайших подробностях описывал каждую встречу с митрополитом в течение тридцати лет{600}. Кроме того, в первые годы своего служения, когда предполагаемый эпизод якобы имел место, о. Иоанн считал, что чудеса, описанные в апостольский период христианства и в житиях, едва ли возможны сегодня. Тем не менее неправдоподобность подобных классических сюжетов «возмездия», когда Всевышний наказывает других от имени о. Иоанна, не мешала многим его биографам охотно включать их в повествование.
В одном сюжете описывалось, как три студента решили подшутить над о. Иоанном: один из них притворился смертельно больным, а другой — его безутешным братом. Предупредив студентов, что они шутят с самим Господом, пастырь помолился, чтобы каждый из них получил по вере своей, — и притворщика мгновенно парализовало. Он исцелился только после того, как два других шутника разыскали о. Иоанна и покаялись{601}. Капитан Степан Бурачек также утверждал, что наблюдал, как некто, подшутивший над о. Иоанном, немедленно обжег себе лицо сигаретой, добавив, что сам пострадавший осознал, что наказан за свое «вольнодумство»{602}. Одна женщина попросила у батюшки денег, солгав, будто бы ее изба сгорела, получила их (подумав про себя: «Какой ты прозорливец — ничего не узнал!»), а вернувшись домой, увидела, что ее изба и вправду сгорела — единственная во всей деревне{603}.
В религиозных журналах того времени, например в «Страннике», регулярно публиковались схожие истории о Божественном наказании: «Страшное Божие наказание непокорной дочери», «Казнь Божия за непочитание праздника пророка Илии», «Вразумление раскольника за кощунство над святынею»{604}.
Стремление таких первых агиографов батюшки, как Н. Я. Большаков и И. К. Сурский, включать в жития столь недостоверный материал — стремление, признанное сомнительным их более сдержанными, хотя и не менее преданными о. Иоанну коллегами, — говорит как о значении, которое приобрел к тому времени его образ, так и об отсутствии строгого контроля в Православной церкви над описаниями земных путей своих святых. В любом случае о жене пастыря в жизнеописаниях той поры упоминают лишь в связи с тем, что она довольно долго не могла смириться с его решением сохранить девственность и с его аскетическим преодолением плоти, а также (это подразумевалось) с его «правом» на ежедневное причащение. И более о ней не говорится ни слова. Она выполняет в повествовании всего две функции: препятствия, которое о. Иоанн должен преодолеть, и способа, с помощью которого он получает приход. Все остальное большинство биографов сочли либо несущественным для последующего духовного роста о. Иоанна, либо, напротив, мучительной проблемой, о которой лучше всего умолчать. (Неслучайно среди семейных фотографий ее портретов не так много, и на них она выглядит либо удрученной, либо угрюмой{605}.) Только в ее собственных панегириках и в житии 1990 г. ее прославляют как «идеальную матушку»{606}.
Самыми значимыми являются три духовных предшественника, которым биографы о. Иоанна уподобляли своего героя: преп. Иоанн Рыльский, в честь которого он был назван; святитель Николай — в церкви, названной его именем, о. Иоанн получил начальное религиозное образование; и преп. Серафим Саровский. Здесь возникает вопрос, насколько сам о. Иоанн был солидарен со своей паствой в укреплении собственного культа{607}. С одной стороны, он должен был оберегать себя от гордыни, дабы не потерять благодать; с другой — он не мог отрицать, что ему дарована особая благодать, и полагал, что через прославление его народ прославляет Господа{608}. Духовная родословная была четко очерчена. Ее можно проследить, во-первых, по тому, какую важную роль о. Иоанн отводил преп. Иоанну Рыльскому, болгарскому отшельнику, в честь которого он был назван. После того как батюшка стал знаменитостью и народ начал праздновать его именины, он старался отвести изливаемый на него в этот день поток внимания, чтобы одновременно показать, как люди должны к нему относиться. Так, однажды 19 октября он поблагодарил толпы, собравшиеся его поздравить, следующими словами: «Вы собрались здесь… чествовать в моем лице слугу Христа и вашего молитвенника… а также преклониться перед великим угодником Божиим Иоанном»{609}.
Кроме того, о. Иоанн назвал женский монастырь, основанный им в Петербурге, именем своего покровителя, так что его стали называть просто «Иоанновский», что давало людям возможность вспоминать одновременно и основателя храма, и его предшественника. (Конечно, это оказалось особенно удобным после его канонизации.) Его биографы проводили и более прямые параллели. Когда в одной проповеди о. Иоанн говорил о празднике св. Николая Мирликийского, биографы мгновенно «разглядели», что когда он прославлял святого Николая и перефразировал гимн в его честь, то на самом деле подразумевал себя, а в лице Ария порицал Толстого. О. Иоанн говорил о том, что Николай Чудотворец был правоверным и строгим обличителем тогдашней ереси Ария, который низвел Сына Божия к обычной твари. Он был кротким, простым сердцем, всем доступным, сострадательным, милосердным, искренним помощником вдов и сирот, защитником несправедливо преследуемых и приговоренных, самым непорочным{610}. Параллель завершалась высказыванием о. Иоанна о чудесных исцелениях, в частности — по поводу бытующего в ту пору мнения о естественном объяснении всех «так называемых» чудес. Он скромно замечал, что сам сталкивался со «множеством» случаев быстрого и даже мгновенного исцеления парализованных, слепых и глухих (конечно, не упоминая прямо о роли своих молитв в этих исцелениях). Безусловно, упоминание Ария также не было случайностью. Проповедь была прочитана в 1898 г., а к тому времени о. Иоанн уже неоднократно вступал в конфронтацию с Толстым. Он вспомнил о противостоянии св. Николая и Ария, дабы обнажить суть собственного конфликта с Толстым и его последователями, отрицавшими божественность Христа и рассматривавшими Евангелие исключительно как источник нравственного наставления{611}. Таким образом, для биографов св. Николай и преп. Иоанн Рыльский являлись истинными предками, покровителями и предтечами о. Иоанна — как, по-видимому, и для самого пастыря.
Однако в ком, если не в святых, мог он в конечном итоге видеть образцы для подражания? Если тот же Толстой признавал Пушкина предшественником, оказавшим серьезное влияние на современную литературу, разве не мог и праведник, искавший святости, столь же естественным образом назвать своих святых предтеч и при этом не показаться тщеславным или самоуверенным? Не мог, ибо существует очевидное различие между творческими и духовными достижениями: призванием о. Иоанна было спасение собственной души, и он не мог отделить себя от этого, в то время как писатель мог отделить себя от своего творения. Опасаясь впасть в грех, о. Иоанн должен был избегать явных параллелей с другими святыми, в отличие от своих биографов. (Только в письмах к игуменье Таисии — которая и сама была величайшей подвижницей — он мог написать о боговдохновенной литургии: «Кажется, все горело духовно и трепетало во время литургии и проповеди слова Божия… я сам был воодушевлен и говорил как пророк или апостол»{612}.)
Из его духовных «предтеч» наиболее наглядно биографы проводили связь о. Иоанна со св. Серафимом Саровским, особенно после канонизации св. Серафима в 1903 г.{613} Архиепископ Казанский Никанор в бюллетене своей епархии прямо называет о. Иоанна преемником св. Серафима в том, что касается славы праведника, при всех отличиях в их биографиях. Никанор одним из первых объявил, что произошедшее изменение в религиозной моде, когда на смену монаху-аскету пришел женатый священник, — знамение времени. О. Иоанн ездил на пароходах и поездах, а не пребывал в одиночестве, как на протяжении многих лет Серафим, потому что люди нуждались в нем повсюду. «Люди теперь другие, — утверждал Никанор, — и на них нужно воздействовать новыми, близкими и понятными им способами»{614}. Некоторые современники о. Иоанна пытались установить прямую связь между ним и св. Серафимом через «старицу» Параскеву Ивановну Ковригину. Согласно их точке зрения, любимый ученик св. Серафима, Иларион, особо наказал Параскеве оставить Решминскую пустынь и служить о. Иоанну, «новому светильнику Церкви Христовой, который сияет в Кронштадте»{615}.
Об этом духовном благословении и взаимосвязи двух праведников говорилось для того, чтобы подчеркнуть, что о. Иоанн был «помазан» Серафимом на совершение чудес, однако наличие подобной связи на самом деле проблематично. Сам о. Иоанн никогда об этом не упоминал, называя публично Ковригину просто благочестивой женщиной, просившей его молиться за чье-нибудь исцеление (а в частных беседах и вовсе отзывался о ней неодобрительно){616}. Можно с уверенностью сказать, что в основе данной параллели лежали соображения чисто практические. Проведение аналогии со св. Серафимом делает фигуру о. Иоанна гораздо менее уникальной и, следовательно, менее исключительной в глазах церковных иерархов. Кроме того, св. Серафим был канонизирован во многом по инициативе Николая II, и вполне возможно, что биографы о. Иоанна надеялись, что и его ждет та же судьба, учитывая, что ученики святых — лучшие кандидатуры для канонизации{617}. По иронии судьбы, авторы, стремившиеся развенчать батюшку, шли по тому же пути, что и агиографы, — проводили параллель между о. Иоанном и другими святыми. К примеру, H. A. Рубакин сравнивал изгнание бесов, совершаемое о. Иоанном над «истеричными» женщинами, с более ранними практиками св. Бернара{618}.
Помимо создания духовной генеалогии о. Иоанна его современники следовали и такой агиографической традиции, как стремление обнаружить в детстве святого предзнаменования событий, которые произойдут затем в его жизни (что характерно и для книг серии «Жизнь замечательных людей», в которых будущие достижения «замечательного человека» предопределяются первыми двенадцатью годами жизни). Наиболее часто повторяющийся пример «данного в детстве обещания», описанный самим о. Иоанном, возможно, заимствован из классического жития св. Сергия Радонежского. Иоанн Сергиев плохо учился в школе. Как он пишет:
«Содержание отец получал, конечно, самое ничтожное, жить было страшно трудно. Я понимал уже тягостное положение своих родителей, и поэтому темнота моя в учении явилась для меня особенно тяжким бременем. О значении учения для моего будущего я мало думал и скорбел только о том, что отец напрасно платил свои последние крохи»{619}.
Однако затем случилось первое в его жизни чудо:
«Все были умнее; я был последним учеником… Но ночью я любил вставать на молитву. Все спят — тихо… молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал свет разума на утешение родителям{620}… Однажды был уже вечер… я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала; я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли пробыл я в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего… У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок; я вспомнил даже, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе. Никогда не спал я так покойно, как в ту ночь. Чуть засветлело, я вскочил с постели, схватил книги и — о счастье! — читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что прочитал, не только все понял, но хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше: все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике — решил, и похвалили меня даже. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках и к концу курса одним из первых был переведен в семинарию»{621}.
Сходство этого происшествия с эпизодом из жизни преп. Сергия Радонежского и других святых, которые приобрели способности к учению благодаря Божественному вмешательству, достаточно характерно. Однако существовали и некоторые различия. Свидетельства о. Иоанна автобиографичны. Более того, в контексте русской культуры, которая особенно ценила скромность не только в церковной, но и в мирской жизни, неудивительно, что о. Иоанн сводит к минимуму признаки своей избранности: он упоминает о событии, которое подчеркивает его собственное ничтожество перед величием Божиим{622}. Рассказ о. Иоанна прежде всего реалистичен. Нет никакого чудесного появления старца, как в житии св. Сергия Радонежского. Тяготит его не столько то, что он плохо успевает, сколько угрызения совести — он не хочет быть обузой для своих бедных родителей. Дети из бедных семей особенно остро и болезненно относились к тому, что являются источником расходов, и изо всех сил стремились оправдать свое существование и возместить родителям денежный ущерб{623}.
Еще одна история из детства, носящая ярко выраженный мистический характер, нуждается в более подробном комментарии. Игуменья Таисия из Леушинской обители так описывает это происшествие со слов о. Иоанна: «Однажды ночью 6-летний Ваня увидел в комнате необычайный свет… Взглянув, он увидел среди света Ангела в его небесной славе. Младенец Иоанн, конечно, смутился от такого видения. Ангел успокоил его, назвавшись его Ангелом-Хранителем, всегда стоящим окрест его в соблюдение, охранение и спасение от всякой опасности»{624}. Принимая во внимание, что в православных житиях святых после XVIII в. редко упоминается о видениях, которые не относятся к иконам (разительный контраст с католическими видениями девы Марии XIX — начала XX вв.), это происшествие необычно{625}.
Здесь могут быть и менее явные параллели. Одна из них из области изобразительных искусств. Еще до изменений иконографического стиля в середине XIX в. (которые советские искусствоведы приписывали в основном социально-экономическим сдвигам, вызванным отменой крепостного права в 1861 г.{626}) под влиянием немецкого романтизма, французского католического и викторианского искусства в русской иконографии появился новый жанр — религиозные картинки, основанные на иллюстрациях к Библии Гюстава Доре. На одной из самых популярных изображались двое детей, прогуливавшихся под руку по краю обрыва над водопадом; склон холма иногда был увенчан крестом (все это избитые романтические образы), а за их спинами парил ангел-хранитель{627}. Набирал силу также и жанр поучительных детских историй с сентиментальной религиозно-мистической проблематикой{628}. Поскольку эта образность, несомненно, просочилась из аристократических кругов, едва ли она могла докатиться до Иоанна Сергиева, однако могла повлиять на игуменью Таисию, рассказчицу этой истории, — она происходила из культурной семьи, была одной из внучек Пушкина и сама пережила несколько видений. В любом случае и видения ангела, и немедленный, зачастую мистический ответ на молитвы укрепляют представление, что детство Иоанна Сергиева было необычайно пропитано чувством близости к Господу и Его готовности откликнуться на горячие мольбы{629}.
Еще один фактор, повлиявший, по мнению биографов, на формирование личности о. Иоанна, — его пристрастие к духовному чтению. Еще больше, чем к Псалтири, писаниям Отцов-Пустынников и текстам любимых богослужений, о. Иоанн был привязан к Новому Завету. Игуменья Таисия вспоминает его слова:
«Знаешь ли, что прежде всего положило начало моему обращению к Богу и еще в детстве согрело мое сердце любовию к Нему? Это — святое Евангелие. У родителя моего было Евангелие на славянско-русском языке; любил я читать эту чудную книгу, когда приезжал домой на вакационное время, и слог ее и простота речи были доступны моему детскому разумению; читал и услаждался ею и находил в этом чтении высокое и незаменимое утешение… Могу сказать, что Евангелие было спутником моего детства, моим наставником, руководителем и утешителем, с которым я сроднился с ранних лет»{630}.
Именно благодаря чтению Писания, святоотеческой литературы и литургических текстов, по утверждению биографов, «Бог, вера, Церковь стали всем содержанием его жизни, и содержание это слилось с его чистым, здоровым, гармонически развитым и полным жизненной энергии духовным и физическим существом»{631}.
Наконец, большинство биографов упоминают, что он первоначально хотел стать миссионером на Аляске, в Африке или Китае{632}. Во время обучения о. Иоанна в академии этот путь становился все более популярным. Православная церковь как раз в ту пору расширяла свою миссионерскую деятельность, и семинаристы могли задумываться о том, чтобы заняться обращением в христианство народов, населяющих окраины Российской империи{633}. Несмотря на то что миссионерами обычно были монахи, в XIX в. ими становились и женатые священники, как, например, известный своей миссионерской деятельностью на Аляске Иоанн Попов, позднее канонизированный под своим монашеским именем Иннокентий{634}. Решение Иоанна Сергиева предпочесть пастырское служение миссионерской деятельности биографы объясняют тем, что, познакомившись с разгульной столичной жизнью, он был поражен и пришел к выводу, что и в России «достаточно своих язычников»{635}.
Однако это, скорее, ретроспективные мудрствования. Сам о. Иоанн никогда не упоминал о намерении стать миссионером, подчеркивая, напротив, свою давнюю любовь к священническому уделу{636}. Более правдоподобное объяснение тому, что он не избрал миссионерский путь, дал иеромонах Константин. Он предполагает, что Иоанн настолько глубоко пропитался патриархальным духом своего семейства и был настолько зависим от него, что и помыслить не мог о чем-нибудь ином, кроме священства, отбросив пути монашества или миссионерской деятельности как слишком нетипичные и предпочтя пойти по протоптанной дорожке и жениться на дочери священника, что позволяло обеспечить надежную «должность»{637}. Итак, во всех прижизненных православных описаниях о. Иоанна современные штрихи и детали сочетаются с типичной агиографической структурой и мотивами; в позднейших редакциях эти детали будут постепенно исчезать.
Негативные репрезентации
До сих пор рассмотренные в настоящей главе репрезентации о. Иоанна объединяет одно: все они положительные. Однако существовали и другие прижизненные описания пастыря, менее лестные. Основной огонь вражды он вызвал на себя поддержкой самодержавия во время революции 1905 г., однако негативные репрезентации обусловлены не только политическими, но и религиозными причинами. Сильнейшим нападкам подобного рода подверг его писатель Н. С. Лесков.
В конце 1870-х — начале 1880-х гг., когда о. Иоанн постепенно завоевывал все большую популярность в обществе, Лесков претерпевал эволюцию от традиционно православных взглядов до антицерковных и антимистических воззрений в толстовском духе. Его высказывания о православных «типах», постепенно становившиеся все более ядовитыми, достигли своего апогея в повести «Полуношники». Впервые опубликованная в либеральном «Вестнике Европы» в конце 1891 г., эта повесть сочетает нападки на официальную церковь и ответ на антитолстовскую позицию о. Иоанна{638}. Лесков ненавидел о. Иоанна как символ всего того, что он презирал в Православной церкви, от святых таинств, икон и чудес до культа святых. Для Лескова Толстой воплощал все лучшее, что было в религиозной жизни России, а о. Иоанн — все худшее. В письме Лидии Веселицкой он свел проблему к простейшей формулировке: «Нельзя любить Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского»{639}. «Полуношники» — жесточайшая сатира не только на окружение о. Иоанна, но и на него самого: толстовка Клавдия наносит ему в религиозном споре сокрушительное поражение{640}.
Враждебность Лескова этим не ограничивалась. По его мнению, о. Иоанн не просто воплощал русское православие, но и обладал отталкивающими индивидуальными качествами и, кроме того, выбирал для исцеления только излечимых больных. Лесков сполна изливал свое раздражение в частной переписке. Так, в письме к еще одному толстовцу, князю Д. А. Хилкову, Лесков сардонически замечает (демонстрируя блестящее владение церковнославянским), что истинным проявлением проницательности о. Иоанна стало его решение принять приглашение Маркса, известного издателя журнала «Нива», и Суворина, издателя «Нового времени», а не «бедной праведной вдовы» Тифяевой, мучительно искавшей средства на издание своего детского журнала «Игрушка»{641}. Лесков даже не желал называть о. Иоанна полным именем, упоминая о нем как об «Иванове», «Иване Ильиче» или «Perjean» (от французского Реге Jean — отец Иоанн). Лесков презирал последователей и фанатиков культа о. Иоанна, особенно тех, кто, по его мнению, мог бы лучше понимать, что к чему. После того как дети Хилкова были насильно крещены при участии о. Иоанна, даже вопреки воле их отца, Лесков возмущенно писал Толстому 14 декабря 1893 г.:
«Хуже всего это — как к этому относятся люди нынешнего общества, совсем потерявшего смысл и совесть. Говорят об этом очень мало и всегда — вяло и тупо и с таким постановом вопроса: “это де как смотреть — с какой точки зрения”… И главное тут еще то, что мать Хилкова начала это “с благословением Пержана”, а Пержан что ни спакостит, то все “свято”. И даже те, от кого этого не ждал бы — все на одну стать сделались»{642}.
Не меньшего презрения, с точки зрения Лескова, заслуживали и художники, рисовавшие портреты о. Иоанна, и периодические издания, публиковавшие их репродукции. Едкой иронии он удостоил картину художника Верещагина «Посещение отцом Иоанном больной женщины»{643}. Лесков насмешливо писал о том, как один художник закончил полотно под названием «Искушение отца Иоанна»: «Ночь, кабинет, луна, в окне церковь, он дремлет над книгой, у него за спиной черт с соломинкой — шевелит его за правым ухом, а тут вправе молодая женщина в белом капоте “декольте до самых пор”, но он устал и все-таки дремлет»{644}. В заключение он писал:
«Иваном захлебнулись, но, к несчастию, не поперхнулись. “Лики” его в образных лавках продаются рядом со Спасами, Казанскими и всеми святыми. Редакции наперебой друг перед другом его заполучают и теперь уже все им “обрысканы”. А слава его и глупость все растут, как известного рода столб под отхожим местом двухэтажного трактира в уездном городе».
Аналогичные чувства испытывал и Лев Толстой, когда писал 3 августа 1890 г.: «Рассказ ваш об И[оанне] чудесен, я хохотал все время, пока читал его вслух. Тут ужасно то, что сделали в продолжение 900 лет христианства с народом русским. Он, особенно женщины, совершенно дикие идолопоклонницы»{645}. Несмотря на то что наиболее сокрушительная критика всего, что связано с о. Иоанном, обрушится на него позднее, в связи со скандалом по поводу иоаннитов, уже на этой стадии возникали негативные репрезентации, контрастировавшие с прославлениями пастыря.
Реакция официального духовенства
Неприятие Лесковым и Толстым о. Иоанна полностью согласуется с их неопротестантскими настроениями. Однако тех, в чьи обязанности входило сохранение православной веры, могли еще больше встревожить как появление необычного священника, так и спонтанный, массовый характер поклонения ему. Личная харизма пастыря и стихийные вспышки преклонения перед ним, казалось, подрывали самые основы, на которых испокон веков покоилась благодать священника. Он вновь пробудил тот самый страх перед харизмой, только-только слегка приглушенный церковной традицией и дисциплиной, который на протяжении веков характеризовал непростые отношения между харизматическими или мистическими личностями и церковной иерархией и который проявился совсем недавно, во враждебном отношении к Оптинским старцам{646}. Проницательное наблюдение Розанова о том, что харизма о. Иоанна затмила харизму общепринятых духовных авторитетов, попало в точку.
Официальное неприятие о. Иоанна объяснялось соображениями как практического, так и принципиального характера. Практические соображения были просты: Кронштадт — шумный портовый город близ столицы. О. Иоанн собирал вокруг себя больше народу, чем любой монашествующий старец, и был больше на виду, чем монахи, уже в силу чисто географических причин. В этом отношении он занимал стратегическое положение: и людям было удобно приезжать к нему, и ему было проще привлекать к себе внимание. Принципиальные причины неприятия пастыря были сложнее и менялись на протяжении времени.
В первые двадцать пять лет своего священства о. Иоанн во многом оставался фигурой местного масштаба, сравнительно подконтрольной. Любые нарушения установленного порядка или обычая с его стороны, будь то взаимоотношения с женой или какое-то необычное вмешательство в жизнь паствы, рассматривались не как общественные, а как частные явления и регулировались соответственно. В этот период церковные иерархи относились к нему как к местной достопримечательности — может быть, не в меру усердной, но в конечном итоге послушной. Несмотря на то что их тогдашние письменные отзывы об о. Иоанне не сохранились, их можно попытаться реконструировать на основе его дневников. Например, в 1869 г. он так отзывался о своем благочинном: «Дома он хорош, а в обществе — тормозит сильно, не резонно»{647}. Даже если сделать скидку на задетые чувства о. Иоанна, косвенные свидетельства того времени подтверждают, что отношения с иерархами действительно были напряженными. И хотя едва ли Санкт-Петербургский митрополит Исидор был ослеплен за попытку отругать о. Иоанна, из дневников батюшки следует, что Исидор в течение многих лет обращался с ним холодно и резко. В 1867 г. он упоминает о своих слезах и обиде после грубого приема у митрополита; в 1890 г., на пике своей славы, пишет: «Ни разу за тридцать лет он меня не встретил по-отечески, добрым словом или взглядом, а всегда унизительно, со строгостию и суровостию»{648}.
Перелом во взаимоотношениях о. Иоанна не только с паствой, но и с церковными иерархами наступил в 1883 г., после открытого письма, опубликованного в «Новом времени». На следующий день после публикации письма обер-прокурор привлек к нему внимание Святейшего Синода. Все члены Синода пришли в замешательство; Исидор был недоволен, что «подобная заметка» была напечатана в светском издании без санкции религиозного цензора{649}.
Протест митрополита коренился в подозрении, что о. Иоанн подрывал основы церковной иерархии изнутри. Иерархи всегда стремились как можно полнее контролировать соблюдение религиозных догм и все религиозные явления и как можно отчетливее проводить разграничение между подобающим и неподобающим религиозным поведением. Главные трудности в этом отношении создавали монашествующие и странники; теперь же личная харизма проистекала из совершенно неожиданного источника.
Пересмотр о. Иоанном практик священства синодальной эпохи и поддержка им социальных форм раннехристианской церкви, казалось, ставили под сомнение попытки иерархов установить четкие православные нормы. Почему, если он не собирался осуществить брачные отношения, он не ушел в монастырь, а женился? Почему шестнадцать благодарных мирян не выразили свои чувства к пастырю в религиозной газете, чтобы их отзывы могли быть санкционированы надлежащими органами? Это исподволь подрывало те немногие сферы духовной жизни, которые были четко определены, в том числе «подобающие» пути к целомудренной и аскетической жизни. Выходило, что о. Иоанн брал на себя все, в том числе целомудренную жизнь и писание христианских трудов, то есть то, что было уделом монахов и епископов, и не вписывался таким образом в рамки, установленные для приходского священника.
Еще одна причина недовольства тем, что пастырь вышел за пределы своей сферы деятельности, крылась в стремлении сохранить контроль. Начиная со времен Петра I духовенство рассматривалось как обособленное сословие, у которого была не только своя собственная судебная система, но и свои издания и соответственно цензура. Наряду с предоставлением низшим слоям духовенства определенных гарантий, уравнивающих их с другими российскими сословиями, такая политика одновременно усиливала их изоляцию от общества и подчиненность высшим чинам Церкви. Побудив мирян прославить духовное лицо в светской прессе, о. Иоанн предложил для оценки христианских деяний иные критерии, чем это было принято в Православной церкви. А это могло вывести священника из-под непосредственного подчинения церковным властям и позволить ему воззвать к независимому общественному мнению.
В этом смысле о. Иоанн стал одним из предвестников появления священства, которым не так легко управлять{650}. Из-за своей независимости и харизматической привлекательности для масс он на долгие годы утратил доверие официальной церкви. Несмотря на мужественные попытки его официального биографа архимандрита Михаила перечислить все награды пастыря в качестве доказательства, что он достиг вершин светской и духовной славы, нет никаких документальных подтверждений, что о. Иоанна когда-либо приглашали служить в крупнейших соборах. К примеру, он никогда не служил ни в Успенском соборе, ни в храме Христа Спасителя, ни в самом знаменитом русском монастыре — Троице-Сергиевой лавре{651}. Несмотря на то что он был в числе приглашенных на свадьбу и коронацию Николая II, он не участвовал в торжествах по случаю канонизации святителя Феодосия Черниговского и преподобного Серафима Саровского{652}. Даже после того как о. Иоанн стал знаменитостью и приобрел некоторую независимость, иерархи по-прежнему при каждом удобном случае утверждали свои прерогативы. Так, в 1887 г., когда (воссоздавая раннехристианскую практику) батюшка ходатайствовал в поддержку кандидатуры на должность священника крестьянина, популярного в народе, но не имеющего формального семинарского образования, местный архиерей совершенно недвусмысленно отклонил его прошение{653}. Цензурные комитеты МВД как в Москве, так и в Санкт-Петербурге запрещали издавать сборники духовных стихов, посвященных о. Иоанну, рассказы о его путешествиях и истории об исцелениях алкоголиков{654}.
Иерархов особенно беспокоили такие вопросы церковной политики, как освобождение от подготовки к Святому Причастию, которое о. Иоанн раздавал с такой легкостью. Однажды епископ Савва (Тихомиров) упрекнул его за происшествие, случившееся во время его визита в Вышневолоцкий Казанский женский монастырь. По всей видимости, о. Иоанн допустил нескольких монахинь до Причастия без предварительной исповеди монастырскому духовнику, а Савва узнал об этом нарушении монастырской дисциплины и постановил, чтобы больше таких поблажек не давалось{655}. Здесь проблема была той же, что и в случае со старчеством: авторитет самостоятельно избранного духовника, казалось, заменял и подрывал иерархическую дисциплину. Многие архиереи были убеждены, что только они обладают правом благословлять на Причастие без соответствующей подготовки. В других случаях о. Иоанну приходилось защищаться от обвинений в шаткости богословской позиции, выдвигаемых знаменитым еп. Феофаном Затворником{656}.
Равные о. Иоанну по чину священнослужители также относились к нему без энтузиазма. Многие восхищались им, но были и такие, которых удручало, что он стяжал себе всю славу, так что другие священники проигрывали на его фоне. Они считали его манеру «аффектированной»; некоторые даже выгоняли его, когда он заходил в их храм{657}. Все же иные священники приглашали его служить в свои приходы, но делали это неохотно из-за того столпотворения, которое творилось на его службах. С приездами о. Иоанна Кронштадтского всегда возникали проблемы. Церковь оказывалась переполненной, все орали и шумели, натаскивали грязи в храм, и «после его отъезда долго нельзя было прийти в себя»{658}.
Проблема, однако, состояла не только в неконтролируемости о. Иоанна. Епископ Феофан (Затворник), который, в отличие от митрополита Исидора, ни в коей мере не был «ответственен» за о. Иоанна, написал ему письмо, в котором предупреждал о духовной опасности его действий как для него самого, так и для окружающих. Феофан утверждал, что стремление быть аскетом в миру является искушением для всех, кроме монахов. Его тревожила возможность как «ужасного падения» самого о. Иоанна, так и скандалов и инсинуаций по этому поводу среди духовенства и мирян{659}.
Исцеления, весть о которых распространялась все шире, породили еще одну трудность. Сам по себе факт совершения чудес не вызывал проблем у церковных властей: в XIX в. наблюдалось постепенное отступление от рационализма церковных предписаний к признанию сверхъестественного. Главный подвох крылся в другом. Когда исцеления приписывались Божественному вмешательству, считалось, что они случаются благодаря поклонению иконам или святым мощам либо благодаря заступничеству прославленных и канонизированных личностей. Многие старцы и юродивые были наделены даром предвидения, однако способность исцелять от болезней была явлением совершенно нетипичным. О. Иоанн застал Церковь врасплох. У Православной церкви имелись жития целителей эпохи раннего христианства, а также св. Николая или Косьмы и Дамиана, однако она не знала, как относиться к живому чудотворцу. Согласно некоторым источникам, обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев вызывал о. Иоанна, чтобы обсудить именно его знаменитые чудеса. «Про вас говорят, что вы… чудеса творите, — будто бы сказал Победоносцев о. Иоанну, — смотрите, как бы вы плохо не кончили»{660}.
Слова Победоносцева демонстрируют те трудности, с которыми постоянно сталкивались церковные иерархи в своих стремлениях проконтролировать и направить в нужное русло необыкновенные формы религиозного поведения. В то время как существовала налаженная система запретов касательно неподобающего поведения (куда относились в том числе и ложные свидетельства об исцелении), соответствующего «положительного» механизма, регулирующего стихийные проявления религиозности, не было. До тех пор пока кто-нибудь не указывал на какие-то нарушения правил, Церкви оставалось только наблюдать и ждать. Римско-католическая церковь столкнулась с аналогичным случаем в лице Падре Пио, монаха-капуцина, умершего в 1968 г. в возрасте 81 года, и приняла меры предосторожности: ему не позволялось говорить с людьми нигде, кроме исповедальни, ему запрещалось писать письма и говорить проповеди. Его биограф, коллега-священник, одобрительно замечает: «Без столь четких ограничений мы бы наверняка не избежали чего-то вроде его прижизненной массовой канонизации»{661}, — то есть именно того, что произошло с о. Иоанном. Правда, посмертно Пио стал и настоящей знаменитостью (к его раке приходит больше народу, чем к мощам св. Франциска Ассизского) и индустрией: появились освежители воздуха под названием «Padre Pio» и пр.{662}
Православные иерархи, напротив, не препятствовали развитию харизматической деятельности о. Иоанна, контролируя ее только в случаях явных нарушений. Такое поведение имеет ряд объяснений. Во-первых, ощущая рост антирелигиозных настроений во второй половине XIX в., Церковь, вероятно, стремилась проявлять терпимость к тем, кто утверждал и поощрял благочестивое поведение{663}. Однако не менее важный фактор — убежденность Православной церкви в том, что святость может развиваться «снизу», и поэтому необходимо просто проявлять бдительность. В данном контексте священство о. Иоанна и его стремление облечь каждое свое деяние в сугубо православные формы приобретают особое значение. Будучи представителем духовенства не в первом поколении, о. Иоанн рассматривался иерархами как человек свой и потому заслуживающий большего доверия, чем какая-нибудь странница или даже монах.
Благодаря такой позиции Церкви слава о. Иоанна, начало которой было положено независимой группой мирян и светской газетой, укреплялась в народе. И хотя инициатива здесь была скорее светская, чем духовная, священники также охотно свидетельствовали о благих деяниях о. Иоанна{664}. Это показатель, во-первых, отсутствия официального механизма расследования подобных прецедентов в структуре Православной церкви, а во-вторых — того, насколько убеждения мирян продолжали определять представления о святости: описания «чудес» о. Иоанна собирались и подтверждались мирянами и приходским духовенством. За пределами России, если судить по посмертным жизнеописаниям, его культ также поддерживался в основном мирянами, а не духовенством{665}.
Критика о. Иоанна церковными иерархами сводилась к следующему. Пастырь в своем лице воплощал сразу два религиозных типа, которые прежде были разделены: священнослужителя — и пророка или праведника, иными словами, человека с законным статусом в противоположность независимому харизматику. Священник уже самим обрядом богослужения осуществляет таинство спасения. И несмотря на то что в некоторых случаях может иметь место и личная харизма, именно совершение литургии «наделяет священника легитимной властью как участника общего дела спасения»{666}. Учитывая значение, которое о. Иоанн придавал совершению священником таинств, очевидно, что он именно так ощущал свою службу. Однако ему удалось объединить эти качества с такими атрибутами пророка, как живые, эмоциональные проповеди, интерес к социальной сфере, дар предвидения и исцеления, что ранее считалось невозможным. Истоки его всенародной популярности кроются именно в этом синтезе: способность непосредственно воздействовать через личную харизму сочетается в нем с принадлежностью к официальной церкви и полноценным служением ей.
О. Иоанн стал первой фигурой в России, объединившей священство и личную харизму, — явление, закрепившееся в новейшей истории. Теперь священники не реже, чем монахи или праведные миряне, проявляют способность к живой вере и одновременно умение говорить как облеченное полномочиями духовное лицо. (Несмотря на то что книга посвящена о. Иоанну и русскому православию, отметим аналогичное явление в Римско-католической церкви, начиная с Жана-Мари Вьяннэ в XIX в. во Франции. Позднейший крайний пример политически и социально «идейного» священства — «теология освобождения»{667}.)
Глава 6 «ИОАННИТЫ»
Опасения церковных иерархов в отношении феномена о. Иоанна были не напрасны. Некоторые его почитатели явно выходили за рамки канонического православного поведения; крайние формы данное явление приняло в секте «иоаннитов». Дать им однозначное определение было непросто. Кто такие иоанниты? Благочестивые, но заблуждающиеся православные, которые зашли слишком далеко в своем благоговении перед о. Иоанном, или же сектанты, прикрывавшиеся его именем? Были ли они «ловцами душ человеческих», приверженцами опасного культа, представлявшего собой одно из антиинтеллектуальных направлений праворадикального движения?
Иоанниты, как и старообрядцы XVII в., были более сложным феноменом и не укладывались ни в одну из предложенных выше категорий. Изначально это были малообразованные миряне, привлеченные страстной верой о. Иоанна и его призывами к России излечиться духовно, возродить истинное православие и, пока не поздно, встать на спасительный путь. В отличие от многих священнослужителей, казалось, пропитанных духом либерализма, рационализма и прогресса — а все эти понятия иоанниты предали анафеме, — о. Иоанн говорил на понятном для них языке. Для них он воплощал православие. Однако иоанниты направили свое поклонение в неожиданное русло: они стали сами претендовать на его харизматический дар. Несмотря на сопротивление о. Иоанна, иоанниты группировались вокруг него, собирались в общины и путешествовали по Российской империи, добывая средства и вербуя все новых последователей харизматического благочестия собственного розлива. Мировоззрение иоаннитов затрагивало и политику: они поддерживали самодержавие и нападали на выразителей современных веяний в среде церковных иерархов, светских властей и так называемой еврейской прессы{668}. Они бросили вызов не только каноническому православию, но и либеральной политике и в результате оказались одним из самых извращенно представленных и неверно истолкованных религиозных явлений в России XX в.
Современникам долгое время оставались неясны взаимоотношения иоаннитов с о. Иоанном (характерно, что окрестила их этим именем враждебная им пресса). Кроме того, обычно стоящие на противоположных позициях официальная Церковь и ультрарадикальная пресса проявили удивительное единодушие в своем неприятии иоаннитов. Таким образом, линия раскола в российском общественном мнении относительно этого движения не совпадала с традиционной границей во взглядах, сложившейся в эпоху политических конфликтов начала XX в. Еще большую путаницу создавали репрезентации иоаннитов обеими сторонами, зачастую неверные и намеренно искаженные. К примеру, церковные авторы того времени прикладывали немало энергии, чтобы показать, в чем иоанниты отклонялись от церковного учения, и таким образом отвести им определенное место в ряду существовавших тогда в России сект. Они особо подчеркивали сектантскую направленность иоаннитов и тот факт, что сам о. Иоанн отмежевался от них{669}. Аналогичным образом не преминули провести различие между о. Иоанном и иоаннитами журналы умеренного толка, чувствующие своим долгом защитить Православную церковь{670}. Для радикально настроенной прессы иоанниты являлись удобным плацдармом для нападок как на о. Иоанна и массы его поклонников, так и на его политические взгляды. «Выходки» иоаннитов были полезны в том плане, что как бы отражали недостатки их предводителя{671}.
Позиции сторонних наблюдателей ясны и очевидны, однако определить, как описывали себя сами иоанниты, значительно труднее. Вплоть до ослабления цензуры в 1905–1906 гг.{672} иоаннитам было негде публиковаться. Их высказывания дошли до нас большей частью в опосредованном и искаженном виде, сохранившись в делопроизводстве властных структур, таких как Святейший Синод или Департамент полиции{673}. Одним из самых надежных источников «из первых рук» служат письменные обращения к о. Иоанну{674}. Кроме того, ведущие представители движения иоаннитов начали издавать брошюры и еженедельный журнал под названием «Кронштадтский маяк». Однако этот источник также не представляется исчерпывающим, поскольку остается неясным, в какой степени эти публикации выражают взгляды всех сторонников движения. Характерно, что и церковные иерархи, и журналисты проводили различия между мотивами и поступками «лидеров» иоаннитов и «темной, простой толпой». Кроме того, во взглядах конкретных представителей течения не обнаруживается единства{675}. Наиболее очевидный довод в пользу того, насколько трудно классифицировать иоаннитов, — тот факт, что сами они никогда не использовали это название и не соглашались с ним, настаивая, что являются православными христианами. Иоанниты представляют собой интереснейший феномен для изучения, начиная со складывания секты из отдельных, никак не связанных между собой личностей до постепенного превращения ее в некую общность людей со сходным типом поведения.
Сущность движения
Кто же такие были иоанниты? Вначале очень трудно было найти малейшее отличие их от православных христиан, отчасти потому, что их поведение на первый взгляд мало отличалось от поведения других почитателей о. Иоанна. Так же как и остальные православные, они считали его избранным сосудом Божиим, испытывали благоговейный трепет перед творимыми им чудесами и восхищались его безграничным великодушием к бедным и нуждающимся. Как и многие другие православные, иоанниты держали у себя дома на почетном месте изображения о. Иоанна, будь то портреты, фотографии или литографии, распространяемые неутомимыми коробейниками по всей России. Кроме того, они бережно хранили вещественные свидетельства его благословения: свечи, просфоры, иконы, святую воду. К любым другим предметам, с которыми соприкасался батюшка, они также относились с благоговением. И православные, и иоанниты нередко считали, что о. Иоанн обращался к Богу с иными молитвами, чем его собратья-священники, и стремились достать тексты этих особых, действенных молитв. Наконец, в отличие от таких движений, как баптисты или пашковцы, иоанниты настаивали на своей приверженности православным таинствам исповеди и причастия. То есть религиозная практика иоаннитов до такой степени походила на традиционные проявления православного благочестия, что было крайне трудно отделить их от типичных православных христиан, пусть даже чрезвычайно пламенных. Именно это сходство мешало религиозным и политическим властям охарактеризовать иоаннитов и разработать тактику поведения с ними.
Тем не менее отличия существовали, и постепенно власти начали обращать на них внимание. Иоанниты считали, что скоро настанет конец света — вероятнее всего, после революции — и что спасется всякий, кто придет к Богу, воплотившемуся в о. Иоанне. Некоторые учили, что о. Иоанн является пророком Илией, другие — Иисусом Христом, третьи — Господом Саваофом{676}. Даже в апологии иоаннитов под названием «Правда о секте иоаннитов» говорилось: «В батюшке кронштадтском явился во плоти Бог, Он оправдал себя в духе. Показал себя ангелам и в народах проповедан»{677}.
Подобная формулировка содержит характерную неясность, вызывающую недоумение. В каком смысле, по мнению иоаннитов, Бог воплотился в о. Иоанне? Другие высказывания вызывают не меньшее недоумение: о. Иоанн называется «селением Божиим, жилищем Св. Троицы — Бога Отца, Сына и Святого Духа, которые в нем почивают», и всякий, кто хулит его, будет уничтожен; «грядите в Кронштадт и обретите Жениха Христа» и т. д.{678}
Следующим шагом было создание общины преданных единомышленников — но не официального монастыря или богоугодного заведения, подобного Дому Трудолюбия о. Иоанна. Обе православные формы общин, по-видимому, накладывали слишком много ограничений на поведение иоаннитов: монастыри имели свой устав и распорядок, имевшие мало общего с главными постулатами иоаннитов о конце света и харизме. Во всяком случае, в монастыре постарались бы искоренить эти индивидуалистические тенденции и уж точно запретили бы ритуалы иоаннитов, которые слишком напоминали Святое Причастие{679}. Кроме того, в монастырь принимали на очень строгих условиях, включая вступительный взнос, который иоанниты, в большинстве своем бедные, едва ли могли внести{680}. В Доме Трудолюбия обучали ремеслам и воспитывали в духе православия, однако практическая направленность заведения отталкивала пламенных иоаннитов.
Следующей отличительной чертой иоаннитов было их нежелание оставаться подконтрольными церковным или государственным властям, включая и самого о. Иоанна. В соответствии с православным учением, подчинение иерархии и, шире, духовному наставнику — пресвитеру — необходимо для спасения{681}. Иоанниты, напротив, полагали, что только им открыта истина и что они вправе клеймить иерархов и церковников как «лжепастырей»{682}.
Иоанниты полностью перевернули традиционное православное представление об иерархии. Почитая о. Иоанна, облеченного саном, они при этом не принимали жесткого разграничения гендерных ролей, характерного для православия. Присутствие женщин-лидеров и совпадение ролей мужчин и женщин отличают иоаннитов (как и многие другие сектантские группы) от православной общины, в которой гендерные функции определены очень четко. У иоаннитов наблюдается также определенное разделение ролей. Так, все публицисты у них — мужчины, а почти все вербовщики, торговцы книгами и предводители общин — женщины. Более того, вторым по значимости духовным лидером после о. Иоанна для иоаннитов была Порфирия Киселева, женщина, которую многие называли «Богоматерью». В секте наблюдался явный численный перевес женщин, и это было использовано против иоаннитов как Синодом, так и радикальной прессой, которая писала с тревогой о женской власти{683}.
Наконец, иоанниты, вопреки православным канонам, путешествовали, проповедовали, вербовали сторонников и пытались копировать церковные обряды. В православной практике наставление и проповедь были всецело вотчиной духовенства; руководящие роли для мирян, в особенности для женщин, были ограничены. Некоторые отдельно взятые праведницы могли вызывать восхищение и служить примером для подражания, однако женщины, желающие сформировать общину, — особенно представительницы низших классов, — как правило, наталкивались на сопротивление{684}. Иоанниты же, напротив, проповедовали свою трактовку Писания и продавали — ярчайший пример нарушения всех канонов — «причастие отца Иоанна» по рублю за штуку{685}.
Церковь об иоаннитах: первые отклики и РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Чтобы все эти черты выкристаллизовались, потребовалось время. В начале иоанниты были небольшой группой людей со схожими взглядами, которые действовали независимо друг от друга. Крестьянин Василий Кондратов в Гдовской области в 1892 г., крестьянка Клипикова в Самаре в 1895 г., странник по имени Максим в 1896 г. — все они проповедовали, что конец света близок и что о. Иоанн — сам Христос{686}. Пока что связь между этими происшествиями не была ясна, и зачастую они рассматривались на местном уровне: епископ конкретной епархии нередко направлял о. Иоанна прямиком в родной приход смутьяна для его вразумления{687}. Понадобились годы, чтобы выявить общие закономерности движения. А тем временем обескураженные священники, столкнувшиеся в своем приходе со столь подозрительными прихожанами, начали обращаться напрямую к о. Иоанну.
Так, в 1900 г. о. Алексей Златоустов из Покровского уезда сообщил пастырю, что из Кронштадта к ним приехали три женщины, проповедующие, что о. Иоанн — единственный истинный, законный пастырь в России (к тому же бессмертный) и что, следовательно, нужно молиться ему и его изображениям; что деньги — печать Антихриста и что люди должны бросить работу, раздать сбережения и поехать в Кронштадт исповедоваться. Молодой и неопытный о. Алексей просил батюшку письменно ответить на наиболее спорные вопросы, «дабы вовремя нам успокоить взволнованных»{688}. Другие священники сообщали, что их прихожане относились к о. Иоанну как к Господу, воссиявшему во славе, цитируя Евангелие от Иоанна («Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн», Иоанн 1:6), и, подобно многим сектантам, объявляли брак прелюбодеянием{689}.
Просьба Златоустова заставляет задуматься. Неудивительно, что крестьяне, солдаты и миряне спрашивали о. Иоанна в своих письмах: «Про книгонош объясните называющие себя вашими учениками нездраво толкуют Евангилие, учут людей не праведно. Называют вас богом говорют что нужно оставить брачною жизнь раздать все имение и следувать за Христом»{690}. Однако тот факт, что и священники серьезно задавались теми же вопросами, показывает, до какой степени о. Иоанн изменил традиционные представления. Он преобразовал совершение таинств; он сохранял девственность в браке (что многие иоанниты использовали как аргумент в пользу полного целомудрия). Его проповеди становились все более апокалиптическими; такой человек вполне мог разослать повсюду своих учеников. Поэтому для православных священников важно было понять, получили ли странники благословение о. Иоанна. Ограничивались ли странствующие ораторы проповедями скорого конца света или же указывали на конкретного мирянина как на источник спасения — в любом случае их незамедлительно следовало признать сектантами. Однако поскольку они связывали себя с именем о. Иоанна, многие священники пока колебались{691}.
Был и дополнительный фактор, усложнявший положение священников. Они являлись хранителями православия на местах и были ответственны за сохранение истинных молитв и истинной веры среди своей паствы. Им приходилось держать ответ не только перед Господом и прихожанами, но и перед церковным начальством. Прежде чем докладывать начальству, священники, вероятно, стремились исчерпать все остальные возможности и твердо во всем убедиться. В случае с иоаннитами следующей инстанцией после самого о. Иоанна были местные епархиальные журналы, служившие своего рода центрами обмена информацией по самым запутанным проблемам, с которыми сталкивались священники{692}. Благодаря таким статьям, как «Новые обожатели о. Иоанна Кронштадтского в Донской области», священники по всей России узнали о существовании этих «новых обожателей» — и помогли классифицировать этот феномен. Именно в журнальных статьях характеристики иоаннитов были впервые сведены воедино в попытке определить их место в существующей типологии религиозных групп{693}.
Не менее решающим был здесь и недвусмысленный ответ самого о. Иоанна. И хотя позднее критики высказывали мнение, что он будто бы почти не пытался отмежеваться от грубой лести, необходимо подчеркнуть, что батюшка выразил свое мнение о так называемых обожателях не менее решительно, чем остальное духовенство, без обиняков. Обвинения критиков не подтверждаются данными источников{694}. О. Иоанн не только совершал поездки с целью разоблачения таких почитателей, но и писал инвективы в адрес пока не известных смутьянов. Его поведение было ответом одновременно и иерархам, и мирянам. Один из первых подобных примеров приходится на 1895 г., когда Св. Синод переслал батюшке донесение епископа Костромского и Галицкого Виссариона о том, что во вверенной ему епархии крестьянка по имени Пелагия Васильевна Кабанова держит изображения о. Иоанна в своем киоте так, что они закрывают иконы; она молится на него, как на Иисуса. Когда ей пригрозили арестом, она сказала, что готова все вынести за своего Спасителя. Синод настоятельно предписывал о. Иоанну «вразумить Кабанову». Пастырь попытался сделать это в подробном письме от 12 марта 1895 г.:
«Изуверное, невежественное, несмысленное лжеучение Пел. Кабановой встречается между невеждами и несмысленными, особенно женщинами, а иногда и мужчинами, безграмотными и темными… Свидетель мне Испытающий сердца и утробы Бог, что я ни малейшего повода не подавал к появлению таких бабьих басней, каким они учат простой, доверчивый народ… Никакого повода я не подал Кабановой, как и кому-либо другому, считать меня за Христа, меня, человека грешного, немощного. Благодать Божия и долговременное служение в сане священническом так просветили мои сердечные очи и укрепили во мне веру в Господа и св. Церковь, равно как сознание своей немощи и греховности, и потребностью непрестанном содействием мне благодати Божией, — что я никогда не мыслил о себе высоко, а признавал себя немощным и грешным паче всех, и удивляюсь нелепости, бессмысленной и заблуждению означенной К. и вот ныне же обличаю ее этим моим писанием в нелепости и пагубе лжеучения ее, и говорю:
Оставь свой бред и свое нелепое, бессмысленное новшество, принеси повинную голову своим пастырям и судьям, коих ты смутила своей вредной новизной, и веруй, как все православные христиане веруют и исповедуют… нет иного имени под небесами, о нем же подобает поклонитеся нам, кроме имени Иисуса Христа… Который, Сый на небеси, сидит одесную Отца, и с верными своими пребывает и пребудет до скончания века невидимо в Церкви своей. — И аще мы будем благовестить паче, нежели благовести слово Божие, анафема да будет, по слову Апостола»{695}.
И когда солдат Семен Тарабрин в своем письме умолял о. Иоанна подтвердить, правда ли, что он — Бог, Порфирия Киселева — Богоматерь, а Кронштадт — Новый Иерусалим, пастырь начертал на письме: «О вздор! О нелепость!» и немедленно ответил{696}. Позднее по просьбам прихожан заявления о. Иоанна начали публиковать, чтобы тем самым попытаться пресечь распространение сомнительного учения{697}. Особенно выразительны комментарии батюшки по поводу акафиста, сочиненного в его честь крестьянином Иваном Артамоновым Пономаревым.
Акафисты иногда сочинялись как форма личного благочестия, однако их нельзя было исполнять публично без разрешения Синода; а уж об акафисте в честь ныне живущего и пока не канонизированного человека и речи быть не могло{698}. Однако Пономарева это не остановило. В своем акафисте он называет о. Иоанна «великим и святым», а также «Богом во плоти», «Судией всему миру» и «Триединым Господом»{699}.
Даже если бы Пономарев ограничился тем, что назвал о. Иоанна святым, это уже было бы чересчур. Однако очевидное уподобление его Господу выходило за всякие рамки. Епископ Виссарион прислал о. Иоанну копию акафиста с наставлениями, как с ним поступить, и о. Иоанн им последовал. Он отправил яростное письмо Пономареву, которое было перепечатано в «Костромских епархиальных ведомостях» в 1902 г. Письмо показывает, что пастырь был крайне возмущен:
«Кто тебе, невежде, внушил этот акафист? Полагаю, что сатана. Как ты, глупейший, осмелился во зло употреблять мое имя, и мне, грешному человеку, хотя и священнику, составить акафист, подобающий только святым? Чего, чего ты не нагромоздил, каких неподражаемых богохульств? Никакому здравомыслящему человеку читать невозможно бесчисленных несуразностей в твоем книгомарательстве. И ты читал слова безумия твоего простодушным людям, простым и неученым, и они тебе, безумцу и самозванцу — верили? Жалкие! И какое у тебя было намерение при составлении этой белиберды? Основать свое раскольническое общество, собирать свои собрания и отлучать добрых простых людей от церкви Божией? Разве нет в св. Церкви своих богомудрых акафистов? И как ты смел меня, грешного, произвесть во святые? За кого ты себя самого считаешь? Ты забыл самое главное, именно, что ты — невежда, бессмысленный; сумасшедший. Проклинаю я твой акафист. Скажи это всем твоим слушателем и последователям»{700}.
Однако этот горячий ответ не произвел на Пономарева должного впечатления. Он продолжал распространять свой акафист и освященную о. Иоанном воду превратил в источник дохода. Почему обличительного пафоса о. Иоанна оказалось недостаточно, чтобы остановить Пономарева? Согласно правилам православного послушания, порицание со стороны духовного наставника должно было уничтожить на корню почин его заблуждавшегося последователя. Возможно, Пономарев пытался оправдать обвинение о. Иоанна ссылкой на скромность. А может быть, он усмотрел в категоричном отпоре батюшки вынужденную уступку церковным иерархам{701}. В любом случае, пренебрежение Пономарева к строгой отповеди о. Иоанна не было единичным случаем — такое пренебрежение проявляли и другие иоанниты, как «лидеры», так и «последователи». Это позволяет предположить, что о. Иоанн служил для них удобной точкой приложения религиозной активности, которая на практике далеко не всегда имела к нему отношение. Пастырь стал лишь подходящим предлогом для их собственной деятельности.
Как в письмах, так и во время посещения Пономарева о. Иоанн выступал в двух ипостасях — праведника, стремящегося к спасению, и православного священника. Денно и нощно вознося благодарение Господу за безмерную любовь людей и дарованную благодать, он по-настоящему ужасался мысли, что кто-то может впасть в искушение, назвав его божеством. Однако тревога батюшки не могла сравниться с яростью, которую он испытывал, когда видел то, что называл «злоупотреблениями», со стороны Пономарева и иже с ним. У о. Иоанна, как и у большинства православных клириков и иерархов, не было сомнений, имеют ли миряне «право голоса» на проповедование, сложение акафистов или организацию религиозного собрания без присмотра церковного лица. Ответ был отрицательный. В частности, о. Иоанн велел односельчанам Пономарева во всем слушаться только своих батюшек, а никоим образом не смутьянов — то есть мирян, проявлявших собственную инициативу. Как только оказывалось, что так называемые обожатели не выражали особого желания следовать резким и однозначным отповедям о. Иоанна, против них ополчалась большая часть духовенства{702}.
Первые репрезентации в прессе и полицейские рапорты
Совершенно иначе, чем духовенство, воспринимала и оценивала иоаннитов пресса. То, что церковь именовала «лжеучениями», пресса называла невежеством, и это чрезвычайно показательно. Однако их описания были во многом похожи. По сообщению газеты «Россия» от 9 сентября 1901 г., пятнадцать молодых женщин пришли в деревню Сустье Новгородской губернии и стали проповедовать ее жителям, что конец света близок, что о. Иоанн — посланец Божий и что всякий, кто хочет спастись, должен поехать в Кронштадт и служить ему. Женщины добавляли, что никакая работа не угодна так Богу, как плетение декоративных венков (в Кронштадте, под руководством более опытных наставников), и что они сами и главный у них, Петька, спасаются таким благочестивым образом, близ о. Иоанна. Однако главная газетная новость заключалась в другом. Пока жители деревни призывали священника, чтобы разобраться с загадочными гостьями, они исчезли, прихватив с собой трех девушек из этой деревни{703}.
Манера подачи истории в газете сильно отличалась от церковной. «Россия» не обращала особого внимания на упоминание молодыми женщинами о. Иоанна или Кронштадта — то есть как раз на то обстоятельство, которое имело первостепенное значение для духовенства. Журналиста волнует другое. Он потрясен ужасающе низким уровнем «просвещения» и пишет: «В деревне постоянно действует воспитательное и образовательное учреждения (церковь и школа), имеются пастыри духовные и светские, “старший брат” под боком (6 помещичьих усадеб при самой деревне), а между тем… приходят, неизвестно откуда, девицы, рассказывают всякий вздор, и этот вздор сразу всеми жадно воспринимается… Точно люди никогда решительно ничего воспитательного и образовательного не знали, точно это дикари какие-нибудь»{704}.
Затем журналист спрашивает читателей, нет ли здесь почвы для размышлений. Вопрос носил риторический характер и задал тон многим последующим публикациям на эту тему. Эсхатологическое сознание, продемонстрированное женщинами в Сустье, вызывало неприятие, даже отторжение у образованной части русского общества, и считалось худшим признаком «деревенской темноты». «Россия» поместила эту статью как своего рода эссе на тему отсталости деревенской России; ее автор не интересуется судьбой трех завербованных девушек. Однако их судьбой заинтересовался Департамент полиции. Полиция запросила информацию также и о «Петьке», упомянутом женщинами, и связалась с местными губернскими властями для получения более подробных сведений{705}.
Согласно полученному докладу, Петр Трофимов работал на фабрике в Санкт-Петербурге, пока ему не отрезало машиной левую руку. Тогда он стал коробейником и последние два года ходил по монастырям и молился. Трофимов часто приезжал к о. Иоанну в Кронштадт и читал его книги. Кроме того, он убедил нескольких девушек ходить вместе с ним и петь псалмы.
Пением этого трио привлекало деревенских жителей{706}. Однако певцы пытались также склонить народ идти с ними в Кронштадт к о. Иоанну для общей исповеди. Трофимову удалось уговорить крестьянина Ивана Петрова, его жену и одну девушку (а не трех, как писала газета «Россия»), Эта девушка осталась в Кронштадте и теперь занималась там плетением венков; отец навещал ее; оба заявляли, что довольны ее нынешним положением. Были также собраны дополнительные свидетельства крестьян, присутствовавших, когда Петр Трофимов со товарищи выступали в доме Тимофея Иванова. По их словам, певцы исполняли духовные стихи и молитвы в честь о. Иоанна и других, «но понять смысл их трудно»{707}. Неясно, действительно ли крестьянам было трудно понять песнопения, или же это был акт самозащиты, чтобы власти не могли понять, что они об этом думают. Однако власти все-таки приводят слова крестьян о том, что о. Иоанна должно почитать как Бога и что он «лучше, чем наши попы». Остается неясным, принадлежат ли эти высказывания крестьянам, самому Трофимову или же чиновникам, оформлявшим их свидетельства. Эти трое также называли себя «слугами отца Иоанна» и «апостолами». В общем-то, эпизод, описанный в «России», не был чем-то новым — согласно показаниям жителей деревни, Трофимов в каждый свой приход вербовал кого-нибудь и увозил с собой в Кронштадт.
Мобилизация правительства: Департамент полиции и Святейший Синод
Несанкционированные передвижения людей, особенно несовершеннолетних, находились в ведении полиции, однако религиозный аспект происходящего означал, что дело необходимо передать в соответствующие инстанции. Поэтому полиция передала дело Трофимова обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву{708}.
Действия полиции, Министерства внутренних дел, обер-прокурора, местного епископа и Святейшего Синода на ранних стадиях зарождения иоаннитского движения демонстрируют, как властные структуры Российской империи конца XIX — начала XX в. объединенными усилиями справлялись с отклонениями в религиозном поведении.
С точки зрения православных иерархов, обвиняемые были «вожаками» заблуждавшихся обожателей о. Иоанна. И независимо от того, были ли они сектантами или просто стремились к наживе, их считали шарлатанами. Для Церкви неправославная религиозность, сопряженная со сбором средств у крестьян, была синонимом вымогательства. Не менее существенна, однако, последовательно проводимая церковными иерархами политика размежевания о. Иоанна с его предполагаемыми последователями. Их настойчивость подтверждает, что о. Иоанн смог развеять все подозрения в свой адрес и закрепил за собой в глазах иерархов репутацию надежного священника, «своего».
Готовя свой ответ 29 декабря 1901 г., Победоносцев проконсультировался с Гурием, архиепископом Новгородской епархии. По мнению архиепископа, Трофимов, как и многие другие вожаки почитателей о. Иоанна (о которых он был прекрасно осведомлен), использовал имя пастыря как прикрытие. На самом деле, по словам Гурия, эти авантюристы преследовали меркантильные цели. В основе их действия лежала либо примитивная жажда наживы, либо создание «вредной» секты. В ответ Победоносцев только заметил, что считает своим долгом проконсультироваться в Министерстве внутренних дел по этому поводу — и что, по его мнению, следовало выслать Трофимова из Новгородской губернии и установить за ним строгое полицейское наблюдение.
Таким образом, Синод в деле Трофимова больше всего беспокоила возможность появления новой секты, полицию же прежде всего интересовали несанкционированные перемещения населения и факты финансовых вымогательств{709}. Однако, несмотря на разные причины для беспокойства, обе структуры обвиняли активистов движения в нарушении законов о свободе вероисповедания и свободе печати, утвержденных в феврале 1903 г. и в октябре 1905 г.{710} Соответствующая инстанция — в данном случае Синод — разрабатывала линию поведения в том, что касается религии, МВД ее санкционировало, а полиция воплощала в жизнь. Если полиция подозревала наличие секты еще до того, как получала соответствующее извещение об этом от церковных властей, то первым делом связывалась с МВД, — в частности, с Департаментом духовных дел иностранных исповеданий, — которое, в свою очередь, связывалось с Синодом для получения указаний. В рассматриваемом нами случае полиция передала дело Трофимова религиозным властям, поскольку нуждалась в четких директивах{711}.
Как в деле Трофимова, так и позднее Синод стремился любой ценой обвинить лиц, подозреваемых в сектантстве. Дело «иоаннитов» (у них по-прежнему не было официального названия) от 1904 г. особенно наглядно демонстрирует, что Синод активно участвовал в формировании образа иоаннитов и в сборе порочащих их сведений.
Дело № 3069, заведенное 9 декабря 1904 г. (то есть сразу после принятия первого закона о «свободе вероисповедания»), было попыткой Канцелярии Синода привлечь внимание таких «гражданских» институтов, как полиция, МВД и прокурор Москвы. То, как сотрудники Канцелярии представили дело, особенно важно с точки зрения формулировок и деталей, которые, по мнению Канцелярии, должны были побудить полицию и прокуратуру к активным действиям.
Согласно донесению Канцелярии, мещанка Мария Александрова и крестьянка Наталия Ивановна Суханова обвинялись сначала в торговле религиозной литературой. Поскольку для литературы «духовного содержания» существовали свои собственные законы и нормы, сомнения о наличии у женщин разрешения для ее продажи разрешала Духовная консистория. И хотя выяснилось, что книги были одобрены цензурой (иными словами, женщины не торговали литературой без штампа «дозволено цензурой», которая могла быть сектантского характера), у женщин не было законного права ими торговать. Это было первое обвинение{712}.
Далее Канцелярия утверждает, что Александрова и Суханова объявили о. Иоанна истинным Господом Богом, «ибо в нем воплотился Иисус Христос». Одно из доказательств состояло в том, что обе женщины носили на шее фотографию о. Иоанна, которую они снимали, «настаивая» перед аудиторией, преимущественно женской, что все должны тоже молиться перед ними. Так же они поступали и с фотографией женщины, которую они называли «Царицею Небесною» и «Превечной Богородицей»{713}.
Постоянно подчеркивая, что состав движения преимущественно женский, Канцелярия, возможно, намекала на то, что женщины — существа иррациональные, легко подверженные чужому влиянию, и подразумевала, что присутствие мужчин помогло бы усмирить сектантов. Подчеркивалось также, что во время молитв женщины выставляли вместо икон фотографии для молящихся.
По окончании молитв Александрова и Суханова давали всем присутствующим выпить воду и вкусить просфоры, предположительно освященные о. Иоанном. Служащие Канцелярии описывали этот поступок — естественно, с оттенком осуждения — как совершение причастия («они их причащали»); однако неясно, действительно ли сами женщины воспринимали или описывали свои действия таким образом. Сам по себе факт, что миряне пили святую воду и ели освященный хлеб вне Литургии, не является отступлением от нормы. У православных было принято набирать святой водички на праздники Святого Крещения и Преполовения Пятидесятницы для домашних или экстренных нужд; благочестивые верующие зачастую начинали свой день с освящения пищи{714}. Практика обмена просфорами, освященными в святых местах или в день большого церковного праздника, также была широко распространена. Таким образом, от тех, кто побывал в Кронштадте, вполне могли ожидать, что они поделятся с ближними этой частичкой Божественной благодати. Называя такое поведение женщин «причащением», а совершаемое ими смазывание маслом, тоже, по-видимому, освященным о. Иоанном, «миропомазанием», Канцелярия стремилась выставить Александрову и Суханову в максимально невыгодном свете. Александрова и Суханова особо подчеркивали, что они связаны с о. Иоанном, и утверждали, что обладают благодатью только благодаря общению с ним.
Все это было квалифицировано как религиозные проступки. К ним Канцелярия присовокупила и более существенные обвинения. Александрова и Суханова продавали под видом святых предметов кусочки ткани, которые, по их утверждению, были отрезаны от ряс о. Иоанна и от платьев «Бессмертной Матери». Они торговали песком, по которому, как они говорили, ходили о. Иоанн и эта женщина (будто бы он помогал исцелиться от всех болезней), и медными крестиками, выдавая их за серебряные; продавали они также и книжки о пастыре и его изображения по завышенным ценам. Они заявили женщине в золотых серьгах и серебряной цепочке, что носить такую роскошь грешно, и убедили ее отдать им драгоценности (чтобы они передали их пастырю, который, в свою очередь, отдал бы их какой-нибудь бедной сестре во Христе). Более того, они уговаривали людей продавать всю свою собственность «за гроши» и ехать с ними в Кронштадт. В итоге из донесения следовало, что две эти женщины вымогали у народа деньги под видом пожертвований о. Иоанну. В конце донесения сотрудники Канцелярии Синода решительно заявляют, что Александрова и Суханова — члены банды мошенников (по-прежнему безымянной), сколоченной Порфирией Ивановной Киселевой, так называемой «ораниенбаумской Богоматерью», и неким Михаилом Петровым («Архангелом Михаилом»), По утверждению Канцелярии, Порфирия всех убеждала, что является правой рукой о. Иоанна, и уже выманила у чрезмерно доверчивых граждан сотни рублей. На этом Канцелярия заканчивает свое обвинение{715}.
Однако представленные доводы не до конца убедили прокурора Московской судебной палаты. 7 января 1905 г. чиновники судебного ведомства связались с полицией и попросили ответить, достаточно ли представленных Канцелярией доказательств, чтобы считать установленным существование «банды мошенников», а также запросили дополнительную информацию. Полицейские чиновники ответили, что Порфирия, о которой они уже были наслышаны, с 1902 г. находится в розыске и с тех пор ведет себя намного осторожнее. Они подтвердили, что вокруг нее группируются любители наживы. Была сообщена и довольно неожиданная информация о том, что о. Иоанн всегда навещал Киселеву, когда проезжал через Ораниенбаум (впоследствии выяснилось, что он был ее духовником), и что она регулярно и щедро осыпала его окружение деньгами и подарками, чтобы иметь гарантированный доступ к батюшке{716}. И поскольку было упомянуто о некоторых контактах между о. Иоанном и Порфирией, делу не был дан официальный ход.
В Санкт-Петербурге и полицейские, и церковные власти гораздо тоньше понимали проблему, поскольку в столице можно было получить информацию о деятельности иоаннитов из первых рук. В апреле 1905 г. МВД приходит к выводу о наличии отлично организованной группы вымогателей денег. Возглавляли группу Порфирия Ивановна Киселева («Богородица»), Михаил Петров («Архангел Михаил»), Елизавета Корчачева («Соломония-мироносица») и Назарий Дмитриев («Иоанн Богослов»), Однако сотрудники МВД с сожалением констатируют, что им было крайне трудно выдвинуть обвинение, так как, во-первых, богохульные прозвища, по-видимому, рождены «невежественной и фанатичной массой поклонников», а не самими лидерами движения; во-вторых, даже когда у людей выманивали все, что у них было, они предпочитали хранить молчание. Тем не менее чиновники предупреждали генерал-губернатора, что, принимая во внимание появление в газетах публикаций, выставляющих Порфирию в самом неприглядном свете, не следует оставлять ее деятельность безнаказанной: давно пора законным путем удовлетворить поступившие на нее жалобы. И лучше всего было бы направить в каждую губернию одного-двух тайных агентов для сбора доказательств{717}.
(Лже)свидетельства о главной иоаннитке
Порфирия Ивановна Киселева, «Бессмертная Богородица», была самой печально известной иоанниткой. Она создала одну из крупнейших иоаннитских общин, сначала в Ораниенбауме, а затем в Кронштадте, и являлась центральной фигурой в молитвенных встречах иоаннитов. В иоаннитской литературе ее прославляли как «чистую деву», которая трудилась больше, чем святые равноапостольные Мария Магдалина, святая Нина (просветительница Грузии), святая мученица Фекла, и которую «посетил Господь в лице отца Иоанна Кронштадтского»{718}. Некоторые гимны иоаннитов в ее честь сложены на основе православных песнопений в честь мучениц:
«Дева мудрая Порфира, Ты страдала за Христа, Христа камень многоценный Ты имела у себя»{719}.Можно было бы счесть эти стихи любопытными образчиками народного благочестия — если бы не строгий православный запрет на сочинение каких-либо текстов подобного рода в честь живых людей. Порфирия благословляла народ и принимала религиозные почести. Это приветствовалось иоаннитами, но, несомненно, не соответствовало поведению православного человека. Одного этого уже было достаточно, чтобы она оказалась мишенью для нападок Православной церкви. Многие писали о. Иоанну, предупреждая его, что у Порфирии, дерзнувшей объявить себя Богоматерью, появляются подражатели{720}. Были и злобные намеки, что эту «деву» осматривала акушерка в родильном отделении больницы Ораниенбаума и что у нее вообще темное прошлое{721}. Александр Серебров, побывавший в квартире Порфирии, описывает ее так: «Дебелая женщина с брезгливо отвисшей нижней губой, — в молодости Порфирия себя продавала»{722}.
Финансовая деятельность Киселевой вызывала еще больше подозрений. Одна женщина в письме-прошении к о. Иоанну писала, что ее муж хочет продать все их имущество и уйти от нее, чтобы быть «спасенным» Порфирией. Так поступить ему приказал некто Василий Пустошкин, который говорил о себе, что на него снизошла благодать{723}. Несколько мужчин писали, что их жены попали под влияние Порфирии и сбежали со всеми семейными средствами с совместного банковского счета. Они сокрушенно прибавляли, что горюют не столько о деньгах, сколько об ушедших женах{724}. Некоторые сообщали, что приспешники Порфирии провозглашали себя представителями о. Иоанна, якобы собиравшими для него деньги, что гарантировало стопроцентный успех их предприятию{725}. Когда о подвигах Порфирии стали писать в прессе, о. Иоанн начал получать негодующие письма от людей разных сословий, от крестьян до студентов, с просьбой положить конец «наругательству над Церковию»{726}.
Однако самое поразительное описание Порфирии появляется в «Черных воронах», пьесе, написанной бывшим православным миссионером В. В. Протоповым. Она представлена там в образе Марии Гусевой, женщины, выдающей себя за Богоматерь во плоти, дабы цинично использовать своих доверчивых последователей. Жесты, манера говорить, внешний вид Гусевой были списаны с Порфирии и сильно способствовали краху ее репутации (в итоге ей пришлось-таки «пострадать за Христа», как поется в песнопении иоаннитов){727}.
Отец Иоанн и иоанниты встречаются на страницах печати
«Черные вороны» стали одним из первых литературных произведений, в которых сознательно проводится параллель между Порфирией со товарищи и о. Иоанном. Так, в одной из сцен выходит актер, загримированный под о. Иоанна, и благословляет Гусеву. Когда дело доходит до ограбления слепых, Гусева упоминает об о. Иоанне как об учителе, который научил ее всему, что она знает. Проведенная в пьесе параллель между батюшкой и этой предприимчивой компанией огорчала даже либеральных представителей Православной Церкви{728}. Однако сами иоанниты изо всех сил пытались укрепить впечатление о своей связи с о. Иоанном. Их главным оружием для достижения данной цели стал собственный печатный орган — еженедельный журнал «Кронштадтский маяк».
Первоначальная цель «Маяка» казалась простой: собрать «Иоанниану» с целью последующей канонизации о. Иоанна. Так, номер обычно начинался выдержкой из какой-нибудь проповеди о. Иоанна. (Все проповеди были ранее официально опубликованы.)
Однако при более внимательном изучении можно обнаружить, что публикации и задачи «Маяка» были далеко не столь скромны, как декларировалось. Во-первых, налицо была стратегия вербовки. Редколлегия «Маяка» «сердечно поощряла» подписчиков покупать не только журнал, но и недорогие издания проповедей о. Иоанна «для распространения и продажи среди населения» (курсив мой. — Н.К.). Кроме того, хотя издатели «Маяка» и заявляли, что на их книжном складе имеются «все труды отца Иоанна Кронштадтского и других духовных писателей, отвечающие духовным запросам русского народа», на самом деле там было гораздо больше собраний посвященных ему сомнительных духовных стихов, нежели его работ. Журнал хвалился преимущественно церковным составом авторов, а на поверку выходило, что предлагаемые книги написаны или составлены явными мирянами Василием Пустошкиным или Николаем Большаковым и назывались так: «XX век — отчего разрушались царства», «Лето красное прошло, а в саду ничего нет» и «Как нужно жить, чтобы богатому быть и чисто ходить». Однако если внимательный читатель может усмотреть в журнале неоднозначность трактовок, граничащую с ересью (а именно такова и была точка зрения духовенства), то для менее искушенной аудитории, как, например, для большинства полицейских чинов, изображения о. Иоанна на обложках «Маяка» и использование таких известных фольклорно-религиозных жанров, как духовные стихи, свидетельствовали, что иоанниты были всего лишь чрезмерно ревностными, может быть, слегка «помешанными» почитателями о. Иоанна. Несмотря на растущий поток писем к пастырю, в которых выражалось беспокойство по поводу использования его имени иоаннитами, а также по поводу распада семей, разъединения детей и родителей, иоаннитами по-прежнему интересовались только Церковь и государственные органы власти. Объектом всеобщего внимания они стали только после скандала с приютами.
Приюты и связанный с ними скандал
А начиналось все вполне невинно. Лейтмотивом встреч иоаннитов с крестьянами был призыв «продать имение свое и следовать за ними». Женщины и дети особенно легко поддавались уговорам поселиться в Кронштадте в иоаннитских общинах. Принимая во внимание, что несовершеннолетние и зачастую женщины могли жить вдали от семьи только с разрешения родителей, может показаться странным, что столь многие родители соглашались отпускать куда-то с чужими людьми своих дочерей и сыновей. Однако набожность родителей, уверения иоаннитов, что дети получат православное воспитание, наконец, слава самого о. Иоанна и его Дома Трудолюбия — все это было крайне убедительно. Многие крестьяне искренне полагали, что переезд в Кронштадт с представителями о. Иоанна окажется для их лишних ртов переменой к лучшему, они получат возможность посмотреть мир и обрести опыт духовного взросления рядом с праведником. В тогдашних условиях, когда детей нередко отдавали родственникам (а то и вовсе оставляли у дверей сиротских приютов), предложение иоаннитов выглядело разумным, а иногда оказывалось и вовсе ниспосланной свыше возможностью.
Так казалось на первый взгляд. А затем, осенью 1907 г., газеты одна за другой начали публиковать сенсационные разоблачительные материалы об условиях жизни в иоаннитских приютах. Детей держали в голоде, эксплуатировали, перегружали работой и заставляли соблюдать такой молитвенный режим, которого не выдержали бы даже монахи. В некоторых статьях присутствовали и неясные намеки на то, что девочки подвергались сексуальным домогательствам. После яростной кампании, проведенной в прессе, в приютах были проведены полицейские проверки, и в 1909 г. их ликвидировали.
Однако все было не так просто. Раздавались голоса, что на самом деле дети жили в чистоте и сытости и были довольны; что они были помещены в иоаннитские приюты с согласия родителей, что их травмировал насильственный и внезапный переезд оттуда и что теперь над их религиозными убеждениями насмехаются в «еврейских» детских домах, в которые их перевезли силой. В пылу борьбы многие газеты, от «Биржевых ведомостей» до «Копейки», упивались смакованием того, что они называли «чудовищными подробностями» и «неприкрытой правдой». Другие газеты называли такие публикации ложью и даже клеветой. В возникшей неразберихе начались ожесточенные споры о православных традициях и нормах питания, о свободе вероисповедания, свободе собраний и правах родителей и государства на детей. Полемика приняла особую остроту, поскольку скандал с приютами иоаннитов представлял удобную возможность как для выражения общественного недовольства, так и для нападок на религиозность.
Первоначальными стимулами для создания приютов послужили как благочестивость о. Иоанна, так и успехи Дома Трудолюбия, постояльцы которого приобретали полезные навыки в различных ремеслах. Поэтому неудивительно, что предприимчивые люди захотели воспроизвести эту модель и извлечь выгоду из обеих ее составляющих. И хотя Православная церковь, возможно, предпочла бы, чтобы они поддерживали сам Дом Трудолюбия, подобные инициативы также приветствовались как положительные примеры «активного» православия{729}.
Иоанниты выехали на гребне славы о. Иоанна, но пошли другим путем. У них имелись две стратегии вербовки. Одна, как мы видели, заключалась в убеждении взрослых последовать за иоаннитами в Кронштадт, чтобы вести богобоязненную жизнь в преддверии конца света. Члены иоаннитской общины жили вместе, не вступали в браки (а если и вступали, то жили раздельно с супругами) и вербовали новых членов. Более молодые и привлекательные иоанниты становились торговцами-проповедниками, которые колесили по России с мешками религиозной литературы, фотографиями о. Иоанна и венками для украшения икон и могил, призывая народ поехать с ними в Кронштадт.
Вторая стратегия была нацелена на родителей, обеспокоенных материальным и духовным будущим своих детей. Их уговаривали отправить своих детей в Кронштадт для обучения ремеслам, что позволит детям самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, противостоять пагубному влиянию современного города и укрепиться духовно. Однако многие из детей, уехавших с иоаннитами, не справлялись с тяжелой сельскохозяйственной работой, то ли из-за возраста, то ли из-за физической слабости. Иногда обе стратегии объединялись, как в случаях с молодыми вдовами, которым надо было растить детей. Приехав в общину, младшие дети определялись на изготовление венков и украшение фотографий, которые затем продавали старшие. Таким образом, эти общины являлись полностью самоокупаемыми, предлагая «душеспасительные» работу и образ жизни. Регулярные (еженедельные или ежемесячные) посещения собора св. Андрея в Кронштадте, где служил о. Иоанн, составляли часть расписания{730}.
В приюты детей нередко отправляли с некоторым количеством одежды и средств, в зависимости от благосостояния родителей. Однако вскоре многие родители начинали получать письма с просьбой прислать еще денег — на конвертах были имена их детей, но почерк был чужой. Когда родители заподозрили неладное и решили проверить, в чем дело, выяснилось, что письма были мошеннической уловкой и что их детей обобрали дочиста{731}. Они с возмущением обратились к властям, и это возымело результат.
Некоторых детей вернули домой к родителям{732}. О. Иоанн опубликовал открытое письмо в «Русском паломнике», где отрицал всякую связь между вербовщиками и его любимым монастырем в Санкт-Петербурге, опороченным в результате скандала с приютами. Он отрицал, что позволял кому-либо торговать его сочинениями; он призывал полицию провести расследование в этих «притонах». Это письмо-отречение было отпечатано тысячными тиражами и направлено священникам для распространения в приходах, а Департамент полиции Санкт-Петербурга приступил к всестороннему расследованию{733}.
Для прессы наступило настоящее раздолье. Статьи приобретали все более сенсационный характер: в них описывалось, как детей похищали члены религиозной секты, как жестоко с ними обращались, избивали их, плохо кормили, одевали в лохмотья, заставляли спать на полу, непосильно работать и участвовать в сомнительных ритуалах{734}. В статьях, озаглавленных «УЖАСНЫЕ ИСТЯЗАНИЯ ДЕТЕЙ — ДЕТИ В ЛАПАХ ИОАННИТОВ — МАЛОЛЕТНИЕ МУЧЕНИКИ», подчеркивалось, что дети выглядят бледными, покрыты язвами и производят удручающее впечатление{735}. Врачи из Общества защиты детей свидетельствовали, что обнаружили детей в ужасном физическом состоянии{736}. Апокалиптические высказывания иоаннитов описывались как «лживые слухи о близком конце света»{737}. Чтобы усилить возмущение публики судьбой несчастных детей, приводились слова одной иоаннитки о том, что телесное здоровье детей не имеет значения, главное, чтобы была здорова душа{738}. Некоторые журналисты призывали немедленно закрыть приюты. Другие допускали, что, какое бы омерзительное зрелище ни являли собой иоанниты, они имели право на существование — но только до тех пор, пока дело не касалось детей, их физического и психического здоровья. И здесь общество имеет право вмешаться{739}.
Однако больше всего начальника полиции обеспокоила статья, напрямую бросавшая вызов его ведомству. Она появилась в «Санкт-Петербургских ведомостях» 29 сентября 1907 года. Заголовок, набранный прописными буквами и жирным шрифтом, гласил: «ПРИЮТЫ. — БЕСПРИЗОРНИКИ. — ОСВЯЩЕННЫЕ ВЕНКИ. — ПОЕЗДКА “НА ПОКЛОН”. — ПРОПАЖА ДВУХ ЕВРЕЕК». Статья начиналась сообщением о том, что похищение двух еврейских девочек, которое взбудоражило весь Ораниенбаум, имеет отношение к приютам иоаннитов. Однако позднее выяснилось, что никакой связи между иоаннитами и двумя пропавшими девочками нет. Тем не менее автор статьи обрушивался на полицию за то, что она не знала, что приюты были организациями «такого рода». Злополучный полицейский чин, отвечавший автору, попытался объяснить, что поскольку управляющие приютами выполняли все официальные требования и вели себя в рамках закона, то полиция полагала, что тамошние дети являлись просто петербургскими беспризорниками.
Однако главной мишенью автора статьи в «Санкт-Петербургских ведомостях» была не столько полиция, сколько сам о. Иоанн и связь между ним и приютами, которую он настойчиво стремился провести. Насколько было известно полиции, о. Иоанн никогда не посещал эти приюты, но родители живущих там детей нередко совмещали свой визит к ним с поездкой в Кронштадт. Журналист ухватился за это, спросив, действительно ли в этих приютах находились только дети иоаннитов или почитателей о. Иоанна.
Знак равенства между «иоаннитами» и «почитателями отца Иоанна» был поставлен столь молниеносно, что это прошло почти незамеченным. Пропасть между поклонением о. Иоанну и «иоаннитством» практически исчезла. Автор статьи развивает мысль об этой предполагаемой связи. Например, упоминая о том, что высокие цены на изготавливаемые иоаннитами венки якобы благословил сам о. Иоанн, журналист писал, что в глазах фанатиков эта «религиозная санкция» делает венки особенно ценными. Им приписывается чудодейственная сила — нужно только возложить такой венок на голову, и на человека низойдет частичка небесной благодати о. Иоанна. Таким образом, прикрывшись праведным гневом в адрес «фанатичных сектантов», автор сумел дискредитировать общий принцип почитания вещественных предметов, связанный со святым, — будь то одеяния, мощи или любой благословленный им предмет. Для тех, кто искал удобного случая подшутить над основами православного благочестия, иоанниты представляли золотую жилу: высмеивая «сектантские злоупотребления», противники православия имели возможность пройтись и по православным обычаям.
Именно эта сторона скандала с иоаннитами стала камнем преткновения. Если критики немного «перебарщивали» со своими разоблачениями, то многие православные начинали сочувствовать именно «сектантам», которых им хотелось бы обвинить и в шарлатанстве, и в притеснении детей. Более того, если автор разоблачения не был православным, то возникало большое искушение усомниться и спросить себя, не является ли развернутая в прессе кампания против иоаннитов предлогом, чтобы подорвать устои и обычаи самой Православной церкви. «Черные вороны» Протопова стали первой подобной попыткой. Однако в некоторых случаях приравнивание иоаннитов к о. Иоанну и каноническому православию было не просто оскорбительным, но и кощунственным. Так, Александр Амфитеатров сочинил пародию на песнопение вечернего богослужения для исполнения «на радениях иоаннитов и тому подобных празднествах российской юродивости, преимущественно же — во сретение преподобного отца протоиерея Иоанна Ильича Сергиева, от черных сотен суща, бабия пророка, блаженномздоимца, всих плутов и казеннотатей молитвенника и дреймадерного чудотворца»{740}:
«Плуте тихий Хмельныя славы! Близ тебя, священного, Близ тебя, блаженного, Жулик на мазурике И вор на плуте! Выведше тебе из тьмы на солнце, Видевше свет газетный. Ждем до конца Еще немного, Чтобы твои плутни прокурор накрыл!»{741}В то время как стихи Амфитеатрова, будучи пародией на одно из самых чтимых церковных песнопений, были особенно оскорбительны для чувств православных верующих, другие параллели между о. Иоанном, иоаннитами и православием были почти столь же вульгарны{742}.
В период с 1907 по 1909 г. едва ли было возможно найти хотя бы одно периодическое издание в Санкт-Петербурге, где бы не упоминались «скандалы с приютами». Еще более поразительно, что полиция проверяла фактически каждое упоминание о них. Не успевает выйти статья, сулящая «новые ужасающие откровения», как буквально на следующий день из-под пера начальника полиции выходит меморандум, к которому прикреплена вырезанная статья; адрес предполагаемого приюта обведен, а сверху — лаконичная приписка: «Разобраться как можно скорее». Полицейские отчеты этого периода примечательны своей детальностью. Так, работники второго полицейского участка Санкт-Петербурга писали о приютах на Теряевской, д. 13–14, и Ординарной, д. 8:
«У первой 13 девочек возр. 6–9 лет и 45 женщин возр. 18–30, и у второй 14 мальчиков в возрасте от 4–8 л. и 10 женщин в том же возрасте, как и у первой. Дети одеты в обыкновенное платье, а взрослые в все черное; размещаются дети на нарах, на матрацах, а взрослые на полу. Квартиры содержатся в образцовой чистоте, что проверено чинов. особ. поруч. Гр. Ланским. Питаются постным, но хорошим и здоровым продовольствием. Занятия как детей так и взрослых проходят в плетении венчиков и изготовлении цветов, продаваемых в провинции, под видом освященных о. Иоанном Кронштадтским, а также в рел. песнопениях, беседах и чтениях и в посещении церковных служб в Иоанновском женском монастыре, расположенном в той же местности на набережной р. Карповки под № 45»{743}.
Другие полицейские отчеты были более негативными и содержали описания бедственного положения детей, которое следователи объясняли плохим питанием и нехваткой свежего воздуха, поскольку дети фактически все время проводили в помещении{744}. Поражает различие между одинаково ужасающими описаниями приютов в прессе и богатым разнообразием в оценках тамошних условий в полицейских отчетах. Даже если сделать скидку на различие в целях и точках зрения их авторов, все равно несоответствие впечатляет. Самое удивительное: при том, что некоторые дети действительно проявляли признаки истощения, другие имели «бодрый и здоровый вид», говорили следователям, что никто не принуждает их работать и молиться, что они ложатся спать в полночь, встают в 5 утра и имеют «тихий час» днем. Они считали, что кормят их хорошо и достаточно{745}.
Данные свидетельства позволяют предположить, что оценка условий содержания в иоаннитских приютах во многом зависела от уровня ожиданий и предшествующего опыта самого очевидца.
Сирота из бедной крестьянской семьи воспримет жизнь в приюте совершенно иначе, нежели дети образованной вдовы, городские журналисты или председатель Общества попечения за бедными и больными детьми{746}. Условия жизни городского бедняка в любом случае были лучше, чем у ребенка из бедной крестьянской семьи. Например, когда одну девочку с Урала ее приходской священник спросил, как ей живется в приюте, она ответила, что на первых порах скучала по родителям, но потом ей показалось, что в приюте очень весело: их катали на машине (на самом деле, как уточнил священник, на трамвае), а еще Кронштадт и Петербург ей понравились больше, чем Пермь{747}. С последней оценкой трудно не согласиться. Итак, при анализе противоречивых и противоречащих друг другу данных в полицейских отчетах, не следует забывать о вышеупомянутой разноголосице.
Закрытие приютов
В июле 1909 г., после почти двухлетней кампании, власти Санкт-Петербурга наконец закрыли злополучные приюты, отправив их подопечных либо к опекунам, либо в приюты при уважаемых благотворительных обществах{748}. В итоге для закрытия приютов полиции пришлось использовать такой повод, как организационные нарушения. Поскольку в иоаннитских приютах детей обучали ремеслам, их надлежало рассматривать как торгово-ремесленные школы или профессионально-технические училища, на содержание которых у иоаннитов не было разрешения{749}.
Однако история на этом не завершилась. Многие дети умоляли, чтобы их не забирали из приютов. После насильственного переезда они возмущались тем, что у них отбирали Евангелие и взамен давали читать романы. Их родители подавали заявления, что власти, забрав детей из приютов без их согласия, покусились на их свободу. Один отец, упоминая о гинекологическом обследовании, которому подверглась его дочь, особенно настаивал, что над ней было совершено «насилие». Родители проявили удивительную организованность и напористость: не ограничившись петицией в Министерство юстиции, они обратились практически ко всем организациям и высокопоставленным чиновникам, включая П. А. Столыпина{750}. С негодованием заявляя, что их детей против воли лишили православного присмотра и передали людям, которые высмеивали их религиозные убеждения и соблюдение постов, они бросали обвинение: свобода вероисповедания православных христиан под угрозой{751}. Они утверждали, что якобы плохие условия содержания в иоаннитских приютах — вымысел и клевета «еврейской» прессы, стремясь таким образом создать впечатление, что иоанниты были сугубо русским явлением, а их оппоненты — или иностранцами (например, обрусевшими немцами), или неправославными (лютеранами, католиками и иудеями). Иными словами, иоанниты пытались свести ликвидацию приютов и все «преследования» в свой адрес к конфликту между русским и чужеродным, между традиционным и новым{752}.
Успеху кампании особенно способствовало то, что руководящую роль взял на себя Николай Николаевич Жеденов, дворянин и член «Союза русского народа». Его кампания по рассылке писем в защиту иоаннитов была столь масштабной, что затронула почти каждого губернатора и министра{753}. Жеденов утверждал, что отстаивает право родителей помещать своих детей, куда им заблагорассудится, и право православных христиан жить в соответствии со своими убеждениями, а не нормами, которые самовольно навязывают иностранная бюрократия и враждебная пресса. Он проводил различие между тремя разновидностями так называемых «иоаннитов»: «хулиганы», угрожающие о. Иоанну беспорядками во время богослужения; те, кто познал на себе его чудотворный дар и теперь превозносит его до небес (он сравнивал их с оперной и балетной «клакой»), и трудолюбивые, честные русские, предпочитающие жить общиной по экономическим соображениям. К каждой группе необходим особый подход. Он утверждал, что иоанниты были не сектой, а православными христианами, и преследовались не Церковью, а светскими властями, которые сами по себе были далеки от православия{754}. Наконец, он замечал, что производство иоаннитами венков называют «никчемной, паразитической» деятельностью, однако если исходить из такого представления, то пора пресечь и многие другие центры русского народного творчества, например закрыть Суздальскую школу иконографии{755}.
Кампания, полностью игнорировавшая роль, которую сыграл в преследовании иоаннитов догматически настроенный Синод, имела определенный успех. В ответ последовал всплеск национализма. Такие издания, как «Земщина», играли на ненависти к бюрократии, особо подчеркивая, что детей увезли из приютов силой потому, что у них были не в порядке документы{756}. Умеренные «Санкт-Петербургские ведомости» комментируют: «Давайте назовем иоаннитов фанатиками, давайте признаем их еретиками, но давайте смотреть правде в глаза: дети не хотят покидать их — они плачут и отбиваются… Вспомним Достоевского: стоят ли все добрые намерения одной слезы ребенка?» «Ведомости» язвительно подмечали также, что на свете много голодающих детей, которым могло бы помогать Общество по предотвращению жестокости, а не хватать иоаннитских детей, которые не хотели уезжать из приютов, где их хорошо кормили и содержали в хороших условиях. В статье утверждалось, что свидетельства о растлении девочек и избиении детей сфабрикованы: тщательный медицинский осмотр показал, что все дети были здоровы, а все девочки оставались девственницами. Сравнивая травлю иоаннитов с преследованием революционеров, автор резюмировал, что, быть может, с иоаннитами и следует бороться, но не такими «средневековыми» приемами{757}. Даже такое «левое» издание, как «Новый голос», называвшее сообщения о «чудесах» о. Иоанна фантазиями, раздутыми прессой, высказалось против любой формы официального преследования иоаннитов. По мнению сотрудников издания, русскому обществу пора вырасти из коротких штанишек и не доверять никаким государственным структурам право говорить от его имени; иоанниты же не заслуживают ничего, кроме простого презрения{758}.
Реакция иоаннитов
Скандал с приютами, травля в прессе, все более усиливавшаяся враждебность православного духовенства, теперь почти единым фронтом выступавшего за официальное синодальное осуждение иоаннитов как еретиков, — все это создавало у иоаннитов ощущение, что воистину весь мир ополчился против них. Теперь они знали своих врагов. Более того, сложившаяся ситуация помогла им лучше понять, кто они такие и чем они отличаются от «канонических» православных христиан. Идея скорого конца света стала еще сильнее.
Все сильнее осознавая себя единым коллективом, иоанниты в течение 1908 г. поменяли свою стратегию. Они уже приобрели опыт общения с различными организациями и с государственной машиной и теперь начали использовать это себе во благо. Тон их публикаций и дискуссий с представителями властей сменился с оправдательного на наступательный. Однако именно успешное декларирование собственной позиции в конечном счете обернулось против них: иоанниты продемонстрировали, насколько далеко отошли они от того, что большинство людей понимают под православием.
Так, ряд выпадов иоаннитских лидеров в адрес православных иерархов касался духовенства, травившего иоаннитов, как «волки овец»; иоанниты представали в своих печатных выступлениях новыми апостолами и истинными христианами, которые могут и обязаны разъяснить, кто истинный пастырь, а кто ложный. Как только мирянин присваивает себе право судить обо всем самостоятельно, как это сделали иоанниты после 1907 г., подрываются самые основы православной иерархии. Например, публикация иоаннитов от 1908 г. «Церковь Христова в опасности» — одна сплошная обличительная речь против православного духовенства в форме цитат из Библии вкупе с параллелями из современной реальности. Авторы призывали истинных верующих сторониться «знатных», которые, как предостерегал Иеремия, хотя и «знают путь Господень, закон Бога своего», но «сокрушили ярмо, расторгли узы» (Иеремия 5:5). Также для них характерна опора на Писание при полном отсутствии цитат из Отцов Церкви (что вполне объяснимо, если учесть, что Отцы Церкви, как правило, уделяли особое внимание установленной Церковью субординации).
Пьеса «Черные вороны» предоставила иоаннитам еще одну возможность для нападок на официальную Церковь. Не менее представителей Синода они были удручены издевательством над православием, присутствовавшим в пьесе. Однако тот факт, что пьеса была написана православным миссионером, а также сам принцип продвижения своих идей на театральной сцене они использовали, чтобы критиковать тенденции к осовремениванию Церкви. Наихудшие примеры — автор пьесы Протопов, бывший миссионер, и церковные журналы «Колокол» и «Миссионерское обозрение»{759}.
Наибольший интерес представляют претензии иоаннитов на роль маяка истинного православия в неспокойную революционную пору. Законы и политические институты, порожденные революцией 1905 г., были преданы иоаннитами анафеме: «ни один истинный христианин, который любит веру, царя и отечество, не войдет в Государственную Думу»; священники, входящие в партии левого толка, — это «иуды-предатели, сознательные убийцы, предавшиеся Сатане»{760}. Они толковали Книгу Иезекииля в свете современной политики: в главе 39, которая начинается со слов «Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога» (Иезекииль 39:1), «сына человеческого» они сравнивали с о. Иоанном, а «Гога» — с Думой{761}. Представления о свободе совести и равенстве религий, заложенные в законе 1905 г., играли ключевую роль для иоаннитов, которые воспринимали себя реликтами истинной веры: в то время как официальная Церковь (по их мнению) не могла высказывать свою позицию, будучи скована своей связью с государством, они могли это себе позволить. Они утверждали, что из-за нового законодательства паства свободно перекочевывала из православия в католицизм, причем это массовое обращение проходило с одобрения «лжепастырей». В конце концов, иоанниты договорились до того, что либеральная пресса сознательно готовила почву для вооруженного бунта против Иисуса Христа, Церкви и царя-самодержца, помазанника Божьего{762}.
На самом деле почти что все из тех, кто перешел в католицизм, были униатами, ранее насильственно обращенными в православие. Более того, многие христиане, включая православное духовенство и самого о. Иоанна, хотя бы допускали, что Дума может представлять христианскую точку зрения{763}. Однако для Пустошкина, Большакова и других иоаннитов любое отклонение от «истины» было осквернено духом светскости; они абсолютно не видели тонкостей, не признавали сложности и многообразия Церкви. Различие между претензией на обладание единственной истиной, с одной стороны, и более широким пониманием всеобщности и многообразия единой Церкви — с другой, несомненно, является одним из базовых различий между сектантским и церковным сознанием. В этом смысле характерны апокалиптические, хилиастические убеждения, которые иоанниты разделяли, к примеру, со старообрядцами. Пустошкин и Большаков — как и те, от имени которых они дерзали говорить, — были наделены этими качествами в изобилии{764}.
Официальный приговор
Иоаннитам все же удалось запутать власти. 23 августа 1909 г. даже Департамент духовных дел иностранных исповеданий при МВД был вынужден обратиться в Канцелярию обер-прокурора Синода с вопросом, считаются ли иоанниты истинными членами Святой Церкви или же это религиозное течение, решительно отмежевавшееся от православия{765}. На Всероссийском миссионерском съезде в Киеве Православная церковь решила раз и навсегда разобраться с неопределенностью в этом вопросе. На съезде большинством голосов (112 против 14) было решено считать иоаннитов сектой (самое мягкое из возможных определений — «религиозно-мистическая тенденция»){766}.
Однако дискуссия, сопутствовавшая голосованию, показывает, что отношение духовенства к иоаннитам было более сложным и неоднозначным, чем это можно заключить по окончательному результату. Например, петербургский миссионер-проповедник Дмитрий Боголюбов считал, что по-прежнему неясно, действительно ли «иоаннитство» является сектой. Он усматривал в этом движении своеобычную форму православия, которая в чем-то сродни ультраправым патриотическим организациям в политике, и полагал, что Православная церковь должна бы не клеймить «иоаннитство», а опекать и направлять его. Боголюбов предостерегал, что если на соборе иоаннитов объявят сектой, то это может подтолкнуть их к превращению из доселе мнимой в по-настоящему опасную секту. Он призывал коллег вместо осуждения иоаннитов вступить с ними в дискуссию в надежде, что в диалоге присущие им крайности сами собой отпадут, и эти «преимущественно добрые и наивные» люди смогут тогда послужить на благо Церкви; епископ Мамадышский Андрей выражал сходные мысли{767}.
Однако победила другая точка зрения. Голосование завершилось, и иоаннитов большинством голосов признали сектой, аналогичной хлыстам{768}. Это постановление, вскоре утвержденное Синодом, стало отправной точкой для всех дальнейших решений относительно иоаннитов{769}.
Всех православных христиан теперь предостерегали против сотрудничества с «Кронштадтским маяком». Духовенству наказали проявлять бдительность по отношению к тем, кто сочувствовал иоаннитам, и прежде чем совершать над ними какие-либо таинства, требовать от них отречения от главных заблуждений. Духовенство должно было также предостерегать прихожан от поездок в Кронштадт, где они могли бы столкнуться с иоаннитами. Те миряне, которые продолжали упорствовать в иоаннитстве после наставлений духовенства, отлучались от церкви{770}. Совет министров, возглавляемый П. А. Столыпиным, также считал, что так называемая секта иоаннитов на самом деле являлась бандитской группировкой и должна преследоваться по закону. Совет министров связался с Синодом, чтобы получить инструкции и выработать дальнейшую линию поведения касательно иоаннитов{771}.
Иоанниты и «Союз русского народа»
Столкнувшись с растущим потоком осуждений в свой адрес, иоанниты вынуждены были искать опору в организациях, которым не угрожало закрытие. Это оказалось не так трудно. Политические воззрения иоаннитов сделали их боевыми соратниками «Союза русского народа» (СРН). Очевидное сходство задач обеих групп (в каждом номере «Кронштадтскою маяка» утверждалось, что «направление журнала религиозно-моральное, в духе Православной церкви и русской народности»), сходные типажи лидеров (Николай Жеденов, например, активно участвовал в обеих организациях) и одобрение СРН о. Иоанном — все это заставляло членов обеих групп стремиться к сближению.
Однако идея объединения вскоре потерпела крах. Камнем преткновения стало постоянное осуждение иоаннитов о. Иоанном, а также тот факт, что Православная церковь признала их сектой. При всем сочувствии лидеров СРН к идейным соратникам им нужно было заботиться о своей репутации. Если они хотели сохранить статус уважаемого православного органа, приходилось «держать марку». Итак, решающей для позиции СРН стала проблема православности иоаннитов.
23 июля 1908 г. Ярославское отделение СРН предприняло первую попытку определить, какова связь между иоаннитами и о. Иоанном. Представители «Союза» встретились с пастырем в Вауловском Успенском скиту, который он построил в Ярославской губернии. По их словам, как только они подняли тему иоаннитов, о. Иоанн с возмущением произнес: «Я уже не раз прежде предавал их анафеме и теперь, при свидетелях, снова проклинаю их». Он отрицал, что как-либо сотрудничает с «Кронштадтским маяком», и благословил СРН на борьбу с иоаннитами — однако, будучи, по-видимому, осведомлен об обвинениях членов «Союза» в чрезмерной жестокости, он призвал их бороться только законными средствами{772}.
Несмотря на отчет Ярославского отделения СРН и обвинительный вердикт Киевского съезда миссионеров, проблема иоаннитов вызвала временный раскол среди членов «Союза». Руководство СРН отказалось поддержать иоаннитов и исключило их лидеров из своих рядов. С сожалением констатируя, что отдельные члены «Союза» втайне сочувствуют иоаннитству, СРН «официально и категорично» провозгласил, что не имеет ничего общего с «иоаннитскими фанатиками» и что объявлять кого-либо святым — исключительная прерогатива Православной церкви{773}. В газете «Колокол», проводившей наиболее последовательную критику иоаннитов с консервативной, православной точки зрения, появилась заметка с резкими высказываниями в адрес иоаннитов{774}. Однако отделение «Союза» в Санкт-Петербурге приветствовало иоаннитов и стало главным их защитником.
Иоанновское братство
8 сентября 1909 г. начала свою работу новая организация — «Иоанновское братство». Ее создатели ставили себе целью увековечение памяти о. Иоанна, в первую очередь составление его жития и учреждение благотворительных организаций, названных его именем. Как и ранее иоанниты, «Братство» не поддерживало ни одно из учреждений, открытых самим о. Иоанном, будь то Дом Трудолюбия или монастыри. Связь «Братства» с ультраправыми политическими организациями очевидна. Так, статья 4 Устава организации гласила: «В составе Братства могут пребывать Православные русские люди, свято блюдущие присягу на верность Помазаннику Божию Императору и Самодержцу Всероссийскому и отвергающие лжеучения материалистов, социалистов, революционеров и масонов»{775}. Именно потому, что МВД решило считать «Братство» прежде всего организацией политического и консервативного толка (как и «Союз Михаила Архангела»), а о. Иоанна — скорее филантропом, нежели религиозной фигурой, оно одобрило тот факт, что «Братство» зиждется на светских основаниях{776}. Однако стоило Николаю Большакову и другим известным иоаннитам вступить в ряды «Братства», как и Синод, и полиция стали следить за деятельностью организации более пристально.
На поверку обнаружилось, что «Братство», вопреки требованиям Устава, не учреждает ни одной образовательной или благотворительной организации, а преследует главным образом религиозные цели. Согласно данным полицейского расследования, в период с 20 сентября по 1 октября в «Братстве» должны были читаться еженедельные лекции с такими названиями: «О Суде Божьем», «О соблазне и переходе в другую веру» и тому подобные. Более того, во время собраний «Братства» регулярно читались антисектантские проповеди, в которых обличались баптисты, пашковцы и Фредерик Уильям Фаррар, английский религиозный писатель тех лет, однако защищались иоанниты. Как только петербургским властям, отвечающим за функционирование обществ, стало известно об этом «отклонении от первоначально заявленной цели организации», они приказали закрыть «Братство»{777}.
Сумерки иоаннитов
Кроме того что в 1908 г. на миссионерском съезде в Киеве иоаннитов объявили сектой, а в 1909 г. закрыли «Братство», их постигли и другие неудачи. 2 января 1910 г. скоропостижно скончался Николай Большаков. Было создано Общество памяти отца Иоанна с недвусмысленной целью — охранить его «светлое имя и деяния» от злодеяний иоаннитов. Полиция продолжала караулить любое проявление активности со стороны иоаннитов, утверждая, в частности, что следы их деятельности обнаружены в Санкт-Петербургском гарнизоне. Создавалось ощущение, что движение иоаннитов выдыхается{778}.
Однако дело обстояло иначе. В 1909–1913 гг. поток людей, распродававших свое имущество и уходивших жить в иоаннитские общины, возглавляемые местными «пророками», не иссякал{779}. Поступали сведения, что иоаннитские проповедники обнаруживались в таких далеко отстоящих друг от друга регионах, как Вологда, Владимир, Пятигорск, Кисловодск, Самара, Саратов и Минск{780}. Теперь, после смерти о. Иоанна, их проповеди стали как никогда разнородными. Одни предсказывали, что Николая II скоро убьют и что вместо него воцарится Антихрист в обличье Льва Толстого (или Сергея Витте){781}. Другие настаивали на публичных дебатах с Толстым; третьи проповедовали запрет на брак и мясную пищу, но при этом выступали за свободную любовь{782}. Крестьянин Федор Лободин при помощи книги под названием «Толкование Евангелия», которую, по его словам, благословил о. Иоанн, исцелял и изгонял нечистую силу из воронежских крестьян{783}. Вместо о. Иоанна появились новые «иисусы» — Чурсиков в Петрограде, Колосков в Москве, Стефан Подгорный на Украине{784}. Было создано общество трезвости, члены которого назвались «Ивановскими братцами»{785}. Деятельность иоаннитов была столь разнообразна, что некоторые газеты выдвинули следующую гипотезу: ивановские братцы, иоанниты, баптисты и адвентисты стремились сформировать антиправославный фронт, направленный главным образом против православных миссионеров{786}.
Власти по-прежнему пребывали в замешательстве. Когда местные чиновники запросили центральные органы, какие меры следует предпринимать в отношении иоаннитов, то получили удивительное количество противоречивых указаний. К примеру, в записке от 28 марта 1910 г. чиновники Департамента духовных дел и иностранных исповеданий, отвечая на запрос губернатора Томской губернии, как действовать в отношении недавно обнаруженных иоаннитов, порекомендовали ему:
«Т. н. иоанниты, поскольку таковые до настоящего времени изучены, не сформировались до сего времени в какую либо секту с отличным от Православной Церкви догматическим или каноническим вероучением… [они] являются, насколько удалось выяснить, лишь своего рода благочестивою организацией, преследующей цели нравственного самоусовершенствования и вдающейся отчасти в экзальтацию. Поэтому к данному явлению на местах надлежит относиться не с религиозной, но исключительно с общегражданской точки зрения»{787}.
В 1911 г. в аналогичной ситуации гофмейстер двора ответил Тобольскому губернатору не менее изворотливо, указывая, что иоанниты — не секта, а благочестивая группа людей, единственная цель которых — прославление о. Иоанна. Он добавлял, что после принятия нового закона в 1906 г. прежний закон о цензуре считается аннулированным и что издания иоаннитов нельзя преследовать на этом основании{788}.
Возможно ли, чтобы мнения представителей МВД и Императорского двора настолько отличались от точки зрения, выраженной Синодом и постановлением 1908 г.? Очевидно, того факта, что Синод одобрил решение Всероссийского миссионерского съезда, прошедшего в Киеве в 1908 г., оказалось недостаточно. 12 апреля 1912 г. собралось специальное заседание Синода, посвященное исключительно проблеме иоаннитов. Теперь иоаннитство официально признали сектой, подобной хлыстам; Киселева, Пустошкин, Назарий и Жеденов были призваны к ответу; для православных были подготовлены специальные разъяснительные заявления{789}. Однако иоаннитам удалось оставить по себе столь сильное впечатление, что даже их православные недоброжелатели отчасти переняли их риторику. Так, в опубликованном в 1912 г. памфлете сказано: «Эти проклятые о. Иоанном и, чрез него (курсив мой. — Н.К.), Самим Богом еретики иоанниты…»{790}
И хотя после 1990 г. начинается молчаливая реабилитация иоаннитов (путем включения их литературы в общий религиозный дискурс эпохи), на закате Российской империи они однозначно воспринимались как угроза и для о. Иоанна, и для православия в целом.
В итоге можно заключить, что иоанниты — одно из многочисленных и популярных религиозных движений, стремившихся вернуть «истинную» веру и пробудить людей перед лицом неминуемого конца света{791}. В контексте России конца XIX — начала XX в. они представляли собой часть более широкой националистической, ультраправой реакции на модернизацию и секуляризацию. Характерным их отличием от других сект, которые также ожидали наступления тысячелетнего царства Христа, было то внимание, которое уделяло им общество, поскольку иоанниты претендовали на роль «истинных» последователей о. Иоанна. Действия иоаннитов, таким образом, неизбежно отражались не только на самом пастыре, но и на всем православии, что в итоге внесло свою лепту в общий кризис идентичности Православной церкви самодержавной России.
Глава 7 ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЛИТИКА, САМОДЕРЖАВИЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ
Наделение о. Иоанна свойствами «заступника» повлияло на него не только духовно, но и политически, ибо его слава совпала по времени с подъемом революционного движения. Цареубийство 1881 г. и революционные события 1905–1907 гг. привели к тому, что о. Иоанн оказался одним из апологетов «Православной России» — начиная с 1880-х годов пророческий аспект его служения вышел на первый план. Его приходом фактически стала вся Российская империя. Его пастырские обязанности превратились в политические. Он начал активно отстаивать существующий политический и религиозный строй и направил все силы на отражение угроз, исходящих, по его мнению, от Льва Толстого и от радикальной интеллигенции. Знаменательный факт поддержки пастырем ультраправых стал его клеймом на долгие десятилетия, затмив другие аспекты его биографии вплоть до конца XX в. Более того, поскольку о. Иоанна считали святым, своим поведением он провоцировал многих россиян задаться вопросом, подразумевает ли приверженность православию и православным святым также и приверженность самодержавию. Обнажились противоречия между сторонниками отделения Церкви от государства и теми, кто по-прежнему отстаивал византийский идеал симфонии духовной и светской властей. Острее стала ощущаться пропасть между светским и религиозным, а также между человеческим и Божественным правом. Принимая решения, имеющие далеко идущие последствия для православия, о. Иоанн в каждой альтернативе избирал исключительно второй вариант.
Міровоззрение о. Иоанна всецело определялось его представлениями о том, какой должна быть Россия. Его взгляды включали в себя несколько характерных черт: истинная жизнь христианина — на небесах, а не на земле, все люди равны перед Господом, а міръ (по крайней мере, Россия, крупнейшая православная страна) должен управляться по православным принципам. Эта концепция христианского миропорядка определила социальные и политические взгляды пастыря.
Самой важной чертой концепции о. Иоанна было представление о том, что истинная жизнь верующего совершается не на земле, а на небесах; земная жизнь — это в лучшем случае тень грядущей вечной жизни. До убийства Александра II о. Иоанн занимался практическими делами и был далек от политики. Размышляя об общественном устройстве, он уповал на воплощение христианских идеалов любви к ближнему и духовного равенства. В ранний период своего священства он, в противоположность славянофильским представлениям о России как о единственной родине православия, «естественной, простой и гармоничной», в принципе отвергал понятие «избранной» страны; батюшка не идеализировал ни одно политическое устройство, будь то современная ему Россия или Византия{792}. В 1850—1860-е годы в его дневниковых записях практически не встречаются политические комментарии. Когда же о. Иоанн упоминал царя, это было большей частью непроизвольно: в церковных произведениях (и в русской жизни) образ царя был настолько вездесущ, что казался естественным примером, иллюстрирующим определенные принципы: «Как в присутственных местах постоянно пишется и произносится в указах имя Царского Величества, так в храме, который есть место особ, благодати, присутствия Божия, постоянно призывается имя Бога в Троице»{793}.
Отношение к власти в целом и к царю в частности у о. Иоанна, как и у многих россиян, изменилось после убийства Александра II 1 марта 1881 г. Это событие стало поворотным в представлениях пастыря о роли правителя и стабильности в российском обществе. Впервые он упоминает о цареубийстве в короткой записи от 2 марта, сообщая, что получил «страшное известие о убиении Государя Императора торпедою, во время след. Его в санках…». Сначала он пытался осмыслить событие с христианской точки зрения. Это побудило его подумать о силе покаяния и написать о террористах: «ведь и убийцы Господа, если бы они покаялись, спаслись бы» — кстати говоря, аналогичную позицию высказали Толстой и другие авторы письма Александру III с просьбой простить убийц{794}. Однако немногим позже о. Иоанн прибег к эпическому стилю и заговорил о возмездии свыше: «налетели злые и хищные коршуны на нашего незлобивого Государя и растерзали его; и с ним других неповинных, и протекли потоки крови мученической. Да воздаст им Господь — этим коршунам в человеческой коже, по делам их, а убитым да даст венцы нетления»{795}.
В последующие дни о. Иоанн всецело предался размышлениям о скрытом смысле этого цареубийства для России и об участи государя в будущей жизни. Он отказался от учебного плана и на занятиях зачитывал ученикам выдержки из газетных статей о гибели императора. Он трактовал это убийство с религиозной точки зрения — как крест, который необходимо нести, и, возможно, как способ искупить ранее совершенные императором ошибки. Для о. Иоанна, пытавшегося как-то осмыслить цареубийство, Александр II стал фигурой в чем-то аналогичной Христу, умершему людских грехов и спасения ради:
«Ужасное злодейство у нас; убит возлюбленный Государь наш злейшею рукою. Но где же Господь? Почему не избавил Его? Забыл ли Он нас? Нет, не забыл, и не отвратил Он. Как гром поразил нас, попустив на нас такое несчастие, — для того, чтобы мы пробудились от греховного усыпления, очнулись, осмотрелись вокруг себя, сознали бездну грехов своих, покаялись и исправились»{796}.
Несмотря на этот вывод, о. Иоанну, при его прочной вере в силу литургической молитвы, было нелегко смириться с тем, что Бог мог попустить убийство «покровителя Церкви… о котором она ежедневно приносила Богу прилежное моление о державе, победе, мире, здравии», особенно если учесть, что так недавно вся Россия «особенно молилась по поводу избавления его от смерти чрез злодеев…» (имеются в виду предыдущие покушения на жизнь Александра II). Он писал в смятении и муке, обрывая себя на полуслове: «Ужели Господь не услышал молитв Церкви… услышал, и принял…»{797}.
Конечно, не только о. Иоанн провозгласил Александра II мучеником. В том же ключе высказывались многие. К примеру, в «Московских ведомостях» царя называли религиозными эпитетами: «Царь-Мученик» и «Царь-Страдалец». Историк Татищев сравнивает Александра с «добрым пастырем, положившим жизнь за своих овец»{798}. Воплощением подобных религиозных и мифологических представлений стал проект строительства храма на месте убиения императора{799}. Таким образом, голос о. Иоанна тонул в общем консервативно-монархическом хоре. Для него, как и для читателей «Московских ведомостей», был только один шаг от признания царя мучеником до провозглашения его гибели нравственной трагедией для России и до отождествления его убийц с нравственными врагами России — всеми теми, кто угрожал Православной Руси. Несмотря на то что о. Иоанн и до гибели царя не считал Россию очень христианской страной, убийство Александра II явилось для него знамением нравственного кризиса России:
«Что же это такое? Открытая дерзкая война своих против своих, против Царя и всех его подданных? Ибо здесь все поражаются, если не физически, то нравственно, сердечно… Но, дерзкие и слепые, они воюют сами против себя… истребляют свое преступное, злое семя — семя антихриста. Да, антихриста: ибо они его дух. Они воюют против всего, что священно для всех христианских народов и царей; свергнув царей, они хотят водворить безначалие и грубый произвол, безверие, безнравственность, бесправие, страх и ужас. Но не удастся им это. С нами Бог, р[азумейте] я[зыцы] и п[окоряйтеся], я[ко] с н[ами] Б[ог]»{800}.
Однако даже этот прилив религиозно-патриотического рвения не помешал о. Иоанну видеть изъяны самой Российской империи. В отличие от смерти Христа, гибель императора была не искуплением людских грехов, а предупреждением, наказанием и знаком, что людям необходимо стать лучше:
«Все очнулись! Все плачут, охают и ахают! — Но это ли только нужно? Нужно нравственное очищение, всенародное глубокое покаяние, перемена нравов, — языческих на христианские. Омыемся, очистимся, примиримся с Богом — и Он примирится с нами и как мякину разъест и уничтожит всех врагов Царя и народа»{801}.
Он говорил о покаянии не только как христианском обряде. Несмотря на угрожающий тон заключительной фразы, о. Иоанн напоминает согражданам о светских способах улучшить жизнь, призывая богатых и сильных позаботиться о бедных и слабых{802}.
Убийство Александра II явилось поворотным моментом в отношении о. Иоанна к самодержавию, олицетворенному фигурой правителя. Мученическая смерть царя в глазах пастыря символически изменила статус правителя. До своей гибели царь был для о. Иоанна абстракцией. Теперь же самодержец постепенно стал для него воплощением духовных сторон старого порядка, олицетворением положительных свойств традиции и стабильности перед лицом негативных революционных перемен. Так, когда в 1883 г. о. Иоанн заметил недостатки в политике нового монарха, достойные критики, то немедленно упрекнул себя («Господи! Не мне, тебе судить Царя: и ты возлагаешь суд твой над ним во всей вселенной… как же мы еще смеем с своими близорукими, погрешными суждениями вмешиваться в Твои суды?»{803}).
Новое отношение о. Иоанна к фигуре самодержца подпитывалось и другими событиями. Самое существенное из них, изменившее как общественный статус о. Иоанна, так и значение, которое приобрела для него фигура правителя, — роль, отведенная ему в последние дни Александра III. Хотя о. Иоанн находился в начале 1890-х гг. почти на вершине своей славы, он по-прежнему сталкивался с подозрительным и враждебным отношением к себе со стороны церковных иерархов{804}. Приглашение батюшки к умирающему Александру III если и не отмело все подозрения, то по крайней мере создало трудности для публичного их выражения.
По сей день остается до конца неясным, почему пастыря пригласили к постели умирающего императора. Несомненно, о. Иоанна призвали для соборования Александра III. Однако он не был, как утверждалось позднее, особенно близок ни к императорской семье, ни ко двору и не являлся духовником никого из августейших особ{805}. Его пригласили по совету великой княгини Александры Иосифовны, жены двоюродного брата императора. Представление самого Александра III об о. Иоанне было в лучшем случае поверхностным — однако он признавал всероссийскую славу батюшки, что очевидно из его разговора с графиней Александрой Андреевной Толстой (двоюродной сестрой писателя):
Александр III спросил А. А. Толстую:
«— Скажите, кого вы находите самыми замечательными и популярными людьми в России? Зная вашу искренность, — добавил он, — я уверен, что вы скажете мне правду Меня, конечно, и не думайте называть.
Я отвечала, улыбаясь:
— И не назову.
— Кого же именно вы назовете? — это меня очень интересует.
— Во-первых, Льва Толстого, — проговорила я.
— Этого я ожидал, — заметил государь.
— А далее?
— Я назову вам еще одного человека, — отвечала я, немного подумавши.
— Но кого же, кого? — стал он торопить меня.
— Отца Иоанна Кронштадтского.
Государь рассмеялся и ответил:
— Мне это не вспомнилось. Но я с вами согласен»{806}.
В представлениях многих современников о. Иоанн ассоциировался с Толстым. В журнале «Новый путь» оба описывались как «религиозные феномены равной силы». Юрьевский (Дерптский) университет обоим одновременно присвоил титул почетных членов (от которого о. Иоанн в результате отказался){807}. В любом случае, несмотря на то что Александр III и слышал об о. Иоанне, достаточно ясно, что его знания сводились к общим сведениям, известным практически любому читателю российских газет 1890-х гг. Более того, по утверждению Николая Вельяминова, личного врача Александра, император вслед за Победоносцевым испытывал неприязнь к «оригинальности» о. Иоанна{808}. Однако к тому времени, когда обнаружилось, что Александр тяжело болен, о. Иоанн настолько прославился своими чудесными исцелениями, что в семействе Романовых, вероятно, сочли за благо призвать батюшку помолиться у одра больного. Его пригласили в 1894 г. к умирающему императору в Ливадию скорее от отчаяния, нежели в знак доверия.
Тем не менее реакция о. Иоанна на это приглашение была очень острой. Народ уже считал его заступником за Россию перед Господом. Что еще могло лучше символизировать эту роль батюшки, могло ли ей быть найдено лучшее применение, чем молитвы за умирающего царя? Несмотря на неудачу — Александр скончался спустя несколько дней после прибытия о. Иоанна — пастырь постарался обернуть событие себе во благо: описание его визита было опубликовано во многих газетах и широко цитировалось в Европе и США{809}. Та часть описания, в которой особо подчеркивается его связь как с венценосным семейством, так и с русским народом, посвящена последним словам Александра:
«Государь пожелал, чтобы я возложил руки мои на голову Его, и я долго держал их; Государь находился в полном сознании, просил меня отдохнуть, но я сказал, что не чувствую усталости, и спросил Его: “не тяжело ли Вашему Величеству, что держу долго руки мои на главе Вашей?”, но Он сказал мне: “напротив, Мне очень легко, когда вы их держите”. Потом Ему было угодно сказать: “Вас любит русский народ?” — “Да, — отвечал я, — Ваш народ любит меня”. — “Любит, — отвечал Государь, — потому, что он знает, кто вы и что вы”»{810}.
Признание Александром значения о. Иоанна на глазах всего императорского семейства было для пастыря самой лучшей рекламой. Он не винил себя в том, что его молитвы не исцелили царя; вместо этого он упрекал всю Россию и в завершение предостерегал русский народ:
«Не плачь и не сетуй, Россия! Хотя ты не вымолила у Бога исцеления своему Царю, но вымолила зато тихую, христианскую кончину, и добрый конец увенчал славную его жизнь, — а это дороже всего. Теперь люби также Его Наследника, Императора Николая Александровича, получившего от Державного Отца Свого завет — идти по следам Его»{811}.
О. Иоанн не видел ничего несообразного в том, чтобы использовать свою роль заступника и духовного отца России для извлечения нравственного урока из кончины царя. Однако то, что казалось очевидным самому о. Иоанну и что подхватывали его корреспонденты, соединяя в текстах двух «батюшек», не приветствовалось во дворце. Самоуверенность какого-то приходского священника шла вразрез с традиционной риторикой, которая была принята для описания всего, связанного с царствующим домом. В своем стремлении извлечь поучительный урок из кончины Государя о. Иоанн позабыл об этикете.
Неудивительно, что своей «фамильярностью» пастырь привел в замешательство тех, кто занимался сохранением и поддержанием репутации дома Романовых в глазах общества, и особенно — консервативную прессу. Данная ею оценка высказываний о. Иоанна отражает противоречивые взгляды на то, какое поведение считалось подобающим для религиозного деятеля. Хотя текст о. Иоанна почти сразу же был допущен к публикации в «Новом времени», в редколлегии завязался спор, насколько уместно его публиковать. А. М. Жемчужников дал издателю газеты А. С. Суворину следующий комментарий:
«Глубокий интерес этой статьи заключается в том, что достопочтенный о. Иоанн описывает все, что видел и слышал; все, чему был очевидец… Заключительное же воззвание автора к скорбящей России со словами — Теперь люби также Его Наследника, Императора Николая Александровича, получившего от Державного Отца Свого завет — идти по следам Его — полно чувства и внушительности, но мы думаем, что о таком чувственно-семейном деле, как завет, полученный, без посторонних свидетелей, нашим Государем от своего умершего Державного Отца, никто — даже и с благочестивейшими и наилучшими, как в настоящем случае, намерениями, — не может возвещать публично, кроме самого Монарха, в тех выражениях, кот. он сам почтет уместными, и при таких обстоятельствах, кот. он сам признает угодными… Причем же лицам, всякого общественного положения и всех без исключения сословий, следовало бы, касаясь этого священного для нас предмета, ограничиваться приведением тех подлинных Е.И.В. слов, которые по Его повелению были до сего времени обнародованы»{812}.
Жемчужников руководствовался главным образом принципом неприкосновенности частной жизни императорского семейства и своим приоритетным правом контролировать публичные репрезентации образа императора. Суворин более прямо выразил свои сомнения в мотивах поведения о. Иоанна и обвинил его в чрезмерной саморекламе:
«Ваша заметка совершенно справедлива. Когда я получил статью о. Иоанна, первое мое побуждение было отправить ему обратно и сказать, что не следовало ему бы самому писать о себе и т. д. Но сам Государь, к которому у меня всегда была симпатия, является в этом разговоре таким милым и таким русским человеком, так более искренним и более простым, чем о. Иоанн, популярнейший теперь человек в России, что я велел набрать ее и послать в Императорский Двор, без которого таких вещей мы печатать не можем… О. Иоанн спрашивал, отчего так долго статья не появляется. О своей популярности он, очевидно, очень соблазнился, но я не думаю, что он тут выигрывает»{813}.
Нетерпимость Суворина наводит на мысль, что не только церковные иерархи начали сомневаться в обоснованности славы о. Иоанна, и визит батюшки к Царю только усугубил эти сомнения. На самом деле непосредственным итогом визита стало то, что в глазах церковных иерархов, мирян и зарубежной прессы о. Иоанн стал ассоциироваться с двором. Хотя он был знаменит и до посещения Александра III, после их встречи его положение в глазах духовенства стало еще более неуязвимым. После визита батюшка перестает упоминать в дневниках о попытках церковного начальства усмирить его. Процесс, начавшийся после убийства Александра II, теперь достиг своего апогея: о. Иоанн начал в своих проповедях связывать православие с «мирским» процветанием России{814}. Поездка в Ливадию упрочила его отношение к монархии как к политическому идеалу.
Это не означает, что встреча о. Иоанна с Александром III ознаменовала резкое изменение мировоззрения батюшки. Скорее, первый непосредственный контакт о. Иоанна с императорской семьей стал одной из вех на пути от полной аполитичности к убежденности, что даже несовершенная православная система была предпочтительнее того, что предвещало революционное движение. Убийство Александра II, популярность Льва Толстого, внезапная кончина Александра III и, в довершение всего, революционное движение — все это вехи в эволюции о. Иоанна, пришедшего к активной поддержке существующего порядка.
Не один о. Иоанн прошел подобную эволюцию. Многие его корреспонденты шли тем же путем и испытывали сходные чувства. Несколько Оптинских старцев объявили пожары, ураганы и эпидемию холеры, захлестнувшие Россию в 1848 г., естественным отражением революции в Европе. Прославленный епископ-ученый Игнатий Брянчанинов оплакивал пристрастие российского общества ко всему французскому: «Что с нами будет, что будет с Россией, которая продолжает видеть во Франции Землю Обетованную, а в Париже — Новый Иерусалим?» Преподобный Серафим Саровский пошел еще дальше в своих апокалиптических пророчествах. По мнению религиозных авторов эсхатологической направленности начала и середины XIX в., Россия и православие никогда прежде не были в такой опасности. Оказавшись перед лицом глобальных перемен, они объявили злом все подряд (материализм, секулярность, влияние Запада) и взяли на вооружение формулу графа Уварова «православие, самодержавие, народность» как квинтэссенцию и залог устойчивости прежнего строя{815}. Россия должна сопротивляться материализму, поразившему Европу, и идти своей дорогой. Если она не прислушается к призыву к благочестивой жизни и верности Православию, может последовать катастрофа глобального масштаба. Эсхатологическое миросозерцание было распространено достаточно широко. Граф Д. А. Толстой (обер-прокурор Синода) в 1871 г. обратился к Оптинскому старцу Амвросию с просьбой растолковать сон, в котором Филарет, митрополит Московский, читал большую книгу, где было написано: «Рим. Троя. Египет. Россия. Библия». Старец дал такое толкование:
«[Россия], которая в настоящее время, хотя и считается государством Православным и самостоятельным, но уже элементы иноземного иноверия и неблагочестия проникли и внедрились у нас, и угрожают тем же, чему подверглись вышесказанные страны… Это может означать, что если и в России, ради презрения заповедей Божиих, и ради ослабления правил и постановлений Православной Церкви, и ради других причин оскудеет благочестие, тогда уже неминуемо должно последовать конечное исполнение того, что сказано в конце Библии, то есть в Апокалипсисе Иоанна Богослова: “Придет же антихрист во времена безначалия”»{816}.
Революционное движение только усилило эсхатологические настроения. Если ранее о. Иоанну нечасто писали на политические темы, то начиная с 1890-х гг. политические письма к пастырю составляют отдельную группу. В религиозной сфере он привлекал людей практически любого возраста, вероисповедания, национальности и социального статуса; письма же политического характера он получал только от убежденных монархистов или тех, кто еще не определился во взглядах. Его игнорировали все, кто исповедовал либеральные идеи. В политических терминах это конституционные демократы и все, кто был левее их. В большинстве случаев почти невозможно определить, что было первопричиной: определяли ли взгляды о. Иоанна его потенциальную аудиторию или же ограниченный круг взглядов, с которыми он сталкивался, формировал его собственные воззрения? А может быть, и то и другое одновременно? Достаточно сказать, что его консерватизм, по меньшей мере, подкреплялся, а в некоторых случаях и провоцировался письмами, которые он получал.
По иронии судьбы, однажды чересчур «либеральная» позиция о. Иоанна вызвала шквал негодования в его адрес со стороны «правых». Сразу после кишиневского погрома 1903 г. о. Иоанн и епископ Антоний (Храповицкий) безоговорочно осудили страшные события в своих проповедях и публикациях в журнале «Миссионерское обозрение». Их публичное осуждение погрома имело такой резонанс, что один издатель из Одессы просил разрешения опубликовать проповеди отдельной брошюрой. Издание распространялось еврейской общиной с таким рвением, что архиепископ Кишинева предупреждал обер-прокурора об обратном эффекте{817}. Даже Толстой призвал своего друга не выражать публично своего возмущения погромами, поскольку полагал, что «Иоанн Кронштадтский прекрасно сказал то, что всякий не озверевший человек думает и чувствует»{818}. Однако, осудив погромы, о. Иоанн заработал ненависть антисемитов. Вот типичный образчик письма к нему после кишиневских событий: «О. Иоанн, Иуда. Уважаемый до сего времени русскими людьми поп! И теперь покровитель жидов и их слуга и клеврет. Ты знаешь только пить кровь христиан»{819}.
О. Иоанн немедленно передал это исполненное ненависти письмо в полицию. Однако подобные угрозы, а также письма из Кишинева с заявлениями, что погром был организован и что первый выстрел произвел еврейский врач, застреливший ни в чем не повинного крестьянина, вынудили его смягчить свое первоначальное безоговорочное негодование и извиниться перед христианами Кишинева за «односторонность»{820}. Такое резкое изменение взглядов демонстрирует, что, хотя о. Иоанн и не разделял характерный для ультраправых органический антисемитизм, ему ничего не стоило подпасть под влияние тех сведений, которые он получал (конечно, члены еврейской общины ему не присылали писем о погроме). Здесь нельзя не вспомнить и о его первоначально мягкой, пастырской и евангелической, реакции на убийство Александра II в 1881 г., сменившейся боле выраженной политической позицией. Недаром священник Георгий Гапон, позднее прославившийся тем, что возглавил демонстрацию к Зимнему дворцу во время «кровавого воскресенья», критиковал о. Иоанна за неустойчивость взглядов{821}.
На взгляды пастыря повлияли и другие события. Так, после принятия в 1903 и 1905 гг. законов о свободе совести православные крестьяне из западных губерний, в которых преобладало польское население, начали жаловаться о. Иоанну, что местные поляки заставляют их принимать католичество. Местные православные священники также писали о католической пропаганде, называя одной из самых эффективных ее уловок заявление, что сам о. Иоанн обратился в католичество и получил благословение от папы{822}. Однако он не получал писем от униатов, которые были теперь рады открывавшейся перед ними возможности переходить в римско-католическую веру, несравненно более близкую им, нежели официальное православие. При такой диспропорции в получаемой им информации, а также учитывая собственные взгляды батюшки, неудивительно, что он встал на сторону православного населения региона.
Самые смятенные «политические» письма написаны в эпоху революционных беспорядков, пик которых пришелся на революцию 1905–1907 гг. Многие просто просили о. Иоанна помолиться за крестьян, которые подожгли (или ограбили) их поместья, или за своих детей, которые оказались вовлечены в революционное движение{823}. Письма от самых образованных корреспондентов представляли собой мольбы шокированных и напуганных людей, полные таких фраз: «Страшно думать, что ожидает нашего дорогого отечества. Все эти забастовки страшно угрожают, Церковь и православная вера в опасности. И наш дорогой Царь-Батюшка и его Наследник»{824}. Для людей, травмированных событиями 1905 г., о. Иоанн являлся символом безопасности и стабильности, пастырем, который наверняка выведет страну на верный путь.
После 1900 г. консервативные политические организации также начали вступать в контакты с о. Иоанном, спрашивая его, не согласится ли он стать их почетным членом. Так, Виленское общество студенческой взаимопомощи обратилось к нему с просьбой официально поддержать его, чтобы привлечь других филантропов. Вообще организации, выступавшие за идеи православия и народности, мечтали, чтобы о. Иоанн стал их символом. Казанское отделение Русского собрания пригласило его стать почетным членом, «как молитвенника за землю русскую, как истинного служителя Господа нашего Иисуса Христа и как человека, твердо защищающего основные русские устои»{825}. Представители организаций обращались к батюшке в продуманных и обтекаемых выражениях, прося, чтобы благодаря его молитвам организация смогла «достойно послужить на благо отечества».
Просители не были разочарованы. Начиная с 1905 г. многие политические организации правых взглядов, в том числе Русское собрание (как в Санкт-Петербургском, так и в Казанском отделении), Харьковское отделение Союза русского народа, Русский народный союз имени Михаила Архангела и Русское патриотическое общество, внесли его фамилию в список своих почетных членов. О том, насколько ультраправые организации признали о. Иоанна своим, можно судить по публикации его проповедей и трудов радикально правыми и консервативными издателями и изданиями. Его репутация служила им самим отличной рекламой{826}.
Некоторые корреспонденты о. Иоанна, особенно не очень образованные, описывали свое замешательство перед многообразием партий. Один приказчик из Москвы спрашивал пастыря: «Укажите пожалуйста к какой партии следует подписаться и к какой не следует, хотя я только что подписался к торгово-промышленной партии, — или м.б. совсем не следует подписываться…»{827} Некоторые пытались примирить свое православие с радикальными воззрениями, прося его вступиться за «несчастных матросов и солдат, которые потеряли рассудок» во время Кронштадтского бунта, «дабы не погибнуть им еще от рук палачей — своих же братьев»{828}. Самое сильное замешательство испытывали крестьяне. Так, пришло коллективное письмо от саратовских крестьян, которые писали, что местные газеты «наши деревни всех соблазнили народ их слушает. А мы дорогой Батюшка спросим Вас как ответить на ети сказки ихни пропишите пожалуйста как врагов победить дорогой Батюшка пропишите пожалуйста нам ответ об этих газетах они про Тебе очень худо пишут»{829}.
Другие, более грамотные, просили его помолиться: «В настоящее время волнений и смут просим ваших молитв, чтобы Господь просветил умы наши и вложил в сердца наша дела добрыя и не сбиться нам с пути истинныя»{830}. Малообразованные корреспонденты о. Иоанна, доверяя ему быть их наставником, сомневались в собственной способности держаться «пути истинного». Их письма все тверже убеждали пастыря в том, что крестьяне — люди доброй души, преисполненные лучших намерений, однако при отсутствии чуткого руководства склонны к политическим заблуждениям. Наиболее ярко противоречие между религиозным в своей основе сознанием и новой политической альтернативой выразилось в письме крестьянина Александра. Он писал:
«Осмеливаюсь просить Ваших молитв ко Господу благословения и наставления на правильный путь так как я сбился чрез свою гордость высокоумие, самомнение и впал в сильное искушение которое простите описать Вам:
Я всегда боялся и остерегался книг недуховного содержания и читал духовные но вот 1905 30 ноября (нынче) выбрали меня от волости уполномоченным для выборов в гос. Думу. На первых шагах у меня блеснула мысль что я лучше всех а другой уполномоченный понял что Государь 17 окт. Манифестом свобода слова что слово есть вещь духовная и он [Государь] как орудие чрез которое пришло от Бога и к Богу вернется. Между собой мы судили что на частном собрании мы должны просить Государя что бы он всех простил виновных что он не дал им жизни и не имеет права отнять. Вот мы в Вологде ходили к 3м церквам молится»{831}.
Затем Александр описывает, как, охваченный чувством политического и религиозного долга, он стал молиться за всех живых и мертвых «с нечеловеческими воплями», ощущая холод в душе и озноб в теле. Потом он бродил по улицам, призывая всех покаяться в церкви, и, наконец, во время литургии 17 декабря 1905 г. сначала метался кругами перед иконой Спасителя, причитая, что недостоин, а затем, прямо перед моментом чтения Евангелия, ему было видение Спасителя, пришедшего к нему с ангелами. Должно быть, он потерял сознание, поскольку сообщает, что церковный дьякон позднее сказал ему, что его отводили в полицейский участок. С того времени Александр исповедовался и причащался дважды или трижды, однако не мог прийти в себя, сумятица мыслей об истине и тайне так и не давала ему покоя. Он умолял о. Иоанна помолиться за него Господу, чтобы Бог простил его и наставил на путь истинный (он добавлял, что хотел бы навестить батюшку лично, но после того, что случилось, жена не отпускает его от себя). В то же время нет ни одного письма от других депутатов Думы из крестьянского сословия, которые не переживали духовный кризис. Их точка зрения не была представлена в корреспонденции о. Иоанна, и в результате основное впечатление формировали письма от таких людей, как Александр, убеждая батюшку в мысли, что политическая деятельность была выше разумения «простых людей» и только смущала их.
Однако в наибольшей степени на мировоззренческую позицию о. Иоанна повлияли письма, авторы которых бросали ему прямое обвинение в аполитичности и призывали его к действию. Иногда призывы исходили от ультраправых:
«Жители севернозападнаго края не могут понять спокойного молчания, или сказать безгласия столь уважаемого всеми о. Иоанна. Безмолвие его столь загадачно в это время, когда голос его нужен отечеству, нуждающемуся в нравственной и материальной помощи. Это не еврейский погром ничтожный и заслуженный, нет, это погром на всю св. Русь. Было время когда о. Иоанн на всякие частные нужды откликался, теперь на нужду Отечества не слышно голоса о. Иоанна — странно, даже более чем странно! В такие тяжелые времена были незабвенные Авраам Палицын и другие пастыри — уж ли оскудела Русь в таких сынах отечества? Нет, не может это быть… откликнитесь на скорбь русскую, ободрите ее!»{832}
Но не все письма, побуждавшие батюшку активно заняться политикой, были написаны людьми, рассматривавшими революцию 1905 г. как направленный против России и русских погром. Он получал письма и от сторонников изменений в стране. Вместе с тем и правые, и левые возлагали на него моральную ответственность и требовали высказать свою позицию:
«Ничего не остается делать как только искать помощи в духовенстве. Нынешнее положение почти безвыходно для низших классов не принадлежавших к “бюрократии”… О. Иоанн обратите внимание на нужды народа находящего в России которому нужны не казацкие нагайки которые практикуются проклятой “бюрократией”, а те права которые обещаны Гос. Имп. и за которые стоят студенты и некоторые съезды и все понимающие… вот вы о. Иоанн м.б. прочитавши мое письмо и скажете что это не мое дело, нет о. Иоанн никому нет более дела как вам потому что вам доверяет более всего Россия и народ и к Государю вы имеете близкий доступ и кому более говорить на защиту как не вам духовным пастырям ведь вы за это дадите Богу ответ ведь за стадо отвечает пастырь»{833}.
О. Иоанн отозвался незамедлительно. Письма, которые он получал, не только были созвучны его отвращению к революционному террору, но и прямо призывали его к действиям. Проповеди, которые он читал начиная с 1900 г., необходимо трактовать именно с учетом этих обстоятельств. Его корреспонденты могли навязать ему роль «совести России» даже вопреки его собственному желанию. И действительно, его последователи дали ему понять, что высказать свою позицию — его моральный долг и обязанность. Однако и сам о. Иоанн давно был убежден, что священник обязан «обличать», и письма просто послужили катализатором и придали ему решимости. Уж если он высказывался, то отнюдь не стремился сгладить острые углы. Его последние проповеди полны тревоги из-за революционной смуты и страха, что на смену несовершенному православному строю придет нечто намного более ужасное. В них практически ставился знак равенства между благочестием и патриотизмом, что превращает о. Иоанна из фигуры религиозной в выразителя характерной формулы, отождествляющей православие с могуществом и самобытностью России. И лихолетье 1905 г. действительно вынуждало батюшку высказываться все более решительно и определенно:
«Смотрите, что творится в нем [царстве] в настоящее время: повсюду забастовка учащихся и рабочего люда, шум партий, имеющих целию ниспровергнуть настоящий, установленный Богом монархический строй, повсюдное распространение дерзких безумных прокламаций, неуважение к авторитету власти, Богом постановленной, ибо “несть власть, аще не от Бога, сущия же власти от Бога учинены суть”, по апостолу (Римл. 13, 1): дети и юноши вообразили сами себя начальниками и вершителями своей судьбы; браки потеряли для многих всякое значение, и разводы по прихоти умножились до бесконечности; многие дети покинуты на произвол судьбы неверными супругами; царствуют какие-то бессмыслица и произвол… Наконец, допущен безнаказанный переход из православия в какую угодно веру; между тем как Тот же Господь, Которого мы исповедуем, в Ветхом Завете определил смертную казнь отвершимся закона Моисеева (Евр. 10, 28){834}.
Если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония: Вавилонское, Ассирийское, Египетское, Греческо-Македонское.
Держись же Россия твердо веры своей, и Церкви, и Царя православного, если хочешь быть непоколебленною людьми неверия и безначалия и не хочешь лишиться Царства и Царя православного. А если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, — то не будешь уже Россией или Русью святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга»{835}.
Прокатившаяся в 1905 г. по стране волна политических убийств и террора также потрясла о. Иоанна{836}. Для поддержки существующего режима он стал прибегать к аллегориям. В его трактовке Моисей превратился в «самодержавного вождя», «как бы Царя» Израильского народа на горе Синай, царя, вынужденного решительно усмирить смутьянов, поднявших «нечестивую революцию». О. Иоанн объяснял пастве, что слова Моисея «возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего» означают, что необходимо уничтожить каждого революционера. В завершение проповеди он сказал:
«Вот как святые подавляли в народе революцию и тем спасали народ свой от нравственного гнилого разложения, и это было угодно Богу. После 40 дней все пришло в обычный порядок.
Что это, как не поучительный пример в истории человечества для нашего нечестивого времени и разнузданной русской революции?»{837}
Наконец, русско-японская война стала для него поводом вновь заявить свое политическое кредо и выразить апокалиптический ужас:
«Настоящая кровопролитнейшая война наша с язычниками есть также праведный суд Божий за грехи наши. Приближение окончательного, всемирного страшного суда Божия ускоряется страшным разлитием зла на земле. В настоящее время всякие неправды, как море, покрывают землю; своеволию человеческому нет конца, всяким заблуждениям и порокам широко отворены двери. Законы Божии попраны; твари забыли своего Творца; грешные люди, в гордости своей, возмнили себя неповинными; оскверненные всякими нечистотами, забыли нечистоты свои. Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего (Ис. 1, 3), а христиане отверглись от Христа своего, Спасителя своего…
Наши юноши-интеллигенты извратили всякий общественный и учебный порядок: взяли на себя дело политики и суда не будучи никем к тому призваны; взяли судить своих начальников, учителей, правительство и едва не самих царей; судили и осудили со своим главою Львом Толстым Самого всемирного и страшного Судию — Христа Бога… Истинно, близок день пришествия страшного Судии для суда над всеми людьми, потому уже настало предсказанное отступление от Бога и открылся уже предтеча антихриста, сын погибели… тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь…»{838}.
Упоминания о Толстом неслучайны. С начала 1890-х годов о. Иоанн все резче критиковал знаменитого писателя. Ирония заключалась в том, что, как подметили сотрудники Дерптского университета, у этих двух фигур много общего: сложные отношения с преданными супругами, стремление к аскетизму и слава духовных столпов. Однако на этом сходство и заканчивалось. Как отмечают многие исследователи, с социальной точки зрения они воплощали старый конфликт между аристократической элитой и образованной интеллигенцией (обществом), с одной стороны, и простыми людьми (народом) — с другой{839}. С политической точки зрения они также находились по разные стороны баррикад. Неприятие Толстым власти в любом виде, его пацифизм, его открытое желание освободиться от самодержавия, уничтожить армию и Церковь совпали во времени с тем моментом, когда о. Иоанн осознал угрозу старому миропорядку Однако самое существенное различие, безусловно, лежало в религиозной сфере. Толстой отвергал важнейшие догмы православия: согласно его учению, Христос был не сыном Божьим, а простым человеком праведной жизни; Мария была не девой, а невенчанной матерью; никакие таинства не нужны. Его непочтительное описание Евхаристии в романе «Воскресение» особенно оскорбительно для православных. Наконец, он позволял себе прямые нападки на Православную церковь, называя ее языческой, авторитарной и идолопоклоннической{840}.
Таким образом, обозначились линии противостояния. О. Иоанн предсказывал разрушительные последствия толстовского учения для общества. Достоевский в «Братьях Карамазовых» писал: «Если нет Бога, то все дозволено»; толстовская «перевернутая» концепция Божественного, по мнению о. Иоанна, вела к такому же нигилизму{841}. Сборник его антитолстовских обличительных речей был опубликован в 1902 г. Учинив писателю полнейший разгром по всем статьям, о. Иоанн заключает, что Толстому, «по писанию», следует привязать камень на шею и утопить в море, что ему нет места на земле{842}.
Подобные заявления оскорбили многих радикалов, в том числе Бонч-Бруевича, который написал ему уничижительный и яростный ответ{843}. В 1908 г. на стол министра внутренних дел легла газетная вырезка из «Франкфуртер Цайтунг» («Frankfurter Zeitung») с «молитвой» о. Иоанна о скорейшей смерти Толстого и Витте, «разрушавших Россию». Министр ответил, что это дело необходимо расследовать, и если оно окажется фальшивкой, то необходимо подать на немецкое издание в суд. Он саркастически добавлял: «Думается мне, что представители России за границею не должны были бы относиться безучастно к тому, как систематически против нее восстановляется общественное мнение Западной Европы»{844}. Хотя о. Иоанн отрицал авторство текста, выяснилось, что он одобрил публикацию книги, в которой этот текст был напечатан{845}. Эти молитвы, мягко говоря, изумили интеллигенцию и — вкупе с проповедями — утвердили за о. Иоанном репутацию одного из лидеров ультраправых{846}. Для его риторики характерны утверждение божественной природы самодержавия, настойчивый призыв объявить любую власть установленной свыше и устойчивые определения происходящих политических изменений как «бессмысленных».
Неудивительно поэтому, что интеллигенция начала связывать с фигурой о. Иоанна все самое косное, что есть в Православной церкви. Когда он ограничивал свою деятельность помощью бедным и критикой продажных и неэффективных государственных институтов, то его приводили как положительный пример «здоровых, животворных сил, которые все еще можно найти в нашей Православной церкви». Когда же он покусился на основы и сам факт существования тех, чьи представления о России покоились на иных предпосылках, в ответ они объявили ему идеологическую войну. После того как в 1905 г. были отменены цензурные ограничения, запрещавшие негативные отзывы о духовенстве в прессе{847}, о. Иоанн стал главной мишенью для антицерковных выпадов в радикальной прессе и символом клерикальной реакции.
Некоторые нападки были абсолютно беспочвенными. Так, например, когда один священник был арестован за совращение малолетней, «Новая мысль» вопрошала: «И что скажет ныне Кронштадтский чудотворец Отче Иоанне?»{848}. Многие другие комментарии были столь же тривиальны. Связь батюшки с представителями низших сословий, прославляемая в его посмертных житиях, теперь подчеркивалась как отрицательный фактор: «Подонки Кронштадта, получавшие от о. Иоанна Кронштадтского пятаки и благословения, встревожены отъездом “батюшки”. Они считают, что его выжила интеллигенция, и собираются мстить ей»{849}. Столь же безосновательным было предположение, что о. Иоанн устарел, что последним криком моды (le dernier cri) являлся теперь монах Илиодор. Приводился диалог двух светских дам:
«Графиня Лоло: Это феномен и страшный феномен. Подумайте: 23 года, красавец и монах…
Князь Анатоль: Le père Jean en beau et en jeune.
Княгиня Тата: Ах, какой там père Jean, это что-то совсем особенное, и страшное, говорят, и обворожительное»{850}.
Однако главная критика в адрес о. Иоанна была вызвана очевидным противоречием между славой святого и его связью с «Союзом русского народа».
Газеты левой направленности и бульварные издания подразумевали, что от других церковников только и следовало ожидать, что они поддержат какую-нибудь правую организацию, однако такое поведение человека, всенародно признанного святым, являлось странным и компрометирующим. В газете «Русское слово» сообщали, что Общество студенческой взаимопомощи в Архангельске проголосовало за исключение о. Иоанна Кронштадтского из своих рядов из-за его политических взглядов и вернуло его пожертвование в размере ста рублей{851}. А в передовице «Новой мысли» просто говорилось:
«Я нисколько не удивляюсь, что проживающие в России иностранцы совершенно отказываются понимать современные русские газеты… в их здоровую голову просто не входят те противоестественные комбинации, которыми так переполнена современная русская жизнь. Например: Боголюбивый пастырь Иоанн Кронштадтский освящал знамена “истинно-русского” народа и читал ему “истинно-русские” лекции. Как может праведный Иоанн Кронштадтский себя компрометировать связями с Союзом русского народа?»{852}
Самое серьезное обвинение состояло в том, что, поддерживая «Союз русского народа», о. Иоанн косвенно оправдывал политические убийства и погромы (впечатление усиливалось звучавшими ранее из уст пастыря пожеланиями смерти Толстому и его упоминаниями о том, как Моисей усмирял бунт путем насилия). В газете «Перелом» в номере от 7 декабря 1906 г. прозвучало такое обвинение: «Отчего же вы молчите и не подвергаете церковной каре “известного” кронштадтского протоиерея Иоанна Сергиева, который на днях пред лицом всей России благословлял погромные знамена и убийства?»{853}
Конечно, о. Иоанн не благословлял убийств, но его связь с «Союзом» была как бельмо на глазу — и уместно задаться вопросом, почему. Церковник, поддерживающий ультраправую политику, — явление, в котором не было ничего необычного{854}. Однако тот факт, что радикалы обозвали о. Иоанна «черносотенцем» (определение, столь настойчиво тиражируемое советскими историографами, что можно подумать, будто о. Иоанн и «черносотенец» — это синонимы), очень примечателен, если учесть, насколько незначительной была политическая активность о. Иоанна{855}. Он не имел никакого отношения к Думе; он также не принимал участия в разработке стратегии и в демонстрациях «Союза русского народа», в отличие от о. Иоанна Восторгова и монаха Илиодора{856}. Помимо всего прочего, в 1905 г. о. Иоанну было семьдесят семь лет. Он постоянно жаловался на физические недомогания и хотя официально являлся членом Святейшего Синода, не посетил ни одного заседания — по болезни — притом, что прежде только и мечтал об этом. Он был слишком слаб, чтобы участвовать в собраниях и демонстрациях{857}.
Насколько ограниченной была готовность о. Иоанна принимать какое-либо активное участие в неспокойной политической жизни первой русской революции, обнажилось с болезненной остротой во время мятежа кронштадтских моряков в октябре 1905 г. После этого события стало ясно, что его осудят в любом случае — предпримет ли он какие-то политические шаги или промолчит. Вместо того чтобы попытаться утихомирить толпу, о. Иоанн предпочел уехать из Кронштадта до тех пор, пока восстание не будет подавлено. Радикальная пресса нещадно высмеивала его поступок; в нескольких ведущих сатирических журналах были опубликованы карикатуры, на которых изображалось его «постыдное бегство».
Так, 5 ноября 1905 г. в «Стрелах» был помещен на обложке карандашный рисунок с изображением о. Иоанна, спасающегося бегством из мятежного Кронштадта, с подписью «уклонися от зла и сотвори… благо» (ироническая перифраза слов Псалтири 33:15); в «Пулемете» опубликовали издевательскую статью с подзаголовком «Исход из Кронштадта»{858}. Появлялись и политические пасквили на о. Иоанна: такова, например, «Министерская жалоба» А. А. Вейнберга:
Матросы обратились в банду, Кто был сапер — стал хулиган, Мятежный Шмидт берет команду, Бежит блаженный Иоанн{859}.Поэт Саша Черный в своем стихотворении 1906 г. «Кому живется весело?» называл о. Иоанна в одном ряду с представителями полиции, государства и всех остальных властных институтов царской России:
Попу медоточивому — Развратному и лживому, С идеей монархической, С расправою физической… Начальнику гуманному, Банкиру иностранному, Любимцу губернатору, Манежному оратору… Сыскному отделению И Меншикову-гению; Отшельнику Кронштадтскому, Фельдфебелю солдатскому… Всем им живется весело, Вольготно на Руси…{860}Даже «Санкт-Петербургские ведомости» отмечали, что духовенство собора св. Андрея — за исключением о. Иоанна, который уехал поутру, — организовало крестный ход, пытаясь переубедить мятежников, но безуспешно{861}. Несмотря на то что почти все упрекали о. Иоанна за исчезновение из Кронштадта в самый критический для города момент, другие радикально настроенные журналисты, как ни странно, обвиняли «отца Иоанна и его хулиганов» в организации беспорядков, которые «политически сознательные среди солдат» пытались усмирить{862}. Даже Троцкий повторил это обвинение, написав, что большую роль в событиях сыграли «банды хорошо известного чудотворца Иоанна Кронштадтского», которые увлекли за собой самых невежественных матросов{863}. Но обвинение в подстрекательстве к бунту было, вне всякого сомнения, абсурдным. На деле, как утверждали многие газеты радикальной направленности, отказ о. Иоанна от решительных действий подпортил ему репутацию: «О. Иоанну Сергиеву уже не шлют больше пожертвований из недр провинции. После его бегства из Кронштадта слава его поблекла. Босяки… приуныли. Раздача им денег прекратилась»{864}.
Даже сторонников о. Иоанна расстроили его действия во время мятежа. Так, журналист М. О. Меншиков, который прежде с таким пылом писал о святости о. Иоанна, воспринял его отъезд из Кронштадта во время мятежа еще более серьезно, чем его коллеги из радикального лагеря. 30 октября 1906 г. он с горечью писал в «Новом времени»:
«Прежде всех мне приходит мысль в эти мучительные дни о. Иоанн Кронштадский. Вот кто должен пережить горькие минуты! Прослужить полстолетия в Кронштадте, четверть века пользоваться славою всероссийского чудотворца, приобресть всемирную известность, создать громадное к себе паломничество… и быть вынужденным убедиться, что ближайшее его стадо — 15 000 взбунтовавшихся матросов — лишены всякой религии, всякой духовной дисциплины, всякого уважения к нему, угоднику Божию, — как ни хотите, это тяжело. Говорят, о. Иоанн пытался обратиться к бушующей толпе, но до такой степени неуспешно, что вместе с массой бегущих из города жителей уехал из Кронштадта. Не знаю подробностей, не смею утверждать — но если правда, что пастырь душ бросил свое стадо в эти страшные, сатанинские дни, — каково ему, глубоко верующему, выйти пред престол Божий и поднять глаза к небу?
Скажут: о. Иоанн — приходской священник, а у матросов свое духовенство, свой протопресвитер. Да, — но о. Иоанн знает, не может не знать, что все эти протопресвитеры и митрополиты, его современники в сравнении с ним ничто. На них нет этой высшей апостольской благодати — дара исцеления, они не творят чудес… Из всех живущих только он может быть уверен, что пред его изображением после смерти будут гореть лампадки и к нему будут возноситься горячие мольбы. Знать все это и видеть, как в сущности далеко стоял он от ближайших к нему душ… тяжело!»{865}
Здесь Меншиков косвенно обозначил причину, по которой именно о. Иоанна журналисты избрали мишенью для антиклерикальных нападок. Несмотря на то что другие представители Церкви занимали куда более активную политическую позицию, нежели о. Иоанн, только его считали святым и предъявляли к нему соответственные требования. В воспоминаниях большевиков-агитаторов нередко упоминается, что их тревожили высказывания рабочих: «Но среди них (духовенства. — Н.К.) есть праведники — то есть о. Иоанн Кроншадтский»{866}. Поэтому, хотя титул «черносотенцев» заработали и другие клирики, авторитет их был далеко не столь велик, как у о. Иоанна, что и сделало его мишенью для резкой критики.
Интересная деталь: будучи когда-то весьма чувствительным к критике, теперь он на удивление стойко переносил явное унижение. Батюшка писал игуменье Таисии после того, как она сокрушалась по поводу издевательств «злых людей», и говорил, что он по-прежнему «раб Божий». «В Господе моем Иисусе Христе я легко переношу все издевательства надо мною людей лукавых… — признавался ей пастырь, — Господь им отмстит за меня, ибо касайся меня злобно — касается в зеницу ока Божию». Признавая отпадение от него последователей из высшего общества, он замечал, что простой народ и дети по-прежнему к нему стекаются{867}.
Взгляды о. Иоанна на политическое, интеллектуальное и культурное развитие России повлияли на его репутацию не только у либералов, интеллигенции и радикальной прессы, но и у более консервативной части населения. Когда он начал настаивать, что его точка зрения — единственно допустимая, то привел в замешательство тех православных христиан, которые чувствовали, что по своей вере вполне могли бы поддержать грядущие перемены{868}. Его слава святого только усложняла дело: как поступить, если человек Божий исповедует политические взгляды, которые тебе кажутся сомнительными или даже отталкивающими?
Несмотря на то что почитатели о. Иоанна по-разному реагировали на его поведение, их можно условно разделить на несколько категорий. Одни стремились принять его взгляды, считая их боговдохновенными, тогда как другие стали относиться к нему хуже — либо снисходительно признавая, что он, как и всякий праведник, может иметь свои слабости, которые не умаляют его святости, либо ставя под сомнение его святость, либо пытаясь переосмыслить само понятие святости. Эти взгляды нашли отражение в письмах, которые о. Иоанн получал в ответ на свои антитолстовские проповеди и высказывания в защиту самодержавия. С конца XIX в. проповеди о. Иоанна стали не только звучать с амвона собора св. Андрея, но и регулярно появляться в таких газетах, как «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальника» и «Московские ведомости», что лишь укрепляло в глазах общественности его связь с самыми консервативными органами и институтами России. Последовавшая реакция показывает, что некоторых людей приводили в ужас как его взгляды, так и его связь с официальным правым движением.
В письмах постоянно звучит изумление, которое вызывала позиция о. Иоанна. Своей благотворительной деятельностью и критикой социального неравенства он заслужил репутацию представителя положительных сил в религии, а значит — автоматически — сторонника реформ в самом широком смысле этого слова. Вот почему многие были горько разочарованы, когда осознали, что его призывы к социальной реформе и искреннее желание улучшить участь бедняков не подразумевали политических перемен. Во многих письмах звучат замешательство и разочарование. Так, один мирянин писал:
«Читая слова Вашей проповеди против графа Л. H. Толстого, помещенной в полицейской газете (хорошее место для таких проповедей), приходишь в полное недоразумение. Неужели все это возможно: Иоанн Кронштадтский и — такая проповедь. Пред читателем рисуется не просвещенный и гуманный пастырь, а изувер с самым узким кругозором, не только религиозного мышления, но и просто логического».
Далее автор письма противопоставляет прогрессивные и культурные силы, по-видимому, воплощенные в Толстом, тем, кто, по его мнению, выражал худшие черты православия, — таким как о. Иоанн: «Вокруг Толстого и вокруг других светских писателей ютится все новое, умное, идейное, культурное, а вокруг Иоанна Кронштадтского ютится ханжество, лицемерие, кликушество, рой истеричек и психопаток, прославляющих небывалые чудеса и чудесные явления»{869}.
Это далеко не единственный пример отождествления о. Иоанна с почитательницами и один из первых случаев, когда автор, подчеркивая, что среди поклонников больше женщин, намекает на неполноценность объекта поклонения. Других корреспондентов пастыря беспокоила резкость его тона:
«Мне случилось ознакомиться с Вашими обличительными словами, произносимыми в Божием храме и часто воспроизводимыми на страницах Ведомостей СПб градоначальства, направленными против графа Л.T., и кроме того, мне случилось прочитать копию с Вашего письма г-ну ректору Юрьевского Ун-та, в коем вы громом обрушиваетесь на сего последнего, оскорбясь одновременным избранием Вас и графа почетными членами Университета. И вот я не нахожу душевного покоя: как примирить ваши обличительные речи, столь чуждые духу христианского незлобия, терпимости и всепрощения и Ваше карающее письмо, с прекрасными словами, кои я при сем прилагаю?»{870}
Коллега о. Иоанна, священник Александр Любимов, ставил под сомнение слова пастыря: «Бог долготерпит Толстому, как и всякому грешнику нераскаянному, чтобы тем строже наказать его и соответственно виновности увеличить наказание вечное»{871}. Категорическое осуждение Толстого о. Иоанном глубоко встревожило священника:
«Много читал я и постоянно читаю, но никогда и ни у кого из писателей знаменитых и святых не встречал я подобной мысли, чтобы Бог поддерживал жизнь людей с ее благами для того, чтобы после жесточе наказать… такою мыслию, по-моему, хулится бесконечная благость Божия. Напротив, Бог неохотно наказывает людей, длит жизнь великих грешников и даже дает им великие временные благи, да в покаяние приидут и исправятся… неужели Вы, глубокоуважаемый о. Иоанн, ясно предвидите погибель гр. Т, когда говорите, что “Бог долготерпит ему, чтобы тем строже наказать его в будущей жизни?” Если да, то не бесполезно ли, а м.б. даже не богопротивно ли молиться о нем? Не скрою от Вас того, что я, прочитав вышесказанное, пришел в немалое смущение; ибо усердно молился я и молюсь Богу об обращении погибающего Л.Н.Т. к сознанию своих тяжких заблуждений и раскаянию, да явятся на нем великие и чудные дела Божия…»{872}
То были «принципиальные противники». Однако находились у о. Иоанна и восторженные сторонники. Даже их стиль напоминал его собственный. Было очевидно, что взгляды о. Иоанна обескураживали одних, но воодушевляли и находили поддержку у других, явно видевших в нем выразителя своих взглядов. Несмотря на то что и другие представители духовенства могли высказывать сходные взгляды, сторонники о. Иоанна осознавали, что он был одним из немногих, кто боролся с радикальными авторами на их собственном поле: в памфлетах, газетах, опубликованной книге, а не только в проповеди или ропоте за закрытыми дверями. Люди видели ситуацию через призму оппозиции, впервые обозначенной Н. С. Лесковым: Толстой и о. Иоанн ассоциировались в их сознании с антиподами, борющимися за будущее России. Их ощущение схватки не на жизнь, а на смерть сопровождалось возмущением, что их голоса не имеют широкого общественного резонанса и что риторика, характерная для публичных дискуссий той поры, чужда и враждебна им. Для таких корреспондентов о. Иоанн представлялся единственным человеком, который осмелился озвучить их собственные воззрения. Подобно ультраправому американскому католическому священнику о. Чарльзу Кофлину в 1930-х гг., о. Иоанн стал «рупором недовольных»{873}. Они обожали батюшку за то, что он дал их смутным чаяниям зазвучать в полный голос и вынудил с ними считаться. В результате он вывел их на общественную сцену. Как писали несколько женщин из Киева,
«Вы, дорогой наш Батюшка, возвысили громко и безбоязненно свой авторитетный голос против русского антихриста. О, продолжайте, молим Вас счастьем дорогой нашей России, продолжайте начатое Вами великое и вполне достойное Вас дело борьбы с опасным лжепророком! Вы один в силах помериться с чудовищным титаном, заполнившим умы и сердца нашей гибнущей молодости; Вы один можете смело посчитаться с газетными лакеями — либералами и с власть имущими заведомыми пособниками лютого врага России… Нам верится, что Вы, святый Отец, охраните Россию от грозящего ей страшного бедствия, Вы, и только Вы один, во всеоружии Вашей духовной мощи, можете достойно сразиться с русским супостатом…»{874}
Глава 8 НАСЛЕДИЕ ПАСТЫРЯ
Смерть о. Иоанна в декабре 1908 г., как и смерть любого святого, стала значительным событием. Почитатели пастыря оплакивали утрату, праздновали его переход в мир иной и открыто провозглашали его святым. Могила о. Иоанна в Санкт-Петербурге стала новым объектом почитания, и свидетельства о происходящих здесь новых чудесах усердно собирались сторонниками официальной канонизации пастыря Православной церковью. Николай II, уже выступивший за время своего правления инициатором нескольких канонизаций, начал процесс общенационального увековечивания памяти о. Иоанна, который был подхвачен Святейшим Синодом. Однако в традиционный ход дел вмешались политические события, последовавшие после смерти пастыря. Из-за революции 1917 г. и Гражданской войны, вызвавших массовую эмиграцию из России и смену православного самодержавия на коммунистический строй и политику государственного атеизма, о. Иоанн стал в равной степени и религиозным, и политическим символом. Тот необычный факт, что о. Иоанн был канонизирован дважды (в 1964 г. — Русской православной церковью за рубежом (РПЦЗ) и в 1990 г. — Московским патриархатом), показывает, насколько по-разному ответвления Русской православной церкви воспринимали своего самого политизированного святого новейшего времени. Враждебность, которую о. Иоанн вызывал у тех, кто не сочувствовал его видению православной России, также приобрела новые оттенки.
Смерть и похороны о. Иоанна
О. Иоанн скончался 20 декабря 1908 г. в 7.40 утра в возрасте семидесяти девяти лет. Его похороны явились значительным событием. Билеты на поезд из Санкт-Петербурга в Кронштадт были распроданы; буквально все экипажи, сани и кибитки в Ораниенбауме — арендованы. Тело о. Иоанна сначала отвезли в собор св. Андрея, где утром совершили литургию и панихиду, а вечером — парастас (заупокойное Всенощное бдение). Собор не запирали всю ночь до следующего утра. Люди нескончаемым потоком шли попрощаться со своим святым{875}.
Однако церемония на этом не закончилась, ибо о. Иоанн должен был быть погребен не в Кронштадте, где он прослужил пятьдесят три года, а в женском монастыре, основанном им в Санкт-Петербурге. Гроб с его телом был перевезен по льду в Ораниенбаум в сопровождении 94-го Енисейского полка и нескольких военных оркестров, игравших традиционный для XIX в. гимн «Коль славен наш Господь в Сионе»{876}. За гробом шла толпа в двадцать тысяч человек, поющая православные похоронные песнопения. По пути процессия делала остановки в таких значимых местах, как Морской собор, Церковь Богоявления, часовня в Кронштадте, а также Исаакиевский собор, Варшавский вокзал и здание Святейшего Синода в Санкт-Петербурге, во время которых совершались краткие литии. Жители выглядывали в окна и забирались на крыши и ворота, чтобы понаблюдать за процессией. Столь частые остановки для кратких богослужений были необходимы, поскольку на похороны в монастырь на Карповке пускали только по билетам. Присутствие на литии позволяло любому жителю Санкт-Петербурга попрощаться с о. Иоанном. Провожавшие батюшку из Кронштадта к его последнему пристанищу проходили по двадцать пять верст в день{877}.
Выбор женского монастыря на Карповке для погребения о. Иоанна в итоге определил главное место паломничества для его почитателей. В судьбах святых местонахождение мощей играет ключевую роль; при этом оно может не совпадать с тем местом, где святой провел свою жизнь (так случилось, когда мощи св. Николая были перевезены из Мир в Бари). Люди, стремившиеся увидеть святого и прикоснуться к нему при его жизни, теперь обрели возможность непосредственного, физического контакта с благодатным захоронением{878}. Санкт-Петербург подходил для погребения о. Иоанна больше, чем Кронштадт, в первую очередь по географическим соображениям, и всякий, кто приезжал в город, без труда мог найти дорогу на Карповку. Для самого монастыря, безусловно, захоронение на его территории о. Иоанна стало нескончаемым источником благодати и дохода{879}. Именно поэтому кронштадтские власти в судебном порядке расследовали подозрительные обстоятельства, связанные с завещанием о. Иоанна. Оно было составлено настоятельницей монастыря Ангелиной, когда батюшка был уже при смерти. Согласно этому завещанию, все отходило ее монастырю. А власти Кронштадта тоже хотели извлечь свою выгоду и после смерти о. Иоанна, как они это делали при его жизни{880}. Изначально планировалось, что его квартира станет чем-то средним между часовней и Домом-музеем, однако самые важные из принадлежавших ему вещей были перевезены на Карповку. Несмотря на то что в конце концов в Кронштадте была построена семейная усыпальница, она не привлекала внимания паломников. Попытки создать другие места поклонения — склеп матери о. Иоанна и часовню над могилой его жены — также не увенчались успехом{881}.
Это и неудивительно, поскольку их значение теперь было чисто историческим, в то время как он — то есть его мощи — по-прежнему оставался доступен людям. Здесь явственно проступает различие между святыми и другими широко известными лицами. К примеру, интересно посетить дом и сады Моне в Живерни. Совсем иное дело — святой. Его задача — обеспечить своим почитателям постоянный доступ к Божественной благодати через свои молитвы и свои мощи. Возможно, о. Иоанн и умер, но для своих почитателей он был по-прежнему жив телом и душой: его путь святого только начался. Монахини начали собирать свидетельства о посмертных чудесах исцеления во время погребения, а затем в часовне, где был погребен о. Иоанн{882}.
На пути к канонизации, 1909–1917 гг.
Начало процессу увековечивания памяти о. Иоанна было положено императорским рескриптом от 12 января 1909 г. Описывая пастыря как праведника и молитвенника за всю Землю Русскую, Николай II призывал ежегодно и всенародно отмечать день поминовения о. Иоанна и так же широко в наступающем году почтить его память в сороковой день со дня его кончины. Кроме того, он выразил надежду, что Святейший Синод предпримет и другие шаги{883}.
Синод откликнулся незамедлительно. 15 января 1909 г. он выступил с официальным заявлением, в котором постановил опубликовать императорский рескрипт и проводить поминальные службы как в обычных, так и в военных церквях. В нем также содержалось требование учредить семинарские стипендии имени о. Иоанна, поместить его портреты в православных школах, семинариях и академиях; ввести его труды в программу по гомилетике; учредить в Архангельске православные школы его имени, назвать в его честь недавно созданную школу в Житомире и добиться, чтобы монастырь на Карповке получил статус «первоклассного». Процесс увековечивания, конечно, начался еще при жизни о. Иоанна, но тогда он был локальным и шел от народа, «снизу»: например, приходские школы писали прошения в Синод, чтобы их назвали именем о. Иоанна, поскольку он был их первым, или главным, или единственным жертвователем{884}. После смерти пастыря высший церковный орган России и Николай II придали процессу новый импульс{885}.
Увековечивание памяти о. Иоанна и выдвижение его в качестве образца для подражания принимали и другие формы. В сборнике панегириков, произнесенных на поминальных службах в его честь и вскоре после этого опубликованных, церковные иерархи противопоставляли его либеральным тенденциям внутри Церкви. Епископ Таврический Алексий противопоставлял о. Иоанна либералам и борцам за свободу, превознося пастыря и прося прощения уже за одно упоминание в храме этих «эпитетов»{886}. Прежде всего епископы и священники отмечали, что о. Иоанн продемонстрировал единственный путь служения обществу и людям — не через внешние изменения, а через духовное возрождение каждого человека{887}. Смерть батюшки послужила поводом для осуждения таких инициатив, как приходские реформы. Говорилось, что эти реформы «сразу пошли не в том направлении», то есть начались с составления правил и уставов, а не с духовного возрождения прихода{888}. Таким образом, после своей смерти о. Иоанн стал символом, который использовался в борьбе против структурных реформ церкви.
В жизнеописания о. Иоанна, составленные в период 1908–1918 гг., было добавлено несколько новых элементов, с учетом его возможной канонизации. Наиболее ценный источник — Общество памяти отца Иоанна Кронштадтского, которое занялось сбором и публикацией воспоминаний о батюшке. В журнале «Кронштадтский пастырь», выходившем в 1912–1917 гг., публиковались как воспоминания, так и сообщения о чудесах. Сбор материала продолжался даже после 1917 г., но к началу 1920-х гг. прекратился{889}. В этих официальных описаниях появляются новые элементы. Первый из них — подчеркивание «надклассовости» о. Иоанна — сменяется указанием на то, что он является человеком из народа. Так, в 1912 г. генерал-лейтенант Д. А. Озеров писал о визите о. Иоанна в Териоки во время русско-японской войны 1904–1905 годов:
«Стою я около Батюшки, всеобщего нашего, родного отца Иоанна, смотрю на толпу у крыльца и кажется мне, что тут вся Русь наша, святая, измученная, простая, родная Русь: мужички темные, солдатики измученные, монашенки недалекие, и над ними на возвышении отец Иоанн, горячая и непоколебимая вера которого всех утешает, ободряет; просто, бесхитростно, без рассуждений и умствований, — по-русски, по-старому, по-древнему, библейскому»{890}.
Это внимание к низшим классам исчезло после революции 1917 г. Как только старого самодержавного строя не стало, классовые различия, казавшиеся столь чувствительными в 1908 г., потеряли для пишущих о нем литераторов прежнее значение. И в эмигрантских, и в российских публикациях (после 1988 г.) снова подчеркивается «универсальный характер» притягательности о. Иоанна{891}. Тем не менее в период 1908–1917 гг. влияние радикальной критики и скандала с иоаннитами на общественное мнение было еще столь велико, что литераторам из интеллигенции стало трудно представить, что и они некогда вступались за о. Иоанна. И поэтому им было удобнее приписать его к разряду «простых людей». С другой стороны, не нужно забывать, что Церковь в пореформенную эпоху стала возлагать надежды на простых людей, а не на образованное сословие{892}.
Второе изменение в посмертных репрезентациях о. Иоанна — больший акцент на его почитательницах, преимущественно — как это было в аналогичных случаях во Франции и в США — в негативном духе{893}. Алексей Макушинский, который мальчиком пел в соборе св. Андрея в 1891–1904 гг., позднее вспоминал, что, «когда женщины узнавали, что проедет о. Иоанн, они полностью теряли разум, бросались под копыта лошади с криком: “Слава Богу, пострадала за Христа!”»{894} Один священник говорил, что о. Иоанн «вырывался из цепких рук излишне восторженных почитателей и — особенно — почитательниц»{895}. Все эти свидетели стремились передать свои положительные впечатления об о. Иоанне. В связи с этим примечательно, что, характеризуя его аудиторию, они подчеркивают ее низкое социальное происхождение, «невежество» и преимущественно женский состав — притом, что при его жизни паломники, приезжавшие в Кронштадт, указывали на социальную неоднородность, а также смешанный половозрастной состав паствы. Другие приверженцы о. Иоанна намеренно оборачивали упоминание о женщинах-почитательницах ему во благо. Они писали, что смерти Достоевского, Чайковского и Менделеева имели резонанс только в культурной части общества, «совершенно не проникая в глубины народные»; смерти таких полководцев, как Суворов или Скобелев, затронули более широкую часть населения, «но их имена почти чужды женской половине населения». И только «святой» о. Иоанн сумел объять воображение всего народа, «всю любовь наиболее любящей половины нации — женщин». Завоевав любовь женской части населения, о. Иоанн, говоря символически, покорил душу народа{896}. Возможно, упоминание, зачастую негативное, об «экзальтированных» и «ненормальных» отношениях между женщинами и прославленными религиозными деятелями было завуалированной попыткой заклеймить отношения между императрицей (и, шире, царским режимом) и Распутиным{897}. В период 1908–1917 гг. более всего замалчивались в описаниях о. Иоанна его политические высказывания. В условиях, когда революция 1905 г. была решительно подавлена, а старый строй, который пастырь отстаивал столь горячо, продолжал сохраняться и после его смерти, его политические воззрения казались менее важными, чем его христианские добродетели как святого.
Культ отца Иоанна после 1917 года: политика, реальность и репрезентации
Присущая посмертным оценкам пастыря аполитичность исчезает после революции 1917 г. и Гражданской войны. Культ о. Иоанна в СССР широко развивается «подпольно» и распространяется за рубеж благодаря миллионам эмигрантов. Большинство эмигрантов жили в тяжелых условиях и были постоянно озабочены поисками работы и крыши над головой. Для многих из них о. Иоанн снова становится тем практическим и духовным помощником, каковым он был и в России. Эмигранты, как, например, живший в Хельсинки П. М. Чижов, начинают собирать информацию об о. Иоанне. В Белграде вся биографическая информация и свидетельства о чудесах стекались к И. К. Сурскому и были опубликованы в 1938 г. в виде двухтомной монографии. Эмигрантское духовенство также описывало его как образцового пастыря, время от времени сравнивая его со святителями Иоанном Златоустом и Григорием Богословом{898}. Подобно тому как при жизни батюшки проводилась параллель между ним и преп. Серафимом Саровским, так после его кончины стали подмечать его сходство с Оптинскими старцами, особенно со старцем Варсонофием{899}. После Второй мировой войны, когда значительная часть русских эмигрантов переместилась из Европы в США, главным хранителем культа стал Памятный фонд отца Иоанна Кронштадтского, основанный в 1954 г. и расположенный в г. Ютика, штат Нью-Йорк. Беря пример с о. Иоанна, сотрудники Фонда оказывали материальную помощь нуждающимся эмигрантам из России. Они переиздали такие важные источники для написания Иоаннианы, как его «Моя жизнь во Христе» и «Два дня в Кронштадте» архиепископа Евдокима. Кроме того, Фонд постоянно собирал новые свидетельства о чудесах, а после канонизации о. Иоанна Русской православной церковью за рубежом в 1964 г. стал первой церковью в мире, посвященной Святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Скромная благотворительная деятельность Мемориального фонда теперь распространяется по всему миру, в том числе и в самой России{900}. Не стоит недооценивать значения благотворительной работы Фонда, и все же его главная роль — сохранение исторической памяти. В 1930–1970-е гг., когда связь между верующими внутри России и русским зарубежьем была очень слабой, Фонд служил одним из немногих источников информации об о. Иоанне.
Напротив, Издательство Св. Иоанна Кронштадтского (St. John of Kronstadt Press) в г. Либерти, штат Теннесси, намеренно преуменьшает значение «русского контекста» такой фигуры, как о. Иоанн. Эта организация была основана обратившимися в православие американцами, которые связаны с Русской православной церковью за рубежом, и в ней делается акцент на универсальности добродетелей о. Иоанна — благочестия и благотворительности. Миссионерский и англоязычный характер организации во многом определяют ее отход от специфики исторической ситуации в Российской империи конца XIX — начала XX в. О. Иоанн стал здесь новой, чисто американской знаковой фигурой. Поскольку день рождения о. Иоанна совпадает с Хэллоуином, службы в его честь, совершаемые в этот день, напоминают православным американцам, что не следует принимать участие в шабаше ведьм и демонов.
Политические репрезентации
Памятный фонд в Ютике и Издательство Св. Иоанна Кронштадтского в Теннесси основное внимание уделяли сущности и особенностям служения о. Иоанна. Православные мыслители либерального толка подчеркивали его духовность, а также преемственность по отношению к преп. Серафиму Саровскому, традиции исихазма и связь его книги «Моя жизнь во Христе» с трудами богослова XIV в. Николая Кавасилы{901}. Однако собственно политическое наследие пастыря находило других приверженцев. Представление об о. Иоанне как о пророке, предупреждавшем о том зле, которое несет революция, распространялось иерархами Русской православной церкви за рубежом с особым усердием. Для этих эмигрантов, представлявших собой наиболее консервативную часть дореволюционного российского общества, о. Иоанн был пророческим гласом, к которому надо было прислушаться, чтобы избежать катастрофы, разметавшей их по разным концам света. Они были наследниками тех, кто собирал и публиковал его «Новые грозные слова» и «Обличительные проповеди» еще при его жизни. В таких публикациях, как «Отец Иоанн как пророк, посланный Богом, чтобы вразумить Россию», они повторяли его последнее предостережение, обращенное к православной пастве и «печально подтвердившееся» теперь: Россия была на пороге разрушения, революция означала катастрофу, русские люди должны не изменять своей вере и своему Царю, иначе само название страны сгинет навеки{902}. Последние проповеди о. Иоанна стали краеугольным камнем для их собственных политических воззрений. Они глубоко прониклись его чувствами, поскольку и им, и России революция обошлась очень дорого. Они горько оплакивали других эмигрантов, которые продолжали придерживаться «тех самых убеждений, которые погубили Россию», и утверждали, что до тех пор, пока те, кто трудится для новой России, будут продолжать мыслить мирскими категориями и не будут стремиться излечиться от духовного разложения, они обречены на поражение: «Вот почему ни Белое движение, ни так называемая Русская Освободительная Армия не достигли успеха»{903}. Для РПЦЗ канонизация о. Иоанна в 1964 г. явилась свидетельством перед Богом о ее приверженности идеалам симфонии «церковь-государство», Святой Руси и даже Третьего Рима{904}.
Неудивительно, что именно этот аспект выходит на первый план в написанных в эмиграции богослужебных текстах, посвященных о. Иоанну: его называют «могучим оплотом православного владычества России… истинным заступником благочестивых государей»{905}. Хотя тропарь и кондак, составленные Русской православной церковью за рубежом, обращены к людям всех стран и всех политических взглядов и раскрывают прежде всего многогранность его святости, акафист, сочиненный в начале 1930-х гг. афонским иеросхимонахом Пахомием и включенный в богослужение после канонизации о. Иоанна в 1964 г., содержит такие фразы:
«Нова беда и гнев Божий постиже нас, не восхотевших внимати богодухновенным твоим глаголом: держава бо царства наша разрушися, и слугам сатаны во власть предадеся, иже честныя обители иноческие разориша, святыя храмы оскверниша, и вся благочестивые люди люте озлобиша, и множество духовнаго и мірскаго чина мученической смерти предаша»{906}.
Таким образом, канонизация о. Иоанна в эмиграции в равной мере означала как осуждение революции 1917 г. и одобрение концепции симфонии «церковь — государство», так и признание его святости. Его политические взгляды заложили основы для непримиримой по отношению к советской системе и Московскому патриархату позиции РПЦЗ. Поскольку последующие поколения эмигрантов, рожденные в Австралии, Европе и на Американском континенте, растут в еще большем отдалении от российского контекста, интересно, будет ли этот аспект по-прежнему доминировать в культе о. Иоанна за рубежом.
Однако на территории России внимание эмигрантов к политическим взглядам о. Иоанна сыграло важную роль. В XX веке это один из многочисленных примеров того, как ультраправая традиция, вынужденная уйти на дно у себя на родине, поддерживалась благодаря зарубежной диаспоре. Даже несмотря на относительную обособленность СССР от остального мира, обеим сторонам удавалось обмениваться информацией. Например, о явлениях кому-либо о. Иоанна в видениях сообщалось как в эмигрантской прессе, так и в советских атеистических работах 1970-х гг., что способствовало приобщению отечественных читателей к знанию, иначе не доступному. Таким образом, крайне правые политические взгляды о. Иоанна открыто поддерживались частью русской эмиграции и тайно — жителями СССР, причем и тем и другим удавалось сохранять связь и обмениваться новыми сведениями в течение многих лет. С другой стороны, эти взгляды высмеивались официальной атеистической советской прессой и зарубежными либеральными авторами. После перестройки и канонизации о. Иоанна Московским патриархатом в 1990 г. эти правые тенденции вновь стали достоянием гласности. Теперь, когда XX век закончился, мы видим, что о. Иоанн словно бы путешествовал по кругу: тексты о нем появились в России и за рубежом в период примерно с 1900 по 1935 г., в 1938–1988 гг. они были переизданы за рубежом, а затем, начиная с 1990 г., вновь переиздавались в России и распространялись как в России, так и в эмигрантской среде{907}.
В самом Советском Союзе политические взгляды о. Иоанна оценивались с двух противоположных позиций. Если эмигранты в своей борьбе за существование в Париже и Берлине испытывали ностальгию по дореволюционному образу жизни, то у советских людей, переживших коллективизацию, разрушение храмов и сталинские чистки, ощущение, что ты ограблен и находишься на осадном положении, было тем более острым. Неудивительно, что в СССР политические взгляды о. Иоанна описывались в еще более жесткой и полемически заостренной форме, чем в эмиграции. К примеру, в «Сне отца Иоанна Кронштадтского» видение, которое якобы было у о. Иоанна в 1908 г., использовалось для развенчания таких явлений советской жизни, как «Живая Церковь», а также убийц Николая II и всех, кто носит пятиконечную красную звезду. Образы в «Сне» были схематичны и выразительны: умерщвленные в результате аборта приравниваются к мученикам за православную веру, а смрадные черви ползают между «этими безбожными, еретическими книгами… копошатся и распространяют страшное зловоние»{908}. Содержащиеся в сне описания Антихриста, клейменных его числом лбов и животных напрямую восходят к пророчествам Даниила и Апокалипсису. Первая пятилетка, принудительная коллективизация и повсеместное преследование православного духовенства — все это сделало больше для разрушения православного образа жизни, чем сама Октябрьская революция, и в результате всегда потенциально присутствующие в православии эсхатологические мотивы стали ключевыми. Для тех, кто ощущал, что конец света уже наступил, о. Иоанн, святитель Тихон Задонский и преподобный Серафим Саровский стали важными символическими фигурами не из-за личной доброты или внимания к сердечной молитве, но из-за своих эсхатологических высказываний. Например, они помнили, как святитель Тихон напророчил, что последний патриарх будет носить его имя, как преподобному Серафиму открылись судьбы последних русских царей и как о. Иоанн прогнал некоторых маленьких детей, приведенных к нему для благословения, говоря, что они вырастут «живыми бесами»{909}.
Останки о. Иоанна были осквернены и намертво закрыты на долгие десятилетия. Монастырь на Карповке превратили в конце 1920-х годов в гигантское учреждение со множеством складов и контор. Собор св. Андрея взорвали в 1930-х гг., а на его месте разбили парк со статуей Ленина{910}. Из-за этого о. Иоанн стал недоступен в своей материальной ипостаси, хотя люди «случайно» роняли что-нибудь перед заколоченным отныне подвальным окном его склепа, чтобы встать на колени, или праздновали день его памяти, выходя помолиться на улицы{911}. Тогда он начал являться в видениях. Согласно свидетельству 1919 г., о. Иоанн чудесным образом явился Силаеву, матросу-большевику с крейсера «Алмаз» и комиссару ЧК, и вдохновил его покаяться и возглавить контрреволюционное движение{912}. Он также являлся вместе с преподобными Сергием Радонежским и Серафимом Саровским, чтобы служить заупокойные молитвы по тем, кто умер без погребения{913}.
Видения этих народных заступников связывались с чудотворными родниками и источниками, как это случилось в 1930 г., когда в колхозе был явлен родник с отражавшимся в воде изображением о. Иоанна{914}. Родники и источники с древнейших времен являлись главными местами поклонения. В России это было развито в меньшей степени, чем в Европе, однако борьба с религией в советский период привела к тому, что поклонение переместилось с икон на «природные» явления — феномен, заслуживающий особого изучения{915}. Сообщавшие об этом деревенские жители считали вполне логичным, что святые теперь странствуют по свету. Их традиционные источники веры — иконы, крестные ходы, церковные богослужения, часовни, священники — были отняты или уничтожены; поэтому было совершенно оправданно (хотя они и признавали, что это «невероятно»), что умершие святые являлись во плоти и служили источником воодушевления и утешения{916}.
В советское время явление о. Иоанна не всегда означало благо; мотив возмездия, знакомый по более ранним свидетельствам, возникает и теперь. Так, в одном рассказе очевидцев описывается явление о. Иоанна на антирелигиозном комсомольском собрании. Один из разъяренных комсомольцев швыряет в него бутылку, однако она пролетает сквозь фигуру таинственного священника, который исчезает; и лишь слова «Отец Иоанн Кронштадтский» внезапно появляются на стене. Несмотря на то что это видение смущает коммунистических агитаторов, они объясняют его как «поповские штучки» и продолжают собрание. Вдруг, в безоблачный зимний день, дверь комсомольского клуба озаряет вспышка молнии. Аудитория отброшена, но не пострадала; атеистические агитаторы убиты молнией. Местные газеты описывают это событие как злонамеренный поджог, совершенный антисоветскими элементами. Но, конечно, в деревне лучше знают, как было на самом деле. Чтобы избежать ареста, трое обвиненных в поджоге юношей уходят из села и становятся странниками, проповедуя православную веру и рассказывая всем, что с ними произошло{917}.
В другом явлении о. Иоанна, описанном в письме от 1934 г., колхозник рассказывал, как он увидел священника, гуляющего по полю с симпатичным молодым солдатом, который «был похож на великомученика Георгия на иконах или, может, Архангела Михаила». Оправившись от шока, вызванного присутствием священника как такового, — к середине 1930-х гг., после многочисленных гонений, их редко можно было встретить, — люди постарше сказали, что священник похож на о. Иоанна. Он благословил землю верующих на все четыре стороны, а затем прошел в совхоз. Когда коммунисты попытались прогнать его, он заметил им, что, поскольку то поле было вотчиной сатаны, а не Господа, они будут наказаны за свое неверие. Дважды при попытке схватить его призрак исчезал. Через десять минут поле охватил огонь; частный же участок верующих оставался нетронутым. Здесь, как и в другом случае, «Известия» объявили, что пожар — дело рук религиозных «вредителей», а подозреваемыми назвали священника и молодого военного{918}.
Таким образом, в этих видениях советской эпохи, материалы о которых собирались подпольно, о. Иоанн помешается в контекст богатой традиции апокалиптических видений; он выступает защитником верующих и врагом атеистического советского режима{919}. Когда иконы у народа были конфискованы, их место заняли портреты о. Иоанна, «только мы их прячем, чтобы не рассердить коммунистов». Некоторые начали вырезать иконы из дерева, в том числе и изображения о. Иоанна, что, как они утверждали, способствовало чудодейственному исцелению{920}. Он также появлялся и в литературных произведениях: например — иносказательно — в фантастическом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где описывается приход сатаны в сталинскую Москву, как «писатель Иоанн из Кронштадта»{921}.
В официальных же советских публикациях образ пастыря был попросту перевернут, и без конца повторялась старая формула: о. Иоанн был «ярый монархист, один из основателей черносотенного “Союза русского народа”, непримиримый противник революционного движения, который прикидывался чудотворцем»{922}. Парадоксально, но в разгаре борьбы с «пережитками» в 1970-х гг. советская пресса сама предавала гласности и распространяла те взгляды, с которыми боролась. Придерживаясь своей схемы, согласно которой международные реакционные силы вступили в заговор, чтобы свергнуть коммунизм, она с одинаковой силой обличала как реакционно настроенных эмигрантов, так и их «сотоварищей» на территории Советского Союза. Уделяя такое внимание обеим группам, советские публицисты усиливали у них сознание огромного значения своей борьбы — получалось, что их стремились одолеть одновременно и «международный коммунизм» и «международный либерализм». Кроме того, намеренно стирая различие между правыми эмигрантами и доморощенными оппозиционерами, советские журналисты продолжали традицию дореволюционных радикальных литераторов, которые разоблачали иоаннитов.
Судьба иоаннитов после революции
Иоанниты продолжали существовать и после смерти о. Иоанна. Поначалу их ожидала та же участь, что и другие народные религиозные движения, функционирующие в рамках Церкви: если иерархи не одобряют или открыто осуждают движение, оно, как правило, умирает. И в течение десяти лет после кончины о. Иоанна число иоаннитов действительно стало приближаться к нулевой отметке. Только газеты правого толка давали себе труд сообщать об их деятельности; после 1913 г. о них вообще перестали писать в прессе; о них словно забыли. Однако, как ни странно, они выжили, причем исключительно благодаря враждебности советской власти.
В советское время одинаково подвергались преследованиям как собственно иоанниты, так и православные христиане, чтившие память о. Иоанна. Для соединения их в одну категорию имелись как религиозные, так и политические причины. В первые десятилетия советской власти прославление о. Иоанна означало принятие и повторение его апокалиптических, эсхатологических, антиреволюционных суждений. После 1918 г. для тех, кто пострадал от революции, его зловещие прогнозы о грядущем в России апокалипсисе звучали более чем правдиво, но в особенности это касалось иоаннитов. Заявления 1920-х гг. о видениях о. Иоанна поразительным образом напоминали эсхатологию иоаннитов{923}. Более того, советские власти унаследовали склонность дореволюционных радикалов ставить знак равенства между иоаннитами и всеми последователями о. Иоанна; впрочем, были и такие, кто и не подозревал, что между ними существуют какие-либо различия. Наконец, что было наиболее важно с точки зрения нового режима, все почитатели о. Иоанна сходились в резком неприятии революции и зачастую являлись монархистами, независимо от своих религиозных убеждений. Иными словами, их политические и эсхатологические воззрения были едины, а если между ними и существовали расхождения во взглядах на православие, то такие тонкости мало волновали новый режим. К примеру, в 1938 г. в Твери органы безопасности обнаружили группу заговорщиков — «иоаннитов», прикрывавшихся вывеской кооператива «Красные труженики». У них были найдены изображения о. Иоанна и расстрелянной императорской семьи, которые, как было известно, заменяли иконы. Несмотря на то что это не были явные религиозные символы, почитание их владельцами символов старого режима явилось достаточным для их обвинения. Как писал «Безбожник», они получили свое «заслуженное и справедливое наказание»{924}.
В 1950-е гг. тени иоаннитов были вновь вызваны к жизни{925}. Подобно тому как прежде слово «иоанниты» означало в 20–30-х гг. то же самое, что монархисты или не принявшие революцию православные христиане, теперь оно стало нарицательным для обозначения их преемников в эмиграции. В 1958 г., в пятидесятую годовщину кончины о. Иоанна, РПЦЗ начала публиковать статьи и книги, которые готовили почву для его предстоящей канонизации. Это дало советским властям новый повод для нападок на этот «неподконтрольный орган». Иоанниты теперь воскресли в обличье РПЦЗ, представителей которой также называли «черносотенцами, идеологами контрреволюционного монархизма». «Винегрет» официальных советских идеологов выглядел так:
«После победы Великой Октябрьской Социалистической Революции идейным продолжателем партии монархистов-черносотенцев выступили т. н. сторонники староцерковничества (тихоновщины). Идейными наследниками и преемниками политической платформы этой линии в наши дни являются православные секты: молчальники, иоанниты, истинно православные (иосифлянство, ИПЦ и ИПХ) и др. Следует сказать, что еще в дореволюционный период идеологи православия, особенно Иоанн Кронштадтский, способствовали укреплению церковного влияния в отсталых слоях населения.
После революции иоанниты, последователи кронштадтского святоши, составляли наибольшую реакционную прослойку в православных сектах… их белоэмигрантские лидеры в лице таких, как еп. Иоанн Сан-Францисский, до сих пор лелеют надежды на реставрацию монархического строя в России»{926}.
Даже в 1988 г. эта линия продолжилась в издании «Православие: словарь атеиста»: иоанниты в нем описываются как «фанатичные почитатели Иоанна Кронштадтского». Как отмечалось в словаре, «в нашей стране ныне сохраняются лишь отдельные представители этой реакционной группировки. Однако культ Иоанна К. усиленно раздувается т. н. русской православной церковью за рубежом, которая сделала его имя знаменем воинств, антикоммунизма и крайнего обскурантизма»{927}. Таким образом, в глазах советских властей оппозиция коммунистическому режиму и почитание о. Иоанна означали иоаннитство; тот факт, что в 1908 г. их осудил Синод по чисто религиозным причинам, совершенно не принимался в расчет. В западных исследованиях советского времени иоанниты широко обсуждались в контексте других оппозиционных эсхатологических сект, таких как федоровцы, иннокентьевцы и имяславцы, хотя, как ни парадоксально, Юджин Клэй настаивает на их принадлежности православию. Поскольку особенности поведения, характерные для иоаннитов, растворились в эмигрантской среде, эмигрантские историки религии преуменьшали значение иоаннитов{928}.
Канонизация Московским патриархатом отца Иоанна и ее последствия
Канонизация о. Иоанна Московским патриархатом поставила проблему перед теми иерархами, которые отчаянно стремились создать «политкорректный» образ пастыря. Принимая во внимание фантастически политизированные советские публикации предшествующих десятилетий, это было нелегко. Когда летом 1990 г. Московский патриархат канонизировал о. Иоанна, то и антисоветская позиция эмигрантского сообщества, и советские обвинения в адрес о. Иоанна одинаково не устроили составителей богослужебных текстов — в конце концов, их епископы и предшественники сотрудничали с советской властью. Тогда был найден остроумный выход — избегать любого открытого упоминания о политических воззрениях или пророческом даре о. Иоанна и создать свой образ святого. Подчеркивая его «русскость», идеологи Московского патриархата стремились показать свою географическую — и, шире, духовную — преемственность по отношению к о. Иоанну. Это обнаруживается в тропаре, сложенном ими в честь пастыря:
«Православныя веры поборниче, земли Российския печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче, Божественных Таин благоговейный служителю и дерзновенны о людех молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и Церкви нашея украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша».
Приведенный отрывок ярко контрастирует с «наднациональным» духом тропаря Русской зарубежной православной церкви, в котором подчеркивается всемирное значение о. Иоанна:
«Со апостолы изыде вещание твое в концы вселенныя, с исповедники страдания за Христа претерпел еси, святителем уподобился еси слово проповеданием, с преподобными; во благодати Божией просиял еси. Сего ради вознесе Господь бездну смирения твоего превыше небес, и дарова нам имя твое во источник предивных чудес. Тем же во Христе во веки живый, чудотворче, любовию милуяй сущыя в бедах, слыши чада твоя, верую тя призывающия, Иоанне праведне, возлюбленный пастырю наш»{929}.
Еще более искусно Московский патриархат оправдывался за сотрудничество с советской властью: в сочиненном им кондаке прослеживается мысль, что при советском режиме церковь временно ввергла себя в ад, но выжила, причем и Христос, и о. Иоанн одобряют ее выбор: «Днесь пастырь Кронштадтский предстоит Престолу Божию и усердно молит о верных Христа Пастыреначальника, обетование давшего: “Созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют Ей”»{930}. Однако такое преуменьшение «неподобающих» политических взглядов о. Иоанна в богослужебных текстах противоречит стремлению некоторых фракций на территории России оживить его политические призывы. Книги о современных ересях и сектах в России завершаются главами под названием «Без православия нет России», в которых содержатся цитаты из о. Иоанна, предсказывающего возрождение «мощной России, еще более сильной и могучей», если Россия, на костях своих мучеников, заново начнет строиться, вернувшись к истокам{931}. Утверждения, что «отец Иоанн предсказал суровое наказание для России», если русские нарушат обязательства перед Богом, не покаются и не вернутся к «Святой Руси», обеспечивают живучесть его политических взглядов на территории России, в том числе и среди иерархов Московского патриархата{932}. Не исчезла и критика радикального толка. После канонизации о. Иоанна в России в 1990 г. убежденный атеист-профессионал Николай Гордиенко выпустил брошюру под названием «Кто такой Иоанн Кронштадтский?», чтобы «разоблачить» его самодержавные, антипарламентские настроения{933}.
Тем не менее у Московского патриархата спрятан козырь в рукаве — место захоронения о. Иоанна, хотя и необязательно его останков. В 1923 г. родственники о. Иоанна ходатайствовали о перенесении его тела из монастыря на Карповке на Смоленское кладбище, а затем, по всей видимости, на Богословское; был ли он перезахоронен, и если был, то где, так и остается неясным. Однако, несмотря на неясность относительно того, что находится под мраморным надгробием, прежнее понимание святого как гения места (genius loci) по-прежнему ощущается в восстановленном монастыре на Карповке{934}. Наряду со св. апостолом Петром, святым благоверным великим князем Александром Невским и блаженной Ксенией о. Иоанн признан одним из святых покровителей Санкт-Петербурга. Тот факт, что фигура его ассоциируется с помощью бедным и исцелением алкоголиков, очевидным образом связан с современной российской реальностью, его культ наверняка обретет популярность в ближайшем будущем{935}.
Репрезентации
Неполитические репрезентации фигуры о. Иоанна в России также изменились после его канонизации в 1990 г. Вновь возросла его популярность и стали скрупулезно собираться сведения о нем. Здесь агиографам помогла существующая практика. Нет такого явления, как православный святой вообще — он должен вписаться в одну из существующих категорий: апостол, мученик (или страстотерпец), монах или монахиня (преподобный/ая), епископ (святитель), пророк, воин или мученица-девственница{936}. В фильме «Отец», снятом в Санкт-Петербурге в 1991 г., провозглашалось, что о. Иоанн — одна из редких фигур, совмещающих в себе все эти категории. Согласно фильму, хотя о. Иоанна называют «святой праведный» (общепринятое обозначение женатых святых), но он был также апостолом, поскольку являлся миссионером для всей Российской империи; преподобным — благодаря своему целомудрию и усилиям по укреплению монашества (он учредил четыре женских монастыря и поддерживал множество других); святителем, поскольку, не будучи формально епископом, он как пастырь достиг таких духовных высот, что воистину орлом вознесся над всей Россией; пророком, поскольку предсказал падение Дома Романовых и гибель России; и мучеником, поскольку пал жертвой лжи и клеветы в прессе, а также подвергался физическому нападению{937}. Конечно, здесь есть некоторое преувеличение, но это не просто риторика. Фигура о. Иоанна действительно охватывает больше категорий праведности, чем многие святые, и именно многогранная сущность его святости более всего бросается в глаза в конце XX в. русским людям, почитающим его как святого.
Кроме того, в житии 1990 г. повышается статус матушки — супруги о. Иоанна: она рассматривается как равноправный партнер мужа на его пути к святости. В нем утверждается, что «матушка Елизавета принимала участие в молитвах и благотворениях своего блаженного супруга… Он любил ее очень нежно, да и как иначе… Матушка была первая советчица своему супругу и разделяла с ним и радости, и горе»{938}. Этот новый акцент на совместном несении духовного бремени и взаимной привязанности супругов расходится с житием 1964 г. и прижизненными описаниями, где упоминается о жалобах Елизаветы Константиновны церковным иерархам на своего супруга. Все версии основаны на скудных, неубедительных фактах, однако складывающаяся в них картина семейной жизни о. Иоанна и матушки Елизаветы поразительно несходна. Поскольку второе житие не основано ни на каких серьезных данных, новых или иных, оно отражает не столько реальность, сколько изменение в настроении агиографа: на рубеже XXI в. кажется более удобным представить жизнь четы как «совместный проект», вместо того чтобы описывать супружеские разногласия как часть аскетической борьбы. Однако прежние поколения агиографов считали образ о. Иоанна — одинокого аскетического борца, преодолевавшего протесты как своей жены, так и своего церковного начальства, — либо более убедительным, либо более привлекательным.
Самая большая ирония заключается в том, что канонизация о. Иоанна Московским патриархатом в 1990 г. послужила сигналом не только для признания его святости, но и для реабилитации иоаннитов. То ли по незнанию, то ли исходя из предпосылки, что те, кто объявлял о своей приверженности о. Иоанну и преследовался советской властью, должны быть безукоризненны, даже лидеров иоаннитов, осужденных дореволюционным Синодом, причислили в России к сторонникам ортодоксального православия. Книга Николая Большакова об о. Иоанне «Источник живой воды», написанная после его смерти, была переиздана в 1995 г. с благословения покойного Иоанна, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. В книгу включены цитаты из писем в «Кронштадтский маяк», сообщения о том, что торговцы из числа иоаннитов исцелили больного мальчика, и смонтированная фотография, на которой о. Иоанн помещен вместе с Порфирией Киселевой и «аскетическим подвижником, старцем Назарием». В книге также впервые утверждается, что одна из ранних последовательниц о. Иоанна, Параскева Ковригина, закулисно руководила всеми его делами и «де факто» была первой иоанниткой — точка зрения, не подкрепляемая никакими другими доказательствами{939}. Теперь, когда о. Иоанн канонизирован, некоторые архиереи Московского патриархата убеждены, что богословская угроза, которую иоанниты представляли при жизни пастыря отступила.
Заключение
Отец Иоанн Кронштадтский явил собой знаменательную веху в религиозной истории России Нового времени. Будучи порождением традиционных представлений о святости, он в то же время оказался предвестником новых тенденций. Характерное для него сочетание радикальных общественных взглядов, личной харизмы, политического консерватизма и всенародной известности продолжает обогащать русское православие и находит свои параллели в религиозных феноменах в Европе в ответ на вызовы модернизации.
Биография о. Иоанна во многих отношениях типична для служителя церкви в Российской империи конца XIX — начала XX в. Его предки принадлежали к сельскому духовенству, сам он закончил церковно-приходскую школу, затем семинарию с академией и унаследовал приход от отца жены. Его труд на благо обездоленных, горячие проповеди и молитвенное рвение стали отличительными чертами идеального «современного» священника в России. В своей общественной, священнической ипостаси он стал воплощением социального подхода, ориентированного на служение людям. Однако этот поворот к внешнему миру, хотя и напоминал о раннехристианской эпохе, шел вразрез с господствовавшим представлением о святости, ассоциировавшейся с монашеским, аскетическим образом жизни вдали от мирской суеты. Соединив традиционный аскетизм, характерный для святых праведников, — обет пожизненной девственности и самоограничение в пище — с приверженностью ревностному служению в храме и в миру, о. Иоанн заставил современников пересмотреть представления о святости. Подобно Жану-Мари Вьяннэ и Падре Пио в католической Европе, он создал в современном православии тип «святого священника».
О. Иоанн был всенародно признан святым благодаря своему дару исцеления. Для России XIX в. живой чудотворец был явлением новым и необычным, что вызывало недоверие и неприязнь у многих современников, в том числе и у церковных иерархов. Однако случилось так, что батюшка практически единолично перенес феномен религиозного исцеления из сферы народных заговоров назад, в «законное» лоно Православной церкви.
О. Иоанн оказался центром пересечения духовных и светских представлений о православии. Он сочетал в себе черты священника и пророка, обладая харизмой и частного человека, и священнослужителя. Однако его независимое поведение заставило церковных иерархов пристально присматриваться к его «оригинальности». Большие подозрения вызывало у них и огромное количество поклонниц о. Иоанна, создававших вокруг него нездоровый ажиотаж. (Трактовка женских религиозных чувств как невежественных, никчемных «бабушкиных сказок» была общепринятой в Русской православной церкви. Радикальная пресса пошла еще дальше в обличении отсталой сущности женского благочестия, и это наводит на мысль, что такое пренебрежительное отношение к женской религиозности выходило за богословские и даже идеологические рамки.)
Подозрительное отношение иерархов к о. Иоанну было вызвано и тем, что он стал настоящей «знаменитостью» в современном смысле этого слова. Массовые паломничества в Кронштадт, открытые исповеди, серийное производство открыток, сувенирных платков и кружек с его изображениями, наконец, многотиражные специальные газеты и журналы для его почитателей и братства, действующие на всей территории России, — все это создавало ему широкую популярность, причем методами, присущими новой, капиталистической эпохе. А тот факт, что его пригласили служить у постели умирающего императора Александра III, принес ему не только всероссийскую, но и международную славу. О. Иоанн резко отличался от древнерусских святых, и его образ лег в основу нового эталона, неразрывно связанного с эпохой «модернити».
Почему же в таком случае церковные иерархи все-таки приняли о. Иоанна? Прежде всего он достаточно уважал субординацию, чтобы завоевать благоволение начальства (так произошло и с его западным современником, кюре из Арса). Более того, он побуждал народ следовать тем православным формам благочестия (более частое приобщение к таинствам, благотворительность), за которые ратовали и сами иерархи. Наконец, он имел духовный сан, а значит, априори внушал иерархам больше доверия, чем любой мирянин. Для более вдумчивых епископов он был символом жизнеспособности православия перед лицом современных веяний и успешным ответом православия на перемены, которые принесли с собой в традиционное общество политические реформы, социальные изменения и индустриализация.
В эпоху быстрых социальных изменений о. Иоанн и Лев Толстой стали антиподами, символизировавшими выбор, перед которым стояли русские православные: либо двигаться в сторону частного, не мистического, лишенного таинств неопротестантизма и отказаться от сотрудничества с самодержавием — такова была позиция Толстого, — либо возродить православие изнутри, стремясь к христианству с более живым восприятием таинств и более развитой благотворительностью. Толстой и о. Иоанн указывали на одни и те же общественные и нравственные язвы — развращенность, склонность к роскоши и социальное неравенство — и обличали их почти одинаковыми словами. Некоторые выдержки из дневника о. Иоанна словно взяты со страниц «Что такое искусство?» и «Крейцеровой сонаты»; взгляды позднего Толстого почти совпадают с пастырскими. Однако, несмотря на сходство стиля и совпадение тем для критики, случилось так, что две эти фигуры представляли собой два полюса в Российской империи конца XIX — начала XX в. — «прогрессивный» и «реакционный».
Причина раскола между ними кроется не только в природе веры каждого, но и в их политических убеждениях. После убийства Александра II в 1881 г., а особенно во время революции 1905 г., о. Иоанн безоговорочно встал на сторону самых крайних сторонников самодержавия. Он благословил такие ультраправые организации, как «Союз Михаила Архангела» и «Союз русского народа». Несмотря на то что в политику он в действительности был вовлечен не так сильно, как многие другие, пресса радикального толка избрала мишенью именно о. Иоанна, сделав его символом реакционных сил в религии.
Во многом благодаря своим политическим взглядам, о. Иоанн стал проблемой и камнем преткновения как для современников, так и для потомков, которым по наследству досталась задача — определить правильную роль Православной церкви в российской политике и обществе. Действительно ли монархия была единственно приемлемой формой правления для православной страны? Возможно ли быть одновременно православным и либералом или даже православным и революционером? Политические взгляды о. Иоанна долгое время затмевали другие стороны его личности, и это неудивительно, принимая во внимание те события, которые пережила Россия после его смерти в 1908 г. После революции 1917 г. и Гражданской войны противники большевиков начали превозносить его как пророка, который мог бы спасти Россию от гибели. Его образ стал еще более политически заостренным, чем был при жизни. В глазах и почитателей, и гонителей о. Иоанн ассоциировался с Николаем II и «контрреволюционными элементами».
Во время канонизации о. Иоанна в 1964 г. Русская православная церковь за границей продолжила политизацию образа святого, использовав его для отрицания революции и поддержки монархии в России. Московский же Патриархат предпочел проигнорировать политические взгляды о. Иоанна. При канонизации его в 1990 г. он, напротив, сделал акцент на социальных аспектах, имевших наибольший резонанс в новой России: его помощь семьям бедняков, его дар исцеления и, наконец, саму его принадлежность к русской нации. Но, несмотря на все усилия Церкви, политические взгляды пастыря по-прежнему находят своих сторонников в России. В этом смысле о. Иоанн — лишь первый из многочисленных современных претендентов на «звание» святого — таких как патриарх Тихон, Николай II и практически все русские мученики и исповедники новейшей эпохи, чья канонизация подразумевает неприятие революции и ее последствий. Хорошо это или плохо, но святость в современной России после о. Иоанна стала носить политический оттенок, и, возможно, это сохранится на долгие годы.
Однако в самом широком смысле феномен о. Иоанна не является ни строго российским, ни строго православным — это скорее универсальное воплощение традиционной религиозности, столкнувшейся с современностью и массовой культурой. В некоторых отношениях о. Иоанн имеет много общего с явлениями, происходившими в современной ему католической Европе. Подобно видениям Пресвятой Богородицы в Германии, Франции и Португалии и славе кюре из Арса, успех о. Иоанна свидетельствует о том, что церковные иерархи в конечном счете стремились облачиться в современные одеяния для достижения собственных целей. Оказавшись перед лицом проблем, порожденных модернизацией во всех ее видах, — таких как индустриализация, революционные политические движения, повсеместная ликвидация безграмотности, — и Русская православная, и Римско-католическая церкви решили принять эмоциональные, личностные и откровенно сверхъестественные формы благочестия, отвергавшиеся ими в XVIII столетии. Благодаря о. Иоанну и его европейским аналогам благочестие приобрело в современном мире национальные масштабы, в добавление к традиционно существовавшим локальным формам — местным усыпальницам, приходам, святым, праздникам. В России на закате империи, как и во Франции, Германии и Испании того времени, сама по себе святость начала ассоциироваться с национальными добродетелями перед лицом «безликой» современности.
Как и другие современные феномены святости, о. Иоанн Кронштадтский по-прежнему в диалектическом контакте с обществом. Он старался преобразовать общество, и оно отвечало тем же — перечерчивало его образ по-своему, взывая к нему в надежде обрести помощь в собственных нуждах и обстояниях. Несмотря на всю специфику Нового времени, фундаментальное свойство святости остается прежним. Хотя святые и обретаются в вечных неземных селениях, их посмертная привлекательность на земле зиждется на сочувствии и признании, которые продолжают от них воспринимать их смертные наследники.
Библиография
Архивные и рукописные источники
Архив устной истории Российского государственного гуманитарного университета.
Ф. Псковской экспедиции.
Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб).
Ф. 569. Оп. 20. Д. 344. О системе взглядов секты иоаннитов.
Ф. 2219. Сергиев, Иоанн Кронштадтский. 1856–1908. 73 отдельных дела, в которых содержится фактически вся сохранившаяся корреспонденция о. Иоанна.
Государственный архив Российской Федерации Санкт-Петербурга (ГАРФ СПб).
Ф. 1001. Д. 46. Переписка о монастыре на Карповке; 21 ноября 1923 г. — 20 октября 1926 г.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).
Ф. 275. Оп. 1. Д. 830. Н. С. Лесков об Иоанне Кронштадтском.
Ф. 402. Оп. 1. Д. 284. Переписка с С. И. Пономаревым.
Ф. 525. Оп. 1. Д. 414. Воспоминания K. M. Фофанова.
Ф. 1009. Оп. 1. Д. 13. Переписка с H. M. Аничковым.
Ф. 1345. Оп. 2. Д. 83. Рукописи Иоанна Кронштадтского.
Российский государственный исторический архив (РГИА).
Ф. 728. Оп. 1. Д. 38. Переписка с Тертием Ивановичем Филипповым.
Ф. 777. Оп. 5. Д. 7. Министерство внутренних дел — Санкт-Петербургский цензурный комитет.
Ф. 796. Синодальные архивы. К о. Иоанну имеют отношение следующие из них:
— оп. 173. Д. 789. Об учреждении фонда его имени;
— оп. 174. Д. 743. О его поминовении в церковных школах;
— оп.174. Д. 521. Об учреждении стипендии его имени;
— оп.175. Д. 2017. О ложной доктрине его культа, пропагандируемой Кабановой;
— оп.175. Д. 3107. О праве официально печатать его портреты;
— оп. 176. Д. 3498. О распространении портрета, напоминающего икону;
— оп. 177. Д. 29. О его филантропии.
Ф. 797. Оп. 23. Переписка с о. Иоанном.
Ф. 799. Хозяйственное управление Синода.
Ф. 805. Канцелярия судебного духовного управления.
Ф. 821. Оп. 133. Д. 206. О секте иоаннитов.
Ф. 834. Оп. 2. № 1701. Фол. 2. Дела о юродстве и юродивых:
— оп. 4. № 1701. Фол. 2. Обвинение юродства Синодом;
— оп. 4. Д. 250. Вырезки из зарубежных газет об о. Иоанне Кронштадтском;
— оп. 4. Д. 1668. Воспоминания ревностного поклонника.
Ф. 1082. Оп. 1. Д. 21. Переписка с К. П. Шабельским.
Ф. 1111. Оп. 1. Д. 5. Разнообразная переписка с И. Сергиевым.
Ф. 1120. Разнообразные рукописи и фотографии, относящиеся к И. Сергиеву.
Ф. 1405. Оп. 539. Д. 502. Информация об обстоятельствах смерти Кронштадтского.
Ф. 1574. Оп. 2. Д. 708. К. П. Победоносцев.
Российский государственный исторический архив (РГИА) г. Москвы.
Ф. 203. Московская Духовная консистория:
— оп. 392. Д. 3. Отклонение организованной отцом Иоанном просьбы открыть женскую религиозную общину.
Российская государственная библиотека (бывшая Государственная библиотека им. Ленина), отдел рукописей.
Ф. 178. Алексей Сергеевич Суворин.
Ф. 253. С. А. Романов.
Ф. 262. Оп. 14. Д. 2. Савва (Тихомиров).
Ф. 369. Бонч-Бруевич.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1—34. Дневники Иоанна Кронштадтского за 1856–1904 годы; переписка.
Ф. 102. Департамент полиции:
— оп. 1. Д. 154. Материал о секте иоаннитов (в двух частях);
— д. 873. Т. 4. О связи о. Иоанна Кронштадтского с кишиневскими погромами;
— оп. 2. Д. 1366. О попытках сформировать новую секту.
Государственный музей этнографии (ГМЭ), архив Тенишева. Ф. 7. Оп. 1.
Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University, New York. Протопресвитер Георгий Шавельский. Письмо от 12 июня 1939 г.
Опубликованные источники и литература
Алексеев И. Разгром иоаннитов. СПб., 1909.
Алмазов А. Я. Апокрифические молитвы, заклинания и заговоры. Одесса, 1901.
Алмазов А. Я. Тайная исповедь в православной восточной церкви: опыт внешней истории: В 3 т. Одесса, 1894–1895.
Амфитеатров А. Женщина в общественных движениях России. Geneva, 1905.
Амвросий, иеросхимонах. Собрание писем Блаженной памяти оптинского старца Иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. Сергиев Посад, 1908.
Антоний (Храповицкий), митрополит. Слово еп. Антония Храповицкого и о. Иоанна Кронштадтского по поводу насилия христиан с евреями в Кишиневе. Одесса, 1903.
Антоний (Храповицкий), митрополит. Учение о пастыре, пастырстве и об исповеди. Нью-Йорк, 1966.
Антонов В. В., Кобак A. B. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия: В 3 т. СПб., 1996.
Апостол. СПб., 1860.
Аверкий, архиепископ. Отец Иоанн Кронштадтский, как Пророк Божий, посланный России для вразумления. Jordanville, N.Y., 1963.
Августин (Никитин), архимандрит. Православный Петербург в записках иностранцев. СПб., 1995.
Балуев Б. П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журналистика. М., 1971.
Бартенев Я. А., Батажкова В. Н. Русский интерьер XIX века. Л.,1984.
Батс Р., Марченко В. Духовник царской семьи, святитель Феофан Полтавский. 1874–1940. Platina, Calif.; Москва, 1994.
Биография о. Иоанна Кронштадтского. СПб., 1895.
Благовидов Ф. В. Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствование имп. Александра II. Казань, 1891.
Богданович Е. Открытое письмо старосты Исаакиевского Собора г. Пашкову. СПб., 1883.
Болдовский А. Г. Возрождение церковного прихода. Обзор мнений печати. СПб., 1903.
Большаков Н. Я. Источник живой воды. Описание жизни и деятельности отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1910; репр. СПб., 1995.
Большаков Н. Я. Ложная защитница православия и «Черные Вороны». Прил. к№ 3 «Кронштадтского маяка». СПб., 1908.
Большаков Н. Я. Правда о секте иоаннитов. СПб., 1906.
Булгаков М. Мастер и Маргарита. Франкфурт-н. М., 1969.
Булгаков С. (прот.). Автобиографические заметки. Париж, 1946.
Булгаков С. В. Настольная Книга для священно-церковно служителей. Сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства: В 2 т. Харьков, 1900.
Буткевич Т. Я. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910.
Быстров Н. Религиозно-нравственные собеседования в Ильинской церкви погоста Муравейна, Островскаго уезда // Псковские епархиальные ведомости. № 22 (15 ноября 1896 г.).
Варжанский Н. В чем вера Л. Н. Толстого. Народно-популярный эскиз. СПб., 1911.
В. Г. Короленко в воспоминаниях современников / Сост. Т. Г. Морозова и др. М., 1962.
Великий сборник в трех частях, часть первая: часослов, воскресный октоих и общая минея. Jordanville, N.Y., 1951.
Великий Сборник. Часть третья из Триоди Цветной. Jordanville, N.Y., 1956.
Вельяминов H. A. Воспоминания H. A. Вельяминова об императоре Александре III // Российский архив. М., 1994. Т. 5.
Верховцева В. Т. Воспоминания об о. Иоанне Кронштадтском его духовной дочери. Сергиев Посад, 1916.
Витович А. И. Записки судебного пристава по охранительной описи имущества о. Иоанна Кронштадтского // Голос минувшего. 1915. № 5. С. 159–183.
Власов В. Г. Христианизация русских крестьян // Советская этнография. 1988. № 3. С. 15–21.
В.М. (архиепископ Евдоким [Мещерский]). Два дня в Кронштадте, из дневника студента. Сергиев Посад, 1902.
Восторгов И. и др. Приснопамятный отец Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. Jordanville, N.Y., I960.
В честь дорогого батюшки о. Иоанна Кронштадтского: воспоминания очевидцев. М., 1995.
Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916.
Ганнушкин П. Б. Сладострастие, жестокость и религия // Ганнушкин П. Б. Избранные труды. М., 1964.
Гапон Г. А. Записки Георгия Гапона (Очерк рабочего движения в России 1900-х годов). М., 1918.
Гарднер И. фон [Gardner, Johann von]. Богослужебное пение Русской Православной Церкви: Система, сущность, история: В 2 т. Jordanville, N.Y., 1980–1982.
Гейдор Т. Я. и др. Русский город на почтовой открытке конца XIX — начала XX века. М., 1997.
Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого: автобиографические воспоминания: В 2 т. Москва, 1886–1887.
Гиппиус З. Живые лица. Л., 1991.
Глижинский К. Из объятий умирающей бурсы в горнило жизни. Очерки последних дней бурсы и современного развала церковно-приходской жизни. Екатеринбург, 1912.
Голощапов С. Галлюцинации и религиозные видения. Казань, 1992; репр. Харьков, 1915.
Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903.
Голубинский Е. История русской церкви: В 4 т. М., 1880–1907.
Гордиенко Н. С. Кто такой Иоанн Кронштадтский. СПб., 1991.
Гордиенко Н. С. Новые православные святые. Киев, 1991.
Громыко М. Мир русской деревни. М., 1991.
Даль В. И. Пословицы русского народа: сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий, и проч.: В 2 т. М., 1862.
Дебольский Г. С. (прот.). О любви к отечеству и труде по слову Божию. Репр. М., 1996.
Димитрий, епископ. Домашний молитвослов для усердствующих. Харбин, 1943.
Добротолюбие. Т. 1. Репр. неустановленного дореволюционного издания. Сергиев Посад, 1993.
Добрый пастырь: биография о. Иоанна Кронштадтского, письма к батюшке и воспоминания о нем. СПб., 1994.
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М., 1980.
Думский Ф. Я. Золотые слова; сборник проповедей русских церковных витий. СПб., 1905.
Духонина Е. Из моих воспоминании об о. Иоанне Кронштадтском. СПб., 1907.
Духонина Е. Как поставил меня на путь спасения отец Иоанн Кронштадтский. Дневник духовной дочери. СПб., 1911; репр. М., 1998.
Душеполезное чтение: Указатель статей, помещенных в «Душеполезном чтении» в течение десяти лет, от начала 1860 до 1869 года. М., 1870.
Душеполезный собеседник за 1889 г. М., 1902.
Дьяченко Г. Христианские утешения несчастных и скорбящих, испытывающих бедность, болезни, потери родных и близких сердцу, житейские неудачи…: В 3 ч. М., 1898.
Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь: В 2 т. М., 1899.
Дьяченко Г. В подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений, приспособленных к чтению в христианской школе для девочек среднего возраста. М., 1903.
Е.К. Воспоминания об отце Иоанне. СПб., 1909.
Евлогий (митрополит). Воспоминания. Париж, 1957.
Евстратий [Голованский] (иеромонах). Тысяча двести вопросов сельских прихожан о разных душеполезных предметах с ответами на оные бывшего приходского их священника. Киев, 1869.
Елагин Н. В. Что надо желать для нашей церкви. СПб., 1882–1885.
Емельях Л. И. Антиклерикальное движение крестьян в период первой русской революции. Л., 1965.
Ефименко А. Исследования народной жизни. М., 1884.
Ефремов Л. В. (прот.). Добрый Пастырь. Краткое описание жизни отца Иоанна Борисовича, священника Преображенской церкви города Ельца. 1750–1824. Воронеж, 1893.
Жадановский А. (епископ). Воспоминания. М., 1995.
Жбанков Д. Н. Телесные наказания в России в настоящее время. М., 1899.
Жевахов Н. Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова. Munich, 1923.
Животов H. H. Пьяницы у о. Иоанна Кронштадтского. М., 1895.
Животовский С. В. На север с отцом Иоанном Кронштадтским. СПб., 1903; 2-е изд., с новым предисловием митр. Антония (Храповицкого). Нью-Йорк., 1956.
Жизнеописания достопамятных людей земли русской, X–XX вв. / Сост. С. С. Бычков. М., 1992.
Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. М., 1847.
Житие святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского чудотворца, ко дню прославления 19 октября 1964 года. Jordanville, N.Y., 1964.
Житие старца Серафима. СПб., 1863.
Жития преподобных старцев Оптиной Пустыни. Jordanville, N.Y., 1992.
Жук В. Мать и дитя. Гигиена в общедоступном изложении. СПб., 1911.
Закон Божий, Начальное наставление в православной христианской вере /Сост. Соколов (прот. Димитрий). СПб., 1914; репр. Монреаль, 1974.
Записки петербургских религиозно-философских собраний. 1902–1903 гг. СПб., 1906.
Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Л., 1991.
Захарин-Якунин И. Графиня А. Толстая. Личные впечатления и воспоминания // Вестник Европы. № 4 (апрель 1905 г.). С. 611–617.
Зеленин Д. Очерки русской мифологии. T. 1. Умершие неестественною смертью и русалки. Пг., 1916.
Зерцалова А. И. Подвижник веры и благочестия. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Репр. М., 1995.
Зинин С. И. Введение в русскую антропонимию. Ташкент, 1972.
Знаменский П. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870). Казань, 1891–1892.
Зубарев Е. Иоанниты прокляты о. Иоанном Кронштадтским. Кострома, 1912.
Иаков (архимандрит). Пастырь в отношении к себе и пастве. СПб., 1880.
Иванов М. Воспоминания о протоиерее о. Иоанне Сергиеве-Кронштадтском // Известия по Казанской епархии. № 8 (1909). С. 249–253.
Игнатов Ф. Воспоминания об о. Иоанне Кронштадтском // Волынские епархиальные ведомости. № 6 (1914). С. 151–154.
Из записной книжки священника. М., 1996.
Икона / Сост. A. C. Кравченко, А. П. Уткин. Серия «Секреты Ремесла». М., 1993.
Информационный Бюллетень фонда им. о. Иоанна Кронштадтского. № 10. Utica, N.Y., 1963.
Иоанн Ильич Сергиев. Протоиерей, ключарь Кронштадтского Андреевского Собора. Очерк жизни и деятельности / Сост. A. A. Зыбин. Пг., 1891.
Иоанн Кронштадтский / Сост. B. A. Десятников. М., 1992.
Иоанн (Лествичник). Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. Сергиев Посад, 1908.
Иоанн [Соколов] (епископ Смоленский). О монашестве епископов. Почаев, 1904.
Иоасаф (иеромонах). Краткие сведения о св. угодниках Божиих и местно чтимых подвижниках благочестия… Владимир, I860.
История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. — 1917 г.) / Под ред. Клибанова А. Я. М., 1965.
Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 1902.
Кадсон И. З. Антицерковная борьба народных масс в России в трудах советских историков // Вопросы истории. № 3 (1969). С. 151–157.
Карпов П. И. Бытовое эмоциональное творчество в древнерусском искусстве. М., 1928.
Карташев A. B. Воссоздание Св. Руси. Париж, 1956.
Катанскш Л. Е. Духовник св. Руси. СПб., 1907.
Клибанов А. Я. Русское православие: вехи истории. М., 1989.
Клибанов А. Я. Народная социальная утопия в России, XIX век. М., 1978.
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
Ключевский В. О. Церковь и Россия: Три лекции. Париж, 1969.
Княгницкий И. Поездка в Кронштадт // Исторический вестник. Т. 80, № 5 (1900). С. 632–644.
Колесниченко Д. К 90-летию кончины святого праведного отца Иоанна Кронштадтского чудотворца // Православная жизнь. № 3 (591). Март 1999. С.1—29.
Константин [Зайцев] (игумен). Духовный облик прот. о. Иоанна Кронштадтского. Jordanville, N.Y, 1952.
Константин [Зайцев] (архимандрит). Чудо русской истории. Сб. статей, раскрывающих промыслительное значение Исторической России. Jordanville, N.Y., 1970
Концевич Я. М. Оптина Пустынь и ее время. Jordanville, N.Y.,1970; репр. М., 1995.
Короленко В. Г. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1914.
Коршунова Т. Т. Костюм в России XVIII — начала XX века: из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1979.
Костомаров Н. Памятники старинной русской литературы: В 4 т. М., 1862.
Красников Н. П. Социально-этические воззрения русского православия в XX веке. Киев, 1988.
Кунцевич Г. Подлинный список о новых чудотворцах // ИОРИИАС № 15 (1910). С. 252–257.
Кургановский Г. (иеромонах). Метод богослужебных возгласов, положенных на ноты с уставным указанием в пособие священнослужителям при богослужении. М., 1897.
Лебедев В. Е. Мое воспоминание о поездке к о. Иоанну в Кронштадт // Псковские епархиальные ведомости. № 21–24, (1 ноября — 15 декабря 1896). С. 359–362, 381–384, 405–408, 431–433.
Левитин-Краснов А. Народные святые в России: Отец Иоанн Кронштадтский // Cahiers du Monde russe et sovietique. T. 29, № 3/4 (July— December 1988). P. 455–470.
Левицкий П. П. Прот. Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский: Некоторые черты из его жизни. Пг., 1916.
Леонтьев К. Отец Климент Зедергольм: иеромонах Оптиной Пустыни. Париж, 1978.
Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 11 т. М., 1956–1958.
Лесков Н. С. Полуночники // Собр. соч.: В 11 т. Т. 9. 1958. Впервые опубликован: Лесков Н. С. Полуночники; пейзаж и жанр // Вестник Европы. № 11–12 (ноябрь — декабрь 1891).
Лесков Н. С. Соборяне. Нью-Йорк, 1952.
Лесков Н. С. Великосветский раскол: Лорд Редсток, его учение и проповедь: очерк современного религиозного движения в петербургском обществе. М., 1877.
Лисавцев Е. Я. Критика буржуазной фальсификации и положения религии в СССР. М., 1975.
Литвак Б. Г. Русское православие в XIX веке // Русское Православие: вехи истории. М., 1989.
Лукашевский Е. Кронштадтский проповедник // Наука и религия. № 5 (1990). С. 10–14.
Львов Ф. О пении в России. СПб., 1834.
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903.
Ментиков М. О. Из писем к ближним. М., 1991.
Меншиков М. О. Письма к ближним. Кронштадтский бунт. Пастырь добрый // Новое Время. № 10646 (30 октября [12 ноября] 1905). С. 4.
Месснер Е. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Буэнос-Айрес, 1973.
Мефодий (архимандрит). Отец Иоанн Ильич Сергиев. София, 1957.
Митрофан (монах). Как живут наши умершие и как будем жить и мы по смерти. СПб., 1897.
Михаил [Семенов] (иеромонах). Отец Иоанн Кронштадтский: Полная биография с иллюстрациями. СПб., 1903.
Молитвослов. Киев, 1881; М., 1904.
Молитвы святым, во граде святого Петра особо почитаемым. Л., 1991.
Монашество и современные о нем толки // Общество истории и древностей российских при Московском университете: Чтения. Т. 89. Раздел 5. Часть 11. С. 76–112.
Москаленко А. Идеология и деятельность христианских сект. Новосибирск, 1978.
Моторин A. B. Образ Иерусалима в русском романтизме // Христианство и русская литература / Под ред. В. А. Котельникова. СПб., 1996.
Муравьев А. Н. Житии святых российской церкви, также Иверских и Славянских и местночтимых подвижников благочестия. СПб., 1855–1858.
Нарцизова А. Ф. Поездка в Горицкие киновии и встреча с о. Иоанном Кронштадтским. СПб., 1892.
Никанор (архиепископ). Слово об о. Иоанне Кронштадтском // Известия по Казанской епархии. № 10 (8 марта 1909). С. 294.
Никитин [Фокагитов] Д. В. На берегу и в море. Сан-Франциско, 1937.
Никодим (иеромонах). Архангельский Патерик. Исторические очерки о жизни и подвигах русских святых и некоторых приснопамятных мужей, подвизавшихся в пределах Архангельской епархии. СПб., 1901.
Николаевский А. Великий пастырь земли русской. Мюнхен, 1948.
Никольский Н. М. История русской церкви. М.; Л., 1931; 3-е изд. М., 1983.
Никон [Беляев] (иеромонах). Дневник последнего старца Оптиной пустыни иеромонаха Никона (Беляева). СПб., 1994.
Никон [Рклицкий] (архиепископ). Духовный облик св. праведного протоиерея Иоанна Кронштадтского чудотворца. Нью-Йорк, 1965.
О реформах в нашем богослужении. СПб., 1906.
Образцы русской церковной проповеди XIX века / Сост. М. А. Поторжинский. Киев, 1912.
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. СПб., 1906.
Отец Иоанн Кронштадтский. Жизнь, деятельность, избранные чудеса / Под ред. П. М. Чижова. Jordanville, N.Y, 1958.
О. Иоанн Кронштадтский и К. П. Победоносцев (1883) / Публикация Полунова А. Ю. // Река Времен. № 2.1996. С. 86–92.
Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Париж, 1948.
Павлов А. Курс церковного права. М., 1902.
Пантелеймон (архимандрит). Жизнь, подвиги, чудеса и пророчества святого праведного отца нашего Иоанна, Кронштадтского чудотворца. Jordanville, N.Y, 1976.
Панченко A. A. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни северо-запада России. СПб., 1998.
Паозерский М. (свящ.). Впечатления первого сослужения о. Иоанна Сергиева (Кронштадтского) на божественной литургии // Санкт-Петербургский духовный вестник. № 32 (8 августа1897). С. 619–621.
Парменов А. Прославление праведного Иоанна // Журнал Московской Патриархии. № 10 (1990).
Пастырский венок дорогому батюшке о. Иоанну Кронштадтскому. СПб., 1911; репр. Utica, N.Y, 1965.
Петрушевский Н. Г. О религиозно-назидательном чтении для простого народа // Руководство для сельских пастырей. № 30 (1883). С. 326–334.
Плотица А. М. О. Иоанн Кронштадтский. Его мнение об иноверцах и иностранцах (из дневника врача). М., 1915.
Побединский Я. Последние минуты из жизни Императора Александра Александровича: Письмо о. Иоанна Кронштадтского. М., 1912.
Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству православного исповедания. СПб., 1879–1915.
Помазанский М. (протопресвитер). Очерк православного миросозерцания о. Иоанна Кронштадтского // Пятидесятилетие преставления приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. Юбилейный сборник. Нью-Йорк, 1958. С. 66–82.
Попов Е. Григорий Распутин в свете исторической правды. Sao Paulo: n.p., 1960.
Попов Я. (прот.). Незабвенной памяти дорогого батюшки о. Иоанна Кронштадтского. СПб., 1909.
Поселянин E. К. Н. Леонтьев в Оптиной Пустыни // Памяти Константина Николаевича Леонтьева, 1891 г. Литературный сборник. СПб., 1911.
Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники 18-го века. СПб., 1905.
Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая II. Берлин, 1911.
П. Р. Важное значение дневника для приходского священника // Руководство для сельских пастырей. № 16. 1876. С.475–488.
Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. СПб., 1889.
Правила святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец с толкованиями. М., 1912.
Правила святых отец с толкованиями. М., 1884.
Правило молитвенное готовящимся ко Святому Причащению и ежедневное вечернее и утреннее. Владимирово, 1948.
Православие: словарь атеиста / Под ред. Н. С. Гордиенко. М., 1988.
Православие, армия и флот России. Каталог выставки. СПб., 1996.
Православное богословие и благотворительность (дьякония). Сб. статей / Сост. H. A. Печерская. СПб., 1996.
Преображенский А. (прот.). О богослужении Православной Церкви с подробным объяснением Всенощного Бдения и Литургии. СПб., 1884.
Преображенский А. Культовая музыка в России. Л., 1924.
Преображенский Я. В. Новый и традиционный: духовные ораторы оо. Григорий Петров и Иоанн Сергиев (Кронштадтский). Критический этюд. СПб., 1902.
Протонов В. В. Черные Вороны. Пьеса в пяти действиях. СПб., 1908.
Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990.
Пустошкин В. Ф. Церковь Христова в опасности. Отповедь Преосв. епископу Филарету, главе Вятской епархии. СПб., 1908.
Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра Первого. Пг., 1916–1917.
Пыпин А. Н. Рец. на кн.: Знаменский П. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870). Казань, 1891–1892. Оттиск статьи из «Вестника Европы» (недатированный). С. 710–711, 732.
Пятидесятилетие преставления приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. Юбилейный сборник. Нью-Йорк, 1958.
Райские цветы с русской земли / Сост. П. Новгородский. Сергиев Посад, 1912.
Рассказы сельских священников о дивных явлениях милости Божией и грозных судьбах Его. М., Рига, 1996.
Революция 1905–1907 гг. в России, Документы и материалы. Сост. А. Л. Сидоров и др. Т. 1: Высший подъем революции, вооруженные восстания в ноябре — декабре 1905 г. М., 1955.
Рожнов В. Е. Пророки и чудотворцы: этюды о мистицизме. М., 1977.
Розанов В. Русское сектантство, как три колорита русской церковности // Новое время. № 10594. 3 августа [12 сентября] 1905. С. 4.
Россия перед вторым пришествием: материалы к очерку русской эсхатологии / Сост. С. Фомин. М.,1993.
Ростиславов Д. И. Об устройстве духовных училищ в России: В 2 т. Лейпциг, 1863.
Ростов Н. Духовенство и русская контрреволюция. М., 1930.
Рубакин H. A. Среди тайн и чудес. М., 1965.
Салтыков K. M. Интимный Щедрин. М.; Пг., 1923.
Сапунов Б. В. Некоторые сюжеты русской иконописи и их трактовка в пореформенное время // Культура и искусство России XIX века: новые материалы и исследования: Сб. статей под ред. А. В. Принцевой. Л., 1985.
Светильник Веры и Благочестия — Св. прав. Иоанн, Кронштадтский чудотворец. Житие и новые чудеса / Сост. и ред. А. Любомудров. СПб., 1996.
Свод Законов Российской империи Повелением Государя Императора Николая Первого составленным. СПб., 1833.
Святитель и чудотворец Архиепископ Черниговский Феодосий Углицкий / Сост. H. H. Есипов. СПб., 1897.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сб. / Сост. и ред. Т. А. Соколова. М., 1998.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников. М., 1998.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях самовидцев / Сост. и ред. A. H. Стрижев. М., 1997.
Святой Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников / Сост. и ред. С. Л. Фирсов. М., 1994.
Святой праведный Иоанн, Кронштадтский чудотворец. СПб., 1997.
Семенов-Тян-Шанский А. Отец Иоанн Кронштадтский. Нью-Йорк, 1955.
Серафим [Чичагов] (архимандрит). Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. СПб., 1903.
Сергиев И. И. (прот.). Беседы святого праведного Иоанна Кронштадтского с игуменией Таисией. М., 1995.
Сергиев И. И. (прот.). В мире молитвы. Нью-Йорк: Комитет русской православной молодежи заграницей, 1988; репр. Москва, 1994.
Сергиев И. И. (прот.). Горькая правда о современных девушках и женщинах. СПб., 1903.
Сергиев И. И. (прот.). Живой колос с духовной нивы протоиерея Иоанна Ильича Сергиева-Кронштадтского. Выписки из дневника в 1907–1908 гг. СПб., 1909.
Сергиев И. И. (прот.). «Имеющие уши, слушайте!». Слово против пьянства. СПб., 1902; репр. 1996.
Сергиев И. И. (прот.). Из дневника о. Иоанна Кронштадтского в обличение лжеучения графа Л. Толстого. СПб., 1910.
Сергиев И. И. (прот.). Моя жизнь во Христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге. Извлечения из дневника: В 2 т. М., 1894; repr. Utica, N.Y., 1957.
Сергиев И. И. (прот.). Мысли христианина о покаянии и св. причащении. М., 1997.
Сергиев И. И. (прот.). Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе. Кишинев, 1903.
Сергиев И. И. (прот.). [Иоанн Кронштадтский] Неизданный дневник; воспоминания Епископа Арсения об отце Иоанне Кронштадтском. М., 1992.
Сергиев И. И. (прот.). Новые грозные слова о страшном поистине Суде Божием… М., 1993.
Сергиев И. И. (прот.). О душепагубном пьянстве, матерном слове и табакокурении. СПб., 1915; репр. 1995.
Сергиев И. И. (прот.). О светской жизни: урок благодатной жизни по руководству о. Иоанна Кронштадтского. М., 1894.
Сергиев И. И. (прот.). Обличительные проповеди отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1914.
Сергиев И. И. (прот.). Отец Иоанн Кронштадтский о пьянстве. М., 1991.
Сергиев И. И. (прот.). Письма о. прот. Иоанна к настоятельнице Иоанно-Предтеченского Леушинского первоклассного монастыря игумении Таисии. СПб., 1909.
Сергиев И. И. (прот.). Почему Бог допускает войны? Пг., 1914.
Сергиев И. И. (прот.). Полное собрание сочинений праведника Божия Иоанна Кронштадтского: В 2 т. СПб., 1911.
Сергиев И. И. (прот.). Полный круг поучений. М., 1997.
Сергиев И. И. (прот.). Призыв на защиту родины. М., 1905.
Сергиев И. И. (прот.). Пробудитесь, пьяницы! И плачьте, все пьющие вино! СПб., 1910.
Сергиев И. И. (прот.). Проповеди отца Иоанна Кронштадтского о царском самодержавии. СПб., 1914.
Сергиев И. И. (прот.) [Кронштадтский]. Против графа Л. Н. Толстого, других еретиков и сектантов нашего времени и раскольников. СПб., 1902.
Сергиев И. И. (прот.). Слова и поучения: В 3 т. СПб., 1897–1899.
Сергиев И. И. (прот.). Слово во вторую недели поста, по поводу наглого и дерзкого убийства злодеями благочестивейшего Гос. Имп. Александра Николаевича. [Кронштадт], 1881.
Сергиев И. И. (прот.) [Кронштадтский]. Слово о благотворности Царского единодержавия. СПб., 1897.
Сергиев И. И. (прот.). Христианская философия. СПб., 1902.
Серебров А. Время и люди: воспоминания, 1898–1905. М., 1960.
Силвианова И. В. Современная медицина и православие. М., 1998.
Симаков Н. К. Православная церковь. Современные ереси и секты в России. СПб., 1995.
Симанович А. Распутин и евреи: воспоминания личного секретаря Григория Распутина. М.; Рига, 1991.
«Сих же память пребывает во веки (Мемориальный аспект в культуре русского православия)». Материалы научной конференции, 29–30 ноября 1997 г. Санкт-Петербург: Российская Национальная Библиотека / Фонд по изучению истории православной церкви во имя Свт. Дмитрия Ростовского, 1997.
Скабалланович М. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим введением. Киев, 1910.
Скворцов И. В. В защиту белого духовенства. По поводу книги Н. Елагина «Белое духовенство и его интересы». СПб., 1881.
С-кий И.А. Отец Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский и его пребывание в Киеве. Киев, 1893.
Славянский или Церковный букварь. Киев, 1908.
Смирнов С. И. «Бабы богомерзкие» // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому / Под ред. Я. Л. Барскова. М., 1909.
Смирнов С. И. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта. М., 1913.
Смирнов С. И. Духовный отец в древней восточной церкви. История духовничества на Востоке. Сергиев Посад, 1906.
Соколов Б. Энциклопедия Булгаковская. М., 1996.
Соллогуб A. A. Отец Иоанн Кронштадтский. Жизнь, деятельность, избранные чудеса. Jordanville, N.Y., 1951.
Соловьев А. (иеромонах). Историческое рассуждение о постах Православной Церкви. М., 1837.
Соловьев Н. И. Православное духовенство: очерки, повести и рассказы из жизни приходского духовенства. СПб., 1902.
Соловьев Вс. С. Отец Иоанн // Север. №. 49. 1888. С. 14–15.
Союз русского народа по материалам чрезвычайной следственной комиссии временного правительства 1917 г. / Сост. А. Лерновский. М.; Л., 1929.
Сперанский А. (свящ.). Встреча с о. Иоанном Кронштадтским // Известия по Казанской епархии. № 8 (22 февраля 1909). С. 300–304.
Старец Макарий Оптинский. Харбин, 1940.
Стерлигова И. А. О литургическом смысле драгоценного убора древнерусской иконы // Восточнохристианский храм: литургия и искусство / Под ред. А. М. Лидова. СПб., 1994.
Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907) / Сост. А. Нинов. Л., 1985.
Суворов Н. Заметки о канонизации святых // Журнал Министерства народного просвещения. 348. 1903. С. 263–308.
Сумароков Е. Н. Старчество и первые Оптинские старцы // Старец Макарий Оптинский. Харбин, 1940.
Суратов П. Святый праведный отец Иоанн, Кронштадтский чудотворец. Petit Clamait (Seine), 1965.
Суровецкий Н. В. Воспоминания об отце Иоанне Кронштадтском. СПб., 1902.
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский: В 2 т. Белград, 1938–1941; reprt. Forestville, 1979–1980.
Суслова A. B., Суперанская A. B. О русских именах. Л., 1991.
Таисия (монахиня). Русское православное женское монашество XVIII–XX веков. Jordanville, N.Y., 1985.
Тарасов И. Ф. Об отце прот. Иоанне Ильиче Сергиеве Кронштадтском по личным воспоминаниям // Курские епархиальные ведомости. № 49. 3 декабря 1910. С. 541–542.
Татищев С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование: В 2 т. СПб., 1903.
Терлецкий В. Н. Секта «иоаннитов». Полтава, 1910.
Типикон, сиесть изображение чина церковного, яже зовется Устав. М., 1885.
Тихон (архиепископ Задонский). Творения свят. Тихона Задонского. СПб., 1836.
Тихон (архиепископ Задонский). Сочинения: В 15 т. СПб., 1825–1826.
Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала XX в. М., 1957.
Толстая С. Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860–1891. Л., 1928.
Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1962.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1954.
Толстой Л. Н. Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий // Полное собрание сочинений, запрещенных в России. Т. 3. Christchurch, England, 1906.
Указатель статей, помещенных в душеполезном чтении в течение десяти лет, от начала издания с 1860 до 1869 года. Москва: Тип. В. Готье, 1870.
Художественное убранство русского интерьера XIX века: Очерк-Путеводитель/ Ред. И. Н. Уханова. Л., 1986.
Федотов Г. [Fedotov, George Р.]. Империя и свобода. Нью-Йорк, 1989.
Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991.
Феофан [Говоров] (архиепископ). Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма Епископа Феофана. М., 1914.
Феофан [Говоров] (архиепископ). Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни. М., 1892.
Феофан [Говоров] (архиепископ). Примеры вписывания добрых мыслей, приходящих во время богомыслия и молитвы… М., 1903; репр. Саратов, 1997.
Филарет Дроздов (митрополит). Христианское учение о Царской власти из проповедей Филарета, митрополита Московского. М., 1901.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1937.
Харалампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскою церковную жизнь. Казань, 1914.
Хрисанф (епископ). От Сеула до Владивостока. Путевые записки миссионера. М., 1905.
Христианство и русская литература / Под ред. В. А. Котельникова. СПб., 1996.
Церковь в истории России (XIX в. — 1917 г.): Критические очерки / Под ред. Смирнова H.A. М., 1967.
Четвериков С. (прот.). Бог в русской душе. Москва, 1998.
Четвериков С. (прот.). Духовный облик о. Иоанна Кронштадтского и его пастырские заветы. Jordanville, N.Y., 1958.
Четвериков С. (прот.). Оптина Пустынь. Париж, 1988.
Четвериков С. (прот.). Оптинский Старец иеросхимонах Амвросий // Вечное/L’Etemel. № 122 (февраль 1958). Р. 28–54.
Чехов А. Остров Сахалин: (Из путевых записок) // Полное собрание сочинений и писем. Т. 14–15. М., 1978.
Шамаро А. Дело Игуменьи Митрофании. Л., 1990.
Шавельский Г. И. (протопресвитер). Воспоминания последнего пресвитера русской армии и флота: В 2 т. Нью-Йорк, 1954; репр. М., 1996.
Шавельский Г. И. (протопресвитер). Православное пастырство. СПб., 1996.
Шелаева E., Процай Л. Русь православная. СПб.; М., 1993.
Шмелев И. Лето Господне: Праздники, Радости, Скорби. Нью-Йорк, б.г.
Шкаровский. Свято-Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь: История обители. СПб., 1998.
Шмеман А. (протопресвитер). Евхаристия; Таинство Царства. Париж, 1984.
Шустин В. Записи об о. Иоанне Кронштадтском и об Оптинских старцах, из личных воспоминаний. Белая Церковь, 1929.
Agursky М. Caught in a Cross Fire: The Russian Church between Holy Sinod and Radical Right. 1905–1908 // Orientalia Christiana Periodica. № 50 (1984). P. 163–196.
Amalrik A. Raspoutine. Paris, 1982.
Amand D. D. L’Ascese Monastique de Saint Basile, Essai Historique. Maredsous, 1948.
Arapova. D. A. Life of Father John of Kronstadt: Related for Children and Youth. Trans. C. Aleeff. San Francisco, 1958.
Aries P. The Hour of Our Death. New York, 1982.
The Art of Prayer: An Orthodox Anthology / Comp, by Chariton, Igumen of Valamo. London, 1973.
Atkinson C. W. etal. Immaculate and Powerful: The Female Sacred Image and Social Reality. Boston, 1985.
Auxentios (Bishop). Response to letter // Orthodox Tradition. Vol. 11, № 3 (1994). P. 69.
Baedeker K. La Russie, manuel du voyageur. Leipzig, 1893.
Bakunin M. God and the State. New York, 1970.
Bander van Duren P. Orders of Knighthood and of Merit: The Pontifical, Religious and Secularised Catholic-founded Orders and their relationship to the Apostolic See. New York, 1995.
Baran H. Religious Holiday Literature and Russian Modernism // Christianity and the Eastern Slavs, vol. 2: Russian Culture in Modem Times / Ed. by Hughes R. P., Papemo I. Berkeley and Los Angeles, 1994.
Baring M. A Year in Russia. New York, 1917; repr. Westport: Hyperion 1981.
Batalden, Stephen K., et al. Seeking God: The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine, and Georgia. DeKalb, 1993.
Behr-Sigel Е. Notes sur l’idée russe de sainteté d’après les saints canonisés de l’Eglise russe // Revue de I’Histoire et de la Philosophie Religieuse. № 13 (1933). P. 537–554.
Behr-Sigel E. Prière et sainteté dans l’Eglise russe suivi d’un essai sur le role du monachisme dans la vie spirituelle du peuple russe. Paris, 1950.
Belliustin I. S. Description of the Clergy in Rural Russia The Memoir of a Nineteenth-Century Parish Priest. Trans. Freeze G. Ithaca, 1985.
Belting H. Likeness and Presence: A History of the Image Before the Era of Art. Chicago, 1994.
Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / Ed. by Clowes E. W., Kassow S. D., West J. Princeton, 1991.
Blane A. Protestant Sects in Late Imperial Russia // The Religious World of Russian Culture, Russia and Orthodoxy, vol. 2: Essays in Honor of Georges Florovsky / Ed. by Blane A. The Hague and Paris, 1975.
Bloch M. Les Rois thaumaturges, Etude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre. Strasbourg and Paris, 1924.
Boele 0. The North in Russian Romantic Literature. Amsterdam and Atlanta, 1996.
Bossy J. The Counter-Reformation and the People of Catholic Europe // Past and Present. № 47. (May 1970). P. 51–70.
Boutry Ph., Cinquin M. Deux Pélérinages au XIXe Siècle, Ars et Paray-le-Monial, Bibliothèque Beauchesne, 8. Paris, 1980.
Boyle L. Popular Piety in the Middle Ages: What Is Popular? // Florilegium. № 4(1982). P. 184–189.
Brianchianinov I. (Bishop). The Arena: An Offering to Contemporary Monasticism. Jordanville, N.Y., 1983.
Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1985.
Brown P. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York, 1988.
Brown P. The Cult of Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, 1982.
Brown P. The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity // Journal of Roman Studies. № 61 (1971). P. 80—101.
Brown P. Society and the Holy in Late Antiquity. Berkeley and Los Angeles, 1982.
Brundage J. A. Carnal Delight: Canonistic Theories of Sexuality. Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law, Salamanca, 21–25 Sept. 1965. P. 375–388.
Bushkovitch P. The Limits of Hesychasm: Some Notes on Monastic Spirituality in Russia, 1350–1500 // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. H. 38. Berlin, 1986. S. 97-109.
Bynum C. W. Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women. Berkeley and Los Angeles, 1987
Bynum C. W. Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages. Berkeley and Los Angeles, 1982.
The Byzantine Saint / Ed. by Hackel S. London, 1981.
Carroll M. P. Catholic Cults and Devotions: A Psychological Inquiry. Kingston and Montreal, 1989.
Carroll M. P. Veiled Threats: The Logic of Popular Catholicism in Italy. Baltimore, 1996.
CartyCh.M. (Rev.) Padre Pio the Stigmatist, 15th ed. St. Paul, Minn., 1955. The Case of Russia: A Composite View. New York, 1905.
Chadwick O. The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century: The Gilford Lectures in the University of Edinburgh for 1973–1974. Cambridge, 1975.
Christian W. A., Jr. Local Religion in Sixteenth-Century Spain. Princeton, 1981. Christian W. A., Jr. Visionaries: The Spanish Republic and the Reign of Christ. Berkeley and Los Angeles, 1996.
Christian W. A., Jr. Holy People in Peasant Europe // Comparative Studies in Society and History. № 15 (1973). P. 106–114.
Church, Nation and State in Russia and Ukraine / Ed. by Hosking G. A. London; New York, 1991.
Clay E. J. Orthodox Missionaries and ‘Orthodox Heretics’ in Russia, 1866–1917 // Religion and Identity / Ed. by Khodarkovsky M., Geraci R.
Cracraft J. A. The Church Reform of Peter the Great. Stanford, 1971.
Crummey R. O. Old Belief as Popular Religion: New Approaches // Slavic Review. Vol. 52, № 4 (winter 1993). P. 700–712.
Crummey R. O. The Old Believers and the World of Anti-Christ. Madison, 1970.
Curtiss J. L. Church and State in Imperial Russia. New York, 1948.
Daniel-Rops H. Ces Chrétiens, Nos Freres. Paris, 1965.
Davis N. Z. Some Tasks and Themes in the Study of Popular Religion // The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion, Papers from the University of Michigan Conference on Late Medieval and Renaissance Religion. Leiden, 1974.
Davis R. H. 19th-century Russian Religious-Theological Journals: Structure and Access // St. Vladimir’s Theological Quarterly. \fol. 33, № 3 (1989). P. 235–259.
Delooz P. Sociologie et canonisations. Liege, 1969.
Didron M. Manuel d’iconographie Chrétienne Grecque et Latine. Paris, 1845.
Di Tota M. Saint Cults and Political Alignments in Southern Italy // Dialectical Anthropology. № 5 (1981). P. 317–329.
Dix D. G. The Shape of the Liturgy. London, 1975.
Dixon S. The Church’s Social Role in St. Petersburg, 1880–1914 // Church, Nation and State in Russia and Ukraine / Ed. by Hosking G. A. London, 1991. P. 178–192.
Dobroliubov N. Selected Philosophical Essays. Москва: Foreign Languages Publishing House, 1948.
Dooley E. A. Church Law on Sacred Relics. Washington. D.C., 1931. Catholic University of America Canon Law Studies 70. P. 10–19.
Doucet C. B. Personal documents.
Douglas A. The Feminization of American Culture. New York, 1977.
Dubisch J. Culture Enters through the Kitchen: Women, Food, and Social Boundaries in Rural Greece // Dubisch J. Gender and Power in Rural Greece. Princeton, 1986.
Dubisch J. Greek Women: Sacred or Profane? // Journal of Modem Greek Studies. № 1 (1983). P. 185–202.
Duffy E. Stripping the Altars: Traditional Religion in England circa 1400 to circa 1580. New Haven, 1992.
Eastern Christianity and Politics in the Twentieth Century / Ed. by Ramet P. Durham and London, 1988.
Ektof B. Russian Peasant Schools: Officialdom, Village Culture, and Popular Pedagogy, 1861–1914. Berkeley and Los Angeles, 1986.
Elliott D. Spiritual Marriage: Sexual Abstinence in Medieval Wedlock. Princeton, 1993.
Engel B. A. Between the Fields and the City: Women, Work, and Family in Russia, 1861–1914. Cambridge, 1994.
Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca, 1994.
The Epistles of St. Clement of Rome and St. Ignatius of Antioch / Ed. by Kleist J. A. London, 1962.
Evans J. M. Paradise Lost and the Genesis Tradition. Oxford, 1968.
Every E. Khomiakoff and the Encyclical of the Eastern Patriarchs in 1848 // Соборность, серия 3, № 3 (лето 1948). C. 102–110.
Fedotov G. P. The Russian Religious Mind, vol. 1: Kievan Christianity, The 10th to the 13th Centuries. Cambridge, Mass., 1946.
Fedotov G. P. The Russian Religious Mind, vol. 2: The Middle Ages, the 13th to the 15th Centuries. Belmont, Mass., 1975.
Fedotov G. P. A Treasury of Russian Spirituality. Belmont, Mass., 1975.
Felmy K. C. Predigt im orthodoxen Russland, Untersuchungen zu Inhalt und Eigenart der russischen Predigt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Göttingen, 1972.
Field D. The End of Serfdom. Cambridge, Mass., 1976.
Field D. Rebels in the Name of the Tsar. Boston, 1969.
Flier M. S. The Church of the Savior on the Blood: Projection, Rejection, Resurrection // Christianity and the Eastern Slavs, vol. 2: Russian Culture in Modem Times / Ed. by Hughes R. P., Paperno I. Berkeley and Los Angeles, 1994.
Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983.
Freeze G. L. The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century. Cambridge, Mass., 1977.
Freeze G. L. ‘Going to the Intelligentsia’: The Church and Its Urban Mission in Post-Reform Russia // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. Princeton, 1991.
Freeze G. L. The Wages of Sin: The Decline of Public Penance in Imperial Russia // Seeking God: The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine, and Georgia / Ed. by Batalden S. K. De Kalb: Northern Illinois University Press, 1993.
Freeze G. L. A Case of Stunted Anticlericalism: Clergy and Society in Imperial Russia // European Studies Review (SAGE). No.13 (1983). P. 179–191.
Freeze G. L. Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia Reconsidered // Journal of Ecclesiastical History. Vol. 30, № 1 (January 1985). P. 82–102.
Freeze G. L. The Orthodox Church and Serfdom in Prereform Russia // Slavic Review. Vol. 48 (1989). P. 376–398.
Freeze G. L. The Rechristianization of Russia: The Church and Popular Religion 1750–1850 // Studia Slavica Finlandensia. № 7 (1990). P. 101–136.
Freeze G. L. Subversive Piety: Religion and the Political Crisis in Late Imperial Russia // Journal of Modem History. Vol. 68 (June 1996). P. 308–350.
Fülöp-Miller R. Raspoutine et les femmes. Paris, 1928.
Fiilöp-Miller R. Rasputin: The Holy Devil. New York, 1962.
Gagarin, Father, S. J. The Russian Clergy. New York, 1970; repr. of London, 1872.
Galavaris G. The Icon in the Life of the Church: Doctrine. Liturgy, Devotion. Leiden:, 1981.
Garrett P. D. St. Innocent: Apostle to America. Crestwood, N.Y., 1979.
Geifman A. Thou Shall Kill: Revolutionary Terrorism in Russia. 1894–1917. Princeton, 1993.
Genicot L. Sur l’intérêt des textes hagiographiques // Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres et de Sciences Morales et Politiques, 5th series. № 5 (1965). P. 65–75.
Gleason A. European and Muscovite: Ivan Kireevsky and the Origins of Slavophilism. Cambridge, Mass., 1972.
Goldstein D. Domestic Porkbarreling in Nineteenth-Century Russia, or Who Holds the Keys to the Larder? // Russia, Women, Culture / Ed. by Goscilo H., Holmgren B. Bloomington, 1996.
Gorodetzky N. Saint Tikhon of Zadonsk: Inspirer of Dostoievsky. Crestwood, N.Y., 1976.
Goscilo H. Keeping А-Breast of the Waist-land: Women’s Fashion in Early-Nineteenth-Century Russia // Russia, Women, Culture / Ed. by Goscilo H., Holmgren B. Bloomington, 1996.
Graham S. With the Russian Pilgrims to Jerusalem. London, 1913.
Grant-Duff F. A Psycho-Analytical Study of a Phantasy of St Thérèse de l’Enfant Jésus // British Journal of Medical Psychology. № 5 (1925). P. 345–353.
Grundmann H. Religious Movements in the Middle Ages: The Historical Links between Heresy, the Mendicant Orders, and the Women’s Religious Movement in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Notre Dame, 1995.
Günter H. Psychologie der Legende, Studien zu einer wissenschaftlichen Heiligen-Geschichte. Freiburg, 1949.
Gutierrez G. A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation. Mary knoll, N.Y, 1973.
Harline C. Official Religion-Popular Religion in Recent Historiography of the Catholic Reformation //Archive for Reformation History. № 81 (1990). P. 239–262.
Harris R. On Trial Again // The Catholic World Report. August — September 1998. P. 41–43.
Hauptmann P. Johann von Kronstadt, ‘Der Grosse Hirte des Russischen Landes’ // Kirche im Osten. Bd. 3. S. 33–71. Stuttgart, 1960.
Heier E. Religious Schism in the Russian Aristocracy, 1860–1900. The Hague, 1970.
Heller W. Johannes von Kronstadt // Biographisch-Bibliographisches Kirchen-lexikon. Bd. 3. S. 448–451. Herzberg, 1992.
Herelz L. The Practice and Significance of Fasting in Russian Peasant Culture at the Turn of the Century // Food in Russian History and Culture / Ed. by Giants M., Toomre J. Bloomington, 1997.
Hirschen R. Women, the Aged, and Religious Activity: Oppositions and Complementarity in an Urban Locality // Journal of Modern Greek Studies. № 1 (1983). P. 113–130.
Hilton A. Piety and Pragmatism: Orthodox Saints and Slavic Nature Gods in Russian Folk Art // Christianity and the Arts in Russia / Ed. by Brumfield W. C., Vfelimirovich M. M. New York, 1991.
Holy Women of Byzantium: Ten Saints’ Lives in English Translation / Ed. by Talbot A.-M. Washington, D.C., 1996.
Hourwich I. Religious Sects in Russia // The Case of Russia: A Composite View. New York, 1905.
Hubbs J. Mother Russia: The Feminine Myth in Russian Culture. Bloomington, 1988.
Hulme K. The Nun’s Story. Boston, 1956.
Hutchinson J. Politics and Public Health in Revolutionary Russia, 1890–1918. Baltimore, 1990.
Isaac le Syrien. Oeuvres spirituals, les 86 discours ascétiques. Paris, 1993.
Ivanits L. J. Russian Folk Belief. Armonk, N.Y, 1989.
Ivanka E. von. Aufsatze zur byzantinischen Kultur. Amsterdam, 1984.
Jackson D. Icons in 19th Century Russia // Jackson D. Icons 88: An Exhibition of Russian Icons in Ireland. Dublin, 1988.
John Chrysostom. The Divine Liturgy / Trans. Monk Laurence. Jordanville, N.Y., б.г.
John of Cronstadt Dies in Poverty // The New York Times. January 3. 1909.
Jonas H. The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston, 1963.
Jones F. The Holy Wells of Wales. Cardiff, 1954.
Just R. Anti-Clericism and National Identity: Attitudes Towards the Orthodox Church in Greece // Vernacular Christianity: Essays in the Social Anthropology of Religion Presented to Godfrey Lienhardt / Ed. by James W., Johnson D. Oxford, 1988.
Kanatchikov S. A Radical Worker in Tsarist Russia: The Autobiography of Semen Ivanovich Kanatchikov / Ed. by Zeinik E. D. Stanford, 1986.
Kantorowicz E. The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, 1957.
Khrapovitskii (Metropolitan) Antonii. Confession: A Series of Lectures on the Mystery of Repentance, trans. of Warsaw, 1928 ed. Jordanville, N.Y: Holy Trinity Monastery, 1983.
Kleinberg A. M. Prophets in Their Own Country: Living Saints and the Making of Sainthood in the Later Middle Ages. Chicago, 1992.
Kolarz W. Religion in the Soviet Union. London, 1961.
Kselman T. Miracles and Prophecies in Nineteenth-Century France. New Brunswick, N.J., 1983.
Lady Bountiful Revisited: Women, Philanthropy, and Power / Ed. by McCarthy K. New Brunswick, N.J., 1990.
Laiou-Thomadakis A. Saints and Society in the Late Byzantine Empire // Charanis Studies: Essays in Honor of Peter Charanis / Ed. by Laiou-Thomadakis A. New Brunswick, N.J., 1980.
Lane C. Christian Religion in the Soviet Union: A Sociological Study. Albany, 1978.
Laqueur W. Black Hundred: The Rise of the Extreme Right in Russia. New York, 1993.
Lassus L.-A. Jean de Cronstadt, prêtre de Dieu — ami des homes // Contacts. № 94 (1976). P. 143–154.
Levin E. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900—1700. Ithaca, 1989.
Levin E. Supplicatory Prayers as a Source for Popular Religious Culture in Muscovite Russia // Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine. De Kalb, 1997.
The Limonarion. London, 1976.
Lindenmeyr A. Poverty Is Not a Vice: Charity, Society, and the State in Imperial Russia. Princeton, 1996.
Lived Religion in America: Towards a History of Practice / Ed. by Hall D. Princeton, 1997.
Lopez-Ginisty C. A Dictionary of Orthodox Intercessions. Liberty, Tenn., 1997. Madmen and the Bourgeoisie: A Social History of Insanity and Psychiatry / Ed. by Domer K. Oxford, 1981.
Manchester L. The Secularization of the Search for Salvation: The Self-Fashioning of Orthodox Clergymen’s Sons in Late Imperial Russia // Slavic Review. Vol. 57, № 1 (spring 1998). P. 50–76.
A Manual of the Orthodox Church’s Divine Services / Comp. Sokolof, (Archpriest) D. Repr. Jordanville, N.Y, 1975.
Massie R. Nicholas and Alexandra. London, 1968.
Maylunas A., Mironenko S. A Lifelong Passion: Nicholas and Alexandra. Their Own Story. London, 1996.
Mazo M. ‘We Don’t Summon Spring in Summer’: Traditional Music and Beliefs in the Contemporary Russian Village // Christianity and the Arts in Russia / Ed. by Brumfield W. C., Velimirovic M. M. Cambridge, 1991.
McLean H. Leskov and Ioann of Kronstadt: On the Origins of Polunoshniki // American Slavic and East European Review. Vol. 12, № 1 (February 1953). P. 93–108.
McLean H. Nikolai Leskov: The Man and His Art. Cambridge, Mass., 1977.
Меск G. von. As I Remember Them. London, 1973.
Meehan B. Holy Women of Russia: The Lives of Five Orthodox Women Offer Spiritual Guidance for Today. Crestwood, N.Y., 1997.
Meehan B. From Contemplative Practice to Charitable Activity: Russian Wbmen’s Religious Communities and the Development of Charitable Work // Lady Bountiful Revisited: Wbmen, Philanthropy, and Power / Ed. by McCarthy K. New Brunswick, N.J., 1990.
Meehan B. [Meehan-Waters]. Popular Piety. Local Initiative, and the Founding of Women’s Religious Communities in Russia, 1764–1917 // St. Vladimir’s Theological Quarterly. № 25 (1986). P. 17–42.
Meehan B. To Save Oneself: Russian Peasant Women and the Development of Women’s Religious Communities in Pre-Revolutionary Russia // Russian Peasant Women / Ed. by Famworth B., Viola L. New York, 1992.
Meinardus 0. A Study of the Relics of Saints of the Greek Orthodox Church // Oriens Christianus. № 54 (1970). P. 130–278.
Memissi F. Wbmen, Saints, and Sanctuaries // Signs. № 3 (1977). P. 101–112.
Meyendorff J. Monastic Theology // Meyendorff J. Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes. New York, 1987.
Meyendorff J. St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituality. Crestwood, N.Y, 1974.
Molokhovets E. Classic Russian Cooking: Elena Molokhovets’ «A Gift to Young Housewives» / Trans. Toomre J. Bloomington, 1993.
Mots R. Une Approche Sociographique de la Sainteté // Nouvelle Revue Theologique. № 95 (1973). P. 748–763.
Momigliano A. On Pagans, Jews, and Christians. Hanover, Conn., 1993.
Morosan V. Choral Performance in Pre-Revolutionary Russia. Ann Arbor, 1986.
Morris R. The Political Saint of the Eleventh Century // The Byzantine Saint / Ed. by Hackel S. London, 1981. University of Birmingham Fourteenth Spring Symposium of Byzantine Studies, Supplement to Sobomost’.
Moses, Monk. Married Saints of the Church. Wildwood, 1991.
Mukhin V. The Church Culture of Saint Petersburg. СПб., 1994.
Neel C. The Origins of the Beguines // Signs. Vol. 4, № 2 (winter 1989). P. 321–341.
Nichols R. L. The Icon and the Machine in Russia’s Religious Renaissance, 1900–1909 // Christianity and the Arts in Russia Ed. by Brumfield W. C., Velimirovich M. M. Cambridge, 1991.
O’Shea. J. Priest, Politics, and Society in Post-Famine Ireland. Dublin, 1983.
Obolensky D. The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism. Cambridge, 1948.
Obolensky D. Popular Religion in Medieval Russia // The Religious World of Russian Culture, vol. 2: Russia and Orthodoxy / Ed. by Blane A.. The Hague, 1975.
The Occult in Russian and Soviet Culture / Ed. by Rosenthal B. G. Ithaca, 1997.
Orsi R. A. Thank You, Saint Jude: Women’s Devotion to the Patron Saint of Hopeless Causes. New Haven, 1996.
Ouspensky L., Lossky V. The Meaning of Icons. Crestwood, N.Y., 1983.
The Paradise or Garden of the Holy Fathers, vol. I, containing the Life of St. Anthony, by Athanasius, Archbishop of Alexandria… / Trans, and ed. by Budge E.A.W. London, 1907; repr. Seattle, 1994.
Patlagean E. Sainteté et pouvoir // The Byzantine Saint / Ed. by Hackel S. London, 1981. University of Birmingham Fourteenth Spring Symposium of Byzantine Studies, Supplement to Sobomosi’.
Patrons and Clients in Mediterranean Societies / Ed. by Gellner E., Waterbury J. London, 1977.
Peeters P. La Canonisation des Saints dans l’Eglise Russe // Analecta Bollandiana. № 33 (1914). P. 380–420.
Pelikan J. The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine, vol. 2: The Spirit of Eastern Christendom, 600—1700. London and Chicago, 1974.
Perrie M. Folklore as Evidence of Peasant Mentalite: Social Attitudes and Values in Russian Popular Culture // Russian Review. Vol. 48, № 2 (1989). P. 119–143.
Philokalia. Writings from the Philokalia on Prayer of the Heart. London, 1951–1952.
Pipes R. Russia under the Old Regime. New York, 1992.
Pomazansky, Protopresbyter Michael. Orthodox Dogmatic Theology: A Concise Exposition. Platina, 1984.
Pope B. C. Immaculate and Powerful: The Marian Revival in the Nineteenth Century // Immaculate and Powerful: The Female Sacred Image and Social Reality / Ed. by Clarissa W. A. et al. Boston, 1985.
Pospielovsky D. Soviet Studies on the Church and the Believer’s Response to Atheism. 3 vols. London, 1988.
Pretty D. The Saints of the Revolution: Political Activists in 1890s Ivanovo-Voznesensk and the Path of Most Resistance // Slavic Review. Vol. 54, № 2 (summer 1995). P. 276–304.
The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion. Papers from the University of Michigan Conference on Late Medieval and Renaissance Religion / Ed. by Trinkhaus Ch. Leiden, 1974.
Radzinsky E. The Last Tsar. New York, 1992.
Religious and Secular Forces in Late Tsarist Russia: Essays in Honor of Donald W. Treadgold / Ed. by Timberlake Ch. E. Seattle and London, 1992.
Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society / Ed. by Badone E. Princeton, 1990.
A Revolution of the Spirit: Crisis of Value in Russia, 1890–1924 / Ed. by Rosenthal B. G., Bohachevsky-Chomiak M. New York, 1990.
Ripa Y. Women and Madness: The Incarceration of Women in Nineteenth-Century France. Minneapolis, 1990.
Rivelli M. A. Le génocide occulté, état indépendant de Croatie 1941–1945. Paris, 1998.
Robson R. R. Liturgy and Community Among Old Believers, 1905–1917 // Slavic Review. Vol. 52, № 4 (winter 1993). P. 713–724.
Rodzianko M. V. Le Règne de Raspoutine. Paris, 1927.
Rosenthal B. G. The Search for a Russian Orthodox Work Ethic// Edith W. Clowes et al., eds., Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. Princeton: Princeton University Press, 1991.
Rossabi M. J. Peasants, Peddlers, and Popular Prints in Nineteenth-century Russia // Bulletin of Research in the Humanities. Vol. 87, № 4 (1986–1987). P. 418–430.
Russia and the English Church During the Last Fifty Years, vol. 1 / Ed. by Birkbeck W. L. London., 1895.
The Russian Icon of Late XVIII–XIX cc. / Comp, by Iarygina I. V. St. Petersburg, 1994.
Russian Intellectual History: An Anthology / Ed. by Raeff M. New York, 1966.
Russian Orthodoxy Under the Old Regime // Ed. by Brumfield W. C., Velimirovich M. M., Stavrou T. Minneapolis, 1978.
Russian Peasant Women / Ed. by Farnsworth B., Viola L. New York, 1991.
Russian Traditional Culture: Religion. Gender, and Customary Law / Ed. by Balzer M. Armonk, N.Y., 1992.
Ruud C. A. The Russian Empire’s New Censorship Law of 1865 // Canadian-American Slavic Studies. № 3 (1969). P. 77–93.
Saints and Their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore, and History / Ed. by Wilson S. Cambridge, 1987.
St. John of Kronstadt: Life, Service, and Akathist Hymn / Comp. I.V. Iarygina. Liberty, Tenn., n.d.
Selawry A. Johannes von Kronstadt, Starez Russlands. Basel, 1981.
Semenoff-Tian-Shanskii [Bishop Alexander]. Father John of Kronstadt: A Life. Crestwood, N.Y, 1979.
The Semiotics of Russian Cultural History / Ed. by Nakhimovski A. D., Stone-Nakhimovski A. Ithaca, 1985.
Service Book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic Church / Comp, by Hapgood I. Englewood, N.J., 1975.
Shevzov V. Chapels and the Ecclésial World of Prerevolutionary Russian Peasants // Slavic Review. Vol. 55, № 3 (fall 1996). P. 585–613.
Skrobucha H. The Patrons of the Doctors. Recklinghausen, 1967.
Smirnov E. K. A Short Account of the Historical Development and Present of Russian Orthodox Missions. London, 1903; repr. Liberty, Tenn., 1998.
Smolitsch I. Geschichte der russischen Kirche, 2 vols. Leiden and Wiesbaden, 1964.
Smolitsch I. Russisches Mönchtum: Entstehung, Entwicklung und Wesen, 988—1917. Würzburg, 1953.
Sperber J. Popular Catholicism in Nineteenth-Century Germany. Princeton, 1984.
Spiridovitch A. Raspoutine, 1863–1916, d’après les documents russes et les archives privées de l’auteur. Paris, 1935.
Stanley A. Saint or No, an Old-Time Monk Mesmerizes Italy // New York Times (September 24, 1998). A4.
Stark D. A. Le Père Jean de Cronstadt, archiprêtre de l’Eglise russe, son ascétisme, sa morale. «Ma vie en Jésus-Christ». Paris, 1902–1903.
Stewart С. Demons and the Devil: Moral Imagination in Modem Greek Culture. Princeton, 1991.
Stites R. The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860–1930. Princeton, 1978.
Sventitsky, (Archpriest) Valentin. Six Lectures on the History of the Mystery of Repentance: Against General Confession. Jordanville, N.Y., 1996.
Symeon the New Theologian. The Discourses. New York, 1980.
Tentler T. N. Sin and Confession on the Eve of the Reformation. Princeton, 1977.
Thaisia, Abbess. Abbess Thaisia of Leushino: The Autobiography of a Spiritual Daughter of St. John of Kronstadt. Platina, Calif., 1989.
Tolstaja S. The Worshipping of Saints and its Transformation in Slavic Folk Belief/Traditional Folk Belief Today. Conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits. Tartu, 1990.
Tolstoy L. The Gospel According to Tolstoy / Ed. and transl. by Patterson D. Tuscaloosa and London, 1992.
Treadgold D. W. The Peasant and Religion // The Peasant in Nineteenth-Century Russia / Ed. by Vucinich W. S. Stanford, 1968.
Troeltsch E. The Social Teaching of the Christian Churches, vol. 1. New York, 1960.
Trotsky L. 1905. New York, 1971.
Tsurikov C. Der heilige Ioann Kronshtadtskii: Die Beteiligung der Kirche an den sozialen Aufgaben // 1000 Jahre Christliches Russland, Zur Geschichte der Russischen Orthodoxen Kirche / Ed. by Meyer T. Recklinghausen, 1988.
Turgenev I. Literary Reminiscences and Autobiographical Fragments / Trans. Magarshack D. New York, 1958.
Turner V, Turner E. Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives. New York, 1978.
Vauchez A. The Laity in the Middle Ages: Religious Beliefs and Devotional Practices. Notre Dame and London, 1993.
Vauchez A. La sainteté en accident aux derniers siècles du Moyen Age d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques. Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, fasc. 241. Rome, 1981.
The Venerable Sergius of Radonezh in Works of Russian Art 15th—19th Centuries. Catalogue no. 82, The Exhibition from the Collection of the State History and Art Museum-Reserve in Sergius Posad. Moscow, 1992.
Viola L. Peasant Rebels Under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York, 1996.
Vovelle M. Idéologies et Mentalités. Paris, 1982.
The Sayings of the Desert Fathers, The Alphabetical Collection / Trans, and ed. by Ward B. Kalamazoo, Mich., 1984.
Ware T. The Orthodox Church. New York, 1986.
Warner M. Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary. New York, 1983.
Weber М. The Sociology of Religion. Boston, 1964.
Whyte A. Father John of the Greek Church: An Appreciation. New York, 1898.
Wilson C. Rasputin and the Fall of the Romanovs. London, 1964.
Women in Russia and Ukraine / Ed. by Marsh R. Cambridge, 1996.
Worobec C. Witchcraft Beliefs and Practices in Prerevolutionary Russian and Ukrainian Villages // The Russian Review. Vol. 54 (April 1995). P. 165–187.
Wortman R. A. The Development of a Russian Legal Consciousness. Chicago, 1976.
Wortman R. A. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy, 2 vols. Princeton, 1995, 1999.
Wrath R. D. Before Rasputin: Piety and the Occult at the Court of Nicholas II // The Historian. Vol. 47, № 3 (May 1985). P. 323–337.
Zelnik R. E. Labor and Society in Tsarist Russia: The Factory Workers of St. Petersburg, 1855–1870. Stanford, 1971.
Zelnik R. E. ‘To the Unaccustomed Eye’: Religion and Irréligion in the Experience of St. Petersburg Workers in the 1870s // Christianity and the Eastern Slavs, vol. 2: Russian Culture in Modem Times. Berkeley and Los Angeles, 1994.
Zenkovsky S. Medieval Russia’s Epics, Chronicles, and Tales. New York, 1974.
Zernov N. The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century. New York, 1963.
Zuzek I. Kormchaia Kniga: Studies on the Chief Code of the Russian Canon Law. Orientalia Christiana Analecta. Rome, 1964.
Неопубликованные диссертации и труды конференций
Bouteneff P. The History, Hagiography, and Humor of the Fools for Christ. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, 1990.
Durkin A. A Guide to Guides: Writing About Birds in 19th-century Russia. Unpublished paper presented at conference of American Association for the Advancement of Slavic Studies, Nov. 16, 1996.
Ely C. D. The Origins of Russian Scenery: Volga River Tourism and Russian Landscape Aesthetics. Unpublished paper presented at conference of American Association for the Advancement of Slavic Studies, Nov. 16, 1996.
Geraci R. Window on the East: Ethnography, Orthodoxy, and Russian Nationality in Kazan, 1870–1914. Ph. D. diss. University of California at Berkeley, 1995.
Hedda J. E. Good Shepherds: The St. Petersburg Pastorate and the Emergence of Social Activism in the Russian Orthodox Church, 1855–1917. Ph. D. diss. Harvard University, 1998.
Herrlinger P. The Religious Identity of Workers and Peasant Migrants in St. Petersburg, 1880–1917. Ph. D. diss. University of California at Berkeley, 1996.
Kizenko N. The Making of a Modern Saint: Ioann of Kronstadt and the Russian People, 1855–1917. Ph. D. diss. Columbia University, 1995.
Manchester L. Secular Ascetics: The Mentality of Orthodox Clergymen’s Sons in Late Imperial Russia. Ph. D. diss. Columbia University, 1995.
Shevzov V. Popular Orthodoxy in Late Imperial Rural Russia. Ph. D. diss. Yale University, 1994.
Voinov V. The Western Idea of Democracy Through the Prism of the Russian Religious Mind. Paper presented at the Mid-Atlantic Conference of the American Association for the Advancement of Slavic Studies, March 1997. Albany, New York.
Русские журналы и другие периодические издания
«Биржевые ведомости», 1899–1912
«Богословский вестник», декабрь 1907
«Душеполезное чтение», январь — март 1870
«Душеполезный собеседник», 1880–1917
«Гражданин», 1904—1908
«Информационный бюллетень фонда им. о. Иоанна Кронштадтского», 1958-1968
«Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», 1910
«Исторический вестник», 1900—1918
«Известия по Казанской епархии», 1900—1910
«Курские епархиальные ведомости». 1900—1910
«Мысль», 1906
«Наш современник», 1991
«Наша жизнь», 1905—1908
«Наука и религия», 1990
«Новая мысль», 1906—1907
«Новое время», 1888—1914
«Пчела», 1906
«Перелом», 1906
«Пермские епархиальные ведомости», 1893
«Православная Русь», 1952
«Православная жизнь», 1958—1999
«Псковские епархиальные ведомости», 1896—1917
«Пулемет», 1905
«Река Времен», 1996
«Российский архив», 1994
«Руководство для сельских пастырей», 1875–1909
«Русский вестник», 1881
«Санкт-Петербургские ведомости», 1905
«Санкт-Петербургский духовный вестник», 1890–1912
«Север», 1888
«Стрелы», 1905
«Товарищ», 1906
«Тверские епархиальные ведомости», 1908–1909
«Вечное/L’Étemel», 1958
«Вестник Европы», 1891, 1905–1907
«Волынские епархиальные ведомости», 1910–1914
«Вопросы истории», 1969
«Журнал Министерства Народного Просвещения», 1903
«Журнал Московской Патриархии», 1990
Именной указатель[2]
Абдраимов М. Р. 157
Аввакум, протопоп 16
Августин, блаженный 16, 217
Агафья 135
Адам 40, 53
Акилина133
Аким 135
Аксаков К. С. 9
Аксаков С. Т. 205
Александр 135
Александр (Семенов-Тян-Шанский), епископ 6, 14, 84, 125, 205
Александр, крестьянин 301, 302
Александр II, император 95, 102, 112, 165, 289, 290, 291, 292, 296, 298, 346
Александр III, император 11, 145, 146, 148, 171, 184, 290, 292, 293, 294, 296, 316, 345
Александр Невский, благоверный великий князь 337
Александра Ивановна 284
Александра Иосифовна, великая княгиня 292
Александра Феодоровна, императрица, страстотерпица 145, 148, 326
Александров И. 285
Александрова Мария, мещанка 259, 260
Алексий Николаевич, царевич, страстотерпец 146
Алексий, епископ Таврический 324
Альберт, принц 171
Амвросий Оптинский, преподобный 115, 297
Амиров А. 157
Амфитеатров A. B. 269, 285
Анастасия Николаевна, княжна Черногорская 147
Анатоль, князь 307
Ангелина, игуменья 323
Андрей Первозванный, апостол 105, 116, 194, 195, 310, 312, 322, 325, 331
Андрей, епископ Мамадышский 276
Анна Константиновна, свояченица о. Иоанна 47, 179
Анна Алексеевна 132
Антоний Великий, преподобный 24
Антоний (Храповицкий), митрополит 6, 68, 84, 298
Апраксины 145
Арий, еретик 221, 222
Арсений Великий, преподобный 52
Арсений, епископ 237
Арсеньева Н.
148 Афанасьевский П. 140, 141
Б-в, корреспондент о. Иоанна 210, 211, 212
Багратионы 145
Байнум К. 86
Баранова М. 184
Барсков П., лавочник 156
Барскова E., лавочница 156
Барятинский, князь 145
Барятинский В., князь 164, 165
Бедекер К. 240
Безбрыжой, полковник 157
Бек, де Ф. 284
Беле О. 239
Бенджамин У. 197
Беппис, переводчик 112
Бернар, святой 223
Боголюбов Дмитрий, миссионер 276
Бойл Л. 12
Большаков Н. Я. 220, 264, 275, 278, 279, 318, 339
Бонч-Бруевич В. Д. 306
Боткин С. П. 141
Брилинский А., лесной надсмотрщик 157
Бряузов А. И. 285
Булгаков М. А. 8, 332
Булгаков С. Н. 122
Буле, фотограф 198
Бурачек С., капитан 220
Буткевич A. C. 317
Вагнер У. 8
Вадим, псевдоним автора неканонического перевода Библии 112, 125
Валериан, мученик 53
Варвара, великомученица 143, 198
Варвара 77
Варсонофий Оптинский, преподобный 185, 327
Василий Великий, святитель 32, 57, 217
Василисса, мученица 53
Васильев Александр, протоиерей 316
Васильев Павел, священник 282, 284
Вебер М. 89, 124
Вейнберг A. A. 309
Вельяминов H. A. 293
Верещагин В. В. 229
Веселицкая Л. 228
Виктория, королева Великобритании 171
Виссарион, епископ Костромской и Галицкий 252, 254
Витте С. Ю. 117, 193, 279, 306
Владимир, равноапостольный великий князь 6
Волконские 145
Волочучин Н.283
Вонифатий, мученик 136
Восторгов И. И., протоиерей, священномученик 308
Вьяннэ Ж.-М. 77, 84, 89, 236, 344, 345, 347
Гагарины 145
Гадалов М. 240
Галактион, мученик 53
Гапон Г. А., священник-расстрига 100, 299
Гарской Н. 187
Георгий, отшельник 169
Георгий Победоносец, великомученик 158, 332
Гермиона, настоятельница Ключегорского Казанско-Богородицкого монастыря 169
Гиляров-Платонов Н. П. 88
Гоголь Н. В. 205
Гозовченко П. 184
Голицын Б., князь 152
Голицыны 145
Голубинский Е. Е. 6, 239
Гордиенко Н. С. 337
Грибоедов A. C. 342
Григорий Богослов, святитель 217, 327
Григорий X, папа римский 61
Григорий Нисский, святитель 31, 50, 53
Григорий Турский 217
Гризингер 183
Гурий, архиепископ Новгородской епархии 258
Давид, пророк 28, 30, 63, 108
Далматов Я. 285
Даль В. И. 198
Дамиан, бессребреник и чудотворец 234
Даниил, пророк 59, 330
Дария, мученица 53
Дарья 317
Дарья 163
Даффи И. 12
Дебольский Г. С., протоиерей 17
Диксон С. 106
Димитрий Ростовский, святитель 59
Дионисий Малый 54, 88
Дмитриев H., иоаннит 261, 281, 339
Добролюбов H. A. 98, 115
Доре Г. 225
Дорн, фон Г. 158
Достоевский Ф. М. 49, 56, 79, 273, 306, 326
Дремятский С., священник, 283
Ева 40, 45, 53
Евгения, секретарь о. Иоанна 195
Евдоким, архиепископ 327
Евдокия 237
Евдокия Леонтьевна 237
Евдокия, старица 164
Егор 134
Екатерина 133
Елизавета 317
Елизавета, племянница Сергиевой Е. К. 179, 180, 181
Елисавета Феодоровна, великая княгиня, преподобномученица 148
Елисей, пророк 59
Ефрем Сирин, преподобный 31
Жеденов H. H. 272, 277, 281, 286
Жемчужников А. М. 295
Животов H. H. 213
Животовский С. В. 205, 215
Жозефина 210
Зайцев Б. К. 206
Закхей, мытарь 123
Зеленова А. 160, 161, 162
Земборская Е. 283
Зернов Н. М. 6
Златоустов А., священник 251, 283
И-в 215
Иваницкая Н. 317
Иванов Т., иоаннит 257
Игнатий Богоносец, священномученик 61
Игнатий (Брянчанинов), святитель 34, 296
Игнатьева С. С., графиня 147
Иезекииль, пророк 29, 275
Иеремия, пророк 59, 189, 274
Иисус Христос 26, 27, 28, 29, 30, 36, 43, 47, 51, 52, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 69, 71, 74, 81, 86, 87, 91, 96, 98, 119, 120, 123, 144, 150, 153, 156, 158, 166, 179, 192, 198, 200, 201, 206, 215, 221, 222, 223, 245, 249, 250, 251, 252, 253, 259, 260, 262, 263, 274, 275, 281, 282, 290, 291, 300, 305, 306, 311, 325, 327, 328, 336, 337
Иларион, ученик Серафима Саровского 223
Илиодор (Труфанов), иеромонах 307, 308
Илия, пророк 32, 59, 220, 249
Ильинский В., священник 237
Ильянов П. 285
Иннокентий, епископ 86 Иоанн 135
Иоанн Богослов, апостол и евангелист 59, 64, 67, 86, 219, 251, 297
Иоанн, епископ Сан-Францисский 335
Иоанн Златоуст, святитель 23, 25, 31, 53, 327
Иоанн Колов, преподобный 53
Иоанн Лествичник, преподобный 31
Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 339
Иоанн Рыльский, преподобный 196, 221, 222
Иоанникий, епископ Архангельский 52
Иов Многострадальный, праведный 29
Исайя, пророк 26, 59, 315
Исидор, митрополит Петербургский 116, 219, 230, 231, 233
Иуда, апостол, предатель Иисуса Христа 66, 237, 298
Иуда, западнохристианский святой 236
Иулиания Лазаревская, праведная 54, 218
Кабанова П. В., крестьянка 252, 253
Казнаков, вице-адмирал, комендант Кронштадта 198
Канторович Э. 13, 24
Карташев A. B. 6
Кедринский H., протоиерей 316
Кирилл Иерусалимский, святитель 20, 49
Катерина Семеновна 195, 196
Киреевский И. В. 315
Киселева П. И., иоаннитка 238, 250, 253, 260, 261, 262, 263, 281, 284, 339
Киценко Б. И., протоиерей 5
Киценко Т. И. 5
Клипикова, крестьянка 250
Клэй Ю. 335
Ключевский В. О. 5, 6, 130
Ковригина П. И. 128, 223, 339
Колосков 279
Конашкина А. Т. 136
Кондратов В., крестьянин 250, 283
Кони А. Ф. 69
Константин, царь, равноапостольный 61
Константин, иеромонах 217, 227
Константин Константинович, великий князь 103
Концевич И. М. 6
Корнилий, старец 164
Короленко В. Г. 318
Корчачева E., иоаннитка 261
Костылев, отрок 129
Косма, бессребреник и чудотворец 234
Кофлин Ч. 314
Кочубей B. C. 157
Крез, царь Лидии 214
Кристиан У. 12
Кропоткины 145
Крыжановский С. Е. 286
Ксантиппа 45
Ксения Петербургская, блаженная 337, 341
Куломзины 145
Кутузовы 145
Кэнворти С. 8
Ланские 145
Ланской Г., чиновник особых поручений 270
Лебедева А. М. 195
Левин И. 124
Ленин В. И. 331
Лермонтов М. Ю. 114
Лесков Н. С. 119, 126, 188, 227, 228, 229, 237, 238, 243, 314
Ливен, баронесса 143
Липатов Г. 317
Лисовой Н. 216
Литвинцев П. 133
Литвинцева Е. 133
Лобановы-Ростовские 145
Лободин Ф., крестьянин 279
Логачева А. 282
Лоло, графиня 307
Ломоносов М. В. 215
Лотман Ю. М. 124
Лука, апостол и евангелист 123
Лукуллиан 164
Львов А. Ф. 75
Любимов А., священник 313, 320
Маитов А. 170
Макарий Великий, Египетский, преподобный 52
Макарий Оптинский, преподобный 115
Макеева М. 88, 89, 237
Максим Исповедник, преподобный 50
Максим, странник 250
Макушинский А. 325
Малкова Е. В., миссионерка 283
Манчестер Л. 165
Маргарита 210
Мария 184
Мария, Пресвятая Владычица Богородица и Приснодева 154, 225, 306
Мария Магдалина, мироносица равноапостольная 262
Мария Федоровна, императрица 146, 155
Марк, апостол и евангелист 95, 120
Маркиан, святой 53
Маркс А. Ф. 228
Матфей, апостол и евангелист 59, 91, 186, 218
Мейендорф И. Ф., протопресвитер 6
Мейсснер, чиновник МВД 164
Мейсснер, вдова чиновника МВД 165
Мелания Римляныня, преподобная 53
Мелетина 129
Менделеев Д. И. 326
Меншиков М. О. 200, 238, 310, 311
Меркуров А., священник 285
Мешков Е. М. 171
Милица Николаевна, княжна Черногорская 147
Миронов К., рабочий 319
Митрофан, епископ Воронежский, святитель 143
Михаил, архимандрит 232
Михаил Михайлович, великий князь 102
Моисей, пророк 59, 66, 87, 304, 308, 317
Моне Э. 323
Муравьева-Амурская, графиня 140
Муравьев-Амурский И., сын графини Муравьевой-Амурской 140
Муравьевы 145
Несвицкий К., протоиерей 24, 42
Низье А. Ф. 146
Никанор, архиепископ Казанский 222, 223
Никита, странник 33, 36
Николаев Б., священник 83, 283
Николай 317
Николай 135
Николай, епископ Аляскинский 159
Николай Кавасила, святой праведный 328
Николай I, император 19
Николай II, император, страстотерпец 145, 146, 147, 148, 154, 171, 188, 223, 232, 279, 294, 295, 317, 318, 321, 323, 324, 330, 347
Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, святитель 143, 198, 213, 221, 222, 234, 322
Нина, равноапостольная, просветительница Грузии 262
Новиков Н. И. 113
Оболенская, княгиня 152
Оболенские 145
Ографена 19
Озеров Д. А. 325
Ольга, младенец 128
Ольденбургские 145
Ориген 53
Орловы 145
Павел, славный и всехвальный первоверховный апостол 40, 49, 53, 54, 59, 198
Павел, младенец 128
Павел I, император 125
Павел Препростой, преподобный 178
Павлов И. П. 140
Павский Г. П. 112
Палицын Авраамий 302, 317
Палмер У. 85
Пантелеймон, великомученик и целитель 143, 144
Паозерский М., священник 70, 88
Пахомий, иеросхимонах 329
Пахомий Великий, преподобный 57 Пелагия 133
Перцова В., секретарь о. Иоанна 195, 237
Петр, славный и всехвальный первоверховный апостол 59, 198, 337
Петр Ермолаевич 214
Петр I, император 19, 231
Петров Г., священник 51, 103
Петров И., крестьянин 257
Петров М., иоаннит 260, 261
Петров П. 317
Пимен Великий, преподобный 52
Пио, католический монах и священник 234, 344
Питерс П. 6
Победоносцев К. П. 102, 234, 245, 257, 258, 293
Подгорный С. 279
Подосенов H., священник 282
Полунов А. Ю. 8
Помазанский М., протопресвитер 6
Пономарев И. А., крестьянин 253, 254, 255, 283
Попов И. (Иннокентий, митрополит Московский, святитель) 227
Протопопов В. В. 196, 263, 269
Пульхерия, царица Греческая, благоверная 53
Пустошкин В., иоаннит 262, 264, 275, 281
Пушкин A. C. 114, 198, 216, 222
Раменников Г. 192
Распопов В. 163
Распопова П. 163
Распутин Г. Е. 146, 147, 148, 198, 326
Репин И. Е. 198
Рерих Н. К. 200
Римская-Корсакова Л. 101, 123
Римские-Корсаковы 145
Розанов В. В. 200, 201, 230, 241
Розов А. Н. 8
Романовы, династия 338
Ртищев Ф. М. 122
Рубакин H. A. 223
Руфина, племянница Сергиевой Е. К. 179, 181
Саблер В. К. 155
Савва Соловецкий, пустынник 32
Савва (Тихомиров), епископ 166, 232, 233, 244
Салтыков-Щедрин М. Е. 141
Самохин А. 141
Самуил, пророк 59
Сац Л. 159
Свентицкий В., протоиерей 83
Святополк-Мирские 145
Семен, секретарь о. Иоанна 195
Серафим Саровский, преподобный 57,115, 138, 221, 222, 223, 232, 242, 297, 327, 328, 330, 331
Сергей Александрович, великий князь 148, 15
Сергиев И. М. 22, 23, 215, 218
Сергиев И. И., протоиерей (о. Иоанн Кронштадтский) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174,175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245; 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348 Сергиева Е. К. 24, 42, 43, 44, 179, 180, 181, 189, 219, 338, 339
Сергиева Ф. В. 22, 23, 47, 48, 340
Сергий Радонежский, преподобный 6, 59, 207, 224, 225, 240, 331
Серебров А. 81, 82, 194, 238, 262
Силаев, матрос-большевик 331
Силори А. 14
Симанович А. 147
Симеон Новый Богослов, преподобный 50
Скобелев М. Д. 326
Скорма 112
Скоробогатенков П., иоаннит 282
Смолич И. К. 6
Соболевский, военный врач 155
Сократ 45
Солнцев А., священник 282
Соловьев Вл. С. 219, 241
Соловьев С. М. 5
Сперанский H., главный военный медицинский инспектор 155
Ставров В., священник 282
Стефан 139, 140
Стефана 238
Столыпин П. А. 271, 276, 286
Суворин A. C. 228, 295, 296, 31
Суворов А. В. 326
Суворов Н. 6
Сурский И. К. 14, 203, 220, 326
Суханова Н. И., крестьянка 259, 260
Таисия, игуменья Иоанно-Предтеченского Леушинского первоклассного монастыря 167, 222, 225, 226, 283, 311
Танеевы 145
Тарабрин С., солдат 253
Тарасова М. 317
Тарентута М., священник 317
Тата, княгиня 307
Татаринова K. M. 103
Татищев С. С. 291
Татищевы 145
Тереза Авильская, святая 16
Тизенгаузены 145
Тифяева, издательница детского журнала «Игрушка» 228
Тихон, епископ Воронежский, Задонский чудотворец, святитель 43, 59, 61, 94, 113, 115, 330, 331
Тихон, патриарх Московский и всея Руси, святитель 347
Толстая A. A., графиня 292
Толстая С. А. 43, 54
Толстой Д. А. 297
Толстой Л. Н. 43, 103, 109, 110, 113, 114, 117, 193, 205, 212, 219, 221, 222, 228, 229, 279, 288, 290, 293, 296, 298, 305, 306, 308, 313, 314, 317, 318, 319, 346
Толстые 145
Томеш Л., священник 283
Трофимов П., иоаннит 256, 257, 258, 282, 284
Троцкий Л. Д. 310
Трубецкие 145
Тургенев И. С. 205
Уваров С. С. 297
Урусов, князь 152
Успенский Б. А. 124
Уткин К. 317
Ухтомские 145
Фаррар Ф. У., английский религиозный писатель 279
Федор 135
Федотов Г. П. 6, 240, 316
Фекла, Иконийская, Селевкийская, равноапостольная, первомученица 262
Феодосий Печерский, преподобный 55, 240
Феодосий, архиепископ Черниговский, святитель 143, 232
Феофан (Быстров), архимандрит 316
Феофан, епископ 147
Феофан, Затворник Вышенский, святитель 43, 57, 167, 233, 244
Фиделина А. 186
Филарет (Дроздов), митрополит Московский, святитель 21, 23, 43, 297
Филарет 201
Филарет, архиепископ 31
Филон Александрийский 53
Фирсов С. Л. 8, 203
Фофанов К. И. 69
Франциск Ассизский 207, 234
Фридман Т. 199
Фриз Г. 8, 244
Фюлоп-Миллер Р. 316
Харанбаев У. 158
Хилков Д. А. 228, 244
Хомяков А. С. 56, 85, 245
Хрисанф, мученик 53
Христофор, святой 9
Цявловский М. А. 54
Чайковский П. И. 114, 326
Черкасские 145
Черный Саша (Гликберг А. М.) 309
Чернышевский Н. Г. 115
Чертков В. Г. 198
Чижов П. М. 326
Чурсиков 279
Шавельский Г. И., протопресвитер 6, 18, 166, 341
Шаншиев Н. 158, 159
Шаховская В., княгиня 151, 152
Шаховские 145
Шевелева, врач 184
Шенарий Н. 132
Шереметевы 145
Шкаровский М. В. 8
Шкляревич В. 121
Шмеман А., протоиерей 6
Шмидт П. П. 309
Юлиан, святой 53
Эдисон Т. 159
Эмилия 131
Энгель Б. 184
Энгельштейн Л. 183
Эпистема (Епистимия Емесская), мученица 53
Янновмаева М. 237
Янышев И. Л., протопресвитер 146, 147, 316
Издания «Нового литературного обозрения»
(журналы и книги) можно приобрести в следующих магазинах:
в Москве:
«Политкнига» — ул. Малая Дмитровка, 3/10. Тел.: (495)200-36-94
«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7. Тел.: (495)951-93-60
«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6. Тел.: (495)924-46-80
«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21. Тел.: (495)332-47-28
«Гнозис» — Зубовский проезд, 2, стр. 1. Тел.: (495)247-17-57
«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий мост, 18. Тел.: (495)924-46-45
«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8. Тел.: (495)238-50-01
«Москва ТД» — ул. Тверская, 8. Тел.: (495)797-87-17
Московский Дом книги — Новый Арбат, 8 (а также во всех остальных магазинах сети). Тел.: (495)203-82-42.
«Старый свет» (книжная лавка при Литинституте) — Тверской бульвар, 25 Тел.: (495)202-86-08.
«Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27. Тел.: (495)504-47-95
«У Кентавра» — Миусская пл., 6. Тел.: (495)250-65-46
«Букбери» — Никитский б-р, 17. Тел.: (495)291-83-03
«Русское зарубежье» — ул. Нижняя Радищевская, 8 (м. Таганская-кольцевая) Тел.: (495)915-11-45
Primus Versus — ул. Покровка, 27, стр. 1. Тел.: (495)951-93-60
Магазины сети «Книжный клуб 36′6». Тел.: (495)223-58-20 «Топ-книга». Тел.: (495)166-06-02
в Санкт-Петербурге:
«Летний сад» — Большой просп., ПС, 82. Тел.: (812)232-21-04
«Подписные издания» — Литейный просп., 57. Тел.: (812)273-50-53
«Дом книги» — Невский просп., 62. Тел.: (812)570-65-46, 314-58-88
«Лавка писателей» — Невский просп., 66. Тел.: (812)314-47-59
Гуманитарная книга, 1-я линия ВО, 42. Тел.: (812)323-54-95
Академический проект, ул. Рубинштейна, 26. Тел.: (812)764-81-64
в Екатеринбурге:
Дом книги — ул. А. Валека, 12. Тел.: (343)358-12-00
в Нижнем Новгороде:
«Дирижабль» — Б. Покровская, 46. Тел.: (8312)31-64-71
Арт-кафе «Буфет» — ул. Ошарская, 14. Тел.: (8312)28-51-29
в Ярославле:
ул. Свердлова, 9. В здании ЦСИ «АРС-ФОРУМ». Тел.: (0852)22-25-42
в Интернете:
Фотографии
О. Иоанн в конце 1880-х гг. Фотография из Российского государственного архива кинофотодокументов
Собор св. Андрея в Кронштадте, в котором служил о. Иоанн
О. Иоанн в начале 1880-х гг.
О. Иоанн со своими сестрами
Матушка Елизавета Константиновна Сергиева. Фотография из Российского государственного архива кинофотодокументов
Открытка с изображением посещения о. Иоанном своей родины
О. Иоанн и Елизавета Константиновна с семьей крестника батюшки. Фотография из Российского государственного архива кинофотодокументов
О. Иоанн в окружении сослуживцев и друзей. Среди них в первом ряду: священники Григорий Петров (крайний слева) и Философ Орнатский (слева от о. Иоанна), а также критик Владимир Стасов (третий слева) и матушка Елизавета Константиновна (вторая справа от о. Иоанна). Фотография из Российского государственного архива кинофотодокументов
О. Иоанн в окружении просителей. Фотография из Российского государственного архива кинофотодокументов
Обложка журнала «Пулемет» с сатирическим изображением о. Иоанна, покидающего Кронштадт во время восстания матросов в 1905 г. Фотография из Славянской коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки
Открытка с изображением о. Иоанна, возвращающегося ночью в Кронштадт из Санкт-Петербурга по льду Финского залива. Подобные поездки являлись непременным элементом батюшкиного ежедневного обихода
Похороны о. Иоанна. Санкт-Петербург, декабрь 1908 г. Фотография из Российского государственного архива кинофотодокументов
Иоанновский монастырь на реке Карповке в Санкт-Петербурге
Икона святого праведного Иоанна Кронштадтского, написанная монахинями Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге, 1992 г.
Примечания
1
Здесь и далее в цитатах частично сохранены орфография и пунктуация оригинала.
(обратно)2
В указателе не учтены упоминания имен в составе библиографических описаний.
(обратно)Комментарии
1
Суворов Н. Заметки о канонизации святых // Журнал Министерства народного просвещения. Т. 348 (1903). С. 263–308; Peeters P. La Canonisation des Saints dans l’Eglise Russe //Analecta Bollandiana. № 33 (1914). P. 380–420.
(обратно)2
Russian Orthodoxy Under the Old Regime / Ed. by Robert L., Nichols and Theofanis George Stavrou. Minneapolis, 1978.
(обратно)3
Сборники по императорскому периоду: Seeking God: The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine, and Georgia / Ed. by Stephen K. Batalden. De Kalb, 1993; Church, Nation, and State in Russia and Ukraine / Ed. by Geoffrey Hosking. Basingstoke, 1991.
(обратно)4
Вот некоторые из важных современных исследований на английском языке, которые появились после публикации этой книги в 2000 г.: Chulos Chris J. Converging Worlds: Religion and Community in Peasant Russia, 1861–1917. De Kalb, 2003; Orthodox Russia: Belief and Practice Under the Tsars / Ed. by Valerie A. Kivelson and Robert H. Greene. University Park, PA, 2003; Shevzov Vera. Russian Orthodoxy On the Eve of Revolution. New York, 2004. О монастырях см. работу Скотта Кэнворти о Троице-Сергиевой лавре и книгу Уильяма Вагнера о женском Нижегородском Крестовоздвиженском монастыре. Обзор современной литературы см.: Engelstein Laura. Holy Russia in Modern Times: An Essay on Orthodoxy and Cultural Change // Past and Present. № 173 (November 2001). P. 129–156; а также ее размышления об инкорпорации религии в культурную историю в статье: Culture, Culture Everywhere: Interpretations of Modem Russia, Across the 1991 Divide // Kritika. 2:2 (Spring 2001). P. 363–393. (Русский перевод: Повсюду культура: о новейших интерпретациях русской истории XIX–XX веков // Новая русская книга: Критическое обозрение. № 3/4 (2001). С. 107–121.) Недавнее исследование появления о. Иоанна в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова см.: Golstein V. What Does a Saint do amidst MASSOLIT Revelers? Mikhail Bulgakov, Father John of Kronstadt, and Julien Benda’s La trahison des clercs // Russian Review. Vol. 63. № 4. October 2004.
(обратно)5
Семинария Св. Троицы в Джорданвилле организовала ряд конференций с участием российских ученых. По материалам конференций вышло несколько публикаций, в частности: Philaret, Metropolitan of Moscow, 1782–1867: Perspectives on the Man, His Works, and His Times / Ed. by Vladimir Tsurikov. The Variable Press, 2003.
(обратно)6
Федоров B. A. Русская православная церковь и государство. Синодальный период 1700–1917. М., 2003. Данная работа посвящена институциональной истории церкви. Работы А. Полунова, С. Фирсова и М. Шкаровского отражают иные, методологически более тонкие и современные подходы к проблемам церковной истории в дореволюционное и советское время. Напротив, «Священник в духовной жизни русской деревни» А. Н. Розова (СПб., 2003), хотя и основан на местных архивах, мог бы многое почерпнуть из основополагающей работы Грегори Фриза о русском приходском духовенстве (Freeze Gregory L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983). См. также: Manchester Laurie. The Secularization of the Search for Salvation: The Self-Fashioning of Orthodox Clergymen’s Sons in Late Imperial Russia // Slavic Review. Vol. 57 (1998). P. 50–76. Следует назвать и другие фундаментальные работы по истории духовенства: Hedda Jennifer. Good Shepherds: The St. Petersburg Pastorate and the Emergence of Social Activism in the Russian Orthodox Church, 1855–1917. Ph.D. diss., Harvard University, 1998; Pisiotis Argyrios. Orthodoxy Versus Autocracy: The Orthodox Church and Clerical Political Dissent in Late Imperial Russia, 1905–1914. Ph.D. diss., Georgetown University, 2000.
(обратно)7
См., в частности, работы: Zemon Davis N. Some Tasks and Themes in the Study of Popular Religion // Trinkhaus Ch. (ed.). The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion. Papers from the University of Michigan Conference on Late Medieval and Renaissance Religion. Leiden, 1974. P. 307–336; Carroll M. Veiled Threats: The Logic of Popular Catholicism in Italy. Baltimore, 1996. P. 5–6; Harline C. Official Religion — Popular Religion in Recent Historiography of the Catholic Reformation // Archive for Reformation History. № 81 (1990). P. 239–262.
(обратно)8
Например, об отождествлении понятий «деревенский» и «народный» см.: Shevzov V. Popular Orthodoxy in Late Imperial Rural Russia. Ph.D. diss. Yale University, 1994. P. 13–17. О крестьянском восприятии см.: Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991. О представлениях, существовавших в рабочей среде, см.: Zelnik R. E. «То the Unaccustomed Eye»: Religion and Irreligion in the Experience of St. Petersburg Workers in the 1870s // Hughes R. P., Paperno I. (eds.). Christianity and the Eastern Slavs. Vol. 2: Russian Culture in Modem Times. Berkeley, 1994. P. 49–82; Pretty D. The Saints of the Revolution: Political Activists in 1890s Ivanovo-Voznesensk and the Path of Most Resistance // Slavic Review. Vol. 54 (Summer 1995). № 2. P. 276–304.
(обратно)9
Christian W. A. Jr. Local Religion in Sixteenth-Century Spain. Princeton, 1981. P. 178; Duffy E. Stripping the Altars: Traditional Religion in England circa 1400 to circa 1580. New Heaven, 1992; Boyle L. Popular Piety in the Middle Ages: What Is Popular? // Florilegium. № 4 (1982). P. 188.
(обратно)10
Дискуссию об этом методе см.: Hall D. (ed.). Lived Religion in America: Toward a History of Practice. Princeton, 1997. P. VII—21.
(обратно)11
Kantorowicz E. The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957.
(обратно)12
О связи между святым и его культом см.: Kleinberg A. M. Prophets in Their Own Country: Living Saints and the Making of Sainthood in the Later Middle Ages. Chicago, 1992. P. 7.
(обратно)13
Типичные примеры подобных взглядов см.: Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1983; Церковь в истории России (IX в. — 1917 г.): Критические очерки. М., 1967; Русское православие: вехи истории. М., 1989. Аналогичные оценки западных ученых см.: Pipes R. Russia Under the Old Regime. N.Y., 1992. P. 221–248 (Chapter 9: The Church as Servant of the State).
(обратно)14
Freeze G. L. Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia Reconsidered // Journal of Ecclesiastical History. Vol. 30 (January 1985). № 1. P. 82—102; Nichols R. L., Stavrou Th. (eds.). Russian Orthodoxy Under the Old Regime. Minneapolis, 1978; Timberlake Ch. E. (ed.). Religious and Secular Forces in Late Tsarist Russia: Essays in Honor of Donald W. Treadgold. Seattle, 1992.
(обратно)15
До революции эту идею развивал прот. Г. С. Дебольский. См.: Дебольский Г. С. О любви к отечеству и труде по слову Божию. М., 1996.
(обратно)16
Из наиболее обстоятельных дореволюционных исследований см.: Большаков Н. И. Источник живой воды. Описание жизни и деятельности отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1910; В. М. (архиепископ Евдоким (Мещерский)). Два дня в Кронштадте: из дневника студента. Сергиев Посад, 1902; Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский. Полная биография с иллюстрациями. СПб., 1903. Даже когда авторы явно интересовались политическими взглядами о. Иоанна, они предпочитали заострять внимание преимущественно на религиозных — бесспорных — сторонах его деятельности. См.: Четвериков С. Духовный облик о. Иоанна Кронштадтского и его пастырские заветы. Джорданвилль, 1958; Fedotov G. P. A Treasure of Russian Spirituality. Belmont, 1975. P. 346–349.
(обратно)17
Например, очевидная несуразность в некрологе о. Иоанна, см.: The New York Times. January 3, 1909. P. 4. — «ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ УМЕР В НИЩЕТЕ».
(обратно)18
Laqueur W. Black Hundred: The Rise of the Extreme Right in Russia. N.Y., 1993. P. 50; Rosenthal B. G. (ed.). The Occult in Russian and Soviet Culture. Ithaca, 1997. P. 396.
(обратно)19
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский: В 2-х т. Белград, 1938–1941. Критические замечания по поводу этого издания содержатся в письме протопресвитера Г. Шавельского от 12 июня 1939 г. См.: Бахметьевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры отдела редких книг и рукописей библиотеки Колумбийского университета (Нью-Йорк, США).
(обратно)20
Александр (Семенов-Тян-Шанский). Отец Иоанн Кронштадтский. Нью-Йорк, 1955; Его же. Father John of Kronstadt: A Life. Crestwood, 1979; Selawry A. Johannes von Kronstadt, Starez Russlands. Basel, 1981.
(обратно)21
Felmy K. Ch. Predigt im orthodoxen Russland, Untersuchungen zu Inhalt und Eigenart der russischen Predigt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Göttingen, 1972; Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937; Heller W. Johannes von Kronstadt // Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 3. Herzberg, 1992. S. 448–451; Lassus L.-A. Jean de Cronstadt, prêtre de Dieu — ami des hommes // Contacts. № 94 (1976). P. 143–154; Zernov N. The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century. N.Y., 1963.
(обратно)22
См.: Из записной книжки священника. М., 1996.
(обратно)23
В одном личном зарубежном архиве хранится письмо, написанное о. Иоанном, датированное 27 июля 1905 г. и пронумерованное делопроизводителем батюшки под номером 8994. Если только к концу июля 1905 г. пастырь отправил около девяти тысяч писем, то это соответствует среднемесячному объему его корреспонденции в 1285 писем. При сохранении подобной интенсивности переписки за год могло быть отправлено 15 500 писем.
(обратно)24
Несмотря на то что в недавнем прошлом преднамеренно заострялось внимание на фактах несоблюдения церковных обрядов (например, небрежное отношение к исповеди), по данным официальной статистики, степень воцерковленности населения была действительно высокой. См.: Литвак Б. Г. Русское православие в XIX веке // Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 372–373; Емелях Л. И. Исторические предпосылки преодоления религии в советской деревне. Л., 1975. С. 122–125; Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983. P. XXIX.
(обратно)25
Cracraft J. The Church Reform of Peter the Great. Stanford, 1971. P. 242–251.
(обратно)26
О духовном превосходстве юродивых и странников см.: Райские цветы с русской земли / Сост. П. Новгородский. Сергиев Посад, 1912.
(обратно)27
См.: Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 109–198. Впрочем, некоторые священники, отличившиеся своей праведностью. почитались, хотя и на местном уровне. См.: Ефремов Л. В., прот. Добрый пастырь: краткое описание жизни отца Иоанна Борисовича, священника Преображенской церкви города Ельца (1750–1824). Воронеж, 1893.
(обратно)28
По словам Кирилла, Святые Дары вызывают ни с чем не сравнимый «благоговейный страх», или phrikodestatos, что буквально означает «нечто, от чего волосы встают дыбом». См.: Dix D. G. The Shape of the Liturgy. L., 1975. P. 200.
(обратно)29
См.: Костомаров H. (сост.). Памятники старинной русской литературы. М., 1862. Т. 4. С. 186.
(обратно)30
Даже в начале XX в., по сообщению «Новой жизни», директор петербургского телеграфа распространял среди своих подчиненных специальное предписание, «указывавшее им на необходимость исповедаться и причаститься Святых Таин во время Великого поста». См.: Новая жизнь. № 383 (2–15 марта 1906 г.). С. 3. Епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский) приводит высказывания государственных служащих, готовящихся к причастию: «Я намереваюсь воздать Господу причитающееся Ему». См.: Alexander; bishop. Father John of Kronstadt: A Life. Crestwood. 1979. P. 32.
(обратно)31
Cm.: Belting H. Likeness and Presence: A History of the Image Before the Era of Art. Chicago, 1994. P. 46, 225–260 (глава 12: «The Iconostasis and the Role of the Icon in Liturgy and Private Devotion»).
(обратно)32
О характерных для эпохи Великих реформ призывах к священникам заняться благотворительностью см.: Иаков, архимандрит. Пастырь в отношении к себе и пастве. СПб., 1880. О попытках Церкви повлиять на формирование мнений читающей среды см.: Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1985. P. 300, 302, 306–311. Обсуждение этой темы также см.: Freeze G. L. «Going to the Intelligentsia»: The Church and Its Urban Mission in Post-Reform Russia // Clowes E. W., Kassow S. D., West J. L. (eds.). Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. Princeton, 1991; Dixon S. The Church’s Social Role in St. Petersburg, 1880–1914 // Hosking G. A. (ed.). Church, Nation and State in Russia and Ukraine. London, 1991. P. 178–192.
(обратно)33
Указатель статей, помещенных в «Душеполезном чтении» в течение десяти лет, от начала издания в 1860 до 1869 года. М., 1870. Аналогичный духовный опыт описан Ф. М. Достоевским в «Братьях Карамазовых», когда старец Зосима рассказывает, как потрясение, произошедшее с ним во время евангельского чтения на литургии Преждеосвященных Даров, заставило его изменить свою жизнь. «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» также начинаются с того, что услышанные во время литургии слова апостола Павла «непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17) побудили человека стать странником.
(обратно)34
Например, см.: Преображенский А., прот. О богослужении Православной Церкви с подробным объяснением всенощного бдения и литургии. СПб., 1884.
(обратно)35
Быстров Н. Религиозно-нравственные собеседования в Ильинской церкви погоста Муравеина, Островского уезда // Псковские епархиальные ведомости. № 22 (15 ноября 1896 г.). С. 388.
(обратно)36
Львов Ф. П. О пении в России. СПб., 1834. С. 41–42. Дискуссию об эволюции церковной музыки в XIX в. см.: Morosan V. Choral Performance in Pre-Revolutionary Russia. Ann Arbor, 1986. Chapter 3 («The Emergence of a National Choral Style»).
(обратно)37
Обзор миссионерской деятельности того времени см.: Smirnov Е. К. А Short Account of the Historical Development and Present of Russian Orthodox Missions. L., 1903.
(обратно)38
См.: Знаменский П. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870). Казань, 1891–1892; отдельный оттиск А. Пыпина из «Вестника Европы» [б.д.], с. 710–711, 732. Также см.: Geraci R. Window on the East: Ethnography, Orthodoxy, and Russian Nationality in Kazan, 1870–1914. Ph. D. Diss. University of California at Berkeley, 1995.
(обратно)39
Kselman Th. A. Miracles and Prophecies in Nineteenth-Century France. New Brunswick, 1983. P. 113–140.
(обратно)40
О старообрядцах см.: Robson R. Liturgy and Community Among Old Believers, 1905–1917 // Slavic Review. Vol. 52 (Winter 1993). № 4. P. 713–724. О протестантских сектах см.: Blane A. Protestant Sects in Late Imperial Russia // The Religious World of Russian Culture, Russia and Orthodoxy. Vol. 2: Essays in Honor of Georges Florovsky. The Hague and Paris, 1975. P. 267–278.
(обратно)41
Автобиография // Святой праведный Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников / Сост. А. Н. Стрижев. М., 1997. С. 14.
(обратно)42
Александр (Семенов-Тян-Шанский). Отец Иоанн Ильич Сергиев. Нью-Йорк, 1955. С. 22.
(обратно)43
Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский. Полная биография с иллюстрациями. СПб., 1903. С. 8, 25.
(обратно)44
Пастырь и его почитатели видели в этом явное предзнаменование Божие; коммунистические антицерковные пропагандисты усматривали здесь только циничный расчет. См.: Рожнов В. Е. Пророки и чудотворцы: этюды о мистицизме. М., 1977. С. 78–79.
(обратно)45
Житие святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца // Журнал Московской Патриархии. № 10 (1990). С. 59–60.
(обратно)46
Добротолюбие. Т. 1. Сергиев Посад, 1993. С. 23–24; П.Р. Важное значение дневника для приходского священника // Руководство для сельских пастырей. № 16 (1876). С. 475–488. О дневниках как ценных средствах духовного наблюдения см.: Практическое и нравственное значение богослужебных журналов, записей о внебогослужебных чтениях, пастырско-миссионерских дневников в деле высшего наблюдения за церковно-приходской жизнью // Санкт-Петербургский духовный вестник. № 42 (17 октября 1897 г.). С. 840–841.
(обратно)47
Kantorowicz Е. The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957; К чему зовет нас святость о. Иоанна Кронштадтского // Константин, архимандрит. Чудо русской истории. Сборник статей, раскрывающих промыслительное значение Исторической России. Джорданвилль, 1970. С. 224–225.
(обратно)48
Согласно устойчивому православному представлению, богословы должны быть аскетами или, по крайней мере, вести безукоризненно праведную жизнь, как, например, Григорий Нисский, Максим Исповедник, Симеон Новый Богослов и др. Современные размышления на этот счет см.: Помазанский М., прот. Очерк православного миросозерцания о. Иоанна Кронштадтского // Пятидесятилетие прославления приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. Юбилейный сборник. Нью-Йорк, 1958. С. 66–82; Orthodox Tradition. Vol. 11 (1994). № 3. P. 69.
(обратно)49
Пример аналогичного подхода у современников о. Иоанна см.: Феофан (Говоров). Примеры записывания добрых мыслей, приходящих во время богомыслия и молитвы… М., 1903.
(обратно)50
О традиции духовного старчества в православии см.: Смирнов С. И. Духовный отец в древней Восточной церкви (История духовничества на Востоке). Сергиев Посад, 1906; Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Джорданвилль, 1970.
(обратно)51
Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.
(обратно)52
Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский… С. 8—10, 15–16.
(обратно)53
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 28 об. Д. 3. Л. 2 об.
(обратно)54
Там же. Д. 1. Л. 1.
(обратно)55
Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский… С. 38, 66–69; В. М. (архиепископ Евдоким (Мещерский)). Два дня в Кронштадте: из дневника студента. Сергиев Посад, 1902. С. 437–442; Чижов П. М. Отец Иоанн Кронштадтский. Жизнь, деятельность, избранные чудеса. Джорданвилль, 1958. С. 8.
(обратно)56
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. Д. 4. Л. 10.
(обратно)57
Там же. Д. 1. Л. 53.
(обратно)58
Там же.
(обратно)59
Подобное самоотождествление имеет место лишь в пасхальное время. См. Пасхальный канон, в частности второй тропарь третьего ирмоса: «Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вчера, Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем».
(обратно)60
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.
(обратно)61
Там же. Д. 1. Л. 4 об.
(обратно)62
Там же. Д. 1. Л. 65 об. О западных параллелях подобных мыслей см.: Вупит С. Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages. Berkeley, 1982. P. 23–48.
(обратно)63
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
(обратно)64
Там же. Д. 4. Л. 63.
(обратно)65
Там же. Д. 13. Л. 22 об. См.: Лествица, возводящая на небо преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы. Сергиев Посад, 1908. С. Ill — IV.
(обратно)66
Об этой важнейшей вехе на пути к старчеству — удалении из мира для последующего служения ему — см.: Сумароков Е. Н. Старчество и первые оптинские старцы // Старец Макарий Оптинский. Харбин, 1940. С. 10–11. Критику общественного служения, не подкрепленного личным аскетизмом, через сравнение «гуманистического, филантропического» Г. Петрова и о. Иоанна см.: Тверские епархиальные ведомости. № 20 (25 мая 1909 г.). С. 404–407.
(обратно)67
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 39 об.
(обратно)68
Икона. Секреты ремесла / Сост. A. C. Кравченко, А. П. Уткин. М., 1993. С. 78.
(обратно)69
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 22.
(обратно)70
Там же. Д. 4. Л. 132. «Сборщики» были довольно распространенным явлением, особенно среди крестьянства. Этой деятельностью могли заниматься либо монашествующие, для которых сбор пожертвований являлся послушанием, либо миряне, трудившиеся по собственному почину. Архиереи осуждали данную практику. Высказывания епископа Иоанникия Архангельского по поводу подобной традиции см.: Псковские епархиальные ведомости. № 24 (15 декабря 1896 г.). С. 445. Некрасовский Влас — наиболее известный литературный образ сборщика.
(обратно)71
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 10. Л. 69 об. Резкость суждений о. Иоанна контрастирует с более взвешенным мнением Макария Египетского: «Глубины бездонные сокрыты в сердце человеческом… В сем малом сосуде кишат драконы со львами, твари ядовитые и все сонмища пороков; дебри неодолимые там и пропасти зияющие. Однако же и Бог там, и ангелы Его, жизнь вечная и Царствие Небесное, Свет Господень и апостолы святые, грады горние и дары благодати: все там пребывает».
(обратно)72
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 3. Л. 67. Иную точку зрения см.: Ignatii (Brianchianinov), bishop. The Arena: An Offering to Contemporary Monasticism. Jordanville, 1983. P. 209ff.
(обратно)73
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 8. Л. 46.
(обратно)74
Там же. Д. 12. Л. 11.
(обратно)75
Там же. Д. 23. Л. 169 об.
(обратно)76
Там же. Д. 8. Л. 46. Обсуждение вопроса об ответственности священника за искусительные сновидения см.: Булгаков С. В. Настольная книга для священно- и церковнослужителей. Сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства. Харьков, 1900. Кн. 1. С. 778.
(обратно)77
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 36.
(обратно)78
Там же. Д. 24. Л. 38 об.
(обратно)79
Там же. Д. 4. Л. 89. О. Иоанн, возможно, вспоминает здесь преподобного Арсения Великого, менявшего воду для своих пальмовых листьев лишь раз в году. См.: The Sayings of the Desert Fathers: The Alphabetical Collection. Kalamazoo, 1984. P. 11.
(обратно)80
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 9 об.
(обратно)81
Там же. Д. 13. Л. 9 об.
(обратно)82
Там же. Д. 12. Л. 1. Эта практика заимствована из чувственно-эмоциональной молитвенной традиции, характерной для римского католицизма и привившейся к русскому православию в XVIII в. через Киевскую Духовную академию. Данная традиция проявилась в таких ранее неизвестных в России духовных жанрах, как размышления о Страстях Господних и «Акафист Иисусу Сладчайшему», который очень любил о. Иоанн. Запись батюшки о том, что он купил этот акафист в синодальной книжной лавке, см.: ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. Об этой сравнительно новой для русского православия тяге к обретению «сладости» см.: Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 107–122.
(обратно)83
Высказывание на этот счет преподобного Пимена Великого см.: The Sayings of the Desert Fathers… P. 184; Symeon the New Theologian. The Discourses. N.Y., 1980. P. 314.
(обратно)84
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 44.
(обратно)85
Там же. Д. 9. Л. 26 об.
(обратно)86
См.: Вупит С. Holy Feast, Holy Fast: The Religious Significance of Food for Medieval Women. Berkeley, 1987. P. 73—149.
(обратно)87
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 20.
(обратно)88
Всевозможные блюда русской кухни см.: Molokhovets Е. Classic Russian Cooking: Elena Molokhovets’ «A Gift to Young Housewives». Bloomington, 1993.
(обратно)89
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 74.
(обратно)90
Там же. Д. 12. Л. 89 об.
(обратно)91
Там же. Д. 13. Лл. 58, 60 об., 68 об., 69. Д. 14. Лл. 3, 38 об., 84.
(обратно)92
Там же. Д. 23. Л. 1. Д. 14. Л. 93. Д. 8. Л. 69. Д. 14. Л. 2 об.
(обратно)93
Там же. Д. 4. Л. 130.
(обратно)94
Там же. Д. 9. Л. 71 об.
(обратно)95
Там же. Д. 8. Л. 46.
(обратно)96
См. преп. Иоанна Колова: «Тот, кто объедается и разговаривает с мальчиком, уже прелюбодействует с ним в сердце своем». См.: The Sayings of the Desert Fathers… P. 86.
(обратно)97
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 8. Л. 53 об.
(обратно)98
В. М. Два дня в Кронштадте… С. 382.
(обратно)99
Например, Иоанн Златоуст видел в девственности возврат к подлинной природе человека (De virginitas. XIV [PG 48.544]), а Григорий Нисский считал, что влечение к противоположному полу абсолютно несвойственно изначальной человеческой натуре (De virginitas. II [PG 46.324]. XII |PG 46.369]). Подобные взгляды были свойственны и раннему гностицизму. См.: Jonas Н. The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston, 1963. P. XVII, 31. Идея о половом влечении как грехопадении присутствует и в раввинистической литературе. См.: Evans J. M. Paradise Lost and the Genesis Tradition. Oxford, 1968. P. 32–33, 46–55, 60.
(обратно)100
Тем не менее Григорий Нисский, как и Филон с Оригеном, видел в Адаме воплощение духовного начала человека, а в Еве — телесного. См.: De hominis opificio. XVII–XVIII |PG 44.189–196].
(обратно)101
См.: Levin E. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900–1700. Ithaca, 1989. Особенно главы 1 и 6.
(обратно)102
См.: Евлогий, митрополит. Воспоминания. Париж, 1957. С. 143–144; Manchester L. Secular Ascetics: The Mentality of Orthodox Clergymen’s Sons in Late Imperial Russia. Ph. D. Diss. Columbia University, 1995. P. 550–560; Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 2219. Оп. 1. Д. 31. Л. 159.
(обратно)103
В раннем христианстве известны примеры «духовного брака». Достаточно вспомнить жития свв. Галактиона и Эпистемы, Хрисанфа и Дарии, Юлиана и Василиссы, Маркиана и Пульхерии, Валериана и Мелании. См.: Moses, monk. Married Saints of the Church. Wildwood, 1991. P. 4, 25, 43, 138–139. О феномене «духовного брака» в Средневековье см.: Elliott D. Spiritual Marriage: Sexual Abstinence in Medieval Wedlock. Princeton, 1993.
(обратно)104
См. слова апостола Павла из послания к Ефесянам (Ефес. 5:20–33), читаемые во время православного таинства венчания.
(обратно)105
Булгаков С. В. Настольная книга… С. 1051.
(обратно)106
Там же. С. 771.
(обратно)107
Цит. по: Brown P. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York, 1988. P. 203.
(обратно)108
Беседу по этому поводу между городским священником и его двоюродным братом из деревни см.: Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого: автобиографические воспоминания: В 2 т. М., 1886–1887. Т. 1. С. 45–46.
(обратно)109
См.: Vauchez A. The Laity in the Middle Ages: Religious Beliefs and Devotional Practices. Notre Dame and London, 1993. P. 185–190 («The Virginal Marriage of Eléazar and Delphine»), 191–203 («Conjugal Chastity: A New Ideal in the Thirteenth Century»). Житие Иулиании Лазаревской — характерный пример из русской истории. См.: Zenkovsky S. Medieval Russia’s Epics, Chronicles, and Tales. N.Y., 1974. P. 391–398.
(обратно)110
Третий канон Дионисия гласит, что супружеское воздержание допустимо лишь по взаимному согласию. См.: Правила святых отец с толкованиями. М., 1884. С. 17–19.
(обратно)111
См.: Gorodetzky N. Saint Tikhon of Zadonsk: Inspirer of Dostoevsky. Crestwood, 1976. P. 61–62.
(обратно)112
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 3. Л. 8 об.
(обратно)113
Там же. Д. 8. Л. 19.
(обратно)114
Замечание М. Цявловского в предисловии к дневникам С. А. Толстой см.: Толстая С. А. Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860–1891. Л., 1928. C. VIII.
(обратно)115
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 9. Л. 8 об.
(обратно)116
Там же. Д. 8. Л. 60 об.
(обратно)117
Там же. Д. 9. Л. 14. Д. 13. Л. 56 об. Д. 9. Л. 59. Образ Церкви, как правило, подразумевает брачный союз в целом, а не одного из супругов. См. слова апостола Павла: «Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Ефес. 5:32).
(обратно)118
Образцы назидательных рассказов на эту тему см.: Дьяченко Г. В подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений, приспособленных к чтению в христианской школе для девочек среднего возраста. М., 1903.
(обратно)119
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 9. Л. 62.
(обратно)120
Там же. Л. 66 об.
(обратно)121
Там же. Д. 4. Л. 64.
(обратно)122
Там же. Л. 10.
(обратно)123
Там же. Д. 3. Л. 4.
(обратно)124
См.: Brundage J. A. Carnal Delight: Canonistic Theories of Sexuality // Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law. Salamanca, 21–25 September 1965. P. 375–378.
(обратно)125
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 9. Л. 33 об. Взгляд на эту сторону жизни о. Иоанна см.: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский: В 2 т. Белград, 1938–1941. Т. 1. С. 9–11; Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский… С. 30.
(обратно)126
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 35.
(обратно)127
Там же. Д. 3. Л. 28.
(обратно)128
Там же. Л. 59.
(обратно)129
Там же. Л. 46 об.
(обратно)130
Там же. Д. 11. Л. 31 об.
(обратно)131
Там же. Л. 29 об.–31 об. Двенадцатью годами ранее батюшка даже напоминал себе: «Изначально я разговаривал этим же самым деревенским языком» (Там же. Д. 3. Л. 1а).
(обратно)132
Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский. Полная биография с иллюстрациями. СПб., 1903. С. 37–38. Об осуждении Синодом юродства см.: РГИА. Ф. 834. Оп. 2, № 1701. Фол. 2. Я благодарна Ив Левин за упоминание об этом источнике.
(обратно)133
Михаил. Отец Иоанн Кронштадтский… С. 52.
(обратно)134
См.: Никитин Д. В. (Фокагитов). На берегу и в море. San Francisco, 1937. C. 7–13.
(обратно)135
См. письма Хомякова к Палмеру в кн.: Russia and the English Church During the Last Fifty Years / Ed. by Birkbeck W. J. L., 1895.
(обратно)136
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 19 об.
(обратно)137
Серафим (Чичагов), архимандрит. Летопись Серафимо-Дивеевскаго Монастыря / 2-е изд. СПб., 1903. С. 360.
(обратно)138
Basile. Grandes Regies // Amand D. D.L’Ascèse Monastique de Saint Basile, Essai Historique. Maredsous, 1948. P. 118–128.
(обратно)139
См.: Феофан (Говоров). Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни. 2-е изд. М., 1892. С. 271.
(обратно)140
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 13.
(обратно)141
См. воспоминания: Левицкий П. П. Прот. Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский: Некоторые черты из его жизни. Пг., 1916. С. 4–7.
(обратно)142
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 43 об.
(обратно)143
Там же. Д.8. Л. 63 об.
(обратно)144
Там же. Д. 12. Л. 6 об.
(обратно)145
Там же. Д. 14. Л. 5.
(обратно)146
Там же. Д. 1. Л. 16.
(обратно)147
Там же. Д. 1. Л. 16 об.—17. Здесь о. Иоанн предвидит некоторые из чудес, позднее ему приписываемых.
(обратно)148
Тот факт, что чудеса не совершались со времен раннего христианства, поражал столь многих, что епископ Иннокентий посвятил этой теме отдельную проповедь. См. его проповедь «Слово о том, почему Дух Св. не творит ныне чудес?» в кн.: Образцы русской церковной проповеди XIX века / Сост. священник М. А. Поторжинский. Киев, 1882. С. 185–198.
(обратно)149
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 28 об.
(обратно)150
Dix D. G. The Shape of the Liturgy. L., 1975. P. 33.
(обратно)151
Ignatius. Epistle to the Magnesians // The Epistles of St. Clement of Rome and St. Ignatius of Antioch / Ed. by Kleist J. A. L., 1962. P. 70–71, 128.
(обратно)152
Cm.: Pomazansky M., Protopresbyter. Orthodox Dogmatic Theology: A Concise Exposition. Platina, 1984. P. 246–254.
(обратно)153
Как писал он в своем дневнике, епископы сейчас борются при помощи чернил, пера и бумаги, а не живым словом или примером. ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 74.
(обратно)154
В. М. Два дня в Кронштадте. С. 385.
(обратно)155
Семенов-Тян-Шанский А. Отец Иоанн Кронштадтский. Нью-Йорк, 1955. С. 53.
(обратно)156
Там же. С. 52.
(обратно)157
Сергиев И. И., прот. Моя жизнь во Христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге. Извлечения из дневника: В 2 т. М., 1894; repr. Utica, N.Y., 1957. Т. 1. С. 33.
(обратно)158
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 53.
(обратно)159
Там же. Д. 3. Л. 132, 86 об.
(обратно)160
Там же. Д. 3. Л. 97 об., 102; далее в кн.: Сергиев И. И. Моя жизнь во Христе. Т. 2. С. 25–26.
(обратно)161
Сергиев И. И. Моя жизнь во Христе. Т. 2. С. 25.
(обратно)162
Там же. Т. 2. С. 311–312. Здесь мы находим еще один пример того, как о. Иоанн усваивал Писание: последняя фраза взята из Евангелия от Иоанна, 6:63. Ср. образ раны Христа как груди, дающей молоко, у К. Байнум в кн.: Bynum C. W. Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women. Berkeley and Los Angeles, 1987. P. 25–27.
(обратно)163
О евхаристических чудесах см.: Bynum C. W. Holy Feast and Holy Fast. P. 50–51, 63–64.
(обратно)164
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 65 об., 58, 84. Интересно, что для избавления от евхаристических сомнений о. Иоанн молился не Спасителю, а Богородице, которую он потом горячо благодарил.
(обратно)165
Сергиев И. И. Моя жизнь во Христе. Т. 2. С. 275. В данном отрывке комментируется стих Евангелия от Иоанна, 6:56.
(обратно)166
Там же. Т. 2. С. 314.
(обратно)167
Там же. Т. 1. С. 175. Греческая аббревиатура этой фразы изображается на иконах на нимбе Христа, чтобы показать связь Христа с Тем, кто явился Моисею из огненного куста. Более подробное рассмотрение образной символики, связанной с Иисусом Христом, см. в кн.: Ouspensky L., Lossky V. The Meaning of Icons. Crestwood, N.Y., 1983. P. 69–72.
(обратно)168
См. восторженные комментарии в кн.: Whyte A. Father John of the Greek Church: An Appreciation. N.Y., 1898. P. 38–40.
(обратно)169
Сергиев И. И. Моя жизнь во Христе. Т. 1. С. 168–169. О. Иоанн перефразирует 1-е Послание Коринфянам 15:45.
(обратно)170
Там же. Т. 2. С. 283.
(обратно)171
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 14. Л. 26.
(обратно)172
Антоний (Храповицкий), митрополит. Учение о Пастыре, Пастырстве и об Исповеди. Нью-Йорк, 1966. С. 289. См. также: Gardner J. von. Богослужебное пение Русской Православной Церкви: Система, сущность, история: В 2 т. Jordanville, N.Y., 1980–1982. Т. 1. С. 58–72.
(обратно)173
Глижинский К. Из объятий умирающей бурсы в горнило жизни. Очерки последних дней бурсы и современного развала церковно-приходской жизни. Екатеринбург, 1919. С. 68.
(обратно)174
Попов Я., прот. Незабвенной памяти дорогого батюшки о. Иоанна Кронштадтского. СПб., 1909. С. 29.
(обратно)175
Российский государственный архив литературы и искусства (в дальнейшем РГАЛИ). Ф. 525. Оп. 1. Д. 414. Л. 10 (воспоминания Константина Фофанова).
(обратно)176
Махароблидзе Е. О. Иоанн Кронштадтский, как совершитель Божественной Литургии // Пятидесятилетие преставления приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. N.Y., 1958. С. 89.
(обратно)177
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 72. Л. 2. Другие недоброжелатели описывали о. Иоанна как «актера императорской церкви». См.: В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 136.
(обратно)178
Паозерский М. Впечатления первого сослужения о. Иоанна Сергиева (Кронштадтского) на божественной литургии // Санкт-Петербургский духовный вестник. № 32. 8 августа 1897. С. 620.
(обратно)179
См.: Типикон, сиесть изображение чина церковного, яже зовется Устав. М., 1885.
(обратно)180
В. М. Два дня в Кронштадте. С. 48.
(обратно)181
Там же. С. 48–49.
(обратно)182
Там же. С. 56; курсив мой.
(обратно)183
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 13. Л. 4 об. Дискуссии той поры о протестантизме и его влиянии на Россию см.: Лесков Н. Великосветский раскол: Лорд Рэдсток, его учение и проповедь: очерк современного религиозного движения в Петербургском обществе. М., 1877. О неправославных церквях Санкт-Петербурга см.: Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия в трех томах. СПб., 1996. Т. 3. С. 215–276. Критические высказывания о. Иоанна о протестантах см.: ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 12. Д. 14. Л. 19 об.
(обратно)184
Образцы подобных компиляций см. в кн.: Алмазов А. Я. Апокрифические молитвы, заклинания и заговоры. Одесса, 1901.
(обратно)185
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 132.
(обратно)186
См. отрицательную реакцию священника М. Паозерского на то, что о. Иоанн не носил пояс — он усмотрел в этом желание выделиться, но позже раскаялся, увидев, как в конце службы кто-то заворачивает нижнюю рубашку и сорочку пастыря, чтобы постирать: они были насквозь мокрыми, словно только что из воды. Паозерский М. Впечатления. С. 621.
(обратно)187
Например, воздержание от мяса, молочных продуктов, половой жизни и спиртных напитков. См.: Heretz L. The Practice and Significance of Fasting in Russian Peasant Culture at the Turn of the Century // Food in Russian History and Culture / Ed. by Giants M., Toomre J. Bloomington, 1997. P. 67–80.
(обратно)188
См. канонические комментарии, особенно Дионисия, в кн.: Правила святых отец с толкованиями. М., 1884. С. 14–17; Levin Е. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900—1700. Ithaca, 1989. P. 101–122, о женской нечистоте в славянской исторической среде; Warner М. Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary. N.Y., 1983. Гл. 3, об эволюции этого табу на католическом Западе.
(обратно)189
См. исповеди о. Иоанна, подтверждающие это представление, в работе: Kizenko N. The Making of a Modern Saint: Ioann of Kronstadt and the Russian People, 1855–1917. Ph.D. diss., Columbia University, 1995. P. 189–254.
(обратно)190
Глижинский К. Из объятий умирающей бурсы в горнило жизни. С. 69.
(обратно)191
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 1а об.; Макушинский А. Воспоминание бывшего певчего Кронштадтского Андреевского Собора // Пятидесятилетие преставления приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. С. 43.
(обратно)192
См. воспоминания Марии Макеевой: РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Ед. хр. 1668. Л. 7–7 об.; Шустин О. В. Запись об о. Иоанне Кронштадтском и об Оптинских старцах, из личных воспоминаний. Белая Церковь, 1929.
(обратно)193
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 14. Л. 72.
(обратно)194
Сергиев И. И. Моя жизнь во Христе. Т. 1. С. 230–231.
(обратно)195
Соловьев Вс. С. Отец Иоанн // Север. №. 49. 1888. С. 14–15.
(обратно)196
Сергиев И. И.[Иоанн Кронштадтский]. Неизданный дневник. Воспоминания Епископа Арсения об отце Иоанне Кронштадтском. М., 1992. С. 52.
(обратно)197
См. свидетельство о чудесной целительной силе причастия в кн.: Лебедев В. Е. Мое воспоминание о поездке к о. Иоанну в Кронштадт // Псковские епархиальные ведомости. № 21. 1 ноября 1896. С. 370–371.
(обратно)198
Письмо от монахини см.: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 12b, часть 11. Л. 146.
(обратно)199
В. М. Два дня в Кронштадте. С. 45.
(обратно)200
Н. П. Гиляров-Платонов рассматривает влияние способа исповедования на отношение паствы к священнику в кн.: Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого: автобиографические воспоминания: В 2 т. М., 1886–1887. С. 168–169. См. также: Добрый пастырь: биография о. Иоанна Кронштадтского, письма к батюшке и воспоминания о нем. СПб., 1994. С. 12–13.
(обратно)201
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 4.
(обратно)202
Там же. Д. 4. Л. 1а об. О церквях, принявших эту черту, см.: Султанов Н. Описание новой придворной церкви Св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла, что в Новом Петергофе. СПб., 1905. С. 12–13.
(обратно)203
Там же. Д. 4. Л. 42 об.
(обратно)204
Alexander; Bishop [Aleksandr Semenoff-Tian-Shanskii]. Father John of Kronstadt: A Life. Crestwood, N.Y., 1979. P. 39.
(обратно)205
Вьяннэ был назначен покровителем всех французских священников в 1905 г. и «всех священников мира» в 1929 г. Boutry P., Cinquin М. Deux Pelerinages aux XIXe Siecle, Ars et Paray-le-Monial. P., 1980. P. 146–150.
(обратно)206
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 40. Л. 42.
(обратно)207
Махароблидзе E. О. Иоанн Кронштадтский. C. 87.
(обратно)208
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 40. Л. 30; курсив мой. См. также воспоминания Марии Макеевой: РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Ед. хр. 1668. Л. 4–5 об., о связи поклонения Евхаристии и о. Иоанну.
(обратно)209
См.: Шмеман А., протопресвитер. Евхаристия: Таинство Царства. Р., 1984, особенно с. 15–19.
(обратно)210
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1.Д. 4. Л. 41.
(обратно)211
Там же. Д. 23. Л. 39 об.
(обратно)212
Там же. Д. 26. Л. 17.
(обратно)213
О новом всплеске внимания к проповедям, за которым последовали изменения в ритуале и архитектуре, см.: Dixon S. The Church’s Social Role in St. Petersburg, 1880–1914 // Church, Nation and State in Russia and Ukraine / Ed. by Hosking G. L., 1991. P. 180; о раннехристианской практике см.: Dix D. G. Shape of the Liturgy. P. 437.
(обратно)214
См., среди прочих, описания в Государственном музее этнографии (в дальнейшем ГМЭ): Рукописный отдел. Ф. 7 (Тенишев). Оп. 1. Д. 1439. Л. 11; Д. 1436. Л. 40. См. также в кн.: Громыко М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 126–129.
(обратно)215
См.: Смирнов С. Я. Древнерусский духовник: Исследование по истории церковного быта. М., 1913. С. 255–283. (Глава «Исповедь земле»). См. также молитвы, читаемые в вечерню на праздник Троицы, в которых есть такие слова: «А перед тобой, Мать-земля, грешен душой и телом». В кн.: Голубинский Е. История русской церкви: В 4 т. М., 1880–1907. Т. 2. С. 399–400.
(обратно)216
ГМЭ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1739. Л. 9; Д. 1101. Л. 1.
(обратно)217
Громыко М. Мир русской деревни. С. 126.
(обратно)218
В. М. Два дня в Кронштадте. С. 61. Однако также очевидно, до какой степени подобные православные формулы были известны народу и бессознательно воспринимались им как свои, родные (ср. использование слова «наш»).
(обратно)219
Ср.: Heier Е. Religious Schism in the Russian Aristocracy, 1860–1900. The Hague, 1970. C. 12–14.
(обратно)220
B. M. Два дня в Кронштадте. C. 70.
(обратно)221
Рожнов В. Пророки и чудотворцы: этюды о мистицизме. М., 1977. С. 88.
(обратно)222
В. М. Два дня в Кронштадте. С. 60.
(обратно)223
Серебров А. Время и люди: воспоминания. 1898–1905. М., 1960. С. 33.
(обратно)224
В. М. Два дня в Кронштадте. С. 69–70.
(обратно)225
Левицкий П. П. Прот. Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский. С. 23.
(обратно)226
Архив устной истории Российского государственного гуманитарного университета, фонд Псковской экспедиции. Л. 6. Макс Вебер выдвинул схожий аргумент при рассмотрении высокого накала эмоций, который сопутствует литургии или другому мистическому действу и при этом не трансформируется в личную моральную ответственность. См.: Weber М. The Sociology of Religion. Boston, 1964. P. 152.
(обратно)227
Sventitsky V., Archpriest. Six Lectures on the History of the Mystery of Repentance: Against General Confession. Jordanville, N.Y., 1996. P. 46.
(обратно)228
Попов И. Незабвенной памяти дорогого батюшки о. Иоанна Кронштадтского. СПб., 1909. С. 31.
(обратно)229
Семенов-Тян-Шанский А. // Иоанн Кронштадтский. М., 1992. С. 292.
(обратно)230
Boutry P., Cinquin М. Deux Pelerinages. P. 147.
(обратно)231
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 1а об. Цитата из 2-го Послания к Коринфянам 8:14–15.
(обратно)232
Там же. Д. 4. Л. 98.
(обратно)233
О работе Варвары Шкляревич с этими бедняками с окраин см.: Мирская черница // Райские цветы с русской земли / Сост. П. Новгородский. Сергиев Посад, 1912. С. 283–290.
(обратно)234
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 144 об. Описание общественных волнений в Кронштадте см.: Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский: Полная биография с иллюстрациями. СПб., 1903. С. 38.
(обратно)235
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 3. Л. 29 об.
(обратно)236
Там же. Д. 3. Л. 91.
(обратно)237
Там же. Д. 4. Л. 38.
(обратно)238
Там же. Д. 14. Л. 14 (1874); Д. 3. Л. 8.
(обратно)239
Там же. Д. 4. Л. 75.
(обратно)240
Тихон (Задонский). Об обязанностях богатых и бедных // Сочинения: В 15 т. СПб., 1825–1826. Т. 1. С. 173.
(обратно)241
Bakunin М. God and the State. N.Y., 1970. P. 75. Ситуация могла меняться на рубеже веков. См.: Hedda J. Pastoral Care and Social Activism in the Russian Orthodox Church, 1880–1905. (Ph.D. diss., Harvard University, 1998).
(обратно)242
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 14. Л. 77.
(обратно)243
Там же. Д. 12. Л. 1a
(обратно)244
Там же. Д. 14. Л. 47.
(обратно)245
Там же. Д. 9. Л. 57 об.
(обратно)246
См.: Художественное убранство русского интерьера XIX века: Очерк-путеводитель / Под ред. Н. И. Ухановой. Л., 1986, особенно главу 2: «Историзм. 1830–1880-е гг.».
(обратно)247
См., в частности: Храм и Дворец // Шамаро А. Дело игуменьи Митрофании. Л., 1990. С. 135–189; Goscilo Н. Keeping А-Breast of the Waist-land: Women’s Fashion in Early-Nineteenth-Century Russia // Russia, Women, Culture / Ed. by Goscilo H., Holmgren B. Bloomington, 1996. P. 47–52.
(обратно)248
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 50. Обзор тенденций в строительстве и архитектуре Петербурга середины XIX в. см. в кн.: Лунин A. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990, особенно главу 1: «От классицизма к эклектике». Безусловно, о. Иоанн поддерживал строительство церквей; поддержку обеспечивало и правительство. См.: Краско A. B. Купеческая благотворительность в Петербурге XIX — начала XX в. (на примере семьи купцов Елисеевых) // Сих же память пребывает во веки (Мемориальный аспект в культуре русского православия). Материалы научной конференции, 29–30 ноября 1997 г. СПб.: Российская национальная библиотека / Фонд по изучению истории православной церкви во имя свт. Димитрия Ростовского, 1997. С. 114.
(обратно)249
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 3. Л. 78; курсив мой.
(обратно)250
Ср. с идеями Сергия Булгакова, описанными в работе: Rosenthal B. G. The Search for a Russian Orthodox Work Ethic // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. Princeton, 1991. P. 57–74.
(обратно)251
Прибавления к Церковным Ведомостям. № 1 (1909), цит. в сб.: Святой Праведный Иоанн Кронштадтский/Сост. Т. А. Соколова. М., 1998. С. 35–36.
(обратно)252
См.: Dobrolyubov N. The Organic Development of Man in Connection with His Mental and Spiritual Activities // Selected Philosophical Essays. М., 1948. P. 72–103.
(обратно)253
Подобный же путь прошел Федор Ртищев, начавший с раздачи милостыни, а затем основавший две больницы. См.: Ключевский В. О. Добрые люди… С. 81.
(обратно)254
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 14. Л. 91.
(обратно)255
Там же.
(обратно)256
Николаевский А. Великий пастырь земли русской. Мюнхен, 1948. С. 27.
(обратно)257
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.
(обратно)258
РГИА. Ф. 796. Оп. 174. Д. 743. Л. 1. Гапон Г. А. Записки Георгия Гапона. Очерк рабочего движения в России 1900-х годов. М., 1918. С. 45–46.
(обратно)259
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 1. Л. 79.
(обратно)260
См.: Воорт ван дер Т. (прот.). Практика и богословие благотворительности в Русской Православной Церкви // Православное богословие и благотворительность (диакония). Сб. статей. СПб., 1996. С. 123.
(обратно)261
В Доме работало в среднем 22 600 человек в год. В мастерской обучались рукоделию и пошиву платьев в течение четырех лет, причем учащиеся получали все деньги, которые зарабатывали. Описание услуг Дома см. в кн.: В. М. [архиепископ Евдоким (Мещерский)]. Два дня в Кронштадте, из дневника студента. Сергиев Посад, 1902. С. 172–194; Lindenmeyr A. Poverty Is Not a Vice: Charity, Society, and the State in Imperial Russia. Princeton, 1996. P. 170–174.
(обратно)262
Госпоже Римской-Корсаковой преподнесли в дар икону 19 октября 1892 года с благодарностями от о. Иоанна за ее десятилетнее служение Дому. См.: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 26. Л. 141. О женской благотворительности в Российской империи конца XIX — начала XX в. см.: Lindenmeyr A. Poverty Is Not a Vice. P. 13–16, 125–129; Meehan-Waters В. From Contemplative Practice to Charitable Activity: Russian Women’s Religious Communities and the Development of Charitable Work // Lady Bountiful Revisited: Women, Philanthropy, and Power / Ed. by McCarthy K. New Brunswick, 1990. P. 142–156.
(обратно)263
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 2 об.
(обратно)264
См., например: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 13. Л. 57–58.
(обратно)265
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 254. Л. 94.
(обратно)266
См., например, дневниковую запись о том, как с 25 ноября по 4 декабря он был в Москве и собирал деньги для Дома. Там же. Д. 23. Л. 122.
(обратно)267
РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Ед. хр. 708. Л. 81–82.
(обратно)268
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 38 об.
(обратно)269
О доходах за 1889–1908 годы см.: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 22.
(обратно)270
Письма по сбору средств за 1874–1908 гг. см.: Там же. Д. 47.
(обратно)271
Ср.: Преображенский И. В. Новый и традиционный: духовные ораторы оо. Григорий Петров и Иоанн Сергиев (Кронштадтский). Критический этюд. СПб., 1902.
(обратно)272
Письмо от 30 января 1907 г. см.: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 47. Л. 118.
(обратно)273
Упоминание Думы связано с политикой переселения неимущих и бродяг в Кронштадт, начавшегося в 1850-е годы. Закхей был начальником мытарей (сборщиков податей), а затем покаялся и пообещал Христу, что возместит людям деньги, которые изъял несправедливо (См.: Лука 19:8). ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 16.
(обратно)274
Там же. Д. 13. Л. 37 об.
(обратно)275
Там же. Д. 12. Л. 61.
(обратно)276
Там же. Д. 13. Л. 65 об.; курсив оригинала.
(обратно)277
Там же. Д. И. Л. 26.
(обратно)278
Там же. Д. 13. Л. 71.
(обратно)279
О. Иоанн также винил свое школьное образование за то, что он не верил в себя и слишком высоко судил о других. ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 24. Л. 40 (1896). О духовном образовании в России см.: Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого: автобиографические воспоминания: В 2 т. М., 1886–1887. Т. 1. С. 39–46, 97—106; Manchester L. Secular Ascetics: Russian Orthodox Clergymen’s Sons in Secular Society, 1861–1917 (Ph. D. diss., Columbia University, 1995). P. 241–385. О религиозном образовании в целом см.: Eklof В. Russian Peasant Schools: Officialdom, Village Culture, and Popular Pedagogy, 1861–1914. Berkeley and Los Angeles, 1986. P. 40–42, 155–176 (о церковноприходских школах).
(обратно)280
См. студенческие воспоминания в кн.: Большаков Н. Я. Источник живой воды. Описание жизни и деятельности отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1910. С. 76–102.
(обратно)281
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 3.
(обратно)282
Макс Вебер развивает эту мысль в работе: Weber М. The Sociology of Religion. Boston, 1964. P. 44–46.
(обратно)283
Dixon S. The Church’s Social Role in Saint Petersburg, 1880–1914 // Church, Nation and State in Russia and Ukraine / Ed. by Hosking G. A. N.Y., 1991; The Art of Prayer, An Orthodox Anthology. L., 1973. P. 264–270.
(обратно)284
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 66. О. Иоанн употребляет слово «кафедра» применительно к себе, тогда как обычно оно использовалось исключительно, когда речь шла об архиереях.
(обратно)285
Там же. Д. 3. Л. 102 об.
(обратно)286
Там же. Д. 4. Л. 30.
(обратно)287
Там же. Д. 10. Л. 74 об. О. Иоанн полагал, что подобные преобразования должны начинаться с октоиха, центральной книги для ежедневных утренних и вечерних православных богослужений.
(обратно)288
Там же. Д. 10. Л. 65 об.
(обратно)289
Там же. Д. 9. Л. 58 об.
(обратно)290
Там же. Д. 11. Л. 16 об. Ссылка на Псалом 50.
(обратно)291
Там же. Д. 10. Л. 74 об.
(обратно)292
Одна женщина, например, покаялась на исповеди, что посещала свадьбы и слушала музыку. ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 31. Л. 121.
(обратно)293
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 9. Л. 74 об. Ю. Лотман и Б. Успенский утверждают, что отсутствие чистилища в православной доктрине способствовало формированию у русских в XVIII в. дуалистической, или бинарной, картины мира (Lotman lu.М., Ouspensky B. A. Binary Modls in the Dynamics of Russian Culture to the end of the Eighteenth Century // The Semiotics of Russian Cultural History. Ithaca, 1985. P. 30–66.) Однако, как указала мне Ив Левин, отсутствие чистилища необязательно приводит к дуализму: более вероятная предпосылка — проповеди XVII в. (частная беседа, 1998).
(обратно)294
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 8. Л. 15.
(обратно)295
См. описания современников в кн.: Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Л., 1991. С. 116–128.
(обратно)296
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 11. Л. 3 об. Эти слова (приложи им зла, Господи; приложи зла славным земли) отсылают к Псалтири и богослужению на Страстной неделе.
(обратно)297
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 14. Л. 80; курсив мой. Данное обвинение — в том, что белое духовенство знало свою паству изнутри, тогда как черное духовенство было отдалено от ее реальных нужд и проблем, — было центральным в конфликте между приходским духовенством и монашествующими, составлявшими епископат. См.: Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983. P. 123–125.
(обратно)298
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 11. Л. 16 об.
(обратно)299
Там же. Д. 4. Л. 8; курсив оригинала. Вадим — псевдоним автора подпольного перевода, который порицали за ненаучность. См.: Савва (Тихомиров), вл. Автобиографические записки // Богословский Вестник. 1899. Т. 2. С. 722. Одна из наиболее обстоятельных работ о церковнославянском языке: Кравецкий А. Г., Плетнева A. A. История церковнославянского языка в России (конец XIX–XX в.). М., 2001.
(обратно)300
Seton-Watson Н. The Russian Empire 1801–1917. Oxford, 1967. P. 184.
(обратно)301
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
(обратно)302
Новиков Н. И. История о невинном заточении боярина А. С. Матвеева. М., 1776; Gorodetzky N. Saint Tikhon of Zadonsk: Inspirer of Dostoyevsky. Crestwood, N.Y., 1976.
(обратно)303
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 10. Л. 37 об. В конце 1860-х годов манера людей одеваться точно отражала, хотя и не в такой степени, как при Павле I, их род занятий и общественное положение. См.: Коршунова Т. Т. Костюм в России XVIII — начала XX века: из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1979.
(обратно)304
Фраза «основы и начала общей святой жизни» снова наводит на мысль, что о. Иоанн объединяет себя и Православную церковь с народом, в то же время дистанцируясь от интеллигенции. ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 9. Л. 36 об.
(обратно)305
Александр Семенов-Тян-Шанский объясняет равнодушие о. Иоанна к светскому искусству его происхождением — природа и непосредственные размышления о Божественном могли выполнять для него ту же функцию, которую музыка и живопись выполняли для других. См.: Александр (Семенов-Тян-Шанский), епископ. Отец Иоанн Кронштадтский. Нью-Йорк, 1955. С. 188.
(обратно)306
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 26. Л. 54 об.
(обратно)307
К концу 1860-х годов о. Иоанн составил себе план, как добиться подражания пророкам. См.: Там же. Д. 14. Л. 42.
(обратно)308
Там же. Д. 14. Л. 42 об.
(обратно)309
Там же. Д. 10. Л. 43 об.
(обратно)310
Это происшествие, случившееся в 1870-х годах, упоминается в воспоминаниях: Левицкий П. П. Протоиерей Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский: Некоторые черты из его жизни. Пг., 1916. С. 6–7.
(обратно)311
См. отзыв: Сумароков Е. Н. Старчество и первые Оптинские старцы // Старец Макарий Оптинский. Харбин, 1940. С. 52–78.
(обратно)312
См., например: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 8. Л. 52; Д. 12. Л. 22, 55; Д. 14. Л. 29 об., 40 об.; Д. 23. Л. 31–31 об.
(обратно)313
Там же. Д. 23. Л. 63 об.
(обратно)314
Там же. Д. 23. Л. 156.
(обратно)315
Там же. Д. 9. Л. 73.
(обратно)316
Там же. Д. 13. Л. 50 об.
(обратно)317
Там же. Д. 14. Л. 70 об.
(обратно)318
Запись от 16 марта 1881 г. Там же. Д. 23. Л. 2.
(обратно)319
Там же. Д. 23. Л. 12 об.
(обратно)320
Лесков в «Соборянах» показал, насколько ощутимы эти социальные подтексты при получении благословения батюшки, когда самоуверенный антиклерикал Термосесов внезапно подходит к руке изумленного отца Савелия — и затем, выдавая свое невежество, подходит к дьякону Ахилле, чтобы взять еще одно благословение, несмотря на то что лишь священники и архиереи имели право благословлять. Лесков Н. С. Соборяне. Нью-Йорк, 1952. С. 231–232. В свою очередь отец Савелий не собирался приветствовать местную аристократку Плодомасову никак иначе, кроме поклона; ей пришлось просить его благословения и самой склониться, чтобы поцеловать его руку. С. 57–58.
(обратно)321
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
(обратно)322
Там же. Д. 13. Л. 51 об.
(обратно)323
Там же. Д. 8. Л. 67 об.
(обратно)324
Там же. Д. 13. Л. 67 об..
(обратно)325
Там же. Д. 12. Л. 61 об.
(обратно)326
Рассмотрение скрытых различий между статусами «церковнослужителя» и «священнослужителя» см. в кн.: Freeze G. P. Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. P. 155–164.
(обратно)327
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 13. Л. 51 об.; Д. 14. Л. 84. Здесь обращает на себя внимание представление о. Иоанна, что у его аудитории есть свое собственное восприятие, идущее вразрез с пастырским.
(обратно)328
Там же. Д. 13. Л. 51 об.; Д. 14. Л. 84.
(обратно)329
Там же. Д. 12. Л. 39 об.
(обратно)330
Там же. Д. 3. Л. 85 (1857).
(обратно)331
Там же. Д. 10. Л. 28а.
(обратно)332
Там же. Д. 23. Л. 56.
(обратно)333
Там же. Д. 10. Л. 1а об.
(обратно)334
Там же. Д. 9. Л. 20 об.
(обратно)335
Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 11–15.
(обратно)336
Беседа с Сарапульскими пастырями // Церковные Ведомости. 1904. № 39; перепечатано в кн.: Святой Праведный Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях самовидцев / Ред. и сост. А. Н. Стрижев. М., 1997. С. 18.
(обратно)337
В. М. [Архиепископ Евдоким {Мещерский)]. Два дня в Кронштадте, из дневника студента. Сергиев Посад, 1902. С. 128–129, курсив в оригинале.
(обратно)338
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (в дальнейшем ЦГИА СПб). Ф. 2219. Оп. 1. Д. 12. Л. 9.
(обратно)339
Там же. Д. 13. Л. 48.
(обратно)340
Там же. Д. 14. Л. 65 об.
(обратно)341
См.: Brown P. The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, 1982. P. 113–120.
(обратно)342
Ср.: Lopez-Ginisty C. A Dictionary of Orthodox Intercessions. Liberty, Tenn.: St. John of Kronstadt Press, 1997. P. 3–5. Об аналогичных мусульманских традициях см.: Memissi F. Women, Saints, and Sanctuaries // Signs, 3 (1977). P. 101–112.
(обратно)343
Ключевский B. O. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 361, 417–423, 438.
(обратно)344
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 9 в. Л. 335; Д. 9 г. Л. 4, 12, 21.
(обратно)345
См.: Hutchinson J. Politics and Public Health in Revolutionary Russia 1890–1918. Baltimore, 1990.
(обратно)346
Saints and Their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore, and History / Ed. by Wilson St. Cambridge, 1987. P. 18–21.
(обратно)347
Эта цифра включает в себя не только дела 9а-е (ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1), прямо помеченные как «Письма об исцелении», но и все те письма, в которых содержались просьбы об исцелении (например, в письме, входящем в разряд «писем от монахинь», могли просить об исцелении; в письме с просьбой денег также могли задним числом молить о временном облегчении от хронической астмы).
(обратно)348
Письмо от 3 апреля 1901 г. в ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 19а. Л. 127 об. Об отношении к «женским заболеваниям» см.: Жук В. Мать и дитя. Гигиена в общедоступном изложении. 9-е изд. СПб., 1911. С. 16–18, 63–68.
(обратно)349
Ср. с учением манихейцев и других дуалистических сект в: Obolensky D. The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism. Cambridge, 1948. P. 1–27.
(обратно)350
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 9г. Л. 210.
(обратно)351
Там же. Д. 9a. Л. 228.
(обратно)352
Там же. Д. 9г. Л. 227.
(обратно)353
Там же. Л. 304.
(обратно)354
Там же. Д. 9а. Л. 130; курсив мой.
(обратно)355
Там же. Д. 9а. Л. 49 об.
(обратно)356
Там же. Д. 9г. Л. 23, 244, 178. О церковном признании силы проклятия см.: Материнское проклятие. Павлоград, 1866, в кн.: Рассказы сельских священников о дивных явлениях милости Божией и грозных судьбах Его. М.; Рига: Благовест, 1996. С. 74–75.
(обратно)357
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 15. Л. 87, 231.
(обратно)358
Там же. Д. 11. Л. 188.
(обратно)359
Ср.: Stewart Ch. Demons and the Devil: Moral Imagination in Modem Greek Culture. Princeton, 1991. P, 38–39; Максимов С. Нечистая, неведомая, и крестная сила. СПб., 1903.
(обратно)360
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 9d. Л. 38.
(обратно)361
Письмо от 20 апреля 1901 г. Там же. Д. 9b. Л. 70–70 об. Единственная женщина, которая так поступила, написала скорее исповедь, чем письмо.
(обратно)362
Dixon S. The Church’s Social Role in St. Petersburg, 1880–1914 // Church, Nation and State in Russia and Ukraine / Ed. by Hosking G.A. N.Y., 1991. P. 178–184.
(обратно)363
У о. Иоанна есть несколько памфлетов против пьянства: «Имеющие уши, слушайте!». Слово против пьянства. СПб., 1902; репр. 1996; Пробудитесь, пьяницы! и плачьте, все пьющие вино! СПб., 1910; О душепагубном пьянстве, матерном слове и табакокурении. СПб., 1915; репр. 1995.
(обратно)364
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 15. Л. 48, курсив мой.
(обратно)365
Ripa Y. Women and Madness: The Incarceration of Women in Nineteenth-Century France. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1990. P. 73.
(обратно)366
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 15. Л. 271, 273.
(обратно)367
Там же. Д. 15. Л. 259. Д. 11. Л. 229.
(обратно)368
См. рассмотрение этого феномена в кн.: Ripa. Women and Madness, особенно с. 31–79. Однако в Германии 1840-х гг., по утверждению Гризингера, женщин чаще заключали в тюрьму не из-за их отклонения от обусловленных культурой норм, а потому, что всякий, кто занимал низкое положение на социальной лестнице, кто был не образован и беден, скорее лишался рассудка и с большей вероятностью мог оказаться за решеткой (Madmen and the Bourgeoisie: A Social History of Insanity and Psychiatry / Ed. by Dorner K. Oxford, 1981. P. 26, 284). Ср. аргументацию Лоры Энгельштейн в защиту чисто русской специфики других видов женских «отклонений» (Engelstein L. Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia. Ithaca, 1994. P. 96–127).
(обратно)369
Рожнов B. E. Пророки и чудотворцы: этюды о мистицизме. М.: Политиздат, 1977. С. 83–85; Ганнушкин П. В. Сладострастие, жестокость и религия // Избранные труды. М.: Политиздат, 1964. С. 80–94.
(обратно)370
Священников наставляли, чтобы они относили тех, кто не исповедуется и не причащается, к членам секты. См.: Belliustin I. S. Description of the Clergy in Rural Russia. The Memoir of a Nineteenth-Century Parish Priest. Ithaca, 1985. P. 176; Freeze G. L. Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983. P. 7.
(обратно)371
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 126. Часть II. Л. 123.
(обратно)372
Там же. Д. 9d. Л. 223.
(обратно)373
Письмо от 29 января 1902 г. Там же. Д. 96. Л. 135.
(обратно)374
Там же. Д. 96. Л. 237. Барбара Энгель исследует некоторые причины, по которым в данной ситуации защищали свекра, в своей книге: Engel В. А. Between the Fields and the City: Warnen, Work, and Family in Russia, 1861–1914. Cambridge, 1994. P. 20–21.
(обратно)375
Православную точку зрения на роль врачей в процессе исцеления и на праведных врачей см. в: Skrobucha Н. The Patrons of the Doctors. Recklinghausen, 1967. P. 5–18.
(обратно)376
Письмо врача Шевелевой от имени Марии Барановой см. в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 96. Л. 63.
(обратно)377
См., например, там же. Д. 9 г. Л. 44, 46, 48, 87, 146, 192, 212, 219, 227, 246, 333–334.
(обратно)378
Там же. Д. 26. Л. 130–131.
(обратно)379
Там же. Д.9 г. Л. 367.
(обратно)380
Письмо от 14 января 1897 г. Там же. 9а. Л. 107 об.
(обратно)381
Там же. Д. 19 а. Л. 246, курсив мой.
(обратно)382
Там же. Д. 60. Л. 1–3. См.: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский: В 2 т. Belgrade, 1938–1941; reprt. Forestville: St. Elias Publications, 1979–1980. T. 1. C. 245–246. Утверждение, что о. Иоанн поднимал мертвецов, вспоминалось в связи с болезнью Александра III (Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 107). О «воскрешении» людей, считавшихся умершими, см.: Митрофан (монах). Как живут наши умершие и как будем жить и мы по смерти. 6-е изд. СПб., 1897. С. 97–99.
(обратно)383
Салтыков K. M. «Интимный Щедрин». М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 20–23.
(обратно)384
Рожнов В. Е. Пророки и чудотворцы. С. 105–106.
(обратно)385
Brown. Cult of the Saints. P. 113–120.
(обратно)386
Письмо от 10 мая 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 13а. Л. 72 об. — 73.
(обратно)387
Там же. Д. 9а. Л. 90 об.–91 об.
(обратно)388
Письмо от 1892 г. Там же. Д. 19а. Л. 23–24.
(обратно)389
См. письмо от Марии. Там же. Д. 9 д. Л. 28–28 об.
(обратно)390
Письмо без даты и письма от 22 сентября 1906 г. и 8 августа 1908 г. Там же. Д. 11. Л. 190, 117, 133.
(обратно)391
Там же. Д. 11. Л. 117, 127, 288.
(обратно)392
Там же. Д. 9а. Л. 148.
(обратно)393
Письмо от Павла Гозовченко. Там же. Д. 9е. Л. 32–33.
(обратно)394
Там же. Д. 26. Л. 2.
(обратно)395
Там же. Д. 26. Л. 1, 32, 42, 82; Maylunas A. and Mironenko S. A Lifelong Passion: Nicholas and Alexandra, Their Own Story. L., 1996. P. 109.
(обратно)396
Wrath R. D. Before Rasputin: Piety and the Occult at the Court of Nicholas II // The Historian. 1985. Vol. 47, № 3. P. 323–337.
(обратно)397
См. дискуссию на эту тему в кн.: Amalrik A. Raspoutine. Paris, 1982. P. 57.
(обратно)398
Данная версия по-разному обыгрывается в кн.: Massie R. Nicholas and Alexandra. L., 1968. P. 219; Wilson С. Rasputin and the Fall of the Romanovs. L., 1964. P. 51–54; Wrath R. Before Rasputin. P. 324; Amalrik A. Raspoutine.
(обратно)399
Massie R. Nicholas and Alexandra. P. 221.
(обратно)400
Amalrik A. Raspoutine. P. 57, 78.
(обратно)401
О подобных происшествиях см.: Сергиев И. И., прот. Письма о. прот. Иоанна к настоятельнице Иоанно-Предтеченского Леушинского первоклассного Монастыря Игумении Таисии. СПб., 1909. С. 14, 30, 37, 54, 72, 73.
(обратно)402
Об этом происшествии, имевшем место в 1900 году, рассказывается в книге: В. М. Два дня в Кронштадте. С. 73–74.
(обратно)403
Достоверно известно лишь об одном таком случае — офицер, о котором идет речь, Павел Иванович Плиханков, позднее стал святым Оптинским старцем Варсонофием. См.: Жития Преподобных Старцев Оптиной Пустыни. Jordanville, N.Y.: Holy Trinity Monastery, 1992. C. 268–300.
(обратно)404
Симанович А. Распутин и евреи: воспоминания личного секретаря Григория Распутина. М.; Рига, 1991, особенно с. 8—16; Maylunas A. and Mironenko S. Lifelong Passion, запись от 1 ноября 1905. P. 284. Однако см.: Rodzianko M. V. Le Regne de Raspoutine. Paris, 1927. P. 20–23; Bienstock J. W. Raspoutine: La Fin d’un Regime. Paris, 1917. P. 96—105.
(обратно)405
Wrath. Before Rasputin.P. 324–330.
(обратно)406
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 26. Л. 100; письмо от 20 октября 1893 г. в кн.: Maylunas and Mironenko. Lifelong Passion. P.31. Великий князь был убит в 1905 году.
(обратно)407
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 13 в. Л. 101.
(обратно)408
Антоний (Храповицкий), митрополит. Confession: A Series of Lectures on the Mystery of Repentance. Jordanville, N.Y., 1983. P. 31–32. Неприязненную оценку современниками «чрезмерной, патологической» религиозности, свойственной образованным женщинам, находим в кн.: Амфитеатров А. Женщина в общественных движениях России. Geneva, 1905. С. 13.
(обратно)409
Письмо от 27 января 1891 г. в ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 24. Л. 30.
(обратно)410
Там же. Д. 24. Л. 27.
(обратно)411
По поводу дискуссии о лотереях в 1890-х гг. см.: Брокгауз Ф. А. и Эфрон И. А. Энциклопедический словарь. T. XVIII. СПб., 1896. С. 27–29.
(обратно)412
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 24. Л. 17, 35.
(обратно)413
Там же. Д. 26. Л. 118.
(обратно)414
Там же. Д. 26. Л. 120, курсив мой.
(обратно)415
Письмо от февраля 1903 г. Там же. Д. 1. Л. 20. Исследование того, как переосмыслялось потенциально революционное содержание Библии, находим в работе: Zelnik R. E. «То the Unaccustomed Eye»: Religion and Irreligion in the Experience of Saint Petersburg Workers in the 1870s // Christianity and the Eastern Slavs. Vol. 2. Russian Culture in Modem Times / Ed. by Hughes R. P. and Papemo I. Berkeley and Los Angeles, 1994. P. 49–82; анализ религиозного самосознания рабочих см.: Herrlinger P. The Religious Identity of Wbrkers and Peasant Migrants in St. Petersburg, 1880–1917 (Ph.D. diss., University of California at Berkeley, 1996). О «наивном монархизме» в крестьянских восстаниях см.: Field D. Rebels in the Name of the Tsar. Boston, 1976.
(обратно)416
Большаков Н. Я. Источник Живой Воды. Описание жизни и деятельности отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1910; репр. изд. 1995. С. 214.
(обратно)417
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–2; Д. 126, ч. II. Л. 132.
(обратно)418
См., например: Там же. Д. 28. Л. 5, 12; См. также письмо от Александры Фиделиной. Л. 45–46, курсив мой.
(обратно)419
Там же. Д. 28. Л. 30.
(обратно)420
Письмо от 15 ноября 1905 г. Там же. Д. 28. Л. 32.
(обратно)421
Там же. Л. 55.
(обратно)422
Там же. Д. 24. Л. 22, курсив мой.
(обратно)423
Письмо от 25 апреля 1901. Там же. Д. 26. Л. 42.
(обратно)424
The Byzantine Saint / Ed. by Hackel S. L., 1981. P. 127.
(обратно)425
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 28. Л. 53. О тяжелых условиях жизни на Сахалине см.: Чехов А. П. Остров Сахалин: (Из путевых записок) // Полное собрание сочинений и писем. Т. 14–15. М., 1978; Kennan G. Siberia and the Exile System. Vol. 2. N.Y., 1891. P. 548–551.
(обратно)426
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 48. Л. 17.
(обратно)427
Там же. Д. 48. Л. 100–102, курсив мой.
(обратно)428
Там же. Д. 48. Л. 27.
(обратно)429
Письмо от 14 апреля 1903 г. Там же. Д. 52. Л. 2–2 об.
(обратно)430
Августин (Никитин), архимандрит. Православный Петербурге записках иностранцев. СПб., 1995. С. 184–189.
(обратно)431
Они собраны в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 12а—12d.
(обратно)432
Там же. Д. 31. Л. 193 об. Письмо перифразирует Псалом 37, читаемый в начале утрени.
(обратно)433
Там же. Д. 31. Л. 250, курсив мой.
(обратно)434
См., например, жалобу дочери там же. Д. 19b. Л. 142.
(обратно)435
Там же. Д. 15. Л. 110, курсив мой. В последнем предложении цитируется Евангелие от Матфея 15:27.
(обратно)436
Там же. Д. 19b. Л. 162. О происшествиях, описывающих спасительную пользу ухода из семьи, см.: Раб Божий Иоанн // Душеполезное чтение. 1904, июль — август, в сб.: Райские цветы с русской земли / Сост. П. Новгородский. Сергиев Посад, 1912. С. 78–92.
(обратно)437
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 19а. Л. 98 об.-99.
(обратно)438
См.: Meehan В. Holy Women of Russia: The Lives of Five Orthodox Women Offer Spiritual Guidance for Today. Crestwood, N.Y., 1997. P. 38.
(обратно)439
Миненко H. A. Старики в русской крестьянской общине. Цит. по: Громыко М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 149. Данная точка зрения доказывается и в кн.: Шмелев И. Лето Господне: Праздники, Радости, Скорби. Нью-Йорк, б.г. С. 210.
(обратно)440
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 126. Ч. II. Л. 161.
(обратно)441
Там же. Д. 7 г. Л. 93.
(обратно)442
Там же. Л. 439. Анализ факторов, способствовавших идеализации царей, и того, как эта идеализация создавалась и проявлялась, см.: Wortman R. S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton, 1998. Vol. 2.
(обратно)443
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 7r. Л. 277.
(обратно)444
Там же. Д. 26. Л. 87–90.
(обратно)445
См.: Kselman T. Miracles and Prophecies in Nineteenth-Century France. New Brunswick, N.J., 1983. P. 60–83.
(обратно)446
«Прогрессивное течение» в академическом богословии. Протопресвитер Иоанн Янышев // Иоанн (Снычев), митрополит. Очерки истории Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1994. С. 191–197.
(обратно)447
Manchester L. The Secularization of the Search for Salvation: The Self-Fashioning of Orthodox Clergymen’s Sons in Late Imperial Russia // Slavic Review. 1998. Vol. 57, № 1. P. 50–76. Письма в ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 76. Л. 217; Д. 7 г. Л. 270.
(обратно)448
Таисия (монахиня). Русское православное женское монашество XIX–XX веков. Jordanville, N.Y., 1985. С. 5.
(обратно)449
Шавельский Г. В., [протопресвитер]. Воспоминания последнего пресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк, 1954; репр. М., 1996, Т. 2. С. 156–175.
(обратно)450
Большаков Н. Я. Источник живой воды. С. 614–673. О. Иоанн искал дополнительные источники финансирования для своих монастырей, так же как и для Дома Трудолюбия. См. его обращение к В. К. Саблеру в кн.: Письма о. прот. Иоанна. С. 38–39.
(обратно)451
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 7 г. Л. 94, 98, 148.
(обратно)452
Подробное рассмотрение данных проблем см. в кн.: Abbess Thaisia. Abbess Thaisia: The Autobiography of a Spiritual Daughter of St. John of Kronstadt. Platina, Calif: St. Herman of Alaska Brotherhood Press, 1989. P. 155–158.
(обратно)453
См.: Шустин В. Запись об о. Иоанне Кронштадцком и об Оптинских старцах из личных воспоминаний. Владимирово, 1929; Никон (Беляев). Дневник последнего старца Оптиной пустыни иеромонаха Никона (Беляева). СПб., 1994. С. 99, 134.
(обратно)454
Ср., например, ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 7 в. Л. 57–58 и Д. 7 в. Л. 206.
(обратно)455
Письмо от 29 марта 1905 г. Там же. Д. 7 в. Л.241; Д. 7 в. Л. 275; Д. 7а. Л. 265.
(обратно)456
Письмо от 13 августа 1897 г. Там же. Д. 21. Л. 5.
(обратно)457
Там же. Д. 41. Л. 58; Д. 21. Л. 12, 7.
(обратно)458
Там же. Д. 21. Л. 17, 18, 25, 31, 39.
(обратно)459
См., например, язвительный комментарий в кн.: Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая II. Берлин, 1911. С. 39. О фотографиях о. Иоанна в роскошных одеждах см.: Шелаева E., Процай Л. Русь православная. СПб.; М., 1993. С. 202, 205.
(обратно)460
Письмо от 16 мая 1897 г. от Николая Гарского в ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 76. Л. 234. О завещании отца Иоанна см.: РГИА. Ф. 799. Оп. 6. Д. 30 (Хозяйственного Упр. при Св. Синоде, отд. I, стол I, № 177а). Л. 2–3.
(обратно)461
См. пример выделения средств на поминальную трапезу в кн.: Lindenmeyr A. Poverty Is Not a Vice: Charity, Society, and the State in Imperial Russia. Princeton, 1996. P. 220.
(обратно)462
Письмо от 30 августа 1901 г. в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 21. Л. 19.
(обратно)463
Ключевский В. О. Церковь и Россия: три лекции. Paris, 1969. С. 64–65.
(обратно)464
Письмо от 18 февраля 1904 г. в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 41. Л. 19–20.
(обратно)465
Письмо от 27 февраля 1905 г. Там же. Д. 41. Л. 21.
(обратно)466
Там же. Д. 21. Л. 110. Николай II получал так много подарков, что в конце концов решил запретить людям дарить ему что-либо дорогое. См.: О прекращении ценных подношений Их Императорским Величествам и замене таковых пожертвованиями на благотворительные и всякие другие общественные учреждения // Санкт-Петербургский духовный вестник. 23 мая 1897. №. 21. С. 73.
(обратно)467
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 26. Л. 10. Возможная неуклюжесть подобных пассажей не укрылась от окружающих. Комментируя аналогичный пассаж, Лесков писал, что невозможно было вообразить что-то более пошлое. См.: Российский государственный архив литературы и искусства (в дальнейшем РГАЛИ). Ф. 275. Оп. 1. Д. 830. Л. 15.
(обратно)468
Не следует путать духовное значение слова прелесть (заблуждение, самообман) с более традиционным его употреблением (очарование, привлекательность). См.: Полный церковно-славянский словарь / Сост. Г. Дьяченко. В 2 т. М., 1899. Т. 1.С. 486.
(обратно)469
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 26. Л. 50.
(обратно)470
Данная точка зрения неоднократно доказывалась православными священниками и монахинями. См.: The Art of Prayer: An Orthodox Anthology / Igumen of Valamo Chariton, comp. L., 1973. P. 111–112, 116, 132–137, 261–263.
(обратно)471
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 132 об.
(обратно)472
Там же. Д. 24. Л. 88 об.
(обратно)473
Там же. Д. 24. Л. 109 об.
(обратно)474
См.: Ware Т. The Orthodox Church. N.Y., 1986. P. 283–286.
(обратно)475
Об ускорении темпа причастия см.: ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 24. Л. 93 об.–94; Д. 26. Л.18.
(обратно)476
Письмо датировано 28 августа 1900 г. в ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 126, ч. II. Л. 66.
(обратно)477
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 26. Л. 7 об., 52 об.
(обратно)478
Там же. Д. 26. Л. 12.
(обратно)479
Там же. Л. 55–55 об.
(обратно)480
Там же. Л. 26. О. Иоанн разделял православное убеждение, что согрешить вскоре после приобщения Божественных тайн — значит подвергнуть таинство профанации. См.: Молитвослов. Киев, 1881. С. 174–175.
(обратно)481
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 144 об.
(обратно)482
См. описание подобной встречи в кн.: В. М. Два дня в Кронштадте. С. 195–197.
(обратно)483
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 146 об.
(обратно)484
Там же. Д. 23. Л. 155.
(обратно)485
Там же. Д. 26. Л. 9. Об отношении к телесному наказанию см.: Жбанков Д. Н. Телесные наказания в России в настоящее время. М., 1899.
(обратно)486
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 68 об.
(обратно)487
Там же. Д. 14. Л. 23.
(обратно)488
Там же. Д. 26. Л. 9 (1892).
(обратно)489
Там же. Л. 50 (1893).
(обратно)490
Там же. Д. 24. Л. 126.
(обратно)491
Цит. по кн.: В. М. Два дня в Кронштадте. С. 209–210. Предыдущая поездка в Киев прошла намного более гладко. См.: С-кий И.А. Отец Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский и его пребывание в Киеве. Киев, 1893. С. 24–26.
(обратно)492
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. С. 67.
(обратно)493
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 26. Л. 19.
(обратно)494
См., например: ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 14. Л. 16 об., 19 об.
(обратно)495
Там же. Д. 23. Л. 126 об. Ссылка на: Иеремия 5:27–28.
(обратно)496
Там же. Д. 24. Л. 54; Д. 26. Л. 9.
(обратно)497
Там же. Л. 92 об. Жены священников, как правило, посещали церковь реже своих мужей и детей. Что же до Елизаветы Константиновны, то редкость ее посещений храма была заметна даже на фоне других матушек.
(обратно)498
Шемякина Р. Г. Светлой памяти почившей супруги о. Иоанна Кронштадтского Елизаветы Константиновны Сергиевой. Кронштадт, 1909. С. 3—12.
(обратно)499
Новое Время. 1883. 20 декабря. № 2807. С. 3.
(обратно)500
Орлов В. Три духовных хора. М., 1896. См.: В. М. [Евдоким (Мещерский), архиепископ]. Два дня в Кронштадте, из дневника студента. Сергиев Посад, 1902. С. 163.
(обратно)501
«Сон Богородицы» и «Хождение Богородицы» рассматриваются в кн.: Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 21–23, 49–57.
(обратно)502
О борьбе с суевериями см.: Петрушевский Н. Г. О религиозно-назидательном чтении для простого народа // Руководство для сельских пастырей. 1883. № 30. С. 326–334.
(обратно)503
Письмо от 1890 г. Цит. по: В. М. Два дня в Кронштадте. С. 451.
(обратно)504
Там же. С. 450–451.
(обратно)505
См.: Levin Е. Supplicatory Prayers as a Source for Popular Religious Culture in Muscovite Russia // Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine / Ed. by Baron S. H. and Kollmann N. S. De Kalb, 1997. P. 96—114. Требование передавать молитву другим напоминает о культе Святого Иуды в современной римско-католической традиции. См.: Orsi R. A. Thank You, Saint Jude: Women’s Devotion to the Patron Saint of Hopeless Causes. New Haven, 1996. P. 103.
(обратно)506
B.M. Два дня в Кронштадте. C. 450.
(обратно)507
См. Главу 7, о полицейском досье в ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. Д. 154 (I). Л. 18–50.
(обратно)508
В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 458–459.
(обратно)509
См., например: Mukhin V. The Church Culture of Saint Petersburg. СПб., 1994. С. 134, 149. Об убранстве икон см.: Стерлигова И. А. О литургическом смысле драгоценного убора древнерусской иконы // Восточнохристианский храм: литургия и искусство / Ред. A. M. Лидов. СПб., 1994. С. 220–229.
(обратно)510
Описание существовавшей у о. Иоанна коллекции облачений и других дарованных одеяний и украшений см.: В.М. Два дня в Кронштадте. С. 160–163.
(обратно)511
О дарах по обету см.: Wilson St. Cults of Saints in the Churches of Central Paris // Wilson St. Saints and Their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore, and History. Cambridge, 1987. P. 239–257; см. также в кн.: Панченко A. A. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни северо-запада России. СПб., 1998. С. 94–95, 155.
(обратно)512
Об Арсе и Ля Салетт см.: Boutry Ph., Cinquin М. Deux Pélérinages au XIXe Siècle, Ars et Paray-le-Monial. Bibliothèque Beauchesne, 8. Paris, 1980; о Лурде — Pope B. C. Immaculate and Powerful: The Marian Revival in the Nineteenth Century // Immaculate and Powerful: The Female Sacred Image and Social Reality / Ed. by Atkinson C. W. et al. Boston, 1985. P. 55–79.
(обратно)513
См. письмо владельца постоялого двора с жалобой, что одна женщина, Евдокия Леонтьевна, подкупала кучеров вином, чтобы те отвозили паломников в ее заведение независимо от того, какой адрес им называли (ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 26. Л.15). Дополнительные детали см. в мемуарах священника В. Ильинского в сб.: Святой Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников / Ред. С. Л. Фирсов. М., 1994. С. 104; Серебров А. Время и люди: воспоминания, 1898–1905. М., 1960. С. 37–38; Е.К. Воспоминания об отце Иоанне. СПб., 1909. С. 4.
(обратно)514
Сатиру на эти «ажидации» находим в кн.: Лесков Н. С. Полунощники // Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 11 т. М., 1958. Т. 9. С. 117–128.
(обратно)515
О конфликтах между владельцами гостиниц и паломниками см.: Е.К. Воспоминания. С. 11, 17.
(обратно)516
Плотица А. М. О. Иоанн Кронштадтский: Его мнение об иноверцах и иностранцах (из дневника врача). М., 1915. С. 7, 11–14, 22–23.
(обратно)517
О письмах к Перцовой и о ней см.: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 26. Л. 11, 13, 78 и др.; а также комментарии: Салтыков K. M. М. Е. Салтыков (Щедрин) и о. Иоанн Кронштадтский // Святой Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников. С. 151. Перцову также обвиняли в подделке завещания о. Иоанна. См.: РГИА. Ф. 799. Оп. 6. Д. 30. Л. 2–5; а также: Витович А. Я. Записки судебного пристава по охранительной описи имущества о. Иоанна Кронштадтского // Голос минувшего. 1915. № 5. С. 159–183.
(обратно)518
Письмо от Маргариты Янновмаевой в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 26. Л. 12.
(обратно)519
Воспоминания Марии Макеевой в: РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Ед. хр. 1668. Л. 9, 12. Возможно, здесь имела место и ревность: епископ Арсений вступается за Перцову в «Воспоминаниях». С. 164–165.
(обратно)520
См. письмо без даты от Евдокии, которая сравнивает себя с Иудой из-за того, что совершила грех растраты пожертвований, предназначенных для о. Иоанна несмотря на то что, по ее словам, она поступила так потому, что без денег не выжила бы. ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 26. Л. 21. О планировке Дома см.: Рожалин Г. Воспоминания о поездке в Кронштадт 26 мая 1906 года // Святой Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников. С. 76–79.
(обратно)521
Письмо без даты в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 40. Л. 20.
(обратно)522
Плотица А. М. О. Иоанн Кронштадтский. С. 24.
(обратно)523
См. рассуждения Лескова: РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 830. Л. 15, а также: Е.К. Воспоминания. С. 33.
(обратно)524
По поводу описания и репродукций открыток см.: В.М. Два дня в Кронштадте. С. 75–81; Большаков Н. Я. Источник живой воды. Описание жизни и деятельности отца Иоанна Кронштадтского. С. 173; Иоанн Кронштадтский / Сост. В. А. Десятников. М., 1992, центральная вкладка.
(обратно)525
Проблема рассматривалась с самых различных точек зрения. См.: Nichols R.L. The Icon and the Machine in Russia’s Religious Renaissance, 1900–1909 // Christianity and the Arts in Russia / Ed. by Brumfield W. C., Velimirovich M. M. N.Y., 1991. P. 131–144; Mal’tseva A.A. The Russian Icon of Late XVIII–XIX cc. СПб., 1994. С. 7–8.
(обратно)526
О. Иоанн страстно жаждал подобных знаков признания, хотя и корил себя за это желание. См.: РГИА. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 94; Д. 8. Л. 63 об. Для сопоставления с Западом см.: van Duren Р. В. Orders of Knighthood and of Merit: The Pontifical, Religious, and Secularised Catholic-founded Orders and their relationship to the Apostolic See. N.Y., 1995. Примеры открыток этого периода см. в кн.: В.М. Два дня в Кронштадте. С. 108, 142, 370, а также: Иоанн Кронштадтский. М., 1992 (непронумерованный раздел фоторепродукций).
(обратно)527
См:.Didron М. Manuel d’Iconographie Chrétienne Grecque et Latine. Paris, 1845. P. 455–456; Икона / Сост. A. C. Кравченко. М., 1993. С. 73–78.
(обратно)528
Фотография с обложки кн.: Amalrik A. Raspoutine. Paris, 1982.
(обратно)529
См. фотографии о. Иоанна на кораблях «Любезный» и «Отважный» в кн.: В.М. Два дня в Кронштадте. С. 207, 213.
(обратно)530
Там же. С. 403, 434.
(обратно)531
О решении Синода см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 176. Ед. хр. 3498. Л. 1. Об эмалях см.: Mukhin V. Church Culture. C. 106, 108–109.
(обратно)532
Замечено у Порфирии Киселевой Александром Серебровым в кн.: Серебров А. Время и люди. С. 39.
(обратно)533
См. уничижительные комментарии Лескова об этой практике в кн.: Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1962. С. 245.
(обратно)534
Об упорядочении производства и продажи икон и прочих священных изображений // Санкт-Петербургский духовный вестник. 24 октября 1897 г. № 43. С. 844.
(обратно)535
По этому поводу см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 176. Ед. хр. 3107. Л. 1–3.
(обратно)536
Одно из первых подобных происшествий случилось в 1895 г. См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Ед. хр. 2017, 2-й ст., 3-е отд. Л. 1–4.
(обратно)537
О том, как пресса трактовала религию в 1881–1895 гг., см.: Балуев Б. П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журналистика. М., 1971. С. 172.
(обратно)538
Рерих Н. «Не болей!» Листы дневника // Иоанн Кронштадтский. М., 1992. С. 363.
(обратно)539
Лисовой Н. Воля к спасению // Иоанн Кронштадтский. М., 1992. С. 378–379, курсив мой.
(обратно)540
Меншиков М. О. Памяти святого пастыря // Иоанн Кронштадтский. М., 1992. С. 360–361. Сам Меншиков был недавно «реабилитирован» в России. См. предисловие М. Б. Поспелова в кн.: Меншиков М. О. Из писем к ближним. М., 1991. С. 3–14.
(обратно)541
Розанов В. Русское сектантство, как три колорита русской церковности // Новое время. 1905. № 10594 (30 августа — 12 сентября). С. 4.
(обратно)542
Падение некогда великого аскета — явление, часто описываемое в житиях святых, но особенно примечательно в этом смысле житие «Стефаны, который впал в грязное распутство» в кн.: The Paradise or Garden of the Holy Fathers. L., 1907; repr. Seattle, 1984. P. 260–262. Мораль проста: «Итак, то, что случилось со Стефаной, произошло потому, что он откололся от своего братства, а также потому, что он [чрезмерно] возгордился духом, и потому, что он вообразил себя совершенством».
(обратно)543
Rossabi M. J. Peasants, Peddlers, and Popular Prints in Nineteenth-Century Russia // Bulletin of Research in the Humanities. 1986–1987. Vol. 87, № 4. P. 418–430.
(обратно)544
Cm.: Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1985. P. 306–311.
(обратно)545
Ученые той поры видели здесь проблемы типологии и заимствований. См. в кн.: Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы. Жития святых. Варшава, 1902. C. VII–IX, 327–373.
(обратно)546
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский: В 2 т. Belgrade, 1938–1941; reprt. Forestville, 1979–1980. T. 1. C. 249–251. Данный аргумент перекликается с тезисом Голубинского в его «Истории канонизации святых в русской церкви» (М., 1903).
(обратно)547
Житие святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца // Журнал Московской Патриархии. 1990. № 10. С. 58–71; Жизнеописания достопамятных людей земли русской X–XX вв. М., 1992. С. 285–295.
(обратно)548
[Аверкий, арх., сост.]. Житие святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского чудотворца, ко дню прославления 19 октября 1964 года. Jordanville, N.Y., 1964.
(обратно)549
Святой Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников. С. 8.
(обратно)550
Меншиков М. О. // Иоанн Кронштадтский. С. 359; Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 83 и далее.
(обратно)551
Аверкий, архиепископ. Житие. С. 7.
(обратно)552
Об этих образах см.: Большаков Н. Я. Источник живой воды. С. 45, 47, 48; В.М. Два дня в Кронштадте. С. 77–80, 250.
(обратно)553
О расцвете жанра путевых заметок в середине XIX в. см.: Durkin А. А Guide to Guides: Writing About Birds in 19th century Russia; Ely C. D. The Origins of Russian Scenery: Volga River Tourism and Russian Landscape Aesthetics — неопубликованные работы, представленные на конференции Американской ассоциации славянских исследований (AAASS) 16 ноября 1996 г.
(обратно)554
Михаил (Семенов), иером. Отец Иоанн Кронштадтский: Полная биография с иллюстрациями. СПб., 1903. С. 227, 255, 257. Анализ тем открыток см. в кн.: Гейдор Т. Н. и др. Русский город на почтовой открытке конца XIX — начала XX века. М., 1997. С. 6—30.
(обратно)555
См. аргументацию Отто Беле в кн.: Boele О. The North in Russian Romantic Literature. Amsterdam-Atlanta, 1996. Однако более ранние жития северорусских и сибирских святых также зачастую содержат описания природы.
(обратно)556
Семенов-Тян-Шанский А. Отец Иоанн Кронштадтский. Нью-Йорк. С. 4–5.
(обратно)557
Животовский С. В. На север с отцом Иоанном Кронштадтским. СПб., 1903; 2-е изд., с новым предисловием митрополита Антония [Храповицкого]. Нью-Йорк, 1956. С. 71.
(обратно)558
Зайцев Б. Иоанн Кронштадтский // Иоанн Кронштадтский. С. 353.
(обратно)559
Сергиев И. И. Моя жизнь во Христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге. Извлечения из дневника: В 2 т. М., 1894. Т. 2. С. 43.
(обратно)560
Daniel-Pops H. Ces Chretiens, Nos Frères. Paris, 1965. P. 486–487; Stark D. A. Le Père Jean de Cronstadt, archipretre de I’Eglise russe, son ascetisme, sa morale. «Ma vie en Jesus-Christ». Paris, 1902–1903.
(обратно)561
Михаил. Отец Иоанн Кронштадтский. C. 4—16; Alexander, bishop. Father John of Kronshtadt: A Life. Crestwood, N.Y., 1979. P. 4–5.
(обратно)562
См. рассмотрение темы у Г. П. Федотова, в кн.: Федотов Г. Трагедия древнерусской святости. Путь // Империя и свобода. Нью-Йорк, 1989. С. 113. См. также изображения близкого душевного контакта Сергия с птицами, медведями и т. д. в литографиях Михаила Гадалова в кн.: Преподобный Сергий Радонежский в русском искусстве XV–XIX веков. Каталог. Выставка из коллекции хранилища Государственного музея истории и искусства в Сергиевом Посаде. М., 1992. Илл. № 68, 69–70, 77.
(обратно)563
См.: Шмелев И. Лето Господне: Праздники, Радости, Скорби. Нью-Йорк, б.г. С. 100–110; Громыко М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 345–360.
(обратно)564
Руководства к проповедям содержат почти исключительно примеры из архиерейских проповедей. См.: Образцы Русской Церковной Проповеди XIX века / Сост. М. А. Поторжинский. Киев, 1912.
(обратно)565
Семенов-Тян-Шанский А. Отец Иоанн Кронштадтский. С. 3.
(обратно)566
Княгницкий Я. Поездка в Кронштадт // Исторический вестник. 1900. Кн. 80, № 5. С. 642–643, курсив мой.
(обратно)567
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 39.
(обратно)568
Примеры данной модели находим в кн.: Животов H. H. Пьяницы у о. Иоанна Кронштадтского. М., 1895. С. 8 и далее.
(обратно)569
В тогдашнем справочнике для туристов Бедекера «Donon» и «Pivato» оцениваются как рестораны первого класса: «очень хорошие, но довольно дорогие». См.: Baedeker К. La Russie, manuel du voyageur. Leipzig, 1893. P. 86.
(обратно)570
B.M. Два дня в Кронштадте. C. 10, курсив мой.
(обратно)571
Ср.: Парменов А. Прославление праведного Иоанна // Журнал Московской Патриархии. 1990. № 10. С. 9.
(обратно)572
В.М. Два дня в Кронштадте. С. 111.
(обратно)573
Там же. С. 112–113.
(обратно)574
См. в особенности: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 2. С. 30—359; Большаков Н. Я. Источник живой воды. С. 350–416.
(обратно)575
В.М. Два дня в Кронштадте. С. 292.
(обратно)576
Биография о. Иоанна Кронштадтского. СПб., 1895. С. 63–65.
(обратно)577
В.М. Два дня в Кронштадте. С. 123.
(обратно)578
Животов H. H. Пьяницы. С. 29.
(обратно)579
Животовский С. В. На север. С. 70.
(обратно)580
Alexander, bishop. Father John. C. 3.
(обратно)581
Животовский C. B. На север. С. 71.
(обратно)582
В. М. Два дня в Кронштадте. С. 12–15, 19, 441.
(обратно)583
Лисовой Н. Воля к спасению // Иоанн Кронштадтский. С. 367.
(обратно)584
См., например, жития Феодосия и Сергия в кн.: Zenkovsky S. Medieval Russian Epics, Chronicles, and Tales. N.Y., 1974. P. 116–134, 262–290.
(обратно)585
Это особенно четко проявляется в кн.: Константин [Зайцев], игумен. Духовный облик прот. о. Иоанна Кронштадтского. Jordanville, N.Y, 1952. С. 42–43. Рассмотрение различных моделей членства в духовном сословии в XIX в. см.: Manchester A. Secular Ascetics: Russian Orthodox Clergymen’s Sons in Secular Society, 1861–1917 (Ph. D. diss., Columbia University, 1995). P. 422–428; Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983. P. 144–145.
(обратно)586
Momigliano A. The Life of Saint Macrina by Gregory of Nyssa // On Pagans, Jews, and Christians. Hanover, 1987. P. 206–211.
(обратно)587
Михаил. Отец Иоанн Кронштадтский. C. 4—10.
(обратно)588
Константин. Духовный облик. С. 43.
(обратно)589
См. например: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 23.
(обратно)590
Там же. С. 22; Большаков Н. Я. Источник живой воды. С. 34; Alexander, bishop. Father John. P. 7–8.
(обратно)591
Более полное рассмотрение русской агиографии см. в кн.: Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. С. I–IX, 327–373.
(обратно)592
Zenkovsky S. Medieval Russian Epics. P. 391–399.
(обратно)593
Василий Розанов внес большой вклад в исследование этой темы. См. пылкие дебаты между интеллигенцией и служителями церкви в кн.: Записки Петербургских Религиозно-Философских собраний (1902–1903 гг.). СПб., 1906. С. 50–56, 295–362.
(обратно)594
Об отрицании сектантами физических отношений см. главу 6; о взглядах Соловьева см.: Соловьев B. C. Смысл любви // Смысл любви: Избранные произведения. М., 1991. С. 125–182.
(обратно)595
См.: Elliott D. Spiritual Marriage: Sexual Abstinence in Medieval Wedlock. Princeton, 1993. P. 3—93. См. также: Vauchez A. The Laity in the Middle Ages: Religious Beliefs and Devotional Practices. Notre Dame, L., 1993. P. 185–190, 191–203.
(обратно)596
См., например: Суратов П. Святый праведный Отец Иоанн, Кронштадтский Чудотворец. Petit Clamait (Seine), 1965. C. 3; Пантелеймон, архимандрит. Жизнь, подвиги, чудеса и пророчества святого праведного отца нашего Иоанна, Кронштадтского Чудотворца. Jordanville, N.Y., 1976. С. 5; а также официальное житие, составленное для канонизации в 1964 г.: Житие святого праведного отца нашего Иоанна, Кронштадтского Чудотворца. Jordanville, N.Y., 1964. С. 7.
(обратно)597
Отсылку к Апокалипсису (Откровению Иоанна Богослова) 14:3–4 находим в кн.: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 23–24.
(обратно)598
Семенов-Тян-Шянский А. Отец Иоанн Кронштадтский. С. 13; Соллогуб A. A. Отец Иоанн Кронштадтский. Жизнь, деятельность, избранные чудеса. Jordanville, N.Y., 1951. С. 5.
(обратно)599
Соллогуб A. A. Отец Иоанн Кронштадтский. С. 5.
(обратно)600
См.: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 12. Л. 68, 70 об.; Д. 14. Л. 62 об., 67; Д. 23. Л. 15 об.
(обратно)601
Различные оценки этого происшествия представлены в кн.: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. T. I. С. 87–88; Большаков Н. Я. Источник живой воды. С. 400–403.
(обратно)602
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 2. С. 356.
(обратно)603
Информационный Бюллетень фонда им. о. Иоанна Кронштадтского. 1963. № 10. С. 43.
(обратно)604
Ссылка на Деяния 13:9—11 в кн.: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 88; статьи из «Странника» за 1866 г. перепечатаны в кн.: Рассказы сельских священников о дивных явлениях милости Божией и грозных судьбах Его. М.; Рига, 1996. С. 56–64, 92–96.
(обратно)605
Редкий пример — фотографии (одна из них групповая) в кн.: Шелаева E., Процай Л. Русь Православная. СПб.; М., 1993. С. 203, 205.
(обратно)606
Слово прот. о. Александра Попова в память Е. К. Сергиевой // Пятидесятилетие. С. 59–60. По поводу жития 1990 г. см.: Парменов А. Прославление праведного Иоанна. С. 64.
(обратно)607
См.: Kleinberg A. M. Prophets in Their Own Country: Living Saints and the Making of Sainthood in the Later Middle Ages. Chicago, 1992. P. 20, 40–70.
(обратно)608
О защите икон на Никейском соборе см.: Ware Т. The Orthodox Church. N.Y., 1986. P. 40–43.
(обратно)609
Цит. в кн.: Константин. Духовный облик. С. 60; курсив мой.
(обратно)610
Там же. С. 93.
(обратно)611
См.: Tolstoy L. The Gospel According to Tolstoy / Ed. and transl. by Patterson D. Tuscaloosa and London, 1992.
(обратно)612
Письмо от 27 декабря 1901 г. в кн.: Сергиев И. Письма о. прот. Иоанна. С. 48.
(обратно)613
Отец Иоанн ссылался на св. Серафима в нескольких ранних дневниках. См., например: ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1.Д.5.Л. 11. О популярности Серафима см. в кн.: Nichols R. The Friends of God: Nicholas II and Alexandra at the Canonization of Serafim of Sarov July 1903 // Religious and Secular Forces in Late Tsarist Russia: Essays in Honor of Donald W. Treadgold / Ed. by Timberlake Ch. E. Seattle, L., 1992. P. 206–229; Сапунов Б. В. Некоторые сюжеты русской иконописи и их трактовка в пореформенное время // Культура и искусство России XIX века: новые материалы и исследования: Сб. статей. Л., 1985. С. 147; Freeze G. L. Subversive Piety: Religion and the Political Crisis in Late Imperial Russia // Journal of Modem History. 1996. Vol. 68 (June). P. 314–329.
(обратно)614
Никанор. Слово об о. Иоанне Кронштадтском // Известия по Казанской Епархии. 8 марта 1909 г. № 10. С. 294.
(обратно)615
Большаков Н. Я. Источник живой воды. С.148–155; Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 26–27; Константин. Духовный облик. С. 26; Alexander, bishop. Father John. P. 170.
(обратно)616
См., например: ГАРФ: Ф. 1067. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об.
(обратно)617
Freeze G. L. Subversive Piety. P. 312–329.
(обратно)618
Рубакин H. A. Среди тайн и чудес. М., 1965. С. 203.
(обратно)619
Цит. по: Alexander, bishop. Father John. C. 6.
(обратно)620
В России школьники начинали ежедневные занятия с «Молитвы перед обучением», в которой выражалась надежда, что ученик будет хорошо учиться «родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу» (Славянский или Церковный букварь, 28-е изд. [Киев, 1908], с. 44). Использование о. Иоанном обоих клише показывает, до какой степени он впитал в себя многие устойчивые выражения, употребляемые Православной церковью, как, например, «свет разума» из рождественского тропаря.
(обратно)621
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 21–22.
(обратно)622
Meehan В. Holy Women of Russia: The Lives of Five Orthodox Women Offer Spiritual Guidance for Today. Crestwood, N.Y., 1997. P. 4.
(обратно)623
См. отношение Лескова к такому типу мышления: Лесков Н. С. Однодум // Лесков Н. С. Собр. соч. Т. 6. С. 213. О взгляде Сергия см.: Zenkovsky S. Medieval Russia’s Epics. P. 264–265.
(обратно)624
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский Т. 1. С. 20; Thaisia, abbess. Abbess Thaisia of Leushino: The Autobiography of a Spiritual Daughter of St. John of Kronstadt. Platina, Calif., 1989. P. 38–42.
(обратно)625
Более ранние жития действительно содержат подобные видения. Из наиболее значительных работ см.: The Venerable Sergius of Radonezh in Works of Russian Art 15th—19th Centuries. М., 1992, кат. № 82.
(обратно)626
Сапунов Б. В. Некоторые сюжеты. С. 148–149.
(обратно)627
См.: Deutsche Romantiker: Bildthemen der Zeit van 1800 bis 1850 / Christoph Heilmann, ed. Catalogue, exhibition at Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, June 14 — September 1, 1985. Munich, 1985. C. 141, 165, 207.
(обратно)628
См. о подобных историях, в особенности версиях, связанных с Рождеством, в кн.: Baran Н. Religious Holiday Literature and Russian Modernism // Christianity and the Eastern Slavs / Ed. by Hughes R. P., Papemo I. Vol. 2. Russian Culture in Modem Times. Berkeley and Los Angeles, 1994. P. 201–244.
(обратно)629
Впервые о. Иоанну было видение Богородицы во сне 15 августа 1898 г., на праздник Успения. См.: Пантелеймон, архимандрит. Жизнь, подвиги, чудеса и пророчества… С. 57.
(обратно)630
Alexander, bishop. Father John. P. 7; Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. T. 1. C. 21–22.
(обратно)631
Помазанский М., прот. Очерк православного миросозерцания о. Иоанна Кронштадтского // Пятидесятилетие. С. 68–70.
(обратно)632
Михаил. Отец Иоанн Кронштадтский. С. 26; Большаков Н. Я. Источник живой воды. С. 38–40; Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский Т. 1. С. 22; Alexander. Father John. P. 8.
(обратно)633
См.: Смирнов H. A. Миссионерская деятельность церкви (вторая половина XIX в. — 1917 г.) // Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 438–462.
(обратно)634
См.: Garrett P. D. St. Innocent: Apostle to America. Crestwood, N.Y, 1979.
(обратно)635
См.: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский Т. 1. С. 22.
(обратно)636
Ср. его автобиографию в кн.: В. М. Два дня в Кронштадте. С. 384–385.
(обратно)637
Константин. Духовный облик. С. 44.
(обратно)638
Повесть была впервые опубликована: Лесков Н. С. Полуношники; пейзаж и жанр // Вестник Европы. 1891. № 11–12. С. 92—137, 537–576.
(обратно)639
РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 830. Л. 3. Детальный анализ отношения Лескова к о. Иоанну см. в кн.: McLean Н. Leskov and Ioann of Kronstadt: On the Origins of Polunoshchniki // American Slavic and East European Review. 1953. Vol. 12, № 1 (February). P. 93–108.
(обратно)640
Лесков Н. С. Полуношники. С. 189–197.
(обратно)641
Письмо к Хилкову, см.: РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 830. Л. 1, 11.
(обратно)642
Толстой Л. Н. Переписка. С. 296–297.
(обратно)643
Там же.
(обратно)644
Письмо от 6 декабря 1890 г. Там же. С. 225.
(обратно)645
Письмо от 1 августа 1890 г. Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. М., 1953. Т. 65. С. 135.
(обратно)646
Об этом явлении см.: Brown P. The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity // Journal of Roman Studies. 1971. № 61. C. 80—101.
(обратно)647
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 14. Л. 40 об.
(обратно)648
Там же. Д. 12. Л. 68; Д. 26. Л. 29.
(обратно)649
Константин. Духовный облик. С. 25.
(обратно)650
См. комментарии Грегори Фриза в его предисловии к кн.: Belliustin I. S. Description of the Clergy: The Memoir of a Nineteenth-Century Parish Priest. Ithaca, N.Y., 1985. P. 13–62. Протопоп Аввакум — еще одна харизматическая, но деструктивная модель.
(обратно)651
Никон. Духовный облик. С. 51.
(обратно)652
РГИА. Ф. 1082. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 144; Святитель и Чудотворец Архиепископ Черниговский Феодосий Углицкий. СПб., 1897. С. 197–256.
(обратно)653
Богословский Вестник. 1908. № 2. С. 22.
(обратно)654
РГИА. Ф. 777 (Цензурный комитет Министерства внутренних дел). Оп. 5. Ед. хр. 7. Л. 3, 23; Оп. 4. Ед. хр. 36. Л. 13. Не стоит это воспринимать слишком остро: некоторые издания запрещались только из-за типографских опечаток. Даже портреты императора изымались из тиража, если обнаруживался малейший брак.
(обратно)655
См. ответ Саввы от 29 июня 1891 г. настоятельнице Благовещенского монастыря в Бетецке, которая просила его благословения на поездку к о. Иоанну. РГБ, Отдел рукописей. Ф. 262. Оп. 14. Д. 2. Л. 104–105. О. Иоанн принял этот комментарий близко к сердцу: во время поездки в Виндаву в 1900 г. он сказал местному священнику, что охотно причастил бы всех его прихожан, но не может исповедовать всех, поскольку они «принадлежат» этому священнику. Воспоминания генерал-лейтенанта Д. А. Озерова // Святой Иоанн Кронштадтский. С. 52.
(обратно)656
О. Иоанн утверждал, что вопрос, связанный с ипостасью Святой Троицы, — результат обыкновенной опечатки. См.: ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 26. Л. 41 об.
(обратно)657
См., например: Об отце прот. Иоанне Ильиче Сергиеве Кронштадтском по личным воспоминаниям // Курские епархиальные ведомости. 1910 г. № 50. С. 549. Batts R., Marchenko V. Духовник царской семьи, святитель Феофан Полтавский (1874–1940). Platina, Calif., М., 1994. Р. 19.
(обратно)658
Никон. Духовный облик. С. 52.
(обратно)659
Цит. в кн.: Константин. Духовный облик. С. 26. Несмотря на то что оригинал этого письма не сохранился, о. Иоанн ссылается в своих дневниках на постоянную критику со стороны Феофана и свое ответное неприятие епископа. См.: ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 26. Л. 53, где он отзывается о епископе Феофане как о человеке недобром и завистливом.
(обратно)660
Различные версии их разговора даны в кн.: Левитин-Краснов А. Народные святые в России, Отец Иоанн Кронштадтский // Cahiers du Monde russe et sovietique. 1988. T. 29, № 3–4. P. 455–470; Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 114; Михаил, иером. Отец Иоанн Кронштадтский. Однако по сути дела корни возражений Победоносцева кроются в публикации известного письма в «Новом времени», и он вскоре осознал, что его подозрения в адрес о. Иоанна необоснованны. См. его письма: О. Иоанн Кронштадтский и К. П. Победоносцев (1883) / Публикация Полунова А. Ю. // Река Времен. 1996. № 2. С. 88, 91.
(обратно)661
Carty Ch. М. Padre Pio the Stigmatist, 15th ed. St. Paul, Minn., 1955. P. 14.
(обратно)662
Stanley A. Saint or No, an Old-Time Monk Mesmerizes Italy // New York Times. 1998. 24.09. A4.
(обратно)663
О церковных представлениях о городском и сельском благочестии см. в кн.: Freeze G. L. «Going to the Intelligentsia»: The Church and Its Urban Mission in Post-Reform Russia // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. Princeton, 1991. P. 215–232. Схожий аргумент был выдвинут в кн.: Емелях Л. И. Антиклерикальное движение крестьян в период первой русской революции. Л., 1965.
(обратно)664
Подобные явления использовались как славянофилами, так и впоследствии неославянофилами в качестве доказательства, что православные миряне больше сохранили органическую роль, которую православие играло в раннем христианстве и патристике. Алексей Хомяков, например, радостно приветствовал Энциклику Восточных Патриархов в 1848 г., в которой было провозглашено, что и нерушимость догмы, и чистота литургии в руках не только иерархов, но и всего воцерковленного народа, который вместе составил Тело Христово. См.: Every Е. Khomiakoff and the Encyclical of the Eastern Patriarchs in 1848 // Соборность. Серия 3. 1948. № 3. C. 102–104.
(обратно)665
Свидетельства мирян о заступничестве за них о. Иоанна в большом количестве опубликованы в кн.: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 2; Пятидесятилетие преставления приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. Нью-Йорк, 1958.
(обратно)666
Weber М. The Sociology of Religion. Boston, 1964. P. 47.
(обратно)667
Cm.: Gutierrez G. A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation. Mary knoll, N.Y., 1973.
(обратно)668
Особенно четкие формулировки см. в кн.: Пустошкин В. Ф. Церковь Христова в опасности. Отповедь Преосв. епископу Филарету, главе Вятской епархии. СПб., 1908; Большаков Н. Я. Ложная защитница православия и «Черные Вороны» // Кронштадтский маяк. СПб., 1908. № 3, прил.
(обратно)669
Типичный образчик подобного подхода в кн.: Буткевич Т. И. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910. С. 156–162. Близкие к Церкви издания также последовательно проводили различие. См.: Колокол. 1909. № 1054. [16 сентября]. С. 1.
(обратно)670
См., например: Санкт-Петербургские ведомости. 1909. 20 сентября. С. 2.
(обратно)671
См., в качестве наиболее характерного примера, в кн.: Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907) / Сост. А. Нинов. Л., 1985. С. 122–125.
(обратно)672
О влиянии цензуры на религиозные издания см.: Лялина Г. С. Цензурная политика церкви в XIX — начале XX века // Русское православие: Вехи истории. М., 1989. С. 463–500.
(обратно)673
Первоисточники об иоаннитах сохранились в трех основных архивах: ГАРФ. Ф. 102 (Департамента полиции). 3-е делопр. Д. 3069; 4-е делопр. 1907. Д. 154 («Об иоаннитах»); РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206 (ранее Департамент духовных дел. Д. 155) («Иоанниты»); ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 20. Д. 344, связка 334 («Иоанниты»),
(обратно)674
Большинство подобных писем находится в ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 38 (Переписка об иоаннитах, 2 ноября 1895 г. — 16 сентября 1905 г.).
(обратно)675
Характеристику позиции Церкви см. в заявлении священника Николая Подосенова: ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 20. Д. 344, связка 334. Л. 238 об.; о заявлениях прессы см.: О существовании секты «иоаннитов» // Волжско-Камская речь. Казань. 16 октября 1907 г. С. 5.
(обратно)676
Письмо от 2 ноября 1895 г. от священника Алексия Солнцева в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 37. Л. 1; Письмо от 21 ноября 1897 г. от священника Виктора Ставрова, Астраханская губ. Там же. Д. 7 г. Л. 1.
(обратно)677
Большаков Н. Я. Правда о секте иоаннитов. СПб., 1906. С. 64.
(обратно)678
Пустошкин В. Ф. Церковь Христова. С. 16, 17. Несмотря на то что эти высказывания были опубликованы значительно позже, сходные заявления были зафиксированы при расследовании.
(обратно)679
Иоаннит Прохор Скоробогатенков, например, нередко брал просфору и потир с вином, подносил их к портрету о. Иоанна и просил, обращаясь к нему как к Богу, чтобы он превратил хлеб в Тело Христово, а вино в Кровь Христову. В конце концов, опасаясь подобного неправильного использования предметов, на которых изображен о. Иоанн, Синод в 1895 г. объявил изготовление эмалированных кружек с изображением пастыря незаконным; несмотря на это, нарушения по-прежнему имели место. О решении Синода см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 176. Ед. хр. 3498. Л. 1. Дополнительные подтверждения того, что кружки с изображением о. Иоанна использовались в ритуалах «причащения», см.: Письмо градоначальнику от священника Николая Подосенова, датированное 24 апреля 1908 г. (ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 334. Д. 20. Л. 237).
(обратно)680
Нехватка средств выдвигалась некоторыми иоаннитами в качестве аргумента в ответ на запросы полиции. См. данные расследования от 18 октября 1907 г. в: ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 20. Д. 344, связка 344. Л. 93.
(обратно)681
Об отношении между подчинением старшему и иерархам см.: Смирнов С. И. Духовный отец в древней Восточной Церкви. История духовничества на Востоке. Сергиев Посад, 1906. С. 52–64.
(обратно)682
Опубликованные антиклерикальные заявления см.: Пустошкин В. Ф. Церковь Христова. С. 19, 25; свидетельства очевидцев см.: ГАРФ. Ф. 102 (Департамент полиции). III отд. Д. 1366 (О маловишерском мещанине Петре Трофимове, стремящемся образовать секту религиозного характера в Любанской волости). Л. 5–5 об.
(обратно)683
Письмо священника Павла Васильева от 6 марта 1904 г. в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 37. Л. 6; выдержку из «Окраины» за 9 апреля 1908 г. см.: ГАРФ. Ф. 102. 4 делопр. Д. 154 (I). Л. 8.
(обратно)684
См., например, препятствия, с которыми столкнулась Анастасия Логачева, в кн.: Meehan В. Holy Women of Russia: The Lives of Five Orthodox Women Offer Spiritual Guidance for Today. Crestwood, N.Y., 1997. Особенно с. 42–50. Однако эта модель не была универсальной: Екатерину Васильевну Малкову, замужнюю мирянку, уважали за ее миссионерскую деятельность и приводили в пример супругам священников. См.: Женщина-миссионерка и миссионерский приют // Санкт-Петербургский духовный вестник. 10 октября 1897 г. № 41. С. 806–809.
(обратно)685
Упоминается в письме Елизаветы Земборской: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 37. Л. 31.
(обратно)686
См.: Новое лжеучение // Странник. 1895. Т. 36, № 3. С. 629.
(обратно)687
Именно так произошло с Кондратовым и с Иваном Пономаревым. См.: Нужное вразумление // Костромские епархиальные ведомости. 1902. № 12. С. 321–322, 549–553.
(обратно)688
Письмо от Златоустова от 3 марта 1900 г., в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 7а. Л. 1–2.
(обратно)689
Письма от священника Сергия Дремятского, 7 марта 1904 г.: Там же. Д. 37. Л. 8; и от священника Леонида Томеша. Д. 37. Л. 14.
(обратно)690
Письмо без даты. Там же. Д. 38. Л. 22.
(обратно)691
Ср. случай с крестьянкой, которая хотела открыть религиозную общину, утверждая, что о. Иоанн дал ей на это свое благословение. Российский государственный исторический архив г. Москвы (в дальнейшем РГИА г. Москвы). Ф. 203. Оп. 392. Д. 3. Л. 1, 5 об.
(обратно)692
Davis R. H. 19th-century Russian Religious-Theological Journals: Structure and Access // St. Vladimir’s Theological Quarterly. 1989. Vol. 33, № 3. P. 235–259.
(обратно)693
Пример подобной информативной статьи, написанной в ожидании отклика от других представителей духовенства, см.: Овсянников Е. Новые обожатели о. Иоанна Кронштадтского в Донской области // Православный путеводитель. 1903 (апрель). С. 489–494.
(обратно)694
О подобных аргументах см.: Clay E. J. Orthodox Missionaries and «Orthodox Heretics» in Russia, 1866–1917 // Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Russia/ Ed. by Khodarkovsky M., Geraci R. Ithaca, 2001. P. 34.
(обратно)695
Письмо от 12 марта 1895 г., в: РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Ед. хр. 2017, 2 ст. 3 отд. Л. 5–6.
(обратно)696
Письмо от 1905 г., в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 37. Л. 7.
(обратно)697
Одним из первых попросил подобных разъяснений Николай Волочучин в 1899 г. Там же. Д. 37. Л. 29–30.
(обратно)698
Об акафисте как народной форме поклонения и его строгих канонах см. мнение настоятельницы Таисии в кн.: Abbess Thaisia of Leushino: The Autobiography of a Spiritual Daughter of St. John of Kronstadt. Platina, Calif., 1989. P. 161–166. Об акафисте, сочиненном до канонизации о. Иоанна, см.: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 2. С. 332–344.
(обратно)699
См.: Зубарев Е. Иоанниты прокляты о. Иоанном Кронштадтским. 2-е изд. Кострома, 1912. С. 1–2.
(обратно)700
См.: Нужное вразумление. С. 321–322.
(обратно)701
Такое утверждение сделал прот. Борис Николаев. См.: Архив устной истории РГГУ. Ф. Псковской экспедиции, интервью от 17 июля 1989 г. Л. 2.
(обратно)702
Терлецкий В. Н. Секта «иоаннитов». Полтава, 1910. С. 14.
(обратно)703
Странное приключение // Россия. 1901. № 852 (9 сентября). С. 3.
(обратно)704
Там же.
(обратно)705
ГАРФ. Ф. 102 (Департамент полиции). Д. 1366, III отд. (О маловишерском мещанине Петре Трофимове, стремящемся образовать секту религиозного характера в Любанской волости). Л. 5–5 об.
(обратно)706
Духовные стихи как народный жанр и их восприятие рассматриваются в кн.: Федотов Г. П. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991.
(обратно)707
ГАРФ. Ф. 102 (Департамент полиции). Д. 1366, III отд. Л. 5–5 об. 6 октября 1901 г., № 1115.
(обратно)708
Справка от 15 октября 1901 г., в: ГАРФ. Ф. 102. Д. 1366, III отд. Л. 5 об.—7.
(обратно)709
Подробный анализ расследования финансовых правонарушений иоаннитов см.: Дело канцел. Санкт-Петербургского генерал-губернатора; общие распоряжения по несению полицейской службы / 9 апреля 1905 г. ЦГИА СПб. Ф. 2075. Оп. 1. Д. 15. Л. 4.
(обратно)710
Дебаты того времени о последствиях этих законов см.: Hourwich I. Religious Sects in Russia // The Case of Russia: A Composite View. N.Y., 1905. P. 341–387. См. также: Blane A. Protestant Sects in Late Imperial Russia // The Religious World of Russian Culture, Russia and Orthodoxy. Vol. 2: Essays in Honor of Georges Florovsky. The Hague/Paris, 1975. P. 267–278.
(обратно)711
Иными словами, хотя Святейший Синод формально являлся правительственным учреждением и православная вера по-прежнему оставалась официальной религией Российской империи, Синод не мог самостоятельно выдвинуть обвинение против религиозной группы, вызывавшей подозрения: сначала он должен был довести это до сведения соответствующих лиц и организаций.
(обратно)712
О специфике продажи книг из рук в руки см.: Rossabi M. J. Peasants, Peddlers, and Popular Prints in Nineteenth-century Russia // Bulletin of Research in the Humanities. 1986–1987. Vol. 87, № 4. P. 418–430.
(обратно)713
ГАРФ. Ф. 102, 3 делопр. 1069. Л. 5–5 об.
(обратно)714
См.: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 31. Л. 73.
(обратно)715
ГАРФ. Ф. 102, 3 делопр. 1069. Л. 5 об.
(обратно)716
Там же. Л. 6, 9. Объяснения о. Иоанна по поводу его отношений с Киселевой см. в кн.: Алексеев И. А. Разгром иоаннитов. СПб., 1909. С. 30.
(обратно)717
Переписка между Министерством внутренних дел (стол 3, 4) и Санкт-Петербургским генерал-губернатором, 9 апреля — 7 июня 1905 г., в: ЦГИА СПб. Ф. 2075. Оп. 1. Д. 15. Л. 4-12.
(обратно)718
Большаков Н. Я. Правда о секте иоаннитов. С. 32, 35, 44, 47.
(обратно)719
Цит. по кн.: Терлецкий В. Н. Секта «иоаннитов». С. 7.
(обратно)720
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 40. Л. 40.
(обратно)721
Терлецкий В. Н. Секта «иоаннитов». С. 7.
(обратно)722
Серебров А. Время и люди: воспоминания, 1898–1905. М., 1960. С. 39.0 том, как создавалась визуальная типология проституток, см. в кн.: Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca, 1994. P. 130–152.
(обратно)723
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 40. Л. 8.
(обратно)724
Там же. Д. 40. Л. 41; Д. 65. Л. 5 и далее.
(обратно)725
Письмо от 10 октября 1897 года от Фердинанда де Бека Александре Ивановне. Там же. Д. 37. Л. 3; 6 марта 1904 года от Павла Васильева. Там же. Д. 37. Л. 6.
(обратно)726
Письмо от Якова Далматова и И. Александрова. 27 марта 1905 г. Там же. Д. 37. Л. 35.
(обратно)727
Протонов В. В. Черные вороны. Пьеса в пяти действиях. СПб., 1908.
(обратно)728
См.: Из периодической печати. «Черные Вороны» // Богословский вестник. 1907. Декабрь. С. 866.
(обратно)729
См.: Новые мероприятия в области борьбы с нищенством в Санкт-Петербурге; Благотворительное общество для помощи приходским бедным при Владимирской церкви // Санкт-Петербургский духовный вестник. 1897. № 24. С. 459–465.
(обратно)730
Новое время. 11 марта 1908 г., в: ГАРФ. Ф. 102. Делопр. 4. Д. 154 (1). Л. 7.
(обратно)731
См., например, переписку между Павлом Ильяновым и его отцом, в: ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 20. Д. 344, св. 334. Л. 26–31 об.
(обратно)732
Например, Ал. Ив. Бряузова (5 сентября 1907 г., в: ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 20. Д. 344, св. 344. Л. 34).
(обратно)733
Циркуляр в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 37. Л. 28; Русский паломник. 1907. № 33. С. 526; ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр., 1907. Д. 154. Л. 2–3, 58, письмо от 29 сентября 1907 г. из Управления канцелярии Санкт-Петербургского градоначальника в 3-й Спасский и 4-й Петербургский округа.
(обратно)734
См., например: Санитары в иоаннитских общежитиях/трущобах. ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. Д. 154. Л. 162–163. В то время как в статье утверждалось, что было примерно «девяносто маленьких девочек», согласно данным полицейского расследования, насчитывалось тринадцать девочек в возрасте от 4 до 13 лет и семьдесят один человек всего.
(обратно)735
Петербургская газета. 17 мая 1909 г., в: ЦГИА СПб. Д. 569. Оп. 334. Ед. хр. 20. Л. 230.
(обратно)736
Там же.
(обратно)737
Иоанниты // Сегодня. Самара, 23 ноября 1907 г. С. 1.
(обратно)738
РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 7.
(обратно)739
Слово. № 31 (5 апреля 1909 г.). С. 2.
(обратно)740
Амфитеатров использовал слово «сретение», чтобы провести параллель с праздником Сретения Господнего.
(обратно)741
Стихотворная сатира. С. 122–123.
(обратно)742
См., например: Борьба с иоаннитами // Современное слово. 15 октября 1909 г. С. 3; Иоаннитская агитация // Биржевые ведомости. № 10113 (22 сентября 1907 г.). С. 1.
(обратно)743
Полицейский отчет от 18 октября 1907 г., в: ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 20. Д. 344, св. 344. Л. 92–93.
(обратно)744
Там же. Л. 153–154.
(обратно)745
Отчет от 8 ноября 1907 г. градоначальнику от пристава 2-го участка Петербургской части, в: ЦГИА СПб. Там же. Л. 168–169.
(обратно)746
25 октября 1907 г. Там же. Л.150.
(обратно)747
Отчет от 11 августа 1907 г. Пермской духовной консистории от священника Александра Меркурова, в: ЦГИА СПб. Там же. Л. 178–179.
(обратно)748
РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 1 (О закрытии приютов, открытых иоаннитами в СПб., и о возвращении взятых в приюты детей их родителям или родственникам). Поступая таким образом, они выразили пожелание, чтобы решение стало законным для всей империи.
(обратно)749
Там же. Ед. хр. 206. Л. 2–3. Градоначальник ссылался на статью 387, т. XI, часть II ПСЗ.
(обратно)750
ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 334. Д. 20. Л. 230, 376; ГАРФ. Ф. 102, 3 делопр. Д. 3069. Л. 108. О письмах к Столыпину см. в; ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 334. Д. 20. Л. 272–273, 282.
(обратно)751
Письмо Жеденова тайному советнику и сенатору С. Е. Крыжановскому. РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 15.
(обратно)752
Там же. Л. 29.
(обратно)753
Там же. Л. 50–51 об. Более длинная версия его письма появилась в приложении к «Кронштадтскому маяку» под заглавием «Ужасная месть». Там же. Л. 29–30.
(обратно)754
ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр., 1907. Д. 154. Л. 127.
(обратно)755
Там же. 3 делопр. Д. 3069. Л. 116; перепечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях», 1 октября 1909 г.
(обратно)756
Земщина. 19 сентября 1909 г.; Там же. 4 делопр. Д. 154 (I). Л. 107.
(обратно)757
Санкт-Петербургские ведомости. 20 сентября 1909 г. С. 2.
(обратно)758
Новый голос. 13 декабря 1908 г., вырезка в: ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. Д. 154 (I). Л. 65.
(обратно)759
Большаков Н. Я. Ложная защитница православия. С. 3; Протонов В. В. Черные Вороны. C. ii.
(обратно)760
Пустошкин В. Ф. Церковь Христова. С. 7.
(обратно)761
Цит. в: Русское Слово. 7 мая 1909 г. (ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. Д. 154 [I]. Л. 63).
(обратно)762
Большаков Н. Я. Ложная защитница православия. С. 2.
(обратно)763
Современные аргументы в поддержку совмещения либеральной демократии с православием см.: Voinov V. The Western Idea of Democracy Through the Prism of the Russian Religious Mind. Неопубликованный доклад, представленный на конференции AAASS, прошедшей в Олбани, Нью-Йорк, в марте 1997 г. О проповеди о. Иоанна по поводу открытия Думы (27 апреля 1906 г.) см.: Сергиев И. И. Проповеди отца Иоанна Кронштадтского о царском самодержавии. СПб., 1914. С. 12–13.
(обратно)764
Troeltsch Е. Sect-type and Church-type contrasted // Troeltsch E. The Social Teaching of the Christian Churches. Vol. 1. N.Y., 1960. P. 331–349; Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 68–69.
(обратно)765
Письмо от 23 августа 1909 г. № 5360, в: РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 5.
(обратно)766
Всероссийский миссионерский съезд. Прибавления к Церковным ведомостям. 1908. № 30. С. 1407.
(обратно)767
Там же. С. 1408.
(обратно)768
Согласно верованиям хлыстов, Бог воплотился не только один раз — в своем Сыне; Он продолжает воплощаться в некоторых людях, чтобы полнее раскрыть истину и показать народу путь к спасению. Эти избранные праведники становятся живыми Богами, к которым неприменимы обычные законы. См.: Хлысты // Брокгауз Ф. А., Эфрон А. Я. Энциклопедический словарь. СПб., 1903. Т. 73. С. 402–409.
(обратно)769
Письмо из канцелярии Синода от 15 сентября 1909 г., в: РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 54.
(обратно)770
Об этом сообщается в «Новом времени» за 12 декабря 1908 г. ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. Д. 154 (I). Л. 63.
(обратно)771
Заседание совета от 10 декабря 1908 г. Там же. Д. 154 (I). Л. 64.
(обратно)772
Русское слово. № 176. 30 июля 1908 г. С. 4. Различные версии встречи пересказывались в «Русском народе» 1 и 10 августа 1908 г, № 360, 369; а также в «Голосе Москвы» 30 июля 1908 г. См.: ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. Д. 154 (I). Л. 29, 37–38.
(обратно)773
Об этом сообщается в «Вече» 23 августа 1909 г. С. 2; ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. Д. 154 (1). Л. 96.
(обратно)774
Там же. 4 делопр. 1907. Л. 177.
(обратно)775
Иоанновское братство. Устав. РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206 (раньше Департамент духовных дел иностранных исповеданий. Д. 155). Л. 52.
(обратно)776
Письмо от 15 сентября 1909 г. из Департамента духовных дел иностранных исповеданий санкт-петербургскому градоначальнику. Там же. Ед. хр. 206. Л. 53.
(обратно)777
Они поступали так на основании раздела I, ст. 4 и 33 Закона о союзах и обществах от 4 марта 1906 г. См.: РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 110, 132, 137.
(обратно)778
Письмо от 9 октября 1909 г. из МВД градоначальнику. Там же. Ед. хр. 206. Л. 108. Об образовании общества см.: РГИА СПб. Ф. 2216. Оп. 1. Д. 1. Л. 17 об.
(обратно)779
См., например, случаи в декабре 1909 г. в Ново-Воронцовке и Херсонском уезде: РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 139, 149.
(обратно)780
См., например: Поход иоаннитов на Кавказ // Тифлисский листок. № 243. 25 октября 1909 г., в: РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 119, 152, 154, 174, 175, 226; ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр., 1907. Д. 154. Л. 121–193.
(обратно)781
Отчет херсонской полиции, № 9305, 2 октября 1909 г. ГАРФ. Ф. 102,4 делопр., 1907. Д. 154. Л. 130,135.
(обратно)782
Там же. Д. 154. Л. 161–164.
(обратно)783
Там же. Д. 154. Л. 195.
(обратно)784
Antonii (Khrapovitskii), metropolitan. Confession. P. 44–45.
(обратно)785
Телеграмма от 30 декабря 1909 г. РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 143.
(обратно)786
См. заявление, сделанное в «Колоколе» 8 апреля 1910 г. «пермским жителем». На полицейском допросе автор заявил, что баптисты, в частности, распространяли социалистические и революционные идеи (РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. хр. 206. Л. 229).
(обратно)787
Там же. Ед. хр. 206. Л. 166; курсив мой.
(обратно)788
ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. 1907. Д. 154. Л. 189.
(обратно)789
Там же. Д. 154. Л. 193; также об этом сообщается в «Речи» за 14 апреля 1912 г.
(обратно)790
Зубарев Е. Иоанниты прокляты. С. 5.
(обратно)791
О подобных движениях в России см.: Клибанов А. Я. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. — 1917 г.). М., 1965; Он же. Народная социальная утопия в России, XIX век. М., 1978.
(обратно)792
Центральным догматом славянофилов была уникальность России. Одну из самых лаконичных и емких формулировок находим в работе Ивана Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». См.: Russian Intellectual History: An Anthology / Ed. by Raeff M. N.Y., 1966. P. 175–207.
(обратно)793
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 9.
(обратно)794
Там же. Д. 23. Л. 26.
(обратно)795
Там же. Д. 23. Л. 28 об.
(обратно)796
Там же. Д. 23. Л. 27 об.
(обратно)797
Там же.
(обратно)798
Татищев С. С. Император Александр ІІ, его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1.С. 662.
(обратно)799
См.: Flier M. S. The Church of the Savior on the Blood: Projection, Rejection, Resurrection // Christianity and the Eastern Slavs / Ed. by Hughes R. P., Paperno I. Vol. 2. Russian Culture in Modem Times. Berkeley and Los Angeles, 1994. P. 25–28.
(обратно)800
Ссылка на отрывки из книги пророка Исайи (главы 8–9), которые поются на Великом Повечерии.
(обратно)801
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 28.
(обратно)802
Там же. О. Иоанн почти дословно повторил эти записи в опубликованной проповеди. См.: Сергиев И. И. Слово о вторую неделю поста, по поводу наглого и дерзкого убийства злодеями благочестивейшего Гос. Имп. Александра Николаевича. [Кронштадт], 1881. С. 6–7.
(обратно)803
ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 24. Л. 92 об.
(обратно)804
Из дневников видно, насколько его разгневал Святейший Синод (см., в частности, там же. Д. 23. Л. 31–31 об.).
(обратно)805
Георгий Федотов, например, писал: «Его [о. Иоанна] знали и любили при дворе двух последних императоров… Только другу царя могли позволить ввести такое новшество (то есть общие исповеди)». Fedotov G. P. A Treasury of Russian Spirituality. Belmont, 1975. P. 346, 349. Рене Фюлоп-Миллер утверждал, что «отца Иоанна Кронштадтского считали святым не только простые люди, но и сам старый император… В тяжелых ситуациях, когда необходимо было принять важные решения или заболевал член венценосной семьи, император Александр имел обыкновение призывать этого праведника во дворец и просить его совета и помощи» (Fülöp-Miller R. Rasputin: The Holy Devil. N.Y., 1962. P. 113). Мнение, что о. Иоанн был духовником императорской семьи и пользовался ее исключительной поддержкой, лежало в основе всех советских работ по этой теме. См., например: Никольский Н. М. История русской церкви. М.; Л., 1931. С. 462; Radzinsky Е. The Last Tsar. N.Y., 1992. P. 9, 172. Объяснение этой трактовки может крыться в позднейшем присвоении о. Иоанну почетного титула «Духовник царской семьи» — см.: Левитин-Краснов А. Народные святые в России: О. Иоанн Кронштадтский // Cahiers du monde russe et sovietique. 1988. T. 29, № 3–4. P. 466. Однако этот титул был чисто символическим. На самом деле духовниками царской семьи являлись протопресвитер Иоанн Янышев и архимандрит Феофан (Быстров) (1909–1910), протоиерей Николай Кедринский (1911–1914) и протоиерей Александр Васильев (1914–1917; убит в 1918 г.). См.: Бэттс Р., Марченко В. Духовник царской семьи, святитель Феофан Полтавский. 1874–1940. Platina, Calif.; М., 1994. С. 22; РГИА. Ф. 805. Предисл. к оп. 1. C. XIII.
(обратно)806
Захарин-Якунин И. Графиня А. Толстая. Личные впечатления и воспоминания // Вестник Европы. 1905. № 4. С. 617.
(обратно)807
Константин (Зайцев), игумен. Духовный облик прот. о. Иоанна Кронштадтского. Jordanville, N.Y., 1952. Р. 3–4; Сергеенко П. Толстой и его современники // Пятидесятилетие. С. 168–169; Два юбилея (Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский) // Четвериков С., прот. Бог в русской душе. М., 1998. С. 84–87.
(обратно)808
Вельяминов H. A. Воспоминания H. A. Вельяминова об императоре Александре III // Российский архив. Т. 5. М., 1994. С. 301, 309–310.
(обратно)809
Мнения в таких газетах, как «Le Monde Illustré», «Deluvio Barcelona», «The Christian Herald», «Le Temps» и др., см. в: РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 250 (вырезки из зарубежных газет об о. Иоанне Кронштадтском).
(обратно)810
Сергиев И., прот. Последние часы жизни Государя Императора Александра III // Церковные ведомости. 1894. С. 1656; перепечатано в кн.: Побединский Я. Последние минуты жизни Императора Александра Александровича: Письмо о. Иоанна Кронштадтского. М., 1912. С. 17.
(обратно)811
Сергиев И. Последние часы. С. 14–17.
(обратно)812
Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 178 (Алексей Сергеевич Суворин). Оп. 4818. Д. 92. Л. 2–3 об.
(обратно)813
Письмо Суворина к Жемчужникову, 21 ноября 1894 г. Там же. Л. 1
(обратно)814
См.: Сергиев И. (Кронштадтский). Слово о благотворности Царского единодержавия. СПб., 1897.
(обратно)815
Россия перед вторым пришествием: материалы к очерку русской эсхатологии / Сост. С. Фомин. М., 1993. С. 37, 39–47, 54–57, 66–67.
(обратно)816
Амвросий, иеросхимонах. Собрание писем Блаженной памяти оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. Сергиев Посад, 1908. С. 1, 21–22. Цит. в кн.: Россия перед вторым пришествием. С. 69.
(обратно)817
Антоний (Храповицкий), митрополит. Слово еп. Антония (Храповицкого) и о. Иоанна Кронштадтского по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе. Одесса, 1903. Письмо от архиепископа от 9 июня 1903 г., в: ГАРФ. Ф. 102. Д. 873, т. 4. Л. 90.
(обратно)818
Письмо от 22 мая 1903 г. Толстого к Анатолию Степановичу Буткевичу, в кн.: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1954. Т. 74. С. 129.
(обратно)819
ГАРФ. Ф. 102 (Департамент полиции). Д. 873. Т. 4 (1903). Л. 20 об.
(обратно)820
См., в частности, письмо от 16 мая 1903 г. Там же. Л. 51–54 об. Защиту отца Иоанна см.: Миссионерское обозрение. Май 1903. № 3. С. 1396.
(обратно)821
Гапон Г. А. Записки Георгия Гапона (Очерк рабочего движения в России 1900-х годов). М., 1918. С. 45–56.
(обратно)822
Письма от 3 июля 1905 г. и недатированные, в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 51 (письма от разных людей, касающиеся подавления католиками православных. Л. 3–7).
(обратно)823
См., например, письма от М. Тарасовой, 18 декабря 1902 г; Елизаветы, 24 января 1907 г.; священника Матфея Тарентуты, 3 марта 1905 г. Там же. Д. 55. Л. 2–3 об., 48–49, 75–76.
(обратно)824
Недатированное письмо от Наталии Иваницкой, в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1.Д. 55. Л. 72.
(обратно)825
Письмо от 22 декабря 1906 г. Там же. Д. 18. Л. 37.
(обратно)826
Карточки почетных членов сохранились в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 18 (переписка с различными «черносотенными» и монархическими обществами и союзами касательно регистрации И. И. Сергиева как почетного или активного члена, 16 октября 1885 г. — 26 сентября 1908 г.). Л. 37, 41, 49–52. Какие отношения на самом деле связывали о. Иоанна с Союзом русского народа, остается неясным.
(обратно)827
Письмо от 13 января 1906 г. от Григория Липатова. Там же. Д. 34. Л. 17.
(обратно)828
Письмо от 1 ноября 1905 г. от «гражданина земли русской». Там же. Д. 55. Л. 14.
(обратно)829
Письмо от Косьмы Уткина, 8 января 1906 г. Там же. Д. 55. Л. 36.
(обратно)830
Недатированное письмо от Дарьи и Николая. Там же. Д. 55. Л. 61.
(обратно)831
Там же. Д. 52. Л. 62.
(обратно)832
Письмо от П. Петрова. Там же. Д. 52. Л. 56. Авраамий Палицын был келарем Троице-Сергиева монастыря на рубеже XVI–XVII вв., описал нападение поляков на монастырь.
(обратно)833
Письмо от 6 марта 1906 г. Там же. Д. 52. Л. 42.
(обратно)834
О. Иоанн ссылается на Послание к Евреям: «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью» (К Евреям 10:28) — и на Послание к Римлянам, 13:1.
(обратно)835
Проповедь в день торжественного елеопомазания и коронации самого благочестивого, самодержавного и великого монарха императора Николая Александровича. Перепеч. в кн.: Сергиев И. Обличительные проповеди отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1914. С. 5–7.
(обратно)836
См.: Geifman A. Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917. Princeton, 1993.
(обратно)837
Проповедь знаменитого пастыря о. Иоанна Кронштадтского о японской войне и вытекающих из нее назиданиях // Сергиев И. Обличительные проповеди. С. 14–16.
(обратно)838
Там же. С. 12–14.
(обратно)839
Противопоставление элиты и простого народа проводилось постоянно. См.: Меншиков М. Памяти святого пастыря // Иоанн Кронштадтский. М., 1992. С. 361–362; Четвериков С. Два юбилея (Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский) // Четвериков С. Бог в русской душе. М., 1998. С. 84–87; Лукашевский Е. Кронштадтский проповедник // Наука и религия. 1990. № 5. С. 10–14.
(обратно)840
Толстой Л. Критика догматического богословия // Полн. собр. сочинений, запрещенных в России. Christchurch, 1903. Православную критику см.: Варжанский Н. В чем вера Л. Н. Толстого. Народно-популярный эскиз. СПб., 1911 // Восторгов И. и др. Приснопамятный о. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. Jordanville, N.Y., 1960. С. 3—23.
(обратно)841
Сущность лжеучения графа Л. Толстого. Слово в неделю двадцать пятую по пятидесятнице. 1896 // Сергиев И. [Кронштадтский]. Против графа Л. Н. Толстого, других еретиков и сектантов нашего времени и раскольников. СПб., 1902. С. 17–18.
(обратно)842
Там же. С. 27–28.
(обратно)843
См. его рецензию на «Ответ церковного пастыря на “Обращение к духовенству” Льва Толстого» о. Иоанна, в: РГБ, отдел рукописей. Оп. 369. Ч. 71 (Бонч-Бруевич). Д. 12. Л. 1–3.
(обратно)844
Письмо от 17 июля 1908 г., в: ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. Д. 154 (I). Л. 22.
(обратно)845
Николай Большаков, который напечатал этот текст в выпуске № 18 «Кронштадтского маяка» от 4 мая 1908 г. (с. 3), утверждал, что взял этот текст из книги «Созерцательное подвижничество, Выписки из дневников 1906–1907 прот. Иоанна Ильича Сергиева». См.: ГАРФ. Ф. 102, 4 делопр. Д. 154 (I). Л. 48.
(обратно)846
О реакции писателя Владимира Короленко см.: Короленко В. Г. Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 1. С. 318.
(обратно)847
Довольно левое издание «Новый голос» даже утверждало, что из-за ограничений старой цензуры большинство социальных явлений невозможно оценить объективно, тогда как, положа руку на сердце, об о. Иоанне можно сказать только хорошее. И газеты «сбивались с ног», спеша сообщить о чудесах, совершаемых о. Иоанном («Новый голос», 13 декабря 1908. С. 65). Об освещении религии в прессе в 1881–1895 гг. см.: Балуев Б. П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журналистика. М., 1971. С. 172.
(обратно)848
Зверь в рясе // Новая мысль. 1907. № 22. С. 3.
(обратно)849
Мысль. № 8. 28 июня — 11 июля 1906 г. С. 3.
(обратно)850
Пять часов с Илиодором // Гражданин. № 20. 15 марта 1907 г. С. 2.
(обратно)851
Товарищ. № 42. 23 августа — 5 сентября 1906 г. С. 2.
(обратно)852
Новая мысль. № 10. 13 января 1907 г. С. 4.
(обратно)853
Перелом. № 110. 7 декабря 1906 г. С. 2.
(обратно)854
См. наставления в кн.: Дебольский Г. С., прот. О любви к отечеству и труде по слову Божию. Репр. М., 1996; См. также медали Союза русского народа в кн.: Православие, армия и флот России [каталог выставки]. СПб., 1996. № 111.
(обратно)855
Примеры навешивания ярлыков в советское время см.: Ростов Н. Духовенство и русская контрреволюция. М., 1930. С. 29; Православие: словарь атеиста / Сост. Н. С. Гордиенко. М., 1988. С. 94–95.
(обратно)856
См. описания их деятельности в «Гражданине». 1907. № 31–32 (май). С. 6; № 41–41 (июнь). С. 22.
(обратно)857
О здоровье о. Иоанна см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 189. Д. 515. Л. 10 (письмо о. Иоанна от 24 сентября 1908 г. в Святейший Синод, где он ссылается на свое нездоровье); Оп. 188. Д. 619. Стол 2а, 1 отд. (аналогичное письмо от о. Иоанна, 8 января 1908 г.); Сергиев И. И. Письма от прот. Иоанна к настоятельнице Иоанно-Предтеченского Леушинского Первоклассного монастыря игуменье Таисии. СПб., 1909. С. 96 (22 января 1908 г. о. Иоанн писал о том, что не был ни на одном заседании Святейшего Синода по болезни и не видит, какую он мог бы принести там пользу). Об уклонении от публичных мероприятий см.: Е.К. Воспоминания об отце Иоанне. СПб., 1909. С. 34.
(обратно)858
Стрелы. № 2. 5 ноября 1905 г., обложка; Исход из Кронштадта // Пулемет. 1905. № 1. С. 11.
(обратно)859
Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907). Л., 1985. С. 217.
(обратно)860
Там же. С. 396–397; курсив мой.
(обратно)861
Санкт-Петербургские ведомости. № 251. 29 октября — 11 ноября 1905 г. С. 6.
(обратно)862
Заявление от 1 ноября 1905 г., процитированное в сб.: Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955. Т. 1. С. 202.
(обратно)863
Trotsky L. 1905. N.Y., 1971. Р. 119.
(обратно)864
Новый путь. № 14. 19 января 1906 г. С. 4. Из-за неполноты записей невозможно определить, сократились ли пожертвования о. Иоанну после 1905 г. См.: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 58.
(обратно)865
Меншиков М. О. Письма к ближним. Кронштадтский бунт. Пастырь добрый // Новое время. № 10646. 30 октября 1905 г. С. 4.
(обратно)866
См., например, воспоминания рабочего К. Миронова в кн.: Вестник русской революции. № 3. Март 1903 г. С. 25–56; Kanatchikov S. A. Radical Worker in Tsarist Russia: The Autobiography of Semen Ivanovich Kanatchikov / Ed. by Zelnik R. Stanford, 1986. P. 29.
(обратно)867
Письма от 31 октября и 26 ноября 1906 г. в кн.: Сергиев И. Письма о. прот. Иоанна к настоятельнице. С. 87–88.
(обратно)868
О более либеральных политических воззрениях в рамках православия см.: A Revolution of the Spirit: Crisis of Value in Russia, 1890–1924 / Ed. by Rosenthal B. G., Bohachevsky-Chomiak M. N.Y., 1990.
(обратно)869
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 32 (письма от разных людей в ответ на проповедь Иоанна Сергиева, обличавшую Льва Толстого). Л. 1–2 об.
(обратно)870
Письмо, датированное 12 марта 1903 г., в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 32. Л. 15. Далее цитируются слова о. Иоанна о том, что нужно при помощи веры с корнем вырвать из сердца враждебность к своему ближнему (Л. 16).
(обратно)871
Цит. в письме Любимова от 28 марта 1906 г., в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 32. Л. 27–28 об.
(обратно)872
Там же. Д. 32. Л. 28–28 об.
(обратно)873
Carpenter R. H. Father Charles Е. Coughlin: Surrogate Spokesman for the Dissaffected. Westport, Conn., 1998.
(обратно)874
Это письмо, также анонимное и недатированное, подписано «Истинно преданные вам киевские женщины». ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 32. Л. 44–44 об.
(обратно)875
Блаженная кончина о. Иоанна // Пастырский венок дорогому батюшке о. Иоанну Кронштадтскому. СПб., 1911. С. 201–212.
(обратно)876
О гимне см.: Моторин A. B. Образ Иерусалима в русском романтизме // Христианство и русская литература /Ред. В. А. Котельников. СПб., 1996. С. 83–84.
(обратно)877
Одна верста составляет 1,06 км. О роли часовен в практике благочестия см.: Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники 18-го века. СПб., 1905. С. 18–20.
(обратно)878
О роли мощей святых и мест их захоронения см.: Saints and Their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore, and History. Cambridge, 1987. P. 4–5, 9—11.
(обратно)879
См.: Большаков Н. Я. Источник живой воды. Описание жизни и деятельности отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1910. С. 832; Витович А. Я. Записки судебного пристава по охранительной описи имущества о. Иоанна Кронштадтского // Голос минувшего. 1915. № 5. С. 183.
(обратно)880
Ср. более ранние версии завещаний о. Иоанна в: РГИА. Ф. 799. Оп. 6. Д. 30 (экономическое управление Святейшего Синода). Отд. 1. Стол 1. № 177а. Л. 4, 5. Рассказ о полицейском расследовании см. в кн.: Витович А. Я. Записки судебного пристава.
(обратно)881
Витович А. Я. Записки судебного пристава. С. 177, 182–183; Трифонов А. Вынос тела и погребение Елизаветы Константиновны Сергиевой // Шемякина Р. Г. Светлой памяти почившей супруги отца Иоанна Кронштадтского Елизаветы Константиновны Сергиевой. Кронштадт, 1909. С. 13–15. О службах, проходивших в день сороковин о. Иоанна в склепе Федоры Власьевны, см.: Большаков Н. Я. Источник живой воды. С. 242.
(обратно)882
См., например, собрание чудесных исцелений и изгнаний нечистой силы в кн.: Пастырский венок дорогому батюшке о. Иоанну Кронштадтскому. СПб., 1911; repr. Utica, N.Y., 1965. С. 252–300.
(обратно)883
Текст рескрипта от 12 января 1909 г., см.: Пастырский венок. С. 226–229; резолюции Синода от 19 января 1909 г., см.: Пастырский венок. С. 230–236; РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Ед. хр. 677. Л. 1.
(обратно)884
См., например, прошение из школы в с. Шаблыкинском Омской епархии, в: РГИА. Ф. 796. Оп. 180. Ед. хр. 1441, 1 стол, 2 отд. Л. 14.
(обратно)885
РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Ед. хр. 677. Л. 6. Классификацию монастырей см. в кн.: Smolitsch I. Russisches Mönchtum: Entstehung, Entwicklung und Wesen, 988-1917. Wurzburg, 1953. S. 383–469.
(обратно)886
Пастырский венок. C. 122.
(обратно)887
См.: Чем дорог нам о. Иоанн Кронштадтский? // Пастырский венок. С. 143.
(обратно)888
Истинный миссионер // Пастырский венок. С. 80–81. О проектах и дебатах, связанных с приходской школой, см.: Болдовский А. Г. Возрождение церковного прихода. Обзор мнений печати. СПб., 1903.
(обратно)889
Святой Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников. М., 1994. В книгу вошло несколько этих воспоминаний.
(обратно)890
Там же. С. 61; курсив мой.
(обратно)891
См.: Пятидесятилетие. С. 175–176; Житие святого праведного Иоанна Кронштадтского чудотворца // Журнал Московской патриархии. 1990. № 10. С. 67.
(обратно)892
См.: Freeze G. L. «Going to the Intelligentsia»: The Church and Its Urban Mission in Post-Reform Russia // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. Princeton, 1991. P. 215–232.
(обратно)893
Cm.: Pope B. C. Immaculate and Powerful. P 174–716; Douglas A. The Feminization of American Culture. N.Y., 1977. P. 6—13.
(обратно)894
Макушинский А. Воспоминание бывшего певчего Кронштадтского Андреевского Собора // Пятидесятилетие. С. 42.
(обратно)895
Воспоминания свящ. В. Ильинского // Святой Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников. С. 113.
(обратно)896
Альбицкий П., прот. О. Иоанн Кронштадтский, как пастырь и общественный деятель // Пастырский венок. С. 92.
(обратно)897
См.: Fülöp-Miller R. Raspoutine et les femmes. Paris, 1928. P. 320.
(обратно)898
См. лекции в Софии в 1927–1928 гг. протопресвитера Г. И. Шавельского в кн.: Православное Пастырство. СПб., 1996. С. 510–515; Константин, архимандрит. К чему зовет нас святость о. Иоанна Кронштадтского // Константин, архимандрит. Чудо русской истории. Сб. статей, раскрывающих промыслительное значение Исторической России. Jordanville, N.Y., 1970. С. 224–233.
(обратно)899
Духовная связь между праведным отцом Иоанном Кронштадтским и старцем Варсонофием // Концевич Я. М. Оптина Пустынь и ее время. Jordanville, N.Y., 1970; репр. М., 1995. С. 359–365.
(обратно)900
См.: St. John of Kronstadt Memorial Fund, Inc., финансовый отчет от 1995 г. C. 2.
(обратно)901
Meyendorff J. St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituality. Crestwood, N.Y., 1974. P. 168–170; Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Paris, 1937. С. 400–401; 432.
(обратно)902
Аверкий, архиепископ. Отец Иоанн Кронштадтский, как Пророк Божий, посланный России для вразумления. Jordanville, N.Y., 1963; См. также: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 2. С. 335–344.
(обратно)903
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 2. С. 220.
(обратно)904
В кн.: Константин, архимандрит. Чудо русской истории. См. главу «К чему зовет нас святость о. Иоанна». С. 232–233; «Память св. праведного о. Иоанна Кронштадтского к чему нас зовет?» (IBFIS-POIK, № 15 [1967]). С. 234–235; Отец Иоанн Кронштадтский (IBFIS-POIK. № 8 [1961]). С. 314–315.
(обратно)905
St. John of Kronstadt: Life, Service, and Akathist Hymn. Liberty, Tenn. P. 45; Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 2. С. 337—338
(обратно)906
Перевод из кн.: St. John of Kronstadt. C. 43–45; курсив мой. Текст тропаря см. на с. 15–16.
(обратно)907
О. Иоанн — не единственный святой, «переведенный» в географическом и временном аспектах. Аналогичная брошюра о св. Ксении была впервые опубликована в Шанхае, Китай, в 1948 г.; в Джорданвилле, Нью-Йорк, в 1964 и 1971 гг.; в Канаде, в 1986 г.; и, наконец, в Санкт-Петербурге после 1988 г. (Раба Божия Блаженная Ксения / Ред. Чечуга С. Д. СПб., б. г.).
(обратно)908
«Сон Иоанна Кронштадтского» распространялся вручную в 1920–1930-е гг.; перепечатан в кн.: Град-Китеж 2. 1992. № 7. С. 12–14.
(обратно)909
Цимбал Г. К. Манифест православных христиан, цит. в кн.: Москаленко А. Идеология и деятельность христианских сект. Новосибирск, 1978. С. 288.
(обратно)910
Информация о его мощах противоречива. См.: ГАРФ СПб. Ф. 1001. Д. 46 (корреспонденция касательно монастыря на Карповке; 21 ноября 1923 г. — 20 октября 1926 г.), особенно лл. 1–32, 39–54.
(обратно)911
Письмо в IBFIS-POIK. № 10 (октябрь 1963 г.). С. 49.
(обратно)912
Цит. по кн.: В честь дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского, воспоминания очевидцев. М., 1995. С. 5—10.
(обратно)913
Жизнь, подвиги, чудеса и пророчества св. прав, отца нашего Иоанна Кронштадтского Чудотворца / Сост. Архим. Пантелеймон. Jordanville, N.Y., 1976. С. 183–208.
(обратно)914
Там же. С. 201.
(обратно)915
О культе источников см.: Jones F. The Holy Wells of Wales. Cardiff, 1954. См. также рассмотрение вопроса в кн.: Панченко A. A. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни северо-запада России. СПб., 1998. С. 40–45, 61–65, 113–123.
(обратно)916
Жизнь, подвиги и чудеса. С. 201; Панченко A. A. Исследования. С. 77. См. исследование примет и знаков периода НЭПа в кн.: Viola L. Peasant Rebels Under Stalin. N.Y., 1996. P. 53–55.
(обратно)917
Жизнь, подвиги, чудеса. C. 198–200.
(обратно)918
Там же. C. 201–202. Советские истории возмездия, не связанные с о. Иоанном, см. в кн.: Панченко A. A. Исследования. С. 124–126.
(обратно)919
Некоторые из них собраны в кн.: Россия перед вторым пришествием: материалы к очерку русской эсхатологии. Сергиев Посад, 1993.
(обратно)920
Жизнь, подвиги, чудеса. С. 203–204.
(обратно)921
Булгаков М. Мастер и Маргарита. Франкфурт-н. М., 1969. С. 78. Некоторые утверждают, что в романе дом Грибоедова, где приютилась советская писательская организация, — пародия на Дом Трудолюбия о. Иоанна. См.: Соколов Б. Энциклопедия Булгаковская. М., 1996. С. 193.
(обратно)922
Никольский Н. М. История русской церкви. С. 462; Красников Н. П. Социально-этические воззрения русского православия в XX веке. Киев, 1988. С. 30; Православие: словарь атеиста / Сост. Н. С. Гордиенко. М., 1988. С. 94–95.
(обратно)923
Наиболее примечательный пример — апокрифическое «Видение отца Иоанна Кронштадтского», распространявшееся вручную в 1920—1930-е гг. (Институт истории АН СССР, Ф. Тамбовской эксп. 1959 г. Д. 53. Л. 54) и перепечатанное репринтным способом. См.: Наш современник. 1991. № 9. С. 42–49; Православная Русь. № 517 (15 октября [28 октября], 1952). С. 2–5.
(обратно)924
Лурин А. Иоанниты // Безбожник. 5, № 668 (12 февраля 1939 г.). С. 2.
(обратно)925
См.: Протокол дознания пристава Усманского уезда о пропаганде среди крестьян села Завального учения иоаннитов // Вопросы истории религии и атеизма. 9. М., 1961. С. 110.
(обратно)926
Москаленко А. Идеология и деятельность христианских сект. С. 287, 304. Епископ Иоанн из Сан-Франциско был канонизирован Русской православной церковью за рубежом в 1994 г.
(обратно)927
Православие: словарь атеиста. С. 95.
(обратно)928
Clay Е. Orthodox Missionaries and Orthodox Heretics in Russia, 1886–1917 // Religion in the Soviet Union / Kolarz W. L., 1961. P. 346–368; Lane C. Christian Religion in the Soviet Union: A sociological study. Albany, 1978. P. 80–81; Pospielovsky D. Soviet Studies on the Church and the Believer’s Response to Atheism. Vol. 3: A History of Soviet Atheism in Theory and Practice, and the Believer. L., 1988. P. 205–206.
(обратно)929
Перевод из кн.: St. John of Kronstadt. C. 43–45; курсив мой. Текст тропаря см. на с. 15–16.
(обратно)930
Служба отцу Иоанну // Святой праведный Иоанн, Кронштадтский чудотворец. СПб., 1997. С. 96; курсив мой.
(обратно)931
Симаков Н. К. Православная церковь. Современные ереси и секты в России. 2-е изд. СПб., 1995. С. 237–238.
(обратно)932
В честь дорогого батюшки. С. 3. В 1990-е гг. редким исключением был покойный Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев).
(обратно)933
Гордиенко Н. С. Кто такой Иоанн Кронштадтский. СПб., 1991.
(обратно)934
Документы в пользу перезахоронения см. в: ГАРФ СПб. Ф. 1001. Оп. 9. Д. 46. Л. 1–12 (переписка касательно закрытия монастыря на Карповке). Обратные утверждения см. в кн.: Исторические кладбища Петербурга / Сост. A. B. Кобак, Ю. М. Пирютко. СПб., 1993. С. 537; Шкаровский М. В. Свято-Иоанновский Ставропигиальный Женский Монастырь: История обители. СПб., 1998. С. 144–150.
(обратно)935
Об ассоциации с Санкт-Петербургом см.: Молитвы святым, во граде святого Петра особо почитаемым. Л., 1991; молебен, исполняемый в годовщину кончины, описан в кн.: Августин. Православный Петербург. С. 64; а хвалебные песнопения — в кн.: Святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец. С. 98.
(обратно)936
См. исследование иконографических категорий врача, певца, поэта, воина и хорошего музыканта в кн.: Didron М. Manuel d’iconographie Chrétienne Grecque et Latine. Paris, 1844. P. 311, 320, 322–323, 339.
(обратно)937
1 ноября 1991 г. Лекция, прочитанная в Санкт-Петербурге на презентации фильма «Отец» (Селичева, 1991). О нападках и побоях см.: Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. 1. С. 122–123.
(обратно)938
Житие святого праведного Иоанна. С. 64.
(обратно)939
Большаков Н. Я. Источник живой воды. С. 148–188, 350–395, 799.
(обратно)
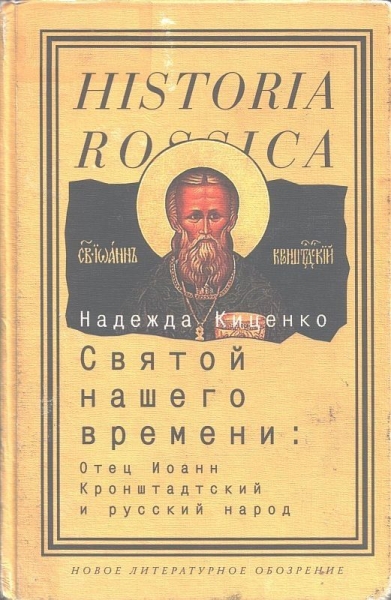

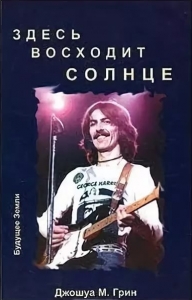

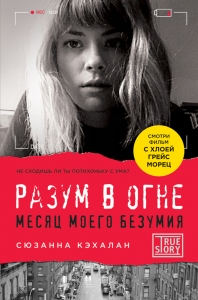


Комментарии к книге «Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ», Надежда Борисовна Киценко
Всего 0 комментариев