Александр Чудаков АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
Издательство выражает благодарность Российскому государственному архиву литературы и искусства за предоставленные фотодокументы
В оформлении использован живописный портрет работы Н. П. Чехова
Глава первая ДВА ЛИКА ГОРОДА ТАГАНРОГА
1
Город, в котором родился Чехов, был как будто обычным заштатным городом Российской империи. Правда, в нем прожил свои последние дни Александр I, и Таганрог некоторое время был как бы столицей государства. Жители это помнили хорошо. Каждый год 19 ноября гимназистов собирали на панихиду в местном соборе.
В этом же соборе восьмилетний Антон Чехов был на отпевании Н. В. Кукольника, автора знаменитой в свое время драмы «Рука всевышнего отечество спасла». С покойным был знаком отец Чехова.
Таганрожцы знали Кукольника больше в связи с его хлопотами о местной железной дороге. Но зато любили вспоминать, что недалеко от Таганрога родился и окончил в нем гимназию известный поэт Н. Ф. Щербина, бабка которого была чистокровная гречанка, приехавшая из Мореи еще в царствование Екатерины II. Повторяли его стихи: «Хоть эллин я из Таганрога…»
Общий уклад был как везде – с лавками, трактирами, ежегодной шумной ярмаркой, смотром гарнизона в табельные дни, пустырями, заросшими бурьяном, масляными фонарями и местным дурачком на бойком перекрестке.
Это был южный, портовый город. Длинная Полицейская улица, на которой родился Чехов, одним концом упиралась в грязную площадь, другим выходила на высокий обрывистый морской берег. Из второго этажа дома Моисеева, где Чеховы жили в первые гимназические годы Антона, был виден рейд. В разгар летней навигации пароходам и парусникам со всего света было тесно в гавани.
Таганрог ощущал себя городом морским. В 1874 году, в связи с получением известий о претензии Ростова на статус губернского города, «Азовский вестник» (24 марта) выразил протест, ибо: центр будущей губернии, конечно, есть Таганрог, Ростов же находится в углу; народонаселения в Таганроге нисколько не менее, а в навигацию, с приходом иностранных судов, оно увеличивается почти на двенадцать тысяч; все иностранные консулы ни под каким видом не покинут Таганрог; капитаны кораблей, оставляя суда на рейде с частью экипажа, не могут удаляться от них.
В статистических сведениях о жителях города по сословиям была графа: вольные матросы.
Открытый в 1874 году Таганрогский мореходный класс давал выпускникам дипломы штурманов малого плавания.
Крупная торговля накладывала отпечаток на всю жизнь и представления жителей города. Обычные приказчики чувствовали себя приказчичьей аристократией, «которая дерет нос оттого, что живет не в Бахмуте, а в портовом городе» (Чехов – М. М. Чехову, 1877).
2
Город жил не только торговлей, но и огромных размеров контрабандой, существовавшей почти официально. Таганрогский негоциант Вальяно (его имя не раз упомянет Чехов) ввозил контрабандные товары не в чемоданах с двойным дном, но целыми пароходами. Для их разгрузки у него была зафрахтована флотилия турецких фелюг.
Греков было много. «Таганрог – это греческое царство, – писал в 1877 году В. А. Слепцов. – Немножко похож на Киев, только здесь… греки. Все греки: разносчики, попы, гимназисты, мастеровые – греки. Даже вывески греческие».
Львиная доля торгового оборота была в руках греческих негоциантов. В правлениях коммерческих банков значились Д. Петрококино, Е. Сканави, И. Маврогордато.
Богатые греки строили роскошные особняки. Особенно поражал своим тяжелым великолепием дворец Алфераки: золоченая лепка, громадный двухсветный зал с хорами для музыкантов, огромные люстры, одна из гостиных расписана итальянским художником. (Чехов бывал в этом доме в последнем классе гимназии, когда тот стал уже клубом таганрогского купечества.)
Отец Чехова решил дать двум сыновьям, Николаю и Антону, греческое образование, и они один учебный год провели в греческой «Приходской при Цареконстантиновской церкви школе» Николаоса Вутсинса.
Местные обыватели считали, что греки оплетают доверчивых русских. Говорили, впрочем, беззлобно. Город был интернациональный.
На улицах звучала разноязыкая речь. В ясные дни тротуары ближних к порту улиц были запружены толпой – здесь были греки, турки, французы, англичане… Когда Чеховы жили в доме Третьякова, над лавкой Павла Егоровича располагалось казино мсье Трилля. Рядом была гостиница «Лондон», по вечерам там играл дамский оркестр, туда приходили моряки. Ходили слухи о похищении девушек для турецких гаремов.
«Азовский вестник» помещал лирические стихи с эпиграфами из восточной поэзии. Восточная тематика вообще была в моде: «На небе лазурном сияет луна, В воде серебристо играя… В гареме султанша стоит у окна, Кого-то в тиши поджидая».
Необычным для русской провинции был таганрогский театр. Несколько сезонов в городе гастролировала итальянская опера. В ее репертуар входили сочинения Беллини, Доницетти, Россини, Верди, Мейербера. На таганрогской сцене пели известные тогда Зангери, Белати, Понти, Фабрини, Кампании, Кантони. Встречали и провожали их в порту кавалькадами, с музыкой, с факелами. Вечером на улицах из окон слышались арии из «Севильского цирюльника», «Роберта-Дьявола», «Риголетто». Оперой увлекались все – гимназисты, горничные, извозчики, негоцианты. Миллионер Алфераки, сам музыкант-любитель, содержал на свой счет итальянский оркестр, игравший все лето в городском саду (вход туда в гимназические годы Чехова был бесплатный). Заезжие труппы оставляли в городе музыкантов со звучными именами: Николо Офичиозо Сарти, Бертини, Луппи, Гаэтано Молла. Молла был самый популярный, он давал уроки пения.
Гастролировали известный скрипач и дирижер Варшавской консерватории Аполлинарий Контский, знаменитая пианистка, ученица Листа, Лаура Карер, приезжал Сарасате. В «Отелло» играл Сальвини.
Ставились оперетты Зуппе, Легара, Лекока, Оффенбаха.
Может быть, благодаря второму лику Таганрога острее ощущалась «лень и скука» первого?
«Там все Европой дышит, веет», – писал о другом приморском городе, Одессе, Пушкин. В Таганроге, как говорил Чехов, лишь «пахло Европой», но и этого хватало, чтобы почувствовать, что «кроме этого мирка, есть ведь еще и другой мир».
Пройдет время, Чехов узнает жизнь столиц, увидит Рим, Париж, Коломбо, трезво оценит Европу, но непреодолимое чувство – тяга к «другому миру», – в пространстве ли (в Алжир, на Север), во времени ли (через 200—300 лет), останется, и не раз он выскажет его сам и выскажут его герои.
Этого «краешка» Европы было достаточно, чтобы ощутить, как «грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен» заштатный российский город, и навсегда получить отвращение к этой лени и грязи. Врачебное образование еще более в этом его укрепит. И молодой Чехов уже будет удивлять современников: откуда у юноши из провинции такой врожденный вкус к изяществу и европейским формам жизни?
3
В последние гимназические годы Чехова из таганрогских газет постепенно стали исчезать списки иностранных кораблей, цены на фрахты и курсы лондонской биржи. Все чаще появлялись сообщения совсем другого свойства: «Ничего замечательного на нашем рынке не произошло. Совершенная бездеятельность, и заказов на весну никаких». Банки и банковые канторы начали чахнуть: скапливались во множестве опротестованные векселя; не желающие рисковать теряли дела, а рискующие множили списки назначенных в продажу имений, на некоторые не находилось покупателей. Хлебная торговля падала, негоцианты разорялись, крахи фирм стали обыденным явлением.
Правда, все постоянно на что-то надеялись: что углубят гавань и океанские суда будут не маячить где-то на рейде, а подходить к молу; что торговые пути отвернут от Ростова-на-Дону и снова пролягут через Таганрог; что все когда-то изменится. Ощущение краха, неустойчивости и каких-то неясных надежд – та атмосфера, которая окружала Чехова в последние годы в родном городе.
Но это уже был конец 1870-х, а в 1840-е – 50-е годы все было иначе. Таганрог был признанным центром Приазовья, с ним не могли соперничать ни Бердянск, ни Мариуполь, ни даже Ростов. Именно в этом торговом центре скрестились пути будущих родителей Чехова.
Дед Чехова по матери Яков Герасимович Морозов жил в Моршанске, недалеко от Тамбова. У него было крупное суконное торговое дело, по надобностям которого он много ездил – в Нижний Новгород, Казань, Новочеркасск, Харьков. В поездках по югу Таганрога было не миновать; он подолгу живал там в доме генерала Папкова. Случилось так, что в одну из поездок за крупной партией товара в Новочеркасск Морозов заразился холерой и умер там. Его жена, забрав троих детей, поехала на лошадях через пол-России отыскивать могилу мужа и его сукна. Это не удалось, и она поехала дальше, в Таганрог: там у нее было пристанище – дом генерала Папкова, с которым ее покойный муж был связан торговым делом. Тут она и осталась, здесь выросла ее младшая дочь Евгения Яковлевна, мать Чехова.
Пути коммерции – вернее, надежды на ее успех в процветающем порту – привели в Таганрог и отца Чехова.
Дед Егор Михайлович Чехов был крепостным помещика Черткова (у его внука, друга Л. Толстого и руководителя «Посредника» В. Г. Черткова, будет издаваться Чехов). Но еще в 1841 году он выкупил на волю всю свою семью (дочь Александру, на которую не хватило денег, получил в придачу) и переселился из Воронежской губернии в Область Войска Донского, где служил управляющим в имениях графа М. М. Платова, сына героя Отечественной войны 1812 года.
Своего сына Павла Егоровича Чехова (отца писателя) Егор Михайлович определил к таганрогскому купцу Ивану Евстратьевичу Кобылину. Во времена чеховского детства тот был членом Таганрогского отделения Коммерческого совета и приказа общественного призрения. В его колониальном магазине Павел Егорович прошел все ступени необходимой торговой иерархии: «мальчика» (несмотря на то что при поступлении в магазин ему было почти 19 лет), приказчика, конторщика. Возможно, что не сразу было решено, чем он будет заниматься, – какое-то время он работал с прасолами – гонял скот в Харьков и Москву. Эта работа была тяжела и позже, когда скот уже возили по железной дороге («Холодная кровь»); тогда же это был изнурительный труд с бессонными ночами в непогоду в голой степи.
П. Е. Чехов мечтал открыть собственную торговлю. Но сделать это удалось не скоро. Только в 1857 году он был уволен из мещанского сословия и в следующем году «перечислен в купеческое звание», став «таганрогским 3-й гильдии купцом».
Другой сын Е. М. Чехова, Митрофан Егорович, тоже перебрался в Таганрог и открыл там лавку, еще раньше брата. В его доме познакомились родители Чехова.
Глава вторая В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ
1
Антон Павлович Чехов родился в Таганроге, в доме на Полицейской улице (ныне Чеховская улица, дом 47). В метрической книге Соборной Успенской церкви была сделана запись:
«Тысяча восемьсот шестидесятого года месяца Генваря семнадцатого дня рожден, а двадцать седьмого крещен Антоний. Родители его, Таганрогский 3-й гильдии купец Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, оба православного вероисповедания. Восприемники были: Таганрогский купеческий брат Спиридон Федор Титов и Таганрогского 3-й гильдии купца Дмитрия Кирикова Сафьянопуло жена Елизавета Ефимовна».
Впрочем, может быть, он родился не в самый день св. Антония, а накануне, то есть 16 января, и нарекли его, как часто бывало, в честь святого следующего дня. Во всяком случае, в двух своих поздних письмах – от 16 января 1898 года и от 16 января 1899 года – Чехов днем рождения называет именно 16-е.
Дом на Полицейской улице был маленьким домиком из земляного кирпича (кое-где на юге и в Средней Азии его называют «саман»), белёным снаружи и внутри. Он сохранился. В нем три комнатки, общей площадью 23 квадратных метра. Увидев его снова уже взрослым, Чехов писал: «Дивлюсь, как это мы могли жить в нем?»
Дивиться было чему: ко времени рождения Антона в нем кроме родителей, жили старшие дети: Александр (1855 г. рожд.) и Николай (1858 г. рожд.).
В 1861 году, уже на другой квартире, родился четвертый сын – Иван, а в 1863 году – дочь Мария (позже родилась еще одна дочь, умершая во младенчестве). В 1865 году появился младший сын – Михаил; это произошло уже в квартире на Петровской улице, где и прошло раннее детство Чехова. Когда Антону было 9 лет, переехали в дом Моисеева на углу Монастырской улиц и Ярмарочного переулка. Здесь в нижнем этаже помещалась лавка П. Е. Чехова, а на втором этаже жила семья; из окон второго этажа был хорошо виден рейд.
Последним жильем семьи в Таганроге, из которого уже через год один за другим стали уезжать в Москву все члены семьи, был собственный дом на Конторской (Елисаветинской) улице, построенный в 1874 году П. Е. Чеховым на земле, купленной еще его отцом, Е. М. Чеховым.
Сведения о раннем детстве Чехова восходят в основном к двум источникам: воспоминаниям Александра Павловича – самого старшего из детей Чеховых – и Михаила Павловича – самого младшего. В рисуемых картинах жизни семьи эти источники сильно разнятся, а в некоторых существенных деталях просто противоположны.
Ал. П. Чехов особо подчеркивает деспотизм отца, его суровость по отношению к детям, говорит о телесных наказаниях, тяжелой работе Антона в лавке и резюмирует: «Ребенком он был несчастный человек».
Этот взгляд на отца разделял и Николай Павлович Чехов. Как пишет в неопубликованных воспоминаниях А. С. Лазарев-Грузинский, этот кроткий и милый человек «весь вспыхивал и загорался гневом, когда ему случалось касаться самодурства отца». Н. П. Чехов говорил: «Наш отец с нами жестоко расправлялся. Розгами драл всех, и Александра, и Антона, и меня – нещадно!» Слова Николая Чехова приведены в воспоминаниях Н. М. Ежова (1909). Эти воспоминания не раз подвергались справедливой критике, и самой основательной – в известных мемуарах А. С. Лазарева-Грузинского, хорошо знавшего Ежова: Лазарев был свидетелем его работы в юмористических журналах и взаимоотношений с Н. Чеховым. Решительно опровергая некоторые утверждения Ежова, Лазарев, однако, замечает, что все, о чем рассказывал Ежову Н. П. Чехов, «фактически верно и точно».
Младшие члены семьи (к М. П. Чехову позже присоединилась Мария Павловна Чехова) находили, что Ал. П. Чехов слишком сгустил краски и нарисовал чересчур мрачную картину.
Распространению точки зрения младших способствовало то обстоятельство, что в переиздававшихся при жизни М. П. Чеховой воспоминаниях Ал. П. Чехова делались существенные купюры; в редактируемых или издаваемых под ее наблюдением письмах Чехова в ряде случаев были выброшены фразы, где писатель особенно резко и прямо характеризовал семейную обстановку своего детства. Так, только в последнем (академическом) издании были восстановлены в 1977 г. слова Чехова из письма старшему брату: «Детство отравлено у нас ужасами» (4 апреля 1893 г.).
Не входя здесь подробно в причины такой позиции младших (укажем только, что, когда окончился таганрогский период жизни чеховской семьи, Мария и Михаил были еще малы, а в годы «Чехова-лавочника» и «Чехова-певчего» вообще были младенцами), отметим, что картины, рисуемые ими, выглядят неправдоподобно идиллическими: «Мальчики шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки; как только выпадал свободный час, каждый из них занимался тем, к чему имел способность: старший, Александр, устраивал электрические батареи, Николай рисовал, Иван переплетал книги, а будущий писатель сочинял…». То же у М. П. Чеховой: «Игры, шутки, шалости, смех всегда царили в нашем доме».
Картинки эти напоминают скорее жизнь семьи какого-нибудь педагога, более всего озабоченного свободным и всесторонним развитием способностей детей, чем быт дома купца старого закала, считавшего, что прежде всего дело, лавка, затем церковь, а гимназия и тем более посторонние занятия подождут. «К писаниям Антона и моему рисованию, – вспоминал Николай Чехов, – он относился с досадой и глумлением. Особенно преследовали меня. Отец выгнал меня на кухню, сказав: “Там малюй, а в комнатах красками не смей вонять!” И все время меня именовали маляром, мазилкой, пачкуном». Это нисколько не противоречило тому, что сам Павел Егорович в молодые годы писал иконы – то было другое, «богоугодное» занятие. Детей Павел Егорович не «журил», как мягко замечает М. П. Чехов, а жестоко сек – за плохую отметку, за шалость, за забывчивость, сек дома или прямо в лавке – тогда для этих целей употреблялась «сахарная веревка (которой обвязывался сахар). Этого «никогда не мог простить отцу», по собственным его словам, будущий писатель. «Разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная», – скажет Чехов уже зрелым человеком.
2
Дни в родительском доме в изображении старшего из детей чеховской семьи проходили так:
«Антоша, ученик 1-го класса таганрогской гимназии, недавно пообедал и только что уселся за приготовление уроков к завтрашнему дню […]. Отворяется дверь, и в комнату входит отец Антоши.
– Тово… – говорит Павел Егорович, – я сейчас уйду по делу, а ты, Антоша, ступай в лавку и смотри там хорошенько.
– На завтра уроков много…
– Уроки выучишь в лавке. Ступай, да смотри там хорошенько… Скорее!.. Не копайся!..
Антоша с ожесточением бросает перо, захлопывает Кюнера, напяливает на себя с горькими слезами ватное гимназическое пальто и кожаные рваные калоши и идет вслед за отцом в лавку.
[…] В лавке так же холодно, как и на улице, и на этом холоде Антоше придется просидеть по крайней мере часа три. […] О латинском переводе нечего и думать. Завтра – единица, а потом – строгий нагоняй от отца за дурную отметку».
Неудивительно, что в младших классах Антон учился плохо и дважды – в 3-м и 5-м – оставался на второй год. Справедливо заметил первый биограф писателя, Ф. Мускатблит: «Когда Павел Егорович […] перебрался с семьей в Москву, сын, перешедший к тому времени в VI класс, […] вздохнул свободно и “вдруг” обнаружил такое прилежание, что помимо обычных успехов по любимым предметам […] стал получать пятерки даже по бесконечно ненавистному ему греческому языку».
В лавке приходилось сидеть и летом – вместо купанья и ловли бычков на пристани. На море ходили, но каждый такой поход отвоевывался. Запретов вообще было много: не бегать, не шуметь, не водиться с товарищами. Почему? Потому, что в свое время это запрещалось самому Павлу Егоровичу, – и не повредило, не помешало выйти в люди… Он не был злым человеком, но был человеком твердым. Усвоенное однажды не пересматривал. Лавка должна открываться в пять утра. Нет покупателей – не беда. Детям тяжело так рано вставать – ничего, встанут. В лавке нужен хозяйский глаз: на «мальчиков», Андрюшку и Гаврюшку, полагаться нельзя. Когда в лавке нет дела, «мальчики» должны не сидеть, а стоять в дверях лавки. Неважно, что теперь не принято зазывать покупателей – место «мальчика» в это время там. Так было, когда Павел Егорович служил у купца Кобылина, так было, когда сам Кобылин служил в «мальчиках», так будет и впредь.
Но и вечером, после лавки, отдохнуть или заняться своим делом детям удавалось не всегда. Два-три раза в неделю были спевки церковного хора, который организовал Павел Егорович. В этом хоре старшие братья исполняли партии дискантов, Антон – альта. Спевки затягивались до полуночи. Службы были в греческом монастыре, в домовой церкви «Дворца» (дома, где последние дни своей жизни провел Александр I), потом – во вновь отстроенной Митрофаниевской церкви. (В этой церкви Антону не раз приходилось записывать богомолкам на бумажки имена для поминовения «о здравии» и «за упокой», – эти впечатления отразились в рассказе «Канитель», 1885.)
Павел Егорович во всем, что относилось к церковным службам, «был аккуратен, строг и требователен. Если приходилось в большой праздник петь утреню, он будил детей в два и в три часа ночи и, невзирая ни на какую погоду, вел их в церковь […]. Ранние обедни пелись аккуратно и без пропусков, невзирая ни на мороз, ни на дождь, ни на слякоть и глубокую, вязкую грязь немощеных таганрогских улиц. А как тяжело было вставать по утрам для того, чтобы не опоздать к началу службы!.. По возвращении от обедни домой пили чай. Затем Павел Егорович собирал всю семью перед киотом с иконами и начинал читать акафист […]. К концу этой домашней молитвы уже начинали звонить в церквах к поздней обедне» [1] .
Один из сыновей-гимназистов – по очереди или по назначению отца – отправлялся вместе с «молодцами» в качестве «хозяйского глаза» отпирать лавку и начинать торговлю, а прочие дети должны были идти вместе с Павлом Егоровичем к поздней обедне. Воскресные и праздничные дни были такими же трудовыми днями, как и будни. Вечером, после всенощной, дома надо было – на сон грядущий – читать еще «правила».
Детям все это было тяжело. «Когда, бывало, – писал Чехов в 1893 году, – я и два мои брата среди церкви пели трио “Да исправится” или же “Архангельский глас”, на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».
Особенно тяжелы были долгие великопостные службы. Значительно веселее шла пасхальная служба – она была короче и жизнерадостней.
«О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная детски-безотчетная радость, ждущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне. Та же необычная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении […]. Чтений не полагается никаких; пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца…» («Святою ночью», 1886).
Глубокое знание церковных служб и текстов видны в рассказах «Кошмар», «Панихида» (1886), «На страстной неделе», «Перекати-поле» (1887), «Студент» (1894), «Убийство» (1895), одном из последних и самых поэтичных рассказов – «Архиерее» (1902); знание самой структуры кондаков и икосов – в рассказе «Святою ночью»:
«– Первый кондак везде начинается с „возбранный” или “избранный…” Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: “Ангелов Творче и Господи сил”, в акафисте к пресвятой богородице: “Ангел предстатель с небесе послан бысть…” Везде с ангела начинается».
3
Опираясь в представлениях о картинах детства Чехова на воспоминания Александра Павловича, мы, однако, и здесь не можем обойтись без критики текста. Дело не в фактических неточностях. Старший брат вряд ли измышлял сами факты из жизни младшего и своей: и лавочная «каторга», и «каторга» спевок, и жестокое драньё – все это реально было, и убеждает нас в том самый авторитетный свидетель – Антон Чехов, не раз писавший о «маленьких каторжниках», о том, что у него и братьев «детство было страданием». «Я прошу тебя вспомнить, – писал Чехов брату, – что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой» (2 января 1889 г.).
Причины, заставлявшие сомневаться в достоверности мемуаров А. Седого (Ал. Чехова), в другом – в общем смещении в них акцентов и пропорций. Происходило же оно из-за избранной мемуаристом формы, на которую к тому же наложились некоторые личные особенности его литературной манеры.
Мемуары А. Седого построены в виде цепи «сценок», каждая из которых охватывает какой-либо эпизод биографии мальчика Чехова: день в лавке, день в греческой школе, спевка, церковная служба и т. п. Форма эта хорошо знакома была автору с юности, со времени работы в юмористической прессе.
«Сценка», возникшая в русской литературе еще в 60-х годах в творчестве Н. Успенского, Г. Успенского, А. Левитова, И. Горбунова, к началу 80-х годов, под пером Н. Лейкина, а также его подражателей – И. Мясницкого, А. и Д. Дмитриевых, А. Пазухина и многих других, – приобрела некие предустановленные, затвердевшие черты. Сначала дается краткая экспозиция – описание места действия, потом – портреты действующих лиц, дальше идет диалог. Задача состояла не в полноте картины, а в сгущении деталей по одному признаку, создании одностороннего, узконаправленного впечатления. Если рисуется дом купца или его облик, то все «некупеческое» из описания изгоняется – остаются только поддёвка, сапоги бутылками да «гостинодворская» речь. Возникает картина, как бы нарисованная одной краской.
Эта полностью шаблонизировавшаяся форма изжила себя даже в беллетристике (именно ее успешно преодолевал молодой Чехов), тем менее она годилась для документально-мемуарных целей. Из изложения изгонялась всякая «нетипическая» деталь, всякая подробность, нарушающая выбранный доминирующий настрой. Самой своей организацией повествование исключало какие-либо оговорки, уточнения, которые сделали бы картину не только зримой, но и фактически точной. Например, такие: были перерывы в спевках; отец нередко на несколько дней отлучался за товаром; в 1872 г. родители уезжали в Москву на целый месяц, оставив дом на 17-летнего Александра (можно представить, какое это было вольное время!); были и гощения у тетки, поездки в Княжую к деду и т. п.
Кроме давления жанра, в собственной манере Ал. П. Чехова была черта, делавшая эмоциональный колорит его описаний еще более однотонным. Эта черта – та самая субъективность, от которой не раз остерегал брата Чехов, советовавший ему «выбрасывать себя за борт всюду, не совать себя в герои своего романа, отречься от себя хоть на ½ часа. Есть у тебя рассказ, где молодые супруги весь обед целуются, ноют, толкут воду… Ни одного дельного слова, а одно только благодушие ! А писал ты не для читателя… Писал, потому что тебе приятна эта болтовня […]. Нужно кое-что и другое: отречься от того личного впечатления, которое производит на всякого неозлобленного медовое счастье… Субъективность – ужасная вещь. Она нехороша уже и тем, что выдает бедного автора с руками и ногами». В другой раз Чехов писал: «Главное, берегись личного элемента. Пьеса никуда не будет годиться, если все действующие лица будут похожи на тебя […]. Людям давай людей, а не самого себя».
Одно письмо датировано 1883-м годом, другое – 1889-м, но Ал. Чехов с годами менялся мало, и рассказы А. Седого 1900-х годов очень похожи на рассказы Агафопода Единицына (его ранний псевдоним) 1880-х.
Ту же субъективность находим и в рассказах Александра о жизни Антона Чехова: автор не сумел подняться над тем личным чувством, каким были окрашены для него события их общего нелегкого детства. А. Седой ничего не присочинял, но создал столь унылый, беспросветный, без малейшей отдушины колорит, что становится неясно, как мог физически и морально выжить кто-либо в такой обстановке, да еще и сохранить в себе способность творческого восприятия.
Усугубляла дело и литературная несамостоятельность А. Седого. Очерк «Чехов в греческой школе», например, носит явные следы влияния «Очерков бурсы» Н. Я. Помяловского (насколько живо и сильно было это влияние во времена юности братьев, показывают произведения, печатавшиеся в «Азовском вестнике»: «Очерки из семинарской жизни» и «Из воспоминаний семинариста»). Прав был биограф Чехова А. Измайлов, заметивший, что «А. Седой, надо думать, увлекся в сгущении тонов этого быта, которого сам не был прямым свидетелем, и превратил его в кошмар, каким он не был». При всем том, сколько можно судить по воспоминаниям соученика Чехова по греческой школе, сына пономаря, И. Т. Петровского, характер преподавания и личность самого педагога – Н. Вутсинаса – переданы А. Седым верно.
И мы благодарно помним, что именно Александр Чехов обрисовал те стороны личности Антона Чехова, которые он обозначил как «Чехов-певчий» и «Чехов-лавочник», осветил те сферы и периоды жизни великого писателя, о которых кроме него не рассказал бы никто.
Помимо этих беллетризованных воспоминаний, у Александра Чехова есть еще несколько мемуарных текстов, которые заслуживают самого большего доверия из всей мемуарной литературы о детстве и юности Чехова. Это те воспоминания, которыми он делился в письмах к Антону. Лучшей проверкой их точности здесь должна служить реакция второго участника событий – и адресата, и самого строгого судьи. К счастью, мы ее знаем, «Твое поздравительное письмо чертовски, анафемски, идольски художественно» (3 февраля 1886 г.).
Речь – о большом письме Александра, где он вспоминает об их детстве. «Художественно» на языке Чехова, как известно, значило и «правдиво».
Письма Александра Чехова, столь высоко ценимые Антоном Чеховым, ясно показывают, что наибольшая и самая длительная духовная близость из всех членов семьи у Чехова была со старшим братом, который очень рано почувствовал в нем то, что другие поняли десятилетия спустя. Самый их тон воссоздает эмоциональную атмосферу общего детства братьев: «Однажды, “дружа” с тобою, я долго и тоскливо, глядя на твои игрушки, обдумывал вопрос о том, как бы мне избежать порки за полученную единицу…»
Из этого же письма Александра Чехова – о том времени, когда Антону было 12—13 лет: «Тут впервые проявился твой самостоятельный характер, мое влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как ни был глуп я тогда, но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего возраста, я, для того чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно, в сопровождении Гаврюшки, прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и, сам не знаю почему, заплакал…»
С тех пор и до конца жизни не было человека или доктрины, чьему влиянию, воздействию подчинился бы Чехов. И не было той силы – среды, семьи, обстоятельств, общественного мнения, – которая могла бы к этому его принудить.
4
Дети в семье Чеховых рано становились самостоятельными. С малолетства их помощь в доме, в лавке, в занятиях родителей была уже существенной. Очень рано заработки детей, и прежде всего Антона, стали основой благосостояния семьи.
Когда говорят, что Павел Егорович всем детям дал образование, это верно лишь в том смысле, что он не пустил их по торговой или ремесленной части, как это было принято в его среде и как поступили со своими детьми его братья, а определил их в гимназию. Заслуга не маловажная. Однако собственно при нем гимназию окончил только старший сын. Николай вышел из 5-го класса, Антон доучивался самостоятельно и сам зарабатывал на жизнь (Александр, впрочем, в старших классах тоже жил вне дома, за репетиторство получая стол и квартиру).
Семейные предания сохранили историю начала обучения в Москве Михаила. Занимался он своим устройством сам. Когда ему отказали в бесплатном приеме в одну гимназию, он пошел в другую, дальнюю, и сумел уговорить директора; с тех пор за ним установилась репутация: «Миша сам себя определил в гимназию».
Почти такая же история была и с Марией. «За пропуском всех сроков и за полным отсутствием вакансий ее решительно нигде не принимали, а может быть, за семейными заботами и перегрузкою в труде или из-за своей провинциальной непрактичности мои родители не сумели приступить как следует к делу. Но и тут обошлось все благополучно. Сестре удалось тоже самой определить себя в учебное заведение и кончить курс со званием домашней учительницы по всем предметам» (М. Чехов). Сама М. П. Чехова вспоминала, как она, будучи 14—15-летней девочкой, ходила с матерью и младшим братом снимать очередное жилье: «Мать, боясь собак, оставалась с братом у ворот, а я всегда смело входила во двор, расспрашивала о сдающихся внаём квартирах».
Когда еще делались попытки продать дом в Таганроге, к ростовщику Точиловскому Евгения Яковлевна отправила Антона. В письме к Павлу Егоровичу она со слов сына рассказала об этом разговоре: «Антоша пошел вчера на Вознесенье утром, стал говорить ему, что наш дом заложен в банке, и рассказал обстоятельно. Он подумал немного и спросил, а на какой улице ваш дом. На Конторской – был ответ. Точиловский как крикнет: это на том болоте, боже меня сохрани, нет, не надо, я не хочу с Таганрогом иметь дело, – с тем Антоша и пришел домой».
На долю Антона выпала самая большая самостоятельность. В 16 лет он остался в Таганроге один, без денег, в чужом доме. Хуже всего было то, что дом этот только недавно стал чужим: его, воспользовавшись стесненными обстоятельствами своих квартиродателей, путем ловкой махинации присвоил жилец Чеховых Г. П. Селиванов.
Знаток чеховской биографии А. И. Роскин проницательно отметил влияние этой потери на душу юного Чехова, которому пришлось «слишком хорошо понять, что такое безмерные унижения и человеческая низость. Тайное припрятывание остатков товаров в конюшне, возня соседей и родственников вокруг разоренного дела, стремление их поскорее выхватить из рук Павла Егоровича все, что можно выхватить, отец, бегущий от долговой тюрьмы, переговоры с ростовщиками, предательство человека, называвшего себя “членом семьи”, бессилие матери, необходимость начинать новую жизнь, одинокую и суровую, – все это навсегда запало в душу Чехова».
Биограф справедливо связывает это событие с несколькими произведениями Чехова, последнее из которых закончено в год смерти: «Чужая беда» (1886), «У знакомых» (1898), «Вишневый сад» (1904). Но эта тема преследовала его и раньше, отразилась еще в первой пьесе Чехова и в рассказе «Добродетельный кабатчик» (1883). Юношей он как бы в миниатюре лично прикоснулся к тому грандиозному процессу разорения родовых гнезд, который талантливо запечатлел столь ценимый им Сергей Атава (С. Н. Терпигорев) в книге «Оскудение» (1880).
Старшие братья еще застали благополучное время в жизни семьи и получили образование, к которому начало тяготеть наиболее просвещенное купечество с середины XIX века: на дом ходил француз, потом его сменила мадам Шопэ, Александр и Николай через несколько лет свободно болтали по-французски; для Николая был приглашен учитель музыки Рокко, учивший его играть на скрипке (потом Рокко стал капельмейстером в городском саду и на афишах стал подписываться «Руокко»). Иногда пишут, что Николай был самоучкой. Это, как видим, неточно: какое-то время он занимался музыкой с профессионалом, что позволило ему позже даже играть в квартете в Сокольниках.
Когда подрос Антон, ничего этого уже не было, – он получал обычное гимназическое образование.
Но ту бедность, которая заставляет считать копейки, состригать бахрому на брюках, спать на полу вповалку – бедность унижающую – Чехов застал уже в Москве. В годы его детства все было иначе. Мемуаристы отмечают почти маниакальное стремление Чехова к аккуратности, изяществу. Это было семейное. Изысканно, по моде одевался дядя, Митрофан Егорович. Почти щеголь был Павел Егорович. Он не признавал распространенную тогда, особенно среди мелкого купечества, униформу в виде поддевки и сапог бутылками. Он ходил в цилиндре, а потом, в Москве, – в только что вошедшей в моду мягкой шляпе. На семейной фотографии 1874 года видим щеголевато одетого мужчину с белоснежными манжетами и высокими воротничками. Никто не видел его не в крахмальной сорочке.
5
Двадцатого октября 1873 года братья Чеховы подали директору Таганрогской гимназии такое прошение: «Желая обучаться в ремесленном классе при Тагонрогском уездном училище по ремеслам (из нас: Иван переплетному и Николай и Антон сапожно-портняжному), имеем честь просить покорнейше Ваше высокородие сделать распоряжение о допущении нас к изучению вышеозначенных ремеслов, к сему прошению – ученик IV кл. Николай Чехов, ученик IV кл. Антон Чехов, ученик II кл. Иван Чехов».
В ведомостях о выдаче выполненных работ в 1874 году записано: «18 марта. Антону Чехову – триковый жилет из его материала, им же сделанный». Это были, видимо, те самые «неожиданного цвета брюки», которые на всю жизнь запомнил будущий артист МХТ, однокашник Чехова, А. Я. Вишневский.
Когда говорят, что Чехов получил демократическое (в 30-х годах писали: «трудовое») воспитание, то имеют в виду работу в лавке или портняжный эпизод. Но и то и другое все же было ремесло, дело, дающее реальные результаты. И не в этом было отличие детства будущего изобразителя будничной жизни от детства других русских писателей.
С самых ранних лет Чехов был погружен в быт. Хозяйство целиком вела Евгения Яковлевна. Помогали дети, чаще всего Антон, – как самый безотказный. «Куда послать, что поручить – все Антоша делал», – вспоминала его тетка М. И. Морозова. Он ходил на базар за провизией (что в мало-мальски обеспеченных, даже мещанских семьях было делом кухарки), убирал квартиру, заправлял керосином лампы, носил воду, даже белил комнаты, сам стирал себе воротнички для гимназической формы. Вряд ли кому из больших русских писателей, включая шестидесятников, поповских детей, – до Горького – приходилось заниматься этим с детства. Когда Бунин для учебы в гимназии должен был уехать из нищего родительского имения и поселиться в Орле на хлебах у старообрядца-мещанина, где он «сам должен был чистить свое платье и башмаки и стелить свою постель», это показалось ему верхом униженья.
Тяжесть такого быта – в утомительном однообразии, бессмысленной повторяемости домашних дел, которые на другой день в том же количестве набегают снова, в их отупляющей нескончаемости, что особенно тяжко для юного сознания, которое заполняется этим целиком. Но не только для юного – потом Чехов покажет, как при постоянном контакте с недуховным, при отсутствии внутреннего сопротивления человек погружается в «бытовое» полностью, как мир духовный целиком замещается миром вещно-бытовым. Эта ситуация была понята Чеховым не наблюдательски, но осознана и почувствована изнутри.
Глава третья ЛАВКА, СТЕПЬ, ЛИТЕРАТУРА
1
Что такое была лавка, в которой должен был проводить многие часы будущий писатель в годы самого живого, глубокого восприятия впечатлений?
В лавку заходили жены местных чиновников, сами чиновники, учителя, приказчики, полицейские, мелкие торговые маклеры, монахи, драгили (ломовые извозчики), рыбаки, сапожники, конюхи, кухарки – вообще прислуга, вроде той озябшей девки, которая все время забегает в «торговое предприятие» чеховского героя («История одного торгового предприятия», 1892).
Лавка в провинции – это всегда и своеобразный клуб, куда приходят узнать новости, поговорить. Заведение Павла Егоровича играло эту роль тем более успешно, что выполняло еще и функции «ренскового погреба», где всегда можно было выпить рюмку водки или стакан сантуринского. Антон видел длинную вереницу проходящих мимо него лиц всех сословий, общественных групп и профессий в той обстановке, где они, не стесняясь, могли обсудить свои профессиональные и прочие дела. Они говорили.
Таганрог был разноязык. И сама русская речь в нем была пестра, многодиалектна: в ней причудливо сочетались черты южновеликорусских говоров, украинизмы, варваризмы, имеющие истоком самые неожиданные языки.
Чехов не слышал той образцовой русской речи, которую с младенчества впитывали Тургенев, Толстой, Лесков, Бунин… От многих местных речевых влияний он потом должен был освобождаться. Но необработанная красочная речевая лавина была и неистощимым кладезем выражений, речевых ситуаций, профессионализмов.
Вот кухарка требует селедки на две копейки, поваренок «на копейку лаврового листа и перца пополам», горничная пришла купить пуговиц, чиновник – вексельной бумаги, гимназист – перочинный ножик… Герой уже упоминавшегося рассказа «История одного торгового предприятия» открыл книжный магазин, но потом стал продавать в нем карандаши, перья, ученические тетрадки, позже – кукол, барабаны, мячи, еще позже – гигиенические кальсоны для детей, соски, а также лампы, велосипеды, гитары и кончил тем, что «торгует посудой, табаком, дегтем, мылом, бубликами, красным, галантерейным товаром, ружьями, кожами и окороками». Быть может, Чехов знал аналогичную реальную историю, случившуюся в Таганроге: «Вскоре один из книжных магазинов присоединил к книжному делу контору поручений, ссуду денег под залог легких вещей, продажу чая и косметиков и т. п., желая поддержать книжную торговлю» (из заметки в «Петербургской газете», 1874 г.). «Здесь, в провинции, нельзя узко специализироваться», – размышляет герой чеховского рассказа.
Павел Егорович и не специализировался. В его лавке было все. Здесь продавалось масло деревянное и конопляное, крахмал, фисташки, рыба простая (тарань, вяленая) и красная, балыки, сардины, оливки, орехи грецкие, кедровые, чернильные и мускатные, сарачинское пшено (рис), горох. Мешки с мукой стояли рядом с сельдяными бочонками, с цыбиками чаю мирно соседствовали мыло и нашатырь, вакса располагалась рядом с помадой, рахат-лукум – с табаком анатолийским, бессарабским тертым, крошеным и в листах, камфора и касторка – с кофе аравийским в зернах. Тут можно было купить сургуч, ружейную отвертку, александрийский лист, пуговицы, сандал, фитиль, ревень, пучки свиной щетины для дратвы, квасцы, марену, «семибратную кровь» (нерастворимый коралл), трут, имбирь и много чего еще. («Инбиря 2 золотника, калгана 1½ зол., острой водки 1 зол., семибратней крови 5 зол.» – «Из дневника помощника бухгалтера», 1883.)
Это был вернисаж названий, речений, обширнейший предметно-наглядный лексикон.
Иногда в лавку заходил представитель санитарной комиссии и, получив свои два двугривенных, уходил, оставив печатные «Санитарные правила». Согласно таковым разрешалось продавать исключительно: «Муку картофельную чистую, ни с чем не смешанную, не затхлую и без хрусту; крупу овсяную, ячную, смоленскую – сухую, чистую, без мучнистых частей, без сору; рис персидский свежий, просвечивающий, мучнистый и без песку; горох крупный, белый, сухой, пополам не разбитый; масло коровье не горькое, чтоб не пахло салом; масло подсолнечное, кунжутное, конопляное, маковое и ореховое хорошо отстоянное, не прогорклое, без поддонки».
На углу прилавка всегда лежал «Азовский вестник» вверх четвертой страницей – с объявлениями. Почти ежедневно в нем можно было прочесть, что «по причине окончательного прекращения торговли» распродаются «обои, бордюры и багет, сигары гаванские и рижские, платки батистовые, вуали, тюль, галстухи, стулья венские, мельхиоровые вазы для блинов, американские швейные машины фабрик Вильсона и Виллера, а также Зингера и Гове, петролеум настоящий очищенный в жестянках…»
Или – о поступивших в продажу настоящих английских, французских и польских сукнах, трико, драпо, фланели, баржета, фая, сисильена, о том, что есть в выборе французский перкаль, коломенко, разноцветный репс, сарпинка полушелковая (мытая), сарпинский кашемир, сарпинская бумазея, поплин гладкий и экосе, парусина и равендук, полотно настоящее Биелефельдское.
Объявляется необыкновенно дешевая распродажа, где вниманию гг. покупателей предлагаются тканевые одеялы, одеялы касторовые и байковые, пикейные покрывала, персидские ковровые шали, бомазей, кошениль и пр.
«– Есть ленты с пико, атаман с атласом и атлас с муаром! […] Два сорта кружев, сударыня! Бумажные и шелковые! Ориенталь, британские, валенсьен, кроше, торшон – это бумажные-с, а рококо, сутажет, камбре – это шелковые… […]. Испанские, рококо, сутажет, камбре… Чулки фильдекосовые, бумажные, шелковые…» («Полинька», 1887).
Невольник – сиделец лавки с вошедшей в русскую литературу вывеской «Чай, сахар, кофе, мыло, колбаса и другие колониальные товары» – в детстве был обречен на постоянное принудительное наблюдательство.
2
Столь же насильственно мальчик Чехов был окунаем и в стихию церковнославянского языка – обязательным посещением вечерни и заутрени (сначала с нянькою), слушанием акафистов дома, ежедневным чтением Евангелия и Псалтыри, пением в церковном хоре. Но – странное дело! – в гимназии на уроках «закона Божьего» он стал любимым учеником преподавателя этого предмета Ф. П. Покровского, обессмертившего себя придуманным своему ученику прозвищем «Чехонте».
Протоиерей Федор Платонович Покровский вышел младшим кандидатом из Киевской духовной академии в 1857 году и вскоре получил место настоятеля Таганрогского собора, а в 1865 году был назначен законоучителем в Таганрогскую первую мужскую гимназию. В академии он получил широкую философскую подготовку и любил в разговоре щегольнуть именами философов не только духовных. У него был прекрасный низкий баритон (в юности он готовился к карьере оперного певца), и на его службы в соборе стекался весь город. Во время русско-турецкой войны (1853—1857) он занимался сбором пожертвований среди прихожан на санитарные нужды, за что получил знак Общества Красного Креста и благодарность (в подобных же сборах отличился дядя Чехова Митрофан Егорович), а впоследствии (не без участия Чехова) был представлен к болгарскому ордену.
С местным духовенством Покровский постоянно конфликтовал, на него писали доносы, одно время его даже отстранили от служб в соборе. Был он человек светский, прекрасный оратор. «Как поживает поп Покровский? – спрашивал Чехов в письме 1883 года. – Еще не поступил в гусары?» Был он не чужд литературы. На уроках священной истории говорил о Гёте, Шекспире, Пушкине, Лермонтове; от него впервые гимназисты слышали имена некоторых современных писателей. На отпевании Н. В. Кукольника он произнес большую речь, в которой излагал литературную биографию покойного. Недогматически настроенный, он не любил Павла Егоровича за религиозный формализм.
Был Покровский большим любителем разного рода речевой игры. Прозвище он дал не только Чехову. Приятель Антона Андрей Дросси звался у него «Дросос», были переименованы и многие другие гимназисты. Через много лет, прося Чехова прислать свои сочинения, Покровский написал: «Поброунсекарствуйте старику», скаламбурив имя Броун-Секара, изобретателя широко рекламируемой тогда «омолаживающей» жидкости. Покровский был носителем давней бурсацко-семинарской традиции – словесной игры с церковнославянизмами, использования их богатейшей красочной палитры и выразительности для разного рода образных и юмористических целей. Употребление церковнославянизмов в сатирических целях – одна из заметнейших черт стиля М. Е. Салтыкова-Щедрина, особенно любимого и часто цитируемого на уроках Покровским.
Эту традицию живо впитывали братья Чеховы. Она очень сильно чувствуется в письмах старшего брата – начиная с обращений: «Велемудрый Антоние!» – «Глубокопочтенный и достопоклоняемый братец наш Антон Павлович!» – «Толстобрюхий отче Антоние. Да возвеличит господь чрево твое до величины осьмиведерного бочонка и да даст тебе велий живот и добрый».
В этом стиле в письмах Александра выдержаны целые сценки, рисующие жизнь семьи в первые годы пребывания в Москве:
«Часто по вечерам собираются Чеховы обоего пола, Свешниковы и вообще вся Гавриловщина […]. По мере промачивания гортаней голоса очищаются и ярые любители согласованного пения начинают вельми козлогласовать […]. И все идет согласованно и чинно, услаждая друг друга и по временам лобызаясь в заслюненные от сладости уста. Иногда же некто, дирижировавший во дворце (Павел Егорович. – А. Ч .), тщится придать концерту еще вящую сладость, помавает десницею семо и овамо, внушительно поя “Достойно” на ухо поющему “Лучинушку”. Жёны же благочестия исполняются и, откинув ежедневные суетные помышления, беседуют о возвышенных материях, как то: о лифах, турнюрах и т. п. Долго таковая беседа продолжается, дондеже ризы не положатся вместе с облаченными в них…» (март 1877).
Такие письма Антон Чехов получал, когда едва начинал пробовать перо. К этому стилю, макаронически перемешивающему церковнославянизмы со словами самыми современными и копирующему мелодику библейской речи, близки многие места из рассказов раннего Чехова:
«Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися! Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ратоборцы и труженики на поприще гласности? […] Доктор сквернословия есмь и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал да на диспутах разнородных прощелыг побеждал […] А что я, други мои, претерпел в то время, так одному только богу Саваофу известно… Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу […]. Страдал и мучился за идеи и мысли свои; за поползновение к труду благородному мучения принимал» («Корреспондент», 1882).
Любопытно сравнить употребление одного и того же приема у братьев: Антон делает это без нажима, не сгущая, не нагнетая славянизмы, используя их как знак, налет, легкую краску.
Юмористическое, сатирическое использование церковнославянизмов – это лишь первый по времени и глубине пласт. Влияние на Чехова этой речевой традиции была долговременное и многоохватное. Справедливо заметил первый биограф Чехова, А. Измайлов:
«Тяготение отца к церкви и к “божественной” книге, семейные чтения из Четьи Минеи нечувствительно держали А. П. в общении с чудесным старым языком, не позволяли ему забыть его и разминуться с ним, как случается с огромным большинством русской интеллигенции, создавали в нем то чуткое ощущение простого исконно русского слова, которое неизбежно вызывало антипатии ко всякой наносной иностранщине […]. В его книгах можно найти сотни доказательств того, как в ощущении простоты, красоты и, скажем, родовитости слова, исконной его принадлежности к русскому языку его выручало обращение к корням языка житий, прологов…»
Среди проповедников, которых приходилось слушать в детстве Чехову, был настоятель таганрогской Архангело-Михайловской церкви В. Н. Бандаков; в его изданных в 1887 году проповедях есть «Поучение по случаю всенощного бдения, совершенного в доме Чехова». Проповеди его были не совсем обычны. Об их авторе Чехов потом напишет: «Обладая по природе своей крупным публицистическим талантом, в высшей степени разнообразным, он редко останавливался на отвлеченных богословских темах, предпочитая им вопросы дня и насущные потребности того города и края, в котором он жил и работал; неурожаи, повальные болезни, солдатский набор, открытие нового клуба – ничто не ускользало от его внимания […]. Он не боялся говорить правду и говорил ее открыто, без обиняков; люди же не любят, когда им говорят правду, и потому покойный пострадал в своей жизни немало» («В. А. Бандаков. Некролог», 1890).
3
Таганрог имел и третий лик – степной, морской. Не морской торговый, но морской солнечный, песчаный. Город стоял на берегу теплого залива, а прямо за шлагбаумом начиналась степь.
В гавани ловили рыбу на удочки. Павел Егорович к такому занятию относился терпимо – была «маленькая польза». Антон смастерил поплавки-человечки: когда рыба клевала, человечек погружался и подымал руки кверху. Бычков ловили сотнями. Столько было не нужно, они портились, но остановиться не могли. «Плескание» и лежанье на песке Павел Егорович не одобрял, но все же ходили и просто купаться, заплывали далеко, ныряли. (Когда Чехов возвращался с Сахалина Индийским океаном, он придумал себе развлечение: нырял с носа парохода на полном ходу и хватался за конец, кинутый с кормы.)
С моря возвращаться приходилось рано; пока проходили Банный спуск, снова становилось жарко. Копейка, чтобы купить «сахарного» мороженого у мороженщика Григория, бывала редко.
«У кого есть копейка, тот ест из зеленой рюмочки, ест долго, с чувством, толком, расстановкой, боясь не уловить минуты блаженства, чавкая, облизываясь, облизывая пальцы. Один ест, а десятка два не имущих копейки стоят “руки по швам” и с завистью заглядывают в рот счастливчика. А тот ест – и ломается…
– Пётра, дай… ложечку! – стонет девочка, следя за правой рукой счастливчика.
– Отстань! – говорит счастливчик и крепко сжимает в кулаке зеленую рюмочку.
– Пётра! – стонет мальчик в большом отцовском картузе. – Одолжи!
– Чего?
– Сахарного морожена. Немножко. (Пауза.) Дашь? Ты ложечку. Я тебе пять бабок дам.
– Отстань! – говорит счастливчик.
Счастливчик съедает свою порцию, долго облизывает губы и долго-долго живет воспоминаниями о сахарном мороженом» («Ярмарка», 1882).
Но зато когда у братьев появились свои деньги от продажи птиц, от репетиторства, – они стали постоянными клиентами мороженщика.
Попав через 7 лет снова в Таганрог, Александр Чехов напишет брату: «Видел мороженщика Григория. Он узнал меня и осклабился с фразою: “Господин Че-е-ехов!” Я купил у него мороженого, заплатив впятеро, но не ел из предосторожности».
Зимой Таганрогский залив был неприветлив, подледный лов рыбы опасен. Сбивались в артели, ловили огромными неводами – до 300 сажен длины, влекомыми подо льдом (попадались белуги до 90 пудов весом). Ловили и в одиночку. Все время рассказывали, как провалился под лед то местный мещанин, то двое каких-то пришлых, то лошадь. Когда вдруг начинался ураганный ветер, метель, на льду, в десятках километров от берега, замерзали целыми артелями. Иногда ветер взламывал лед и рыбаки оказывались отрезанными от берега.
Один из таких случаев запомнился братьям. Александр Чехов описал его в рассказе «Ночной трезвон», сохранив, как обычно, в точности все реалии (приморский город, семь церквей, сорок два рыбака и т. п.):
«Ночь под Рождество. Все церковные службы давно уже окончены […], но с колоколен всех семи церквей города несется беспрерывный и в то же время беспорядочный трезвон. […] Третий день уже бушует беспросветная и беспрерывная вьюга. […] Еще два-три такие ужасные дни, и весь приморский большой город будет до крыш занесен снегом и потонет в сугробах […]. Сорок два рыбака погибают там, далеко, верст за тридцать в открытом море, на льду… Для них-то и раздавался ночной трезвон во всех церквах города».
Антон Чехов использовал впечатления этих дней в рассказе «В рождественскую ночь» (1883):
«Если метель в последние два дня на море не засыпала снегом Литвинова и его рыбаков, то они спешат теперь к берегу. Море вздулось и, говорят, скоро начнет ломать лед. Лед не может вынести этого ветра […]. Сквозь вой ветра можно было расслышать звон. Это звонили наверху, в рыбачьей деревушке, на ветхой колокольне. Люди, застигнутые в море метелью, а потом дождем, должны были ехать на этот звон, – соломинка, за которую хватается утопающий».
От задов кладбища уже шли засеянные поля; они тянулись до самого горизонта. Петровская роща, чаще называемая Дубками, тоже была окружена хлебами. Дальше начиналась степь.
«А за кладбищем дымились кирпичные заводы […]. За заводами кончался город и начиналось поле […]. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали. […] Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля…» («Степь», 1888).
Первую попытку описания приазовской степи находим еще в рассказе 1882 года – «Двадцать девятое июня».
Птиц Антон знал профессионально, и когда через несколько лет он попал на знаменитый московский птичий рынок на Трубной площади, нового там для него оказалось мало…
За городом было множество балок – Воловья, Большая и Малая Черепахи, Кагатов овраг. Весною они превращались в бурные речки.
В степи стояли курганы; больших, впрочем, не было – самый высокий, по измерениям местных естествоиспытателей, составлял 25 футов. Но и с них обзор получался хороший: степь лежала ровная.
«…Видны были все курганы и далекая, похожая на облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнозоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог» («Счастье», 1887).
«Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал в ней себя как дома и знал там каждую балочку» (1898).
Это была пригородная, «домашняя» степь. Настоящая степь начиналась дальше, верстах в сорока от Таганрога; ее Антон видел, когда ездил с братьями на лето в деревню Княжую, к деду, управляющему имением графини Платовой. До деревни было шестьдесят верст, на волах ехали с ночевкой; спали под звездами.
Заезжали в село Криничку, ловили бреднем рыбу; больше попадались раки, что тоже было недурно, трудно было только выпутывать клешни и раковые шейки из ячей.
Княжая являла собою обветшавшую барскую усадьбу с большим садом, спускавшимся к реке, и огромным пустующим барским домом; в этом доме и селили братьев.
Начинались другие впечатления. Дед считал, что все его занятия очень интересны, – и брал кого-нибудь из внуков в свои объезды на беговых дрожках полей, огородов, где каждые два-три дня сменялись подённые рабочие из самых разных губерний. Обедали с ними, слушали их рассказы. Объезжали тока, где вовсю шла молотьба.
«Вокруг столба, вбитого в самую середку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали двенадцать лошадей. […] Из-под их копыт ветер поднимал целые облака золотистой половы и уносил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирд копошились бабы с граблями и двигались арбы…» («Красавицы», 1888).
Сторонним наблюдателем, впрочем, Чехову не удавалось быть и здесь. «В детстве, живя у дедушки в имении гр. Платова, – вспоминал он, – я по целым дням от зари до зари должен был просиживать около паровика и записывать пуды и фунты вымолоченного зерна; свистки, шипенье и басовой, волчкообразный звук, который издается паровиком в разгар работы, скрип колес, ленивая походка волов, облака пыли, черные, потные лица полсотни человек – все это врезалось в мою память, как “Отче наш”» (письмо к А. С. Суворину). Может, потому и врезалось (как лавка, как церковные службы), что это наблюдательство работника, участника?
Два лета – после 6-го и после 7-го класса – Чехов провел на хуторе родителей ученика, у которого был репетитором, – Пети Кравцова. Это был уединенный «печенежский» хутор, «аул полудиких народов». Стены дома увешаны ружьями и пистолетами, все окна заставлены жестянками с порохом и мешочками с дробью. Мальчиков будили выстрелы: хозяин бил из ружья в ворон, сорок, воробьев, которые могли бы нанести вред хозяйству. Пальба шла беспрерывная – даже если нужны были курица или гусь к обеду, в них стреляли. Охотились конечно, не только на ворон и кур – вокруг было много болотной дичи, дроф, бекасов. Не научиться стрелять, живя здесь, было невозможно. Выучился Антон и ездить верхом – можно было брать любую из пасущихся вокруг хутора стреноженных лошадей и, распутав, скакать без седла куда угодно.
Приехав в родные места уже известным писателем, Чехов писал: «Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-Могилу […], вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен». Но все это оказалось нужным ему самому, и не только как «материал» – это вошло в структуру его личности.
«Кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель и его до самой смерти будет потягивать на волю» («Крыжовник»).
Природа для Чехова – часть его существования. Времена года – важные этапы жизни. Любая перемена погоды – явление, равноценное литературным, общественным делам: о дожде, снеге он упоминает в письмах в одном ряду с ними. Прилет птиц – крупнейшее событие, он пишет о нем Суворину в марте 1891 года вместе с сообщением о работе над «Дуэлью». С вниманием и волнением вглядывается он в природу во время сибирского путешествия и с восторгом сообщает в письмах к нескольким корреспондентам, что целый месяц видел солнце от восхода до заката.
Всем этим он обязан своему степному детству. Свою связанность с природой он всю жизнь ощущал очень остро; его настроение барометрически реагировало на погодные изменения. В своих рассказах он показал глубокое влияние состояния природы на психику человека. Человек «оприрожен», природа – очеловечена. Деревья, цветы, облака, собаки, волки чувствуют и думают, как люди («Агафья», «Каштанка», «Белолобый», «Страх»). Они огорчаются, радуются, волнуются, грустят. В рассказе «Красавицы» лошади, «не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, и обиженно помахивая хвостами». Волчиха из «Белолобого» – домашнее, понятное, чадолюбивое существо: «Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. […] Ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая…»
Среди ранних вещей Чехова есть очерк «На волчьей садке» (1882), где описывается жестокое зрелище: травля волков, устроенная на Ходынском поле в Москве: «Волк […] осматривается… Нет спасения. А ему так жить хочется. Хочется жить так же сильно, как и тем, которые сидят на галерее, слушают его скрежет зубовный и глядят на кровь». В чеховское время так не писал никто. «Говорят, что теперь девятнадцатое столетие. Не верьте, читатель. В среду, шестого января, в европейском и даже столичном городе Москве […] сидели люди и наслаждались зрелищем». Что это нам напоминает? Конечно же: «Седьмого июля 1857 г. в Люцерне, перед отелем Швейцергофом […] около ста человек слушало его…» (Л. Толстой. «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн»).
Толстой пишет об унижении, которому подвергся в цивилизованной Европе, на глазах у всех, человек. Для Чехова столь же важным в нравственном смысле оказывается бесчеловечное отношение к животным.
О природе и животных писали многие. Сочинения С. Аксакова, Пришвина останутся навсегда – в будущем, быть может, они предстанут как описание прекрасного облика прежней планеты и удивительных животных, которых уже давно нет.
Но сейчас нам, пожалуй, важнее опыт Чехова, который писал не об уникальной жизни человека наедине с природой в краю непуганых птиц, а о повседневном общении с ней человека современной цивилизации в условиях города, квартиры, пригородной дачи. В произведениях и в собственной жизни Чехов дал образцы истинной этики человека в его общении с братьями нашими меньшими.
О его характере и даже внешности в гимназические годы сведения противоречивы. Одни соученики вспоминали, что он был полным, другие – что «худощавым на вид, но крепышом». Одни запомнили его «вялым увальнем с лунообразным лицом» (П. А. Сергеенко), «букой» (Г. Тан-Богораз), другие, в том числе домашние, – как «весельчака, шутника, острослова». Современник прав: «Очевидно, мальчик развертывался охотнее дома, чем в гимназических стенах». Но на мнении о «весельчаке» лежит явный отсвет последующей славы юного писателя-юмориста. Во всяком случае, вызывают сомнение воспоминания о том, как юный Чехов читает смешные рассказы «по тетрадочке», потешая этим всю гимназию.
Но независимо от того, насколько это проявлялось вовне, юмористический настрой несомненно был сильным. Любовь к прозвищам (начавший ухаживать за барышнями Александр получил прозвище Волокитич Фаленюга, вечно хныкавший в детстве Николай – Зюзя Калич Мордокривенко), к каламбурам, к обыгрываньям латинских цитат и немецких слов, церковнославянизмов бьет в глаза в ранних письмах, ранних рассказах Антона Чехова и его первой пьесе, еще тесно связанных с детским и юношеским словесно-тематическим багажом.
Несомненно, сильна была и артистическая жилка, желанье имитировать, пародировать жесты, манеры.
М. Д. Дросси-Стайгер, сестра гимназического приятеля Чехова, вспоминает: «Полина Петровна была старая дева, очень жеманная, непрестанно оправлявшая на себе платье и красневшая по всякому поводу. Антоша изумительно копировал ее манеры. Бывало, Антоша ее передразнивает, а она потом входит, – и трудно было удержаться от смеха».
Вспоминает приятель отца Чехова, Ф. П. Чангли-Чайкин: «При приходе брата (Митрофана Егоровича. – А. Ч. ) Павел Егорович встречает его с распростертыми объятиями. Дядя, будучи человеком религиозным, безмолвно направляется к углу с иконами и начинает набожно креститься. Отец остается с протянутыми руками. Так как икон много, то моление продолжается долго. Хозяин опускает протянутые для встречи гостя руки и тоже начинает молиться. Наконец дядя кончил молиться и, оборачиваясь, протягивает руки. Теперь молится хозяин, а гость стоит с протянутыми руками». Эту сцену потом не раз в лицах представлял Антон.
Сведения о детских забавах и шалостях братьев Чеховых скудны (может быть, их было не так много?..). Но о некоторых мы знаем. Играли в лапту (Антон – отлично), в бабки, ловили тарантулов в степи, жарили рыбу на берегу, клеили воздушные шары из папиросной бумаги, заполняя их светильным газом при помощи шланга, надеваемого на рожок загашенного уличного фонаря (Павел Егорович узнал, окончилось большой поркой), принесли домой череп и кости, сильно напугав сестру. Правдивость последнего эпизода М. П. Чехова впоследствии оспаривала, но А. А. Долженко, автор воспоминаний, возражая ей, стоял на своем. Какая-то историй с черепами и костями (быть может, и не одна) несомненно была: о подобном эпизоде вспоминала А. Л. Селиванова-Краузе (черепом пугали и ее); сюжет, с ними связанный, положил в основу своего рассказа Александр Чехов («Жертвы науки. Из воспоминаний детства», 1887), а он, сгущая отдельные подробности, в целом сами эпизоды обычно не придумывал.
Еще меньше дошло до нас сведений, рисующих общественный темперамент Чехова – даже в Московском университете, не говоря уже о гимназии. Тем ценнее каждое такое свидетельство. Однокашник Чехова таганрогский врач И. Л. Шамкович рассказывал корреспонденту киевской газеты в 1914 году:
«Как-то раз у класса вышло какое-то недоразумение с преподавателем словесности Мальцевым. Класс решил не подавать очередного сочинения. Чехов согласился с этим решением. Тем не менее один из учеников, ныне здравствующий, сочинение подал. Поступок изменника возмутил другого ученика, сейчас видного присяжного поверенного на юге, и он ударил изменника по лицу. Увидя это, Чехов не выдержал, пришел в сильное волнение и воскликнул: “Это глупо, это дико!”»
Реальность этого эпизода получила неожиданное подтвержденье через 60 лет. В 1935 году, во время празднования 75-летия со дня рождения Чехова, в таганрогском театре с воспоминаниями в числе прочих выступил престарелый И. Л. Шамкович. С некоторыми вариациями он изложил тот же эпизод: «В. ударил заподозренного по лицу, пользуясь тем, что был посильнее. Гимназист Антон Чехов подошел к В. и сказал тихо, но крайне выразительно: “Как тебе не стыдно!”»
«В момент, когда со сцены произносилась эта фраза, – вспоминает один из находившихся тогда в театре, – из глубины театрального зала раздался несколько хриплый, но отчетливый старческий голос: “Мне и сейчас стыдно!” Оказалось, что в зрительном зале присутствует согбенный годами В.» [2]
Соученик Чехова В. Г. Богораз (печатавшийся под псевдонимом Тан) однажды написал: «Таганрогская гимназия в сущности представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный батальон, только с заменою палок и розг греческими и латинскими экстемпоралиями» (сложными переводами с родного языка). Это хлесткое высказывание многократно цитировалось, несмотря на его очевидные преувеличения.
В 1837 году таганрогская коммерческая гимназия, основанная в 1806 году, была преобразована в 7-классную гимназию. В 1843 году гимназия перешла в специально построенное каменное здание. Здание было хорошее. В нижнем этаже помещались классные комнаты, библиотека, историко-географический музей, канцелярия гимназии, квартира директора. В верхнем этаже – актовый зал, большая часть классных комнат. Классы были светлые, в середине 70-х годов они были оборудованы партами-скамейками по системе Кунце (такие парты просуществовали до 60-х годов нашего века). В актовом зале, помимо полагающихся официальных портретов, висела копия, писанная маслом, «Сикстинской Мадонны» Рафаэля. Там же были две «золотые доски», куда заносились фамилии выпускников-медалистов. Последние четыре года Антон видел там свою фамилию: в 1875 году с серебряной медалью окончил гимназию Александр Чехов.
Это была обычная гимназия того времени – с инспекторами, глазками-окошечками в классных дверях, обязательными проходами по коридорам директора, дежурствами инспекторов в парках, в театре. Атмосфера смягчалась тем, что директор, Э. Р. Рейтлингер, был человеком добродушным. Братья Чеховы были с ним в хороших отношениях: Александр был репетитором у его детей и в последний свой гимназический год даже жил у него на квартире. Антона соученики запомнили прогуливающимся с директором по гимназическому коридору.
Ежегодно в мае устраивалась экскурсия в Дубки.
«Экскурсии эти, – писал историк Таганрогской гимназии, – имели характер полной непринужденности и были исполнены искреннего детского веселья и оживления». Однако, по воспоминаниям одного из учеников, само путешествие у гимназистов успеха не имело. И понятно, почему: по словам того же историка, «ученики гимназии отправлялись туда пешком в сопровождении начальника гимназии, инспектора и преподавателей». Но по прибытии в рощу все менялось. Расстилали скатерти, ставили самовары. Предлагалось даровое угощенье: бутерброды, молоко, чай, апельсины… «Преподаватели, – вспоминает другой участник этих маёвок, – забыв на время всякую официальность и вспомнив свою юность, снимают сюртуки и превращаются в тех же гимназистов, дурачатся, бегают взапуски, борются, прыгают друг через друга; гимназисты прыгают через них, “салят” мячом их; смех, шум, крик, общая свалка. Стена, созданная циркулярами и инструкциями и отдаляющая мир учеников от преподавателей, рушится, и лед, покрывавший в течение года все отношения учеников и преподавателей, тает». Играли в мяч, в чехарду, «в беглых». Антон больше всего любил лапту.
Это была классическая гимназия, и для того времени отнюдь не хуже прочих. От поступающих в 1-й класс требовалось: по русскому языку «умение бегло и со смыслом читать и пересказывать легкие рассказы на предложенные вопросы, а также писать под диктовку без искажения слов и уметь читать по-церковнославянски», по арифметике – знание первых четырех действий. Подавляющее большинство получало все эти сведения в приготовительном классе (23 августа 1868 года в приготовительный класс поступил и Антон Чехов).
Большое значение придавалось древним языкам – из-за них чаще всего оставляли учеников на второй год. Но в гимназии хорошо было поставлено преподавание естественных наук, силами учеников и педагогов велись метеорологические наблюдения, печатавшиеся в местной газете, в кабинетах были новейшие приборы, имелся телескоп. В 1872 году «Азовский вестник» сообщал о том, что «инспектор Каменский намерен познакомить таганрогскую публику с недавно приобретенным для физического кабинета гимназии фотоэлектрическим микроскопом Дюбоска».
Преподавание велось по обычной гимназической программе: всеобщая и русская история, история Древней Греции и Рима, география России, теория словесности, история русской словесности. Русская литература заканчивалась на «Антоне Горемыке» и «Записках охотника».
Лев Толстой считался уже текущей литературой: о «Войне и мире» гимназисты делали «свободные доклады» на ежегодных собраниях, посвященных чтению и толкованию выдающихся образцов отечественной и иностранной словесности.
Но гимназией образование не исчерпывалось – очень рано Чехов начал много читать.
Что он читал?
5
С 16 до 18 лет Чехов прожил в Таганроге один. Эти годы – ключевые для понимания его личности: в Москву он приехал уже другим человеком. Меж тем они – самые глухие и темные в его биографии.
Главная потеря этого времени – утрата писем, которые он регулярно писал семье в Москву. Сохранилось только два – родителям (20 июня 1878 г.) и брату Михаилу (5 апреля 1879 г.). Во втором из этих писем Чехов размышляет о человеческом достоинстве, высказывает свои литературные вкусы и оценки (после чтения Бичер-Стоу – «неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки»), дает советы (читать Сервантеса, читать статью Тургенева «Дон-Кихот и Гамлет», «Фрегат Палладу» Гончарова).
Письмо это цитировалось тысячекратно, что понятно, ибо оно, по сути дела, единственный достоверный источник сведений о круге чтения, литературных пристрастиях Чехова-юноши.
Знакомство с мировой культурой мальчик Чехов начал с Библии, знакомство с современной умственной жизнью – с газет. Начал очень рано: Павел Егорович имел привычку читать газету вслух или заставлять делать это кого-либо из детей, потом они еще должны были пересказывать прочитанное.
Что такое была провинциальная газета 70-х годов XIX века?
В 1817 году во всех губернских городах по правительственному указу начали выходить губернские ведомости. Кроме обязательной официальной части, печатавшей монаршие распоряжения, телеграммы, сведения о назначениях и продвижениях по службе, была часть неофициальная, в которой помещались статьи на сельскохозяйственные темы, краткие рецензии на спектакли (не всегда), отчеты о благотворительных вечерах. Часть официальная была скучна, неофициальная – интереснее не намного.
В Таганроге, как городе не губернском, местная пресса появилась позже. В 1859 году начал выходить «Полицейский листок», в 1870 году он был переименован в «Ведомости Таганрогского градоначальства».
В начале 70-х годов в провинции возникло множество частных газет; в Таганроге тоже появилась такая газета, издавал ее крупный местный бакалейщик и владелец типографии П. С. Муссури, редактором был преподаватель гимназии Ф. Р. Браславский. Называлась газета «Азовский вестник»; выходила она в 1871—1878 годах. Это была газета чеховского детства.
Как и в «Ведомостях Таганрогского градоначальства», в ней печатались правительственные сообщения и городские административные распоряжения, но зато здесь помещались подробные разборы спектаклей местного театра или гастролеров, был литературный отдел, широко перепечатывались корреспонденции из других газет – как вообще в провинциальной прессе («Стрекоза» острила: «На транспорт ножниц, следовавший из Тулы в С.-Петербург, произведено было нападение вооруженною рукою. Весь транспорт расхищен. Есть основания к подозрению, что дело не обошлось без участия редакций провинциальных изданий»). В разделе «Разные известия» можно было прочесть сообщения о путешествиях Д. Ливингстона и Н. Миклухо-Маклая. Писали об ухудшающемся климате – засухах, пыльных ветрах (словосочетание «пыльная буря» еще не привилось). Причину видели в вырубке лесов – как на юге, так и в Поволжье. Все чаще писали о необходимости лесных посадок. Когда Чехову было 16 лет, в газетах было опубликовано высочайшее повеление об установлении ежегодных премий за труды по разведению лесов и посадку деревьев в Херсонской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Воронежской, Харьковской, Курской, Полтавской губерниях, за наилучшее по правилам лесного хозяйства устройство лесных дач.
В последние гимназические годы Чехов, когда уже жил один, выписывал популярное тогда периодическое издание – «Газету Гатцука», приложение к еще более известному «Календарю» того же издателя. Эту газету не раз упомянет через несколько лет Чехов-фельетонист.
Гатцуковское издание обрушивало на своего читателя целую лавину разнообразных сведений: об устройстве чернилиц (так это слово писал и Чехов), о филоксере, о филадельфийской выставке, о способе сохранять куриные яйца свежими в течение двух лет (обмазывать их парафином), о том, как сделать кожаное пальто непромокаемым, как закаливать стекло и т. п. Потом, в Москве, Антон Павлович будет поражать сестру, давая ей вычитанные у Гатцука советы по крахмаленью белья: если в горячем крахмале распустить кусок спермацета, то белье, став белым и блестящим, сохранит гибкость.
Давала газета и сведения более значительного масштаба – по метеорологии, спектральному анализу, по медицине. Как и «Азовский вестник», она много писала о путешествиях, только основательнее: напечатала письмо Миклухо-Маклая Географическому обществу; в 1875 году в нескольких номерах публиковалась серия очерков «В сердце Африки» – о трехгодичном путешествии Георга Швейнфурта в центральные районы континента; писали и о другом известном путешественнике по Африке – лейтенанте Камероне. Печатались – обычно с многочисленными гравюрами – статьи об Индии, Цейлоне, Японии, Испании, Венгрии, Америке… Если гимназист читал выписываемую им газету, то его юность прошла под знаком очерков о путешествиях и дальних странах.
Недурным добавлением к гимназической программе были статьи о В. В. Верещагине, М. И. Глинке, известных артистах, ученых, писателях (например, юбилейная статья «Алексей Феофилактович Писемский»).
У многих из рассыпанных в чеховских сочинениях редких сведений, анекдотических историй, фактов («Бальзак венчался в Бердичеве»), заживших второй жизнью именно благодаря появлению в его произведениях, явственно чувствуется газетное происхождение.
Ощутимы были и издержки газетного образования. Отзвуки расхожих мнений – о немцах и Германии («страна стихов и бутербродов, пива и солдат»), французах, славянофилах (И. С. Аксакове), живописи – чувствуются в его ранней фельетонистике и юмористике, и освободился он от этого далеко не сразу.
Когда Чехову было 14 лет, местная газета писала: «У нас есть одна мужская классическая гимназия с языками латинским и древнегреческим, одна женская не классическая и не реальная гимназия, есть две библиотеки, есть клубы…» В этом пассаже, звучащем как цитата из «Ионыча» («в С. есть библиотека, театр, клуб…»), чувствуется гордость патриота города. Ведь еще совсем недавно был только один клуб, доступ в который был строго ограничен, и лишь за 4 года перед тем открылся новый клуб, с целью «доставить молодым людям среднего и низшего классов возможно дешевое, приятное и полезное препровождение времени», стать «местом покоя людей, утомленных суетою жизни, хранилищем опытной науки и доброй нравственности».
Клуб, как и следовало ожидать, стал обычным провинциальным заведением средней руки: бильярдная, игорный зал, буфет, маскарады, танцевальные вечера, детские праздники. Хранилища нравственности не получилось – даже клубная библиотека заслужила вскоре славу такого места, куда «дамы не ходят», и, судя по всему, по вечерам сильно напоминала описанную в чеховской «Маске» (1884). Но днем выполняла свои функции вполне исправно. Правда, солидных журналов она не выписывала, но газеты – «Петербургский листок», «Московский листок», «Биржевые ведомости» – получались регулярно. Недовольным в качестве отрицательного примера приводился случай с Харьковской публичной библиотекой, потратившей треть годового бюджета, чтобы выписать «Таймс», который не мог прочесть ни один из посетителей. Поступали наиболее популярные юмористические журналы – «Будильник», «Стрекоза», «Шут», «Пчелка», которые исправно читали гимназисты.
Помимо городской, существовали еще две частные библиотеки.
Чехов был усердным посетителем библиотек.
В сведениях о круге чтения Чехова-гимназиста нет никаких следов знакомства с такими, например, журналами, как «Вестник Европы» или «Русская мысль» (следов этих нет даже в первые университетские годы), не говоря уже об «Отечественных записках» (которые и получать было не так-то просто: в 1878 году из таганрогской городской библиотеки были изъяты отдельные их комплекты) или «Современнике», «Русском слове». «Отечественные записки» выписывал протоиерей Ф. П. Покровский, но вряд ли он давал их читать своим ученикам.
Ранним газетно-журнальным чтением Чехова было то, что тогда называли «малой» прессой.
6
Какую же литературу находил внимательный читатель – таганрогский гимназист – в этих газетах и журналах?
Литература юмористических и иллюстрированных еженедельников была своеобразным зеркальным отражением литературы «большой» прессы и «толстых» литературно-художественных журналов. В «большой» прессе популярен очерк – «малая» пресса печатает очерки; появляется там сценка – «малая» пресса мгновенно заполняется сценками; в литературно-художественных журналах распространяется светская повесть – и «малая» пресса печатает повести; явились первые опыты «трущобного» и уголовного романа – подвалы «Московского листка», «Новостей дня», «Петербургского листка» заполняются уголовными романами.
«Малая» пресса завела свои повесть и рассказ – из великосветской жизни; ее сценка приобрела особые жанровые очертания, каких она не имела в «Современнике», «Русском слове», «Библиотеке для чтения», где начиналась; в «тонких» журналах появились собственные переводные авторы; газеты создали каноны особого газетного романа.
«Малая» пресса отделялась: из прямого отражения большой она стала ее отражением в уменьшающем зеркале. И как всякое уменьшенное отражение, оно резче, отчетливей обозначило основные черты оригинала.
Чехов очень хорошо был знаком с этой литературой – это видно из его вещей первых лет. Но его отношение к ней и ее излюбленному антуражу (вроде роскошных интерьеров) и мелодраматическим сюжетным ходам определилось не так уж сразу.
С одной стороны, он прямо ее пародировал:
«Вчера я получил письмо от “Будильника”. В этом письме просят меня написать рассказ обязательно юмористический и обязательно к этому номеру. […] В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати двух. Звали ее Марьей Ивановной Однощекиной.
– Какое шаблонное, стереотипное начало! – воскликнет читатель. – Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостиными! Читать не хочется!
Извиняюсь перед читателями и иду далее» («Марья Ивановна», 1884).
В одной из своих дебютных пародий Чехов высмеивал употребляемые в современной литературе непременные «портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки» («Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.», 1880).
Однако в его повестях этого времени – «Живой товар», «Цветы запоздалые», «Зеленая коса» (все 1882 г.) – находим некоторое влияние ее описаний, ее сентиментального тона, ее сюжетных схем.
«Малая» пресса – паноптикум, или холодильник, литературных форм: перестав быть живыми в большой литературе, в массовой они в «замороженном» виде или как восковые копии могут сохраняться удивительно долго. Так, еще и в 80-е годы в «малой» прессе можно было свободно встретить и романтические, и даже сентименталистские стилистические и жанровые осколки – в сочинениях, например, Е. Вернера, Е. Дубровиной, А. Доганович-Кругловой, В. Прохоровой, Г. Хрущова-Сокольникова.
Находились литераторы, творчество которых целиком укладывалось в подобные сентиментально-романтические рамки. Таким был, например, Н. А. Путята (1851—1890), печатавшийся в основном в «Московском обозрении», «Мирском толке» и «Свете и тенях». Основным жанром, в котором он работал, был «набросок» – небольшой рассказ на темы одиночества, гибели надежд, смерти и т. п., выдержанный в повышенно эмоциональных и сентиментальных тонах, с романтически-трафаретной лексикой и многозначительной символизацией. «И в самом деле – я один. Один, среди тысяч страждущих. Неужели оставить начатое? Конечно, никогда! Никогда! Никогда!» – «Мечты и действительность», 1878. (С H. А. Путятой, как, впрочем, почти со всеми выше поименованными литераторами, Чехов потом познакомится лично.)
Эти формы, явившиеся через полвека после ухода из большой литературы, трудно назвать даже эпигонством – это именно своеобразная литературная консервация в недрах «малой» прессы.
В стихах и прозе местных литераторов, печатавшихся в «Азовском вестнике», Чехов-гимназист мог найти полный набор шаблонов романтической фразеологии, часто вперемешку с «гражданскими мотивами»: «дни блаженства» и «упоенье неги», «безумные мечты» и «радость битвы», «отрадный свет идеала» и «удар судьбы». В рассказах попадались и «золотые лучи заходящего солнца» – совсем как знаменитое начало романа Веры Иосифовны из «Ионыча».
Систематическим чтением этой литературы объясняется такое хорошее знакомство Чехова с ее стилистикой, ее приемами, ее словарем. Им же объясняется и то характерное для Чехова, но несколько необычное для человека 80-х годов отношение к романтическому эпигонству как к живому литературному явлению, достойному если не литературной борьбы, то пародийного осмеяния.
Был еще один источник такого отношения. Среди родственников Чехова был свой «романтик» – дядя Митрофан Егорович, большой любитель фраз с упоминанием «язв души», «трепещущих персей» и т. п. Впрочем, высокий стиль любил и Павел Егорович: «Все слилось в одно торжество. Небо и земля приникли к зрению грядущего царя, повелителя народов. О, великое свершилось событие в мире!» Как и полагается, возвышенный стиль соседствовал в его письмах с сентиментальной фразеологией: «Добрый и чувствительный мой сынок Антоша!»
Пародирование такого стиля находим в первом известном нам печатном произведении Чехова – «Письме к ученому соседу». Но пародирование романтической фразеологии здесь второстепенно. Острие насмешки направлено на нелепое употребление «ученых» слов и оборотов. «Потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого, т. е. подлунного».
С этим учено-выспренним стилем Чехов был тоже знаком с детства. Так писал его дед, Егор Михайлович: «Не имею времени […] через сию мертвую бумагу продолжать свою беседу». Павел Егорович тоже любил выразиться не только возвышенно, но и не без книжной витиеватости: «Дай Бог вам и в Москве также восхищаться всеми предметами, достойными удивления». Этот стиль был в ходу у конторщиков, телеграфистов, парикмахеров. Его любили пародировать братья Чеховы: «Царица души моей, дифтерит помышлений моих, карбункул сердца моего…» (Н. П. Чехов – Л. А. Камбуровой, 23 сентября 1880 г.).
На этой стилистической почве вырос своеобразный чеховский герой – ведущий свою родословную еще от гоголевского кузнеца Вакулы, который, желая показать, что он «знал и сам грамотный язык», выражается так: «Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!» Побывавший в городе герой Некрасова «Каких-то слов особенных Наслушался: атечество, Москва Первопрестольная…» (В одном из писем Павел Егорович Чехов напишет: «…и в этот же день приехать в первопрестольную столицу русского царства».)
Образчики такой речи находим у Глеба Успенского: «Я, нижеподписавшийся крестьянин Казанской губернии, […] будучи в полном разорении, ибо почва и песчаные пространства, при неурожае, при всех моих силах моего многочисленного семейства, до такой нищеты дошел, не имея пять лет урожаю, весь продан за долги…» «Все это нацарапано каким-то грамотеем, – поясняет Успенский, – который выбрал, вероятно, из “Сельского вестника” мудрёные слова, но не смог выдержать научного изложения далее трех строк».
Любопытные случаи такого употребления книжных слов часты в произведениях Н. Лейкина – хорошего знатока речи торговой и мещанской городской среды: «“– Скоро он встанет?” – спросил Стукин. – “Как термин настоящий для них наступит, так и встанут”».
Любила обыгрывать эту манеру юмористическая пресса: «Вы есть ужаснейшая критика моей к Вам чувствительности, насмешка моего сердца… Любовь моя не принесет Вам никакой морали…» («Стрекоза», 1878, №31). «Не в силах я утверждать рассмотрение относительно образцов будущего времени в вопросительном смысле» («Стрекоза», 1878, № 4).
Но подобные языковые образования Чехов с детства слышал и в живой речи – в лавке, в таганрогском саду, клубе. Он сызмальства был погружен в стихию полукультурной мещанской речи, застрявшей где-то на полдороге от просторечия к интеллигентскому языку. И не случайно в русской литературе именно Чехову суждено было наиболее выразительно запечатлеть носителя этого языка, дать самую обширную галерею речевых портретов любителей «ученого» слога среди лиц самых разных профессий. «Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада!» – витийствует герой чеховского рассказа «Перед свадьбой», напечатанного через полгода после «Письма к ученому соседу». В рассказе «Умный дворник» (1883) о пользе наук рассуждает другой любитель книг, набравшийся из них ученых слов, – дворник: «Не видать в вас никакой цивилизации… Потому что нет у вашего брата настоящей точки». Ему вторит приобщившийся к просвещению водовоз: «Я в рассуждении климата недоумение имею». Очень церемонно выражается обер-кондуктор Стычкин в рассказе «Хороший конец»: «А потому я весьма желал бы сочетаться узами игуменея»; «…и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию».
Еще более «изысканные» обороты применяют чеховские фельдшера, мелкие чиновники, телеграфисты: «И по причине такой громадной циркуляции моей жизни» («Воры»); «Все-таки я не субъект какой-нибудь, и у меня в душе свой жанр есть» («Депутат, или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало»). Чрезвычайно витиевато говорит приказчик Початкин из повести «Три года»: «Соответственно жизни по амбиции личности». К его речи Чехов дает такой комментарий: «Свою речь он любил затемнять книжными словами, которые он понимал по-своему, да и многие обыкновенные слова употреблял он не в том значении, которое они имеют», – эту вереницу любителей мудреных словечек завершает читающий «разные замечательные книги» конторщик Епиходов из последней пьесы Чехова: «Совершенно привели меня в состояние духа»; «Наш климат не может способствовать в самый раз».
Широко в «малой» прессе были представлены переводные повести и романы третьестепенных немецких и французских писателей – Понсона дю Террайля, Густава Нирица, Катулла Мендеса. «Сразу видно, что я начитался немецких романов», – иронизировал над собой в письме 17-летний Чехов. Впрочем, переводили и Э. Золя, и В. Гюго. В «Азовском вестнике» в 1872 году в нескольких номерах печатался перевод «Доктора Окса» Ж. Верна – мотивы этой повести и сам стиль перевода просматриваются в чеховской пародии на Жюля Верна «Летающие острова» (1882). Некоторыми чертами юмор раннего Чехова близок к гейневскому. С Гейне таганрогский гимназист тоже мог познакомиться, читая местную газету: в ней систематически печатались переводы из немецкого поэта и подражания ему.
В юмористических журналах и местной печати Чехов прочел и первые «сценки» – жанр, занимающий значительное место в его раннем творчестве. Возможно, с этого жанра и началось его творчество. По воспоминаниям редактора гимназического журнала «Досуг» С. Н. Борисенко, Чехов поместил там что-то «из семинарской жизни». Другой соученик считал, что Чехову в журнале их гимназии принадлежала еще некая «Сцена с натуры», действие в которой происходило на Новом базаре, там, где одно время находилась лавка Павла Егоровича. Сценки были и в рукописном журнале «Заика», который единолично выпускал 15-летний Чехов. (Журналы эти, увы, не сохранились.)
Юмористические и иллюстрированные журналы влияли не только чисто литературно – их воздействие было шире. Главной особенностью рисунка этих журналов было его сугубое внимание к бытовым реалиям, окруженность ими человека в любой ситуации. Все детали, даже самые мелкие, вырисовывались особенно тщательно, настолько, что когда несколько лет спустя Чехову понадобились иллюстрации к шуточному рассказу для детей «Сапоги всмятку», он из первых же попавшихся под руку номеров «Сверчка», «Осколков», «Света и теней» 1882—1886 годов смог вырезать и старательно прорисованную бутылку, и сапоги, и несколько бытовых сценок, иллюстрирующих разные эпизоды семейной жизни. Сиюминутный иллюстрированный мир юмористического журнала был одним из ранних элементов комплекса художественных впечатлений юного Чехова.
7
Среди влиятельнейших художественных впечатлений Чехова был театр. Страсть к драматическому искусству проявилась в нем рано, и все соученики помнят его завзятым театралом.
Для гимназистов попасть в театр было не так уж просто. Посещение его разрешалось лишь в праздничные дни, и то по специально испрошенному разрешению. Запрет, конечно, обходили – разными способами. Если не повторять вслед за чересчур доверчивыми биографами легенд о гримировке, о прицепляемых мальчишками бородах и не полагать капельдинеров и надзирателей простаками-несмышленышами, то наиболее вероятен способ самый простой, о котором упоминает один из мемуаристов. Приходили за несколько часов до начала (разумеется, не в гимназическом, а в партикулярном платье) и затеривались в ожидающей толпе галерочной публики – конторщиков, приказчиков, модисток, плотно забивавших все ступеньки узкой лестницы, ведущей на галерку (места наверху были ненумерованные). Помогали и знакомства – с бутафором и афишером Жоржем (Жоржетти), однокашником Яковлевым – сыном руководителя Общества драматических артистов М. Ф. Яковлева, труппа которого выступала в сезоне 1877/78 годов, другим однокашником – А. Эйгорном (будущим оперным артистом А. Я. Черновым), оставившим гимназию и подвизавшимся на местной сцене в эпизодических ролях.
«Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских городах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад» («Дама с собачкой»).
Театральные впечатления, как и литературные, шли по двум несливающимся руслам – в соответствии с тогдашним провинциальным репертуаром. «Интеллигентная часть публики, – писал таганрогский театральный обозреватель, – требует пьес Островского, остальным же подавай “Мазепу”, “Гайдамака Гаркушу”, “Материнское благословение”» («Азовский вестник», 1875, 9 января). Антрепренёры пытались удовлетворить тех и других.
Чехов смотрел все. Первым спектаклем, который он видел в 13-летнем возрасте, была оперетта Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена», шедшая в переделке городского антрепренера Г. Вильяно. После Чехов видел немало оперетт; множество мелодий, фраз было у него на слуху. В его ранних рассказах мы встречаем цитаты из оперетт «Все мы жаждем любви» (переделка с французского М. Федорова и В. Крылова), «Парижская жизнь», «Птички певчие» («Перикола») Ж. Оффенбаха.
Шло много водевилей, шуток. Наряду с переводными комедиями и переделками, бездарными водевилями И. Кондратьева, В. Крылова, И. Ознобишина ставились замечательные образцы этого жанра – водевили Д. Ленского, Ф. Кони, П. Каратыгина. Автор «Медведя» и «Предложения», давший новую жизнь угасавшему жанру, первоначальную школу водевиля прошел в Таганроге.
Названия пьес запоминались прочно. Многие из них стали заглавиями ранних чеховских рассказов: «Ворона в павлиньих перьях» (водевиль Н. Крестовского; так же звучало журнальное название рассказа Чехова «Ворона»), «Месть женщины» (В. Сарду), «Перед свадьбой» (оперетта Ж. Оффенбаха), «Рыцарь без страха и упрека» (перевод с французского В. Курочкина).
Водевили, шутки, пьесы, шедшие в Таганроге, будут позже играть чеховские герои: «Жилец с тромбоном» и «Она его ждет» – в рассказе «Лишние люди» (1886, газетный вариант), «Скандал в благородном семействе» – в «Страдальцах» (1886); провинциальный антрепренер Кунин в «Душечке» ставит оперетты «Фауст наизнанку» и «Орфей в аду».
В таганрогском театре, как и в провинции вообще, большое место в репертуаре занимали пьесы модных и плодовитых драматургов 70-х годов В. Крылова, В. Дьяченко, И. Чернышева. Это были сочинения невысокого художественного уровня, но в них, как это часто бывает в литературе, обнаженнее, грубее проявились некоторые новые тенденции современной драматургии: стремление к изображению повседневного быта и «среднего» героя, элементы новой композиции – построение драмы как слабо связанных между собою сцен. Чехов был внимательным зрителем.
В репертуаре таганрогского театра значительное место занимала русская и мировая классика – Шекспир, Шиллер, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов, Сухово-Koбылин, Островский (что-то из классики Чехов видел в Москве, когда был там гимназистом 6-го класса на весенних каникулах). Насколько рано Чехов хорошо познакомился с театральной классикой, показывает первая большая пьеса, которую он закончил в первые два года пребывания в Москве. Если в своих прозаических опытах Чехов начинал с жанров «малой» литературы и в его сознании классика и эта литература никак не соприкасались, то в драматургии он обратился к классическому жанру многоактной драмы, насыщенной реминисценциями из «Гамлета» и «Грозы», Тургенева и Лескова.
Гимназист Чехов был вхож за кулисы таганрогского театра. Здесь он завязал первые театральные знакомства: с Н. Н. Соловцовым, которому потом посвятит «Медведя» (1888) и о котором напишет заметку в «Новое время» (1889), с М. Ф. Яковлевым. Именно здесь Чехов познакомился с типами провинциальных актеров, изображенных во многих его рассказах – таких, как «Барон» (1882), «Комик» (1884), «Бумажник», «Калхас», «После бенефиса», «Сапоги», «Средство от запоя» (все – 1885).
«Иногда достаточно бывает выслушать какого-нибудь захудалого, испитого комика, вспоминающего былое, чтобы в вашем воображении вырос один из привлекательнейших, поэтических образов, образ человека легкомысленного до могилы, взбалмошного, часто порочного, но неутомимого в своих скитаниях, выносливого как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, своею широкою натурой, беззаботностью и небудничным образом жизни напоминающего былых богатырей… Достаточно послушать воспоминания, чтобы простить рассказчику все его прегрешения, вольные и невольные, увлечься и позавидовать» («Юбилей», 1886).
8
Павел Егорович Чехов разорился, ему угрожала долговая яма (указ об отмене личного задержания неисправных должников выйдет спустя три года, в 1879 году). Он вынужден был – в апреле 1876 года – бежать в Москву. Позже к нему выехали остальные члены семьи (Александр и Николай уехали еще раньше – учиться).
Для Антона Чехова начались годы самостоятельной и, несмотря на постигшую бедность, свободной жизни. Бедность, впрочем, была относительной: продовольствие в тогдашнем Таганроге было исключительной дешевизны. Дороги были извозчики – дороже, чем в Москве и Петербурге, – но к бюджету Чехова-гимназиста это отношения не имело. Плохо было с одеждой, обувью, на хватало денег на книги. Зато была свобода, не обуздываемая ежедневно и ежечасно властной рукою отца. Павел Егорович беспокоился, не пойдет ли эта свобода во вред. «Мы боимся за тебя, – писал он сыну 12 января 1878 года, – как бы ты в отсутствии нашем не испортил своей нравственности, за тобою некому следить, как ты живешь, и своя воля может молодого человека спортить». Тревожился он напрасно.
Это были годы лишений, твердости, мужества и одиночества. Все решалось наедине с собою, сомнения и колебания не выплескивались ни перед кем. Это стало фундаментом характера. Никто никогда не узнал, почему был выбран медицинский факультет (если не считать главной причиной советы Евгении Яковлевны и Павла Егоровича, что «медицинский факультет практичный», что это – «самое лучшее занятие»). Когда через много лет Чехова об этом спросили прямо, он написал: «Не помню». Не сохранилось никаких высказываний Чехова и об обстоятельствах решения оставить медицину – решения, давшегося, надо думать, не вдруг и не просто. Точно так же, когда он станет уже известным писателем и ему будет 30 лет, никто из близких не узнает, как и когда он принял третье важнейшее решение, изменившее его мировосприятие и стоившее ему здоровья, – ехать на Сахалин, – и сложится легенда, что путешествие было задумано «совершенно случайно», «как-то вдруг, неожиданно» (М. П. Чехов), под влиянием знакомства с лекциями брата по уголовному праву и тюрьмоведению.
В Таганроге Антон распродавал оставшиеся вещи, отсылая деньги в Москву. Родители торопили, давали советы, Павел Егорович подробно объяснял, как взыскивать мелкие долги:
«Капусту должен не старик, а сын Иван Иванович, с него надо получать. Ростенко старик должен, но это есть бесконечная путаница. Получи с Ростенка сына, который в банке служит […], он сам брал и знает за собою долг, а к отцу не ходи».
«Кровать продай Машенькину, а что за нее просить, мы и сами не знаем, как тебе бог поможет, так и продай».
«Вещи продавай только ненужные и лишние, потому что опустошим дом, а потом трудно будет наживать, что было».
«Ждали мы от тебя, не пришлешь ли денег […] завтра 26-го где хочешь бери…»
Вещи покупали плохо или давали за них гроши. Антон нашел урок. Потом пришлось взять еще один, а затем и третий. Павел Егорович очень это одобрял: «Для меня приятно, что ты еще третий урок нашел. Старайся, сынок, умей добывать деньги да с умом их расход вести».
Трудности не делали Антона мрачным: он острит в письмах к братьям, в посылку вкладывает дверную петлю и бублик, шутит в письмах к родителям, которых это иногда обижает. «Мы от тебя получили 2 письма, наполнены шутками, а у нас в то время только было 4 коп. и на хлеб и на светло» (на освещение).
Энергия в нем кипела – его хватало и на учебу, и на театр, и на дела по ликвидации «гнезда», и на литературные занятия, на посещение библиотеки и городского сада.
Городской сад был популярен даже зимой – там устраивали каток, Антон был среди любителей катания. Но летом сад в жизни молодого поколения занимал совершенно особое место. Там играл превосходный оркестр, в беседке-ротонде можно было посидеть за столиками, где подавали пиво и огромных раков. Там можно было увидеть всех. «Толпа непроходимая и разношерстная, – описывал сад местный литератор А. Нущин. – Смесь запахов духов, семечек, ваксы, дегтя, сивухи и проч. Картузы, фуражки, косынки, изредка шляпы и шляпки. Легкая пыль, мелькающие лица, отрывки фраз. Остроты, каламбуры, часто свобода слова и обращения».
Была «гимназическая» аллея – она же «аллея вздохов». Здесь завязывались все гимназические романы, здесь постоянно бывал и Чехов – он состоял в свите красавицы Черец… О его романах мы знаем очень мало, но по некоторым косвенным данным можно полагать, что среди его первых увлечений была гречанка. Позже Чехов рассказывал, что романы его всегда были жизнерадостны.
В мыслях о будущем таганрогский гимназист примеривал опыт старших братьев, уже студентов (университета – Александр – и Школы живописи, ваяния и зодчества – Николай), обсуждал с ними вопросы профессии, цели жизни. Судя по одному из ответных писем Николая, взгляды кончающего гимназию Чехова сильно отдавали практицизмом: «Я очень хорошо знаю, что смотришь на живопись какими-то странными глазами, как и большинство… но я оправдываю тебя уже на том основании, что этот странный взгляд родился и поддерживается отсутствием понимания искусства, незнанием цели, к которой стремится человек, изучающий его. […] Ты был неправ, думая, что я поступаю в университет ради того, чтобы найти себе дорогу, могущую меня обеспечить, и неправ потому, что заниматься науками я хотел, занимался (впрочем, еле-еле) и хочу впредь заниматься для живописи, ибо мне сильно хочется быть образованным художником, а какой бы я мог быть доктор медицины?» (1879, май).
Свои предпоследние и последние гимназические каникулы Чехов проводил в городе, у моря и на хуторе у отца своего ученика Пети Кравцова. Впредь у моря и в степи он будет уже гостем.
Основы мировосприятия человека закладываются в детстве. И справедливее всего это по отношению к писателю. Человек взрослеет, приобретаются разнообразные сведения о мире, расширяется социальный опыт. Но некоторые главные черты мироощущения формируются в юные годы.
Детство между душной лавкою и морем, коридорами гимназии и бесконечною степью, чиновно-казенным укладом и бытом вольных хуторян, жизнь, которая так явственно показывала значение того природновещного окружения, в которое погружен человек, – все это готовило и обещало необычное художественное восприятие мира.
Глава четвертая НАЧАЛО
1
В августе 1879 года, сдав выпускные гимназические экзамены (пятерки – по немецкому, французскому, географии и закону божьему), получив аттестат зрелости и увольнительный билет от таганрогской мещанской управы (рост – 2 аршина 9 вершков [3] ; волосы, брови – русые; глаза – карие; нос, рот – умеренные, лицо – продолговатое, чистое), Чехов уехал в Москву. В ней и около нее он прожил 19 лет, вплоть до отъезда в Ялту.
Двадцать седьмого августа он пишет прошение ректору о выдаче ему удостоверения «в поступлении в Императорский Московский университет», на медицинский факультет.
В сентябре он приступил к занятиям. В университете он слушал таких выдающихся ученых, как Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов, Н. В. Склифосовский, Ф. Ф. Эрисман. Ходил Чехов и на другие факультеты. Большое впечатление на него произвели лекции профессора В. О. Ключевского. Возможно, под их влиянием он задумал исторический труд «Врачебное дело в России».
Студенческая университетская среда оставила мало следов в сознании Чехова. Ни с кем он особенно не сблизился; им тоже интересовались мало.
«В университете я начал работать в журналах с первого курса, – рассказывал Чехов A. С. Лазареву-Грузинскому, – пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом “А. Чехонте”, который, как видите, очень похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что “А. Чехонте” – я, никто из них этим не интересовался. Знали, что пишу где-то что-то, и баста. До моих писаний никому не было дела».
Как добавляет автор воспоминаний, из университетских товарищей Чехова впоследствии никто не мог рассказать ничего, «кроме того, что Чехов ходил на лекции аккуратно и садился где-то “близ окошка”». Действительно, в мемуарах профессора-невропатолога Г. И. Россолимо, например, читаем, что он помнит Чехова «аккуратно посещающим лекции, всегда в черном сюртуке (тогда формы еще не носили), сидящим почему-то всегда на верхней парте, опираясь на ладони лицом». Ни одного значительного факта из университетской жизни Чехов во всех этих воспоминаниях не найти. И вряд ли вокруг Чехова «был свой, довольно многочисленный медицинский кружок». Среда у Чехова-студента была явно другая – и достаточно рано.
Уже на первом курсе он стал печататься, и до летних каникул опубликовал семь вещей, не менее десятка редакциями было отвергнуто. В следующие несколько лет его продуктивность систематически растет, удивительно совмещаясь с учебой на таком трудоемком факультете. Удивительного, впрочем, мало – секрет был прост: постоянная напряженная работа, дневная и ночная, от которой он дергался по ночам в нервных судорогах и временами так худел, что его едва узнавали знакомые. Даже на лето в первые два года он из Москвы не выезжал (Воскресенск, Бабкино были позже).
Судя по всему, в это время он был нечастым посетителем выставок и театров. Достоверно известно всего несколько таких посещений – гастрольных спектаклей Сары Бернар в ноябре – декабре 1881 года, Пушкинского театра и театра М. В. Лентовского. Несколько раз он побывал на Всероссийской торгово-промышленной выставке 1882 года. С большой долей вероятия можно предположить присутствие Чехова на пушкинских торжествах по случаю открытия памятника поэту в Москве в 1881 году – зарисовки на них для журнала «Всемирная иллюстрация» делал Николай Чехов.
Эти годы, заполненные трудом, были годами размышлений, годами формирования личности.
2
Во всех биографиях Чехова, даже самых кратких, приводится одна важная цитата из его письма А. С. Суворину от 7 января 1889 года. Не обойтись без нее и нам:
«Необходимо чувство личной свободы , а это чувство стало разгораться во мне только недавно. Раньше его у меня не было […]. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на винопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…»
Комментируя это признание, редкое для чрезвычайно скупого на мемуарно-биографические пассажи Чехова (заметим, что и оно облечено в литературно-безличную форму: «напишите-ка рассказ», «молодой человек»), обычно делают ударение на второй его части, говоря – и справедливо – об исключительной духовной свободе Чехова, его независимости от распространенных мнений, чувстве внутреннего достоинства, казавшемся прирожденным, интеллигентности, ставшей нарицательной. Но это стало потом.
В детстве, юности и еще «недавно» было другое. Было знакомство с разного рода обманом – намеренным и вынужденным, сопровождающим всякую копеечную бакалейную торговлю. Была и собственная коммерция – «лавливал певчих птиц и продавал их на базаре» (Суворину, 29 июля 1891 г.). Были мечты об оживлении торговли в Таганроге и надежды разбогатеть: «Дай бог России победить турку с трубкой, да пошли урожай вместе с огромнейшей торговлей, тогда я с папашей заживу купцом. […] Разбогатею, а что разбогатею, так это верно, как дважды два четыре» (М. М. Чехову, 9 июня 1877 г.). Были и обеды у богатых родственников. А сытно пообедав, 16-летний юноша мог выкинуть такое: «Будучи учеником V класса, – вспоминал Чехов в одном из писем 1886 года, – я попал в имение графа Платова в Донской области… Управляющий этим имением Билибин, высокий брюнет, принял меня и угостил обедом. (Помню суп, засыпанный огурцами, начиненный раковой фаршью.) После обеда, по свойственной всем гимназистам благоглупости, я, сытый и обласканный, запрыгал за спиной Билибина и показал ему язык, не соображая того, что он стоял перед зеркалом и видел мой фортель…»
В его тогдашних шутках часто не хватает меры и такта; старший брат вынужден делать ему выговоры:
«Антон! Или ты считаешь нас всех ослами, которым все нипочем? Ты адресуешь свое письмо на имя Суконкиной и на конверте пишешь: “Ее степенству”. Что это за ерунда? Верх безобразия и оскорбления. Скажи, на кой дьявол ты пишешь подобные вещи; ведь это публичное оскорбление. Титул степенства не существует. Суконкина – женщина всеми уважаемая, а ты выкидываешь такую необдуманную вещь. Блаженный ты человек! Держи ты свой глупый язык за зубами, а то он у тебя хуже бабьего. Не чуди ты, пожалуйста».
Но одно из главных свойств характера Чехова было в том, что ни один урок не проходил для него даром. По описанию «фортеля» видно, что эта сцена и через 10 лет живо стояла перед глазами ее устроителя. Что же касается замечаний по поводу такта и воспитанности, то очень скоро Антон поменялся с братьями ролями – и началось это уже во время первого его приезда в Москву на весенние каникулы 1877 года.
Еще из Таганрога Чехов писал младшему брату Михаилу: «Среди людей нужно сознавать свое достоинство». Студентом 2-го курса он напишет старшему брату резкое письмо, говорящее о чувстве достоинства «много раз сеченного» молодого человека:
«Александр!
Я, Антон Чехов, пишу это письмо, находясь в трезвом виде, обладая полным сознанием и хладнокровием. […] Если я не позволяю матери, сестре и женщине сказать мне лишнее слово, то пьяному извозчику не позволю оное и подавно. Будь ты хоть 100 000 раз любимый человек, я, по принципу и почему только хочешь, не вынесу от тебя оскорбления. […] Слово “брат” […] я готов выбросить из своего лексикона во всякую пору». Это было первое письмо из тех, которые напишет на эти темы братьям Чехов, – о человеческом достоинстве, воспитанности и самовоспитании, об отвратительности лжи, о сострадательности и мужестве.
«Я страшно испорчен тем, – писал Чехов, – что родился, вырос, учился и начал писать в среде, в которой деньги играют безобразно большую роль». В лавке отца Антон должен был записывать в тетрадь каждую вырученную сумму (а в их торговом заведении счет шел на копейки) и потом под щелканье счетов выслушивать сентенции Павла Егоровича об экономии.
Бедность постигла семью, когда Чехову было 16 лет. Позже, оставшись в городе один, благодаря тогдашней таганрогской дешевизне и житью «на хлебах», он не голодал, но со всем остальным было туго. Приходилось ходить на урок в конец города в рваных сапогах (по таганрогской грязи). Из гимназического мундирчика он давно вырос, полы не сходились, рукава были коротки. Он не мог внести постоянный залог в два рубля в городскую библиотеку, но забирал его обратно весной и снова вносил осенью, получив за урок.
Уехавшие в Москву члены семьи бедствовали. Доходов не было никаких. Павел Егорович долго не мог устроиться на службу. Жили на Драчёвке, все шестеро в одной комнате под лестницей (не это ли вспомнил Чехов, описывая в рассказе 1886 года «На мельнице» горькую бедность: «Все мы вшестером в одной комнате спим»); старшим братьям из-за тесноты приходилось спать в чулане. «Мы здесь не знаем ни говядины, ни картошки, ни рыбы, – писал Павел Егорович сыну в Таганрог. – У нас пища одна – все суп да суп с грибами».
Сохранившиеся письма рисуют, в какие мелочные, копеечные расчеты была погружена вся разбросанная судьбой семья. «Во-первых, само получение денег уже стоит мне большой потери времени и гривенника, затем, купивши инструменты, надо заплатить извозчику за перевозку домой ко мне – 30 коп. Да упаковка что будет стоить – черт его ведает. […] Надо обтягивать холстом, это тоже деньги, да еще большие деньги стоит, а далее перевозка на вокзал опять 30 коп. и за провоз черт знает сколько». Так писал Антону Александр в первом известном нам письме, от 4 октября 1875 года. «Начал писать тебе сю грамоту, – пишет он через два года. – Когда пошлю ее – неизвестно, ибо марки нет. […] Хотел было послать […] телеграмму, но рубля не оказалось».
Это была уже нешуточная бедность. «Ждали от тебя, – писала Чехову мать, – не пришлешь ли денег, очень было горько […], у Маши шубы нет, у меня теплых башмаков, сидим дома…» «Мамаша ждала от тебя 20 рублей, – писал отец. – Как услыхала, что прислано 12 рублей, залилась горькими слезами».
Николай, учившийся в Училище живописи, ваяния и зодчества, ходил без пальто, по снегу в рваных сапогах на босу ногу. Александр дал ему свои чулки, и он «их так износил, что остались одни голенища чулочные». В комнате было холодно, и Николай со своим другом Ф. О. Шехтелем, будущим известным архитектором (строителем здания МХТ, Ярославского вокзала), выходили на добычу – таскали с проезжающих по Драчевке подвод дрова.
В 1883 году, уже будучи автором целого тома рассказов и юморесок, Чехов писал брату, что «нет сил переменить свой серенький, неприличный сюртук на что-либо менее ветхое» и что денег «и на извозца нет». (Как следует одеться Чехов смог только после первых гонораров «Нового времени», в 1886 году.) Бедность отступала медленно; только в 1885 году, как одно из важнейших событий в жизни семьи, Чехов отметил то, что еще «недавно забирали провизию (мясо и бакалею) по книжке (в долг. – А. Ч. ), теперь же я и это вывел, все берем за деньги». Даже в 1886 году, для празднования своих именин, он просит у приятеля вилки, чайные ложки, мелкие тарелки, стаканы (письмо М. М. Дюковскому, 16 января).
Унизительней всего были эти ежечасные проявления бедности. Мелочи, которые не должны замечаться, захватывали непропорционально большую область в сознании, теснили духовное, занимали его место. Трудно освободиться от власти догм, внушенных воспитаньем и средой. Но, быть может, нужны еще большие духовные силы, чтобы противостоять рождаемым этой средой мелочам быта.
Влияние всего этого на душу человека Чехов изобразит потом в своих рассказах. Он покажет, как средний человек погружен в быт и так сращен с ним, что ему не вырваться, не выбиться, что он думает о нем ежедневно и еженощно и даже в горячечном бреду будет говорить про новые подметки («Гусев»), – сфера ежедневной жизни была тяжела, и особенно для постоянно и к сроку работающего литератора. Очень выразительно изобразил ее сам Чехов в одном из писем 1883 года:
«Пишу при самых гнусных условиях. […] В соседней комнате кричит детиныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух “Запечатленного ангела…” Кто-то завел шкатулку, и я слышу “Елену Прекрасную…” […] Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. “У дочки, должно быть, резь в животе, оттого и кричит”. …Я имею большое несчастье быть медиком и нет того индивидуя, который не считал бы нужным “потолковать” со мной о медицине. Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу. […] Ревет детиныш!!»
Близкую к этой картину, рисующую условия жизни Чехова в многолюдной семье, дает Ал. П. Чехов в рассказе «Завтра экзамен» (1884), написанном в июле 1884 года под впечатлением недели, проведенной им в июне в родительской квартире. В этом произведении, за исключением отца и автора, действуют все наличествующие члены семьи [4] и даже пес Корбо, «собака без спины», не раз упоминаемая в письмах Чехова.
«Студент-медик 5-го курса, Антон Павлович, сидел у своего письменного стола и читал курс “Гигиены”. Завтра – экзамен. […] Не прошло и четверти часа, как дверь тихонько отворилась и в щель просунулась сморщенная, как печеное яблоко, физиономия тетиньки […].
– Корбинька, Корбинька, Корбо, иди поесть… Ты, бедный, нынче не ел… Корбинька!»
После диалога с Антоном Павловичем «тетинька» уходит, но появляется другой член семьи: «Маменька вошла.
– Ты знаешь, что прачка не принесла тебе сорочки к завтрашнему дню? Сердце мое болит и обливается кровью […].
Антон Павлович нетерпеливо встал с места с книгою в руках и прошелся по комнате.
– Пусть так. Я ценю все это, только дайте вы возможность прочесть спокойно то, что мне необходимо. […]
Маменька поговорила еще минуты три и ушла, видя, что ее не слушают, ушла, впрочем, с жалобами. […]
Но вот скоро из двери раздался голос брата-гимназиста:
– Антон, нет ли на твоем столе моего карандаша? Извини, что я тебя беспокою… Я вижу, что он у тебя в руке… Ты им пишешь…
– А он тебе нужен?!
– Нет, не особенно… Мне только хотелось узнать, у кого он. […]
– Послушай, Миша, – взмолился Антон Павлович, – некогда мне теперь болтать с тобою […].
Брат-гимназист ушел страшно обиженный. […] Минуты через две робко отворилась дверь. Высунулась тетушка.
– Антоша, за что ты Мишу обидел? […] За что ты, спрашиваю я тебя, варвар, бедного мальчика обидел?»
Далее с вопросом входит сестрица; обиженная, уходит; потом начинает стучать на швейной машинке маменька.
«Вдруг раздался неистовый звонок. Вошел, слегка покачиваясь и корча из себя трезвого, старший брат Антона Павловича, забулдыга и хоть хороший, но очень мнительный человек.
– Антон, я к тебе за рецептом, – забасил он.
– А что у тебя?
– Печень. Должно быть, цирроз. В легких – пневмония. В спине – табес дорзалис…»
Рассказ кончается тем, что Антон Павлович решает уехать заниматься к брату. «Все домашние высыпали уговаривать Антона Павловича остаться. Но он по необъяснимой для них причине предпочел общество пьяного брата и уехал к нему…»
…Преодолев все трудности бытовой сферы и приготовив очередную «мелочишку», литератор тогдашнего чеховского круга попадал в следующую сферу – газетно-журнальную.
3
Это был не солидный «Вестник Европы», не «профессорские» «Русские ведомости», не либеральная «Русская мысль», но та самая «малая» пресса, которую Чехов прилежно читал в Таганроге. Теперь он познакомился с ее кухней.
Это были предприятия в значительной мере коммерческие. Наиболее удачливые издатели сколачивали целые состояния (Н. Пастухов, А. Липскеров).
И взаимоотношения редакций юмористических журналов со своими авторами были иными, чем в солидных литературных журналах: с ними не церемонились. В рубрике «Почтовый ящик» печатали обидные ответы.
В рассказе Чехова «Исповедь, или Оля, Женя, Зоя» (1882) герой получает такой ответ в почтовом ящике юмористического журнала: «Село Шлендово. Г. М. Б—у. Таланта у вас ни капельки. Черт знает что нагородили. Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим».
Преувеличение здесь небольшое. Вот несколько реальных ответов из почтового ящика «Стрекозы» 1877 года: «Москва, Каланчевка. Такие стихи годятся только для вырезки на дереве»; «Петербург, Новая канава, М. С. С-е-к-му. Вполне плохо; это не стихи, а рифмованное “дэнди-бренди” с горошком»; «Васильевский остров, 3 лин. П. В. Ив-ву. Вульгарный сюжет, изложенный дубовыми стихами».
Так обращались не только с неизвестными дебютантами, «поэтиками почтового ящика». Чехову, уже напечатавшему в журнале около десятка вещей, среди которых были такие, как «Письмо к ученому соседу», «Перед свадьбой» и «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?», писали в том же духе: «Москва, Сретенка, г. А. Ч. Очень длинно и бесцветно, нечто вроде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой» («Стрекоза», 1880, № 48); «Москва, Сретенка, г-ну А. Ч-ву. Не расцвев, увядаете. Очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к делу» («Стрекоза», 1880, № 51).
Известный театральный критик А. Р. Кугель, начинавший свою литературную деятельность в юмористической прессе, прочел однажды в «Стрекозе» такой ответ: «Примите касторового масла вместо гонорара». Это так подействовало на дебютанта, что более в юмористических журналах он никогда не сотрудничал.
Чехов насмешку принял спокойнее, но в «Стрекозе» печататься перестал.
Тематика иллюстрированного юмористического или иллюстрированного литературного журнала была тесно связана с повседневным бытом, с бытом был сращен и сам журнал. Его редакция – это маленькое помещение, где тут же находится и редактор, который вполне может быть в халате и домашних туфлях; какая-то родственница редактора бренчит на расстроенном рояле; здесь же и сотрудники, авторы вычитывают корректуру и пьют чай, курят; за одним из столов принимается подписка и сортировщик из почтамта подбирает адреса подписчиков по трактам и губерниям.
Зайдя в редакцию «Таганрогского вестника» в 1893 году, Чехов сказал: «У нас в “Будильнике” так же было тесно».
Таковы же были и редакция «Мирского толка» на Бригадирской, редакция «Москвы» в доме Зверева на углу Знаменки и Арбатской площади, «Новостей дня» на Тверской вблизи Газетного переулка, таков был «редакционный чердачок» «Зрителя» на Страстном бульваре.
Редакционные разговоры, беседы с литературными вкладчиками журналов происходили в трактире, за кружкой пива, «на купецкий манер». Именно так произошло одно из важнейших событий в жизни Чехова – приглашенье его в «Осколки». Редактор журнала Н. А. Лейкин обедал с поэтом Л. Пальминым, потом поехал к нему. «Было это зимой, под вечер, но засветло, – вспоминал Лейкин. – […] Когда мы подъезжали к его квартире, сказал мне, указывая на тротуар: “Да вот два даровитых брата идут: один – художник, а другой – писатель. У него очень недурной рассказец был в “Развлечении”. Это были два брата Чеховы: Николай, художник, и Антон. Я встрепенулся. “Так познакомь меня скорее с ними, Лиодор Иванович! – сказал я Пальмину. – Остановимся”. Мы вылезли из саней. Пальмин окликнул Чеховых и познакомил нас. Мы вошли в ближайшую портерную и, за пивом, я пригласил сотрудничать в “Осколках” и Антона, и Николая Чеховых». Издатель «Московского листка» Н. И. Пастухов, пытаясь пригласить Чехова в свою газету, водил его «ужинать к Тестову, пообещал 6 к. за строчку» (Ал. Чехову, 1883).
Нравы «малой» прессы были основаны на исконном российском патриархальном принципе «хозяин – работник». И дело было не столько в том, что редактор чувствовал себя хозяином, сколько в том, что сотрудник чувствовал себя поденщиком, зависевшим от воли и настроения хозяина. Хозяин мог заплатить тут же, вынув деньги из конторки, не утруждая кассира (коли таковой вообще имелся). Тот же Пастухов любил рассчитываться со своими сотрудниками в трактире, за парой чая; говорил им «ты»; если был в духе, мог собрать сотрудников и пойти с ними париться в баню. Но он же вдруг решал задержать гонорар только потому, что за ним пришел не сам автор. Желая помочь вдове своего недавно умершего друга, Ф. Ф. Попудогло, Чехов хотел отдать ей свой гонорар, который Пастухов должен был ему за рассказ «Гордый человек» (подписанный, кстати сказать, полным именем Чехова без его разрешения). Рассказ был напечатан в апреле 1884 года. Побывав у редактора в октябре, О. Попудогло писала Чехову: «Душевно Вас благодарю за Вашу готовность помочь мне, но денег с Пастухова получить мне не удалось. Я у него была вчера, и он просил передать Вам, чтобы Вы потрудились сами пожаловать к нему за получением гонорара». И так издатель обращался с автором, в котором был заинтересован.
На всю жизнь запомнилось братьям, как Пастухов не заплатил Антону Чехову за рассказ, потому что какую-то очень небольшую сумму был должен издателю Александр. (Чехов дважды вспоминает об этом в своих письмах – в 1887 и 1903 годах.)
А. С. Лазарев-Грузинский нарисовал живую сцену коллективного похода литераторов за гонораром на квартиру к редактору «Будильника» А. Д. Курепину:
«– Дома?
– Дома. Просят вас подождать.
Сидим. Ждем час и два, затем выйдем из терпения и начинаем стучать в стенки, в двери. Появится какой-нибудь заспанный малый с пухом в волосах и с удивлением спросит:
– Вам кого?
– Курепина!
– Вот хватились! Да уж он уехал давно.
– Как уехал?
– Да так: вышел с черного хода, сел на лошадь и уехал.
– А про нас ничего не говорил?
– Говорил: пусть зайдут как-нибудь после; нынче мне некогда».
Получение гонорара сплошь и рядом зависело от настойчивости авторов. Когда однажды Николаю и Антону Чеховым деньги нужны были безотлагательно для платежа в гимназию за обучение Михаила, они, как вспоминал потом младший брат, «не ушли из одной редакции до тех пор, пока не вернулись туда с отчетом газетчики, продававшие журнал в розницу по гривеннику за экземпляр. Всю выручку братья и арестовали. (Очевидно, это был «Зритель» – единственный из «чеховских» журналов, в розничной продаже стоивший гривенник. – А. Ч. ) Эти деньги я нес в гимназию в ранце, за плечами, и очень смутил инспектора, когда уплатил ему одними гривенниками».
Часто речь шла буквально о рублях. «Бывало, я хаживал в “Будильник” за трехрублевкой раз по десяти», – по свежим следам вспоминал Чехов (Лейкину, 5 сентября 1883 г.). В 1885 году М. П. Чехов писал брату: «Вчера я заходил к Липскерову. Он зашкандылял было. Я сказал, что сейчас еду в Воскресенск, что деньги нужны тебе и что я возвращусь к 26 числу. Он понатужился и дал три рубля». За два-три «подвала» своего романа «Драма на охоте», печатавшегося в липскеровских «Новостях дня» в 1884—1885 годах, Чехов получил три рубля (через год в «Новом времени» за рассказ, также занявший три газетных подвала в одном номере, Суворин заплатил в 25 раз больше).
Издательница «Будильника» Л. Н. Уткина заплатила Н. П. Чехову за иллюстрации в журнале мебелью (стол и канделябры можно сейчас видеть в чеховском музее в Москве, а стенные часы – в Доме-музее в Ялте). Тот же Пастухов, вспоминал В. А. Гиляровский, в счет части гонорара дал репортеру С. А. Епифанову пальто.
О жизни Чехова в эти годы могли бы впоследствии рассказать его тогдашние знакомые – литераторы Ф. Ф. Попудогло, В. А. Прохоров (Риваль), Г. А. Хрущов-Сокольников, Н. А. Путята, И. К. Кондратьев, С. А. Епифанов. Но Прохоров рано погиб от пьянства, от чахотки умер Путята, от алгоколизма и туберкулеза в больнице кончался Епифанов. Другие тоже умерли рано. А те, кто остались, не любили вспоминать прошлое, и в их немногочисленных мемуарах оно выглядит хоть и несколько экзотично, но вполне благообразно.
4
Литературная школа, пройденная Чеховым в молодости, казалось, никак не могла сформировать оригинального художника.
Главными жанрами юмористической прессы были так называемые «мелочи», писавшиеся по давно отвердевшим канонам, устоявшимся шаблонам. Чехов работал почти во всех этих жанрах.
Одним из самых распространенных был жанр комического календаря и разнообразных «пророчеств». Таковы «Брюсов календарь» и «частные» и «общие» предсказания «Стрекозы», «Новый астрономический календарь» журнала «Развлечение», предсказания «Осколков». И Чехов ведет подобный юмористический календарь в марте – апреле 1881 года в журнале «Будильник».
Популярны были различные афоризмы. И среди чеховских «мелочей» этих лет часты всевозможные изречения, мысли людей разных профессий, исторических и псевдоисторических лиц («Мои остроты и изречения», «Философские определения жизни», «Плоды других размышлений»), остроты, объединяемые Чеховым обычно под традиционными для «малой» прессы заголовками «И то и се», «О том, о сем», «Вопросы и ответы».
Подобные «мелочи», «финтифлюшки» – пожалуй, самый распространенный жанр юмористических журналов. В «Искре» уже в первый год ее существования (1859) появился отдел «Искорки» («Шутки в стихах и прозе, новости, стихи и заметки – внутренние и заграничные»); в «Гудке» (1862) – «Погудки. Извещения, слухи, афоризмы и замечания». В «старом» «Будильнике» (1865—1866) шутки такого рода объединялись под общими заголовками «Звонки», «Старые анекдоты», «Повседневные шалости», «Из записной книжки наблюдателя» (заметки, выводы, измышления и пр.), «Вопросы без ответов», «На память (вопросы, разные мысли и заметки)».
В журналах чеховского времени были уже десятки рубрик, под которыми помещались эти юморески. Например, в «Стрекозе» 1878 года: мысли и афоризмы; всего понемножку; крупинки и пылинки; кое-что; анекдоты, шутки, вопросы и ответы; комары и мухи; из архивной пыли; каламбуры, анекдоты, шутки. Или в «Будильнике» 1877—1884 годов: клише, наброски, негативы, корректуры; инкрустации, афоризмы; парадоксы; мелочишки; современные анекдоты; монологи, парадоксы и цитаты; пестрядь; росинки; мелочи, штрихи, наброски; пустячки; афоризмы, шутки, каламбуры; снежинки и кристаллы; между прочим.
Любили в юмористических журналах всякие комические объявления (например, специальный «Справочный отдел» существовал в журнале «Развлечение»). И Чехов открывает в «Зрителе» «Контору объявлений Антоши Ч.» (1881), печатает «Комические рекламы и объявления» (1882) в «Будильнике».
Несколько произведений раннего Чехова построено на использовании названий газет и журналов («Мой юбилей», «Мысли читателя газет и журналов»). Подобная игра названиями – один из самых привычных приемов «малой» прессы.
Примыкали к юмористической традиции и такие произведения раннего Чехова, как «Словотолкователь для барышень», «3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка», «Краткая анатомия человека», «Дачные правила», «Руководство для желающих жениться». Шутки подобного рода чрезвычайно распространены в юмористической прессе 80-х годов.
Чехов сам отчетливо сознавал традиционность малых форм. «Просматриваю сейчас последний номер “Осколков”, – писал он Н. А. Лейкину в 1883 году, – и к великому ужасу (можете себе представить этот ужас!) увидел там перепутанные объявления. Такие же объявления я неделю тому назад изготовил для “Осколков” – и в этом весь скандал…»
Традиционными для юмористики были всевозможные «Вопросы и ответы»: «Какое сходство между колесом и судьею? – Обоих надо подмазывать» («Весельчак», 1858, № 9). Чехов печатает свои «Вопросы и ответы» (1883): «Где можно стоя сидеть? – В участке».
Выступая и в этих жанрах, Чехов, однако, не оставался робким подражателем. Сравним «Предсказания на 1878 год» Утки (Н. Лейкина), напечатанные в «Стрекозе» (1877, № 52), с чеховскими из его «Календаря будильника» на 1882 год.
У Лейкина: « Февраль . В телеграммах прочтем, что Греция готовится к войне. Г. Суворин воскликнет в фельетоне, что западники – истинные либералы, а не славянофилы. Г. Нильский будет играть восемь раз в неделю». В остальных «предсказаниях» вяло варьируются те же темы.
Чехов предельно использует возможности жанра, доведя преувеличение до комического гротеска: « Март, 11 . В г. Конотопе, Черниговской губ., появится самозванец, выдающий себя за Гамлета, принца датского».
Жанр «мелочей» рано начал тяготить Чехова. Особенно трудно давались ему самые ходкие в иллюстрированном юмористическом журнале подписи к рисункам: «Легче найти 10 тем для рассказов, чем одну порядочную подпись» (4 ноября 1885).
В дело шло все: уже использованные ранее собранные остроты, возникающие реальные ситуации. В январе 1883 года Чехов послал в «Осколки» тему о пожаре цирка в Бердичеве. Художник не успел вовремя сделать рисунок. «А теперь уже, – писал Лейкин Чехову в феврале, – рисовать на эту тему поздно». В другом письме Лейкин сообщал, что все же хочет заказать рисунки, утешал: «Впрочем, я полагаю, рисунок может долежать до нового пожара и не залежится».
Чехову показался забавным такой деловой подход, и он использовал ситуацию в качестве темы для журнала. Между сотрудником-художником и редактором происходит диалог, заканчивающийся так:
«Редактор. Не печальтесь, впрочем! Мы отложим этот рисунок до нового пожара! Недолго ждать придется».
Рисунок к этому диалогу сделал Николай Чехов, и вместе с подписью он был помещен в журнале «Свет и тени» (1883).
Юмористический журнал заполнялся, разумеется, не только «мелочами», «снетками». Были в нем и собственные жанры, претендовавшие на более серьезное содержание. Таким был, например, жанр юмористического физиологического очерка. Правда, собственным его можно назвать с большой натяжкой и только в том смысле, что из большой литературы подобный жанр уже ушел.
Жанры всякой развитой литературы редко исчезают совершенно; чаще жанр переходит в другой литературный «разряд», в газетную, «тонкожурнальную», юмористическую, детскую беллетристику. Отгорев в большой литературе, жанр десятилетиями может тихо тлеть в литературе массовой, не давая, разумеется, произведений высокого искусства, но все же сохраняя на этой литературной периферии основные жанровые черты.
Попадая в «малую» прессу, жанр меняется; сохраняя и даже иногда усиливая основные формальные признаки, он теряет свое общественно-идеологическое содержание.
Так было и с физиологическим очерком. Теперь эти очерки уже не претендуют на изображение какой-либо профессии и тем более целого сословия. По своему социальному диапазону новые «физиологии» имели мало общего со своим литературным родоначальником – знаменитым физиологическим очерком 40-х годов.
Всякий писатель, соприкасаясь с массовой литературой (ежедневная газета, вагонное чтиво), в какой-то мере усваивает черты некоторых жанров через нее. Это происходит тем успешнее, что все вторичное имеет известные, четкие черты. Такие черты были у физиологических очерков юмористических журналов. Именно отсюда их, скорее всего, усвоил Чехов. Жанр этот у него не привился, хотя он и написал несколько вещей в этом роде («Весной», «На реке» – 1886). Но мы должны быть благодарны этому жанру хотя бы за одно – за классический чеховский очерк «В Москве на Трубной площади» (1883).
Застылость жанров, предопределенность тематики вели к облегченности содержания юмористических журналов. Установка на комический тон, выискиванье смешного во что бы то ни стало влекли к балагурству и в серьезных вопросах.
Так, «Стрекозе» показалось очень смешным, что приехавший из Москвы философ, на лекции которого ходит весь Петербург, очень молод, и она писала о нем в таком тоне: «Володенька приехал от папаши из Москвы “лекции цытать” о позитивизме… Володенька еще только в годах Митрофана Простакова: ему всего двадцать два года; но прытью он давно перешагнул седовласых старцев… Бедный Огюст Конт, злосчастный Летре! Володя всем им пальчиком рожи чернилами вымажет» («Стрекоза», 1878, № 7).
Этот «Володенька» был известный философ Владимир Соловьев.
Приведенный пассаж появился в постоянном юмористическом обозрении «Стрекозы» – «Всякие злобы дня». Подобные обозрения существовали почти во всех юмористических журналах. Были они и в журнале Н. Лейкина, назывались: «Осколки петербургской жизни» и «Осколки московской жизни».
В июне 1883 года Лейкин предложил Чехову принять на себя составление «Осколков московской жизни». Обозрение должно было быть «по возможности поюмористичнее», в нем следовало «выпячивать», «ничего не хвалить и ни перед чем не умиляться». Чехов осознавал трудности и подводные камни этого жанра (о чем и писал Лейкину), но, видимо, не в полной мере. Во втором же своем фельетоне (кстати, по стилю очень похожем на обозрение «Стрекозы») он обрушивается на другого философа, разбирая его недавнюю брошюру: «Вы читаете и чувствуете, что эта топорная, нескладная галиматья написана человеком вдохновенным (москвичи вообще все вдохновенны), но жутким, необразованным, грубым, глубоко прочувствовавшим палку… […] Редко кто читал, да и читать незачем этот продукт недомыслия». Полемика с философом – К. Леонтьевым – была возможна (в нее уже и вступили В. Соловьев, Н. Лесков), но не такого тона. Освобождение от подобных оценок будет для Чехова делом непростым.
Но эволюция шла быстро. Уже через три года незнание имени В. Соловьева квалифицируется героем чеховского рассказа как «свинство» («Пассажир 1-го класса», 1886). А еще через три месяца Чехов напишет рассказ, где со всей резкостью выступит против либеральной журналистики, в своей полемике с Толстым исходящей из легковесных и расхожих представлений о его теории.
«Ошибка не в том, – говорит повествователь о герое рассказа, газетном обозревателе-фельетонисте, – что он “непротивление злу” признавал абсурдом или не понимал его, а в том, что он не подумал о своей правоспособности выступать судьею в решении этого темного вопроса […] Странно, в общежитии не считается бесчестным, если люди, не подготовленные, не посвященные, не имеющие на то научного и нравственного роста, берутся хозяйничать в той области мысли, в которой они могут быть только гостями. […] Начал он с того, что „все чуткие органы нашей печати уже достойно оценили это пресловутое учение”, затем непосредственно приступил к примерам из Евангелия, истории и обыденной жизни. С первых же строк его труда видно было, что он совсем не уяснил себе того, о чем писал».
Эти мысли развивает далее героиня рассказа, сестра литератора (рассказ первоначально так и назывался: «Сестра»), призывающая «отнестись к этому вопросу честно, с восторгом, с той энергией, с какой Дарвин писал свое “О происхождении видов”, Брем – “Жизнь животных”, Толстой – “Войну и мир”. Работать не вечер, не неделю, а десять, двадцать лет… всю жизнь! Бросить эту фельетонную манеру, а отнестись к вопросу строго научно […], как это делают настоящие добросовестные мыслители».
Непрестанная и добросовестная работа мысли, «штудировка, воля» становятся главными чертами молодого сотрудника юмористических изданий.
Противостоять инерции жанров, стиля, идеологии «малой» прессы было нелегко. Газеты, писал известный в 80-е годы критик А. Скабичевский в рецензии на чеховские «Пестрые рассказы», напоминают «те страшные маховики на заводах, около которых нужно обращаться с большой осторожностью. […] Газетные маховики […] не разрывают человека пополам и не раздробляют его костей, а еще того хуже: лишают его всякого образа и подобия человеческого, ассимилируют его с мертвым механизмом бесконечно вертящейся машины и обращают его в одно из колес этой машины».
Десятки литераторов, начинавших тоже «совсем недурно», очень быстро теряли свое лицо, приспосабливаясь к расхожим мнениям, ассимилируя газетную манеру и стиль. «И ни одному из них не приходит в голову, что время идет, жизнь со дня на день близится к закату, хлеба чужого съедено много, а еще ничего не сделано; что все трое – жертва того неумолимого закона, по которому из сотни начинающих и подающих надежды только двое, трое выскакивают в люди, все же остальные попадают в тираж, погибают, сыграв роль мяса для пушек…» («Талант», 1886).
Две такие судьбы Чехов видел рядом с собою.
Александр Чехов был старший и начал раньше братьев. Был ли у него талант? Антон Чехов ценил некоторые его рассказы, и очень высоко – письма, которые считал «первостатейными произведениями». «Пойми, – писал он брату, – что если бы писал так рассказы, как пишешь письма, то давно бы уже был великим, большущим человеком». Действительно, Ал. П. Чехов обладал счастливой способностью зафиксировать деталь, передать чувство, настроение. (Будущий исследователь покажет влияние этих писем на поэтику прозы Антона Чехова.) Но дарование это проявлялось только в эпистолярном жанре. Ему было очень просто написать письмо объемом в 5—6 книжных страниц, включающее несколько живых сцен и метких описаний, и очень трудно сделать еще одно усилие – быть может, главное – соединить это в целое и, отделив от себя, художественно объективировать. Как письмо все это было блестяще, для рассказа этого было мало.
Как всякому человеку сильного и смелого таланта, Чехову казалось, что такое последнее усилие сделать «легко, как пить дать», – именно поэтому он был так щедр на всевозможные советы. Но этой воли к целому , сосредоточенности, которая достигается огромной внутренней и внешней дисциплиной, – не было у Александра Чехова. А для «малой» прессы, газетной беллетристики вполне достаточно было и того, чем он обладал, – наблюдательности, живости, остроумия. И он поддался, так и оставшись до конца жизни литератором средней руки, «братом предыдущего».
Еще более трагичной оказалась судьба другого брата – художника Николая Павловича Чехова. Работая в иллюстрированных юмористических журналах, он, как и сотрудники-литераторы, должен был выполнять основное требование этих журналов: давать рисунки, наполненные современными реалиями, точно изображать всем известные места – Кузнецкий мост, сад «Эрмитаж», Салон де Варьете. Он это делал, и очень успешно; в его рисунках легко узнавался и Салон, и другие увеселительные места, и театры, и выставки; угадывались и реальные лица, которых он охотно включал в свои композиции (иногда это были те же самые лица, которых вставлял в свои рассказы А. П. Чехов). Но при всей вещной точности рисунок Н. П. Чехова был очень индивидуален. Его многофигурная композиция объединялась единой и очень характерной доминантной линией, создающей как бы некий эмоциональный аккомпанемент.
Для иллюстрации юмористического журнала это было неожиданно и ново.
Однако Николай Чехов не смог сохранить свою индивидуальность. Наряду с такими композициями он все больше работает в жанре рисунка с подписью, т. е. рисунка, иллюстрировавшего краткие бытовые сценки-диалоги, обычно состоящие из нескольких реплик. У жанра рисунка с подписью были жесткие требования – натуралистического правдоподобия ситуации, «проработанности» деталей обстановки. Оригинальность композиции эмоциональность были не нужны, были даже лишними, отнимая у художника время, мешая работе к сроку.
Николай этим требованиям противостоять не смог. Его рисунки 1883—1885 годов все еще узнаются, но они уже близки к картинкам других художников-юмористов – А. Лебедева, В. Порфирьева, П. Федорова – и не идут ни в какое сравнение с прежними композициями в «Зрителе», «Всемирной иллюстрации», «Свете и тенях». Они уже целиком в русле графики юмористической «малой» прессы.
Художественное поражение было главным. Богемный быт, беспорядочная жизнь – все это было уже производным. Рисунок, иллюстрирующий две-три юмористические реплики, можно было сделать за один вечер в номерах Бултыхина или в трущобах Каланчёвки. «Николка, – писал о брате Чехов в 1883 году, – шалаберничает; гибнет хороший, сильный русский талант, гибнет ни за грош… Еще год-два – и песня нашего художника спета. Он сотрется в толпе портерных людей, подлых Яронов и другой гадости… Ты видишь его теперешние работы… Что он делает? Делает все то, что пошло, копеечно […], а между тем в зале стоит его начатая замечательная картина. Ему предложил русский театр иллюстрировать Достоевского…» Но для того чтобы иллюстрировать Достоевского или завершить большую картину, нужна была все та же воля к целому .
Именно от такой спешной, облегченной и внутренне безответственной работы предостерегал Чехова А. Скабичевский в печально известной рецензии: «Вот таким образом и губятся таланты, которые при благоприятных обстоятельствах, при не таком спешном и даже недобросовестном труде, при тщательном обдумывании и обработке произведений могли бы расцвесть пышным цветом»; молодому писателю приходится «повторяться, повторяться без конца. […] Кончается тем, что он обращается в выжатый лимон, и, подобно выжатому лимону, ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором, считая себя вполне счастливым, если товарищи пристроят его на счет литературного фонда в одну из городских больниц».
Чехову на всю жизнь запали в память эти слова, и он не раз вспоминал их в беседах с разными людьми. Так обидели и так запомнились они, может, именно потому что задолго до рецензии Скабичевского он остро ощущал дистанцию меж собою и литераторами «малой» прессы. Еще в 1883 году он говорил: «Я газетчик, потому что много пишу, но это временно… Оным не умру». Писатель, многократно изобразивший процесс засасывания человека средой, был противником теории «невиновности индивидуальной воли». Подобные взгляды он иронически изобразил в «Дуэли»: «Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат не распечатанными и он сам пьет и других спаивает. […] Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве […] Причины тут мировые, стихийные […], он – роковая жертва времени, веяний, наследственности».
В известном письме 1886 года к брату Николаю Чехов напишет: «Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах, у рейнского погреба, на подачках. Победить ее трудно, ужасно трудно!» Тон слишком личный, отзывающийся собственным опытом – трудным и долгим. Возникает знакомая тема – самовоспитания, медленного, «по каплям». И сразу же вторая – его путей: «Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… Тут дорог каждый час». Мысли Чехова на эту, вторую тему отливались всегда в образы очень жесткие; излюбленным словом было «дрессировка». Снисхождения в этом он не допускал – к себе.
Раннее внутреннее противостояние путам «малой» прессы позволило Чехову взглянуть на нее свободно и непредвзято. «Требование, чтобы талантливые люди работали только в толстых журналах, – говорил он, – желчно попахивает чиновником и вредно, как все предрассудки. Этот предрассудок глуп и смешон. Когда я напишу большую-пребольшую вещь, пошлю в толстый журнал, а маленькие буду печатать там, куда занесет ветер и моя свобода».
Эта свобода позволила увидеть, что в юмористических журналах, в газетах в плане собственно литературном – в фабуле, приемах композиции, стиле – была несвязанность никакими художественными канонами. Ни в каком из этих изданий не придерживались единой авторитетной школы, манеры. «Малая» пресса была принципиально разностильна. Каждый автор мог писать в любой манере, изобретать новое, реформировать старое. Можно было экспериментировать, пробовать любые формы. Чехов почувствовал это очень рано. Беспрестанно обращался он к новым манерам, повествовательным маскам, ситуациям из все новых и новых сфер жизни.
Как всякий большой талант, он сумел обратить себе на пользу самые внешне неблагоприятные обстоятельства.
Глава пятая МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ
1
В Москве устроение семейного быта Чеховых сначала оставалось таким же, как в Таганроге: беспрекословное повиновение отцу, хождение к ранней и поздней обедне, в случае неповиновения – то же дранье. В «Расписании делов и домашних обязанностей», вывешенном Павлом Егоровичем, было примечание: «Неисполняющий подвергается сперва выговору, при коем кричать воспрещается». Упреждение не помогало: когда однажды отец стал прямо во дворе бить в чем-то провинившегося Ивана, тот стал громко кричать. Драчевский домохозяин предупредил, что откажет от квартиры; воспитание было перенесено в помещение; «плачи биемых и гласы бьющих», как писал Александр брату, стали раздаваться только в квартире. Ивану было в это время 17 лет; Павла Егоровича возраст смущал мало – первенец подвергался в Таганроге порке, будучи еще старше.
Приехавший Антон переменил обстановку. Произошло это далеко не сразу и не просто – такой человек, как Павел Егорович, не вдруг сдал свои позиции, а Антон был вспыльчив. Он вступался за мать и братьев. Были тяжелые сцены, но через это надо было пройти. Многие детали скандала в «Тяжелых людях» (1886), где взрослый сын, взбунтовавшись, выступает на стороне матери против деспотизма отца, явно автобиографичны. Отголоском собственных размышлений Чехова о дорогой цене, которую надо заплатить за семейный мир и спокойствие, звучат слова героя рассказа: «Отчего это в природе ничего не дается даром? […] За ясные весенние дни приходится платить этим пронизывающим, холодным дождем. Даже гуманность, мягкость и кроткий характер достигаются путем жертв и тяжелых уроков».
В письме к брату Николаю (март 1886) Чехов изложение своего кодекса «воспитанных людей» начинает так: «Они уважают человеческую личность, и потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. […] Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо…» У Николая было много недостатков, но в отсутствии мягкости и уступчивости упрекнуть его было никак нельзя. Все это, включая «пережаренное мясо», относится, конечно же, к Павлу Егоровичу, не раз устраивавшему скандалы из-за пересоленного супа и прочих пустяков, совсем не мягкому и не снисходительному. А эти черты Чехов ценил очень. «Дело не в том, что Вы родной дядя, – писал он Митрофану Егоровичу Чехову. – […] Вы всегда прощали нам наши слабости, всегда были искренни и сердечны […]. Вы, сами того не подозревая, были нашим воспитателем, подавая нам пример постоянной душевной бодрости, снисходительности, сострадания и сердечной мягкости».
В декабре 1879 года Иван Павлович Чехов, четвертый сын в семье, выдержав учительские экзамены, получил место заведующего приходским училищем в небольшом городке Воскресенске (ныне г. Истра), в 60 километрах от Москвы, недалеко от знаменитого Ново-Иерусалимского монастыря.
Училище построено было на деньги местного суконного фабриканта П. Г. Цурикова. За год до этого он скончался, и попечительницей стала его дочь, Анна Сергеевна, известная в уезде благотворительница. Училище было хорошо оборудовано, при нем была просторная обставленная квартира. Как писал, отражая общие семейные настроения, М. П. Чехов, «это было чистой находкой. Едва только у Миши и у Маши кончались экзамены, как Евгения Яковлевна уже ехала с ними в Воскресенск на подножный корм и проживала там до самого начала учения». Николай и Александр наезжали туда и зимою. Кроме отца и Антона, только И. П. Чехов из всей остальной многочисленной (6 человек) семьи оказывал ей существенную помощь в самый тяжелый период хотя бы в летние месяцы – вплоть до самого своего увольнения из училища осенью 1884 года.
Было Ивану в год назначения в Воскресенск 18 лет; в его возрасте (и много позже) ни Александр и Николай, ни Мария и Михаил и не помышляли о том, чтобы быть постоянными вкладчиками в семейный котел. В последующие годы, служа в мещанском училище Московского купеческого общества, Казенном арбатском училище и других столичных учебных заведениях (в 1890—1891 годах – во Владимирской губернии), Иван тоже постоянно помогал семье – например, брал к себе жить состарившегося Павла Егоровича.
Этот молчаливый (он слегка заикался) и скромный человек, никогда не говоривший и не писавший о своих заслугах, оказался незаслуженно отодвинутым в тень. Не было страстных и убеждающих писем к нему Антона – его ни в чем не надо было убеждать. Он не был так талантлив или ярок, как три старших брата. Но именно о нем еще в начале 1885 года писал Чехов: «Это один из приличнейших и солиднейших членов нашей семьи. Он стал уже на свои ноги окончательно, и за будущее его можно ручаться. Трудолюбив и честен». Через два года, уезжая надолго, глава семьи наказывал в письме с дороги: «Во всем слушайтесь Ваню. Он положительный и с характером».
Чехов оставался один в летней Москве. Никто не мешал; он работал.
Летом он вообще работал много. Единственным «пустым» был 1881 год, когда за всю весну и лето им был напечатан только один небольшой рассказ – «Двадцать девятое июня». Но все встает на свои места, если принять не раз высказывавшееся предположение, что именно в это время Чехов писал свою первую драму, которая сейчас печатается под заглавием «Безотцовщина».
Пьеса была большая (почти в три раза больше «Чайки» или «Дяди Вани»), и даже начинающему автору должно было быть ясно, что это не годится: нельзя же играть два вечера. Но слишком многое накопилось, было передумано, требовало выхода. Пьеса вобрала те наблюдения над современной русской жизнью и размышления молодого Чехова, которые остались актуальными для него до конца его творческого пути. Уже первые ее исследователи отмечали, что в пьесе «можно довольно ясно различить эмбрионы некоторых будущих чеховских произведений». Отголоски тем, образов, конфликтов ранней пьесы явственно ощущаются в последующей прозе Чехова и во всей его драматургии – от «Иванова» до «Вишневого сада».
2
Когда кончались университетские занятия, плодовитость и работоспособность начинающего, почти дебютанта, не уступала продуктивности Чехова – зрелого писателя. С мая до середины августа 1882 года написанное им составило целый том – более 200 страниц обычного формата. На самом деле написано было гораздо больше. Из первого пятилетия чеховского творчества до нас не дошло около трех десятков вещей – рассказов, юморесок, водевилей, пародий, публицистических заметок, рецензий. Не принятые в журналах, они пропали в недрах редакций или, возвращенные автору, – в недрах семейных чеховских квартир, как и сотни других рукописей писателя.
Среди произведений 1882 года – несколько важных для последующего творчества: «Барыня» – первая попытка изображения социальных отношений в деревне; сценка «Сельские эскулапы», предвосхищающая знаменитую «Хирургию»; «Он и она» – опыт психологического портрета.
В этом году жизнь Чехова мало была похожа на студенческую и гораздо больше – на жизнь профессионального литератора. Тем же летом он, собрав свои ранние рассказы, пытается издать сборник под названием «Шалость», к которому брат Николай сделал талантливые иллюстрации. Сборник был набран (сохранились два неполных экземпляра), но в свет не вышел.
Чехов, продолжая печататься в юмористических журналах «Зритель» и «Будильник», завязывает отношения с новыми изданиями – «Москва», «Спутник». Осенью начинается его сотрудничество в петербургском журнале «Осколки», который стоит на первом месте по числу напечатанных чеховских вещей.
Интересную и малоизвестную страницу в жизни молодого юмориста открывает его сотрудничество в московском журнале «Мирской толк». Этот журнал вместе с журналом «Свет и тени» издавал Н. Л. Пушкарев – один из колоритнейших людей 80-х годов. Он писал стихи, драмы, занимался переводами, но его кипучей натуре этого было недостаточно. Он изобрел рыболовную снасть, где впервые применил принцип спиннинга (называл это: «механические удочки-самоловки»), изобрел газовую горелку. И то и другое до сих пор используют во всем мире (не зная, конечно, об авторе). На Лубянке он открыл фотоателье, где постоянно экспериментировал над способами печатания фотоснимков. Все эти предприятия в конце концов его разорили. Он вообще был человеком рисковым: в мае 1881 года в его журнале был помещен рисунок, изображавший перья и чернильницы, составленные так, что получалась виселица. Подпись была: «Наше оружие для решения насущных вопросов». Выпуск журнала по распоряжению министра внутренних дел был остановлен на полгода.
В журналах Пушкарева, за исключением Ивана, сотрудничали все братья Чеховы.
Видимо, в конце года был решен вопрос об участии Чехова во вновь организуемом юмористическом отделе, «журнале в журнале» под названием «Винт» («инструмент для привинчивания этикетов ко всем медным лбам, звенящим и блестящим в нашем отечестве»). Всем участникам отдела присваивались «гаечные» псевдонимы. Чехов тоже получил в первом выпуске «Винта» такие псевдонимы: «Гайка № 6» и «Гайка № 9», – ими были подписаны две известные его юморески. Но трудно представить, чтобы он ограничился таким участием в «Винте». Скорее можно предположить, что, организуя этот отдел, редактор и рассчитывал прежде всего на хорошо знакомого ему и талантливого сотрудника.
Действительно, в последующих выпусках «журнала в журнале» находим подписанные неизвестными «гаечными» псевдонимами несколько рассказов и юморесок, по содержанию и стилю очень похожих на произведения Чехова, особенно ближайших лет. Один из них, «Мачеха», – остроумная и едкая сатира на цензуру; другой, «Ревнивый муж и храбрый любовник», – из чиновничьей жизни. Отдел вскоре был запрещен цензурой. Немалую роль в этом сыграли названные рассказы. Сейчас они напечатаны в самом полном – академическом – собрании сочинений Чехова. В том, что их написал молодой Чехов, нас убеждает, в частности, удивительная близость сюжета Второго рассказа к сюжетам нескольких других чеховских рассказов этого же года о чиновниках. Они образуют своеобразную серию.
Канцелярский служащий Иван Капитоныч, ораторствуя в вагоне конки, рассуждает о Бисмарке, Гамбетте, свободе. Но вот он видит своего начальника: «Спина его мгновенно согнулась, лицо моментально прокисло, голос замер, руки опустились по швам, ноги подогнулись («Двое в одном»); вместо свободолюбивых речей он делает «руки по швам». Другой оратор, губернский секретарь Оттягаев, тоже говорит смелые речи – о царящих вокруг грабительстве, притеснениях, о страдальцах. Но является начальство. «Заплачем и выпьем, – продолжал оратор, возвысив голос, – за здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля, Ивана Прохорыч Халчадаева. Урааааа!» («Рассказ, которому трудно подобрать название»). Похоже ведет себя «бунтовщик» в рассказе «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало».
О забитых, «почтительных и тихих» чиновниках писали многие. Особенность чеховского разрешения ситуации в том, что герой при виде начальства не только стушевывается, робеет, но тотчас же, мгновенно начинает говорить и делать нечто совершенно противоположное тому, что собирался за секунду перед тем. В более общем виде эта ситуация встречается в нескольких рассказах Чехова 1882—1885 годов: «Хамелеон», «Братец», «Вверх по лестнице», «Нарвался». Резче и обобщенней всего эта тема была разработана в рассказе «Толстый и тонкий», особенно во второй его редакции. В первой редакции (1883) толстый оказывается начальником тонкого и распекает его. В редакции же 1886 года мотив служебной подчиненности исключен. Мало того, толстому даже не нравится «это чинопочитание». Но тонкий все равно хихикает, льстит и съеживается. Он делает это, как говорится в рассказе, «по рефлексу».
По своей сатирической заостренности такие чеховские рассказы 1882—1883 годов, как «Пережитое», «Случаи mania grandiosa», «На гвозде», «Торжество победителя», «Дочь Альбиона», «Смерть чиновника», выбивались из общего фона юмористических журналов. О рассказе «На гвозде» редактор «Осколков» Лейкин написал своему сотруднику А. Чехонте: «Это настоящая сатира. Салтыковым пахнет».
3
Летние месяцы 1883 года Чехов делит между Москвой и Воскресенском. В Москве приходилось бывать часто: с июня он, по предложению Лейкина, начинает писать для его журнала постоянный фельетон «Осколки московской жизни». Нужен был материал, свежая пресса, среда газетчиков.
В Воскресенске Чехов познакомился с семьей полковника Б. И. Маевского, с офицерами и с бытом артиллерийской батареи, что дало ему материал для изображения военных реалий в рассказе «Поцелуй» (1887):
«Он давно уже знает, для чего впереди каждой батареи рядом с офицером едет солидный фейерверкер и почему он называется уносным; вслед за спиной этого фейерверкера видны ездовые первого, потом среднего выноса; Рябович знает, что левые лошади, на которых они сидят, называются подседельными, а правые – подручными…»
Детей Маевского Чехов, по утверждению Михаила Павловича, изобразил в рассказе «Детвора».
Как практикант, Чехов на последнем курсе университета работал в Чикинской земской больнице на окраине Воскресенска, у доктора П. А. Архангельского. Доктор жил один, иногда после работы у него собирались коллеги. Здесь царил дух разночинцев 60-х годов, еще сохранившийся в медицинской среде. Говорили о Щедрине, декламировали Некрасова, пели «Укажи мне такую обитель… где бы русский мужик не стонал…». Эту песню в «Попрыгунье» (1891) поет врач Коростелев.
Познакомился Чехов с писателем и историком П. Д. Голохвастовым – автором работ о Смутном времени. Беседовали о Дмитрии Самозванце. Позже Чехов будет изучать исторические источники, пытаться найти медицинские доказательства самозванства Лжедмитрия.
Шестнадцатого июня 1884 года ректор Московского университета профессор Н. П. Боголепов послал прошение в Екатеринославскую казенную палату об исключении Антона Чехова из податного сословия в связи с присвоением ему степени лекаря. Среди своих книг Чехов хранил напечатанные в университетской типографии ректорские «Речь и отчет, читанные в торжественном собрании в Московском университете», где в «Списке лиц, окончивших курс и удостоенных степени лекаря» на 42-й странице, под № 197, значилось: «Чехов Антон (Таганрогской гимназии)».
В это лето он опять живет вместе с семьей в Воскресенске. Проводит здесь уже больше времени, и самоощущение уже другое. «Живу с апломбом, так как ощущаю в своем кармане лекарский паспорт, – напишет он в июне Лейкину. – Природа кругом великолепная. Простор и полное отсутствие дачников. Грибы, рыбная ловля и земская лечебница. Монастырь поэтичен. Стоя на всенощной в полумраке галерей и сводов, я придумываю темы для “звуков сладких”. Тем много […]. Вечером же хожу на почту к Андрею Егорычу получать газеты и письма, причем копаюсь в корреспонденции и читаю адресы с усердием любопытного бездельника. Андрей Егорыч дал мне тему для рассказа “Экзамен на чин”. Утром заходит за мной местный старожил, дед Прокудин, отчаянный рыболов. Я надеваю большие сапоги и иду […] покушаться на жизнь окуней, голавлей и линей. Дед сидит по целым суткам, я же довольствуюсь 5—6 часами».
Летние письма и из Воскресенска, и – на следующее лето – из Бабкина переполнены рыболовными сюжетами. «Сегодня утром на жерлицу поймал налима» (Лейкину, 9 мая 1885). «Ловятся ерши да пескари. Поймал, впрочем, одного голавля, но такого маленького, что впору ему не на жаркое идти, а в гимназии учиться. […] Сейчас жерлицы не стоят, ибо нет живцов. […] Одна верша стоит в реке. Она поймала уже плотицу и громаднейшего окуня. Окунь так велик, что Киселев будет сегодня у нас обедать. Другая верша […] стоит за прудом […], сейчас утром я с Бабакиным вытащил из нее двадцать девять карасей» (М. П. Чехову, 10 мая 1885).
«В моей бедной душе до сих пор, – писал он хозяйке Бабкина в октябре из Москвы, – нет ничего, кроме воспоминаний об удочках, ершах, вершах, длинной зеленой штуке для червей… […] Не отвык еще от лета настолько, что, просыпаясь утром, задаю себе вопрос: поймалось что-нибудь или нет?»
В ранних рассказах Чехова не раз встретим рассуждения героев о том, что «для всякой рыбы своя умственность есть: одну на живца ловишь, другую на выползка» («Мечты», 1886), что «окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит» («Злоумышленник», 1885).
«– И, господи, что оно такое за удовольствие! Поймаешь налима или голавля какого-нибудь, так словно брата родного увидел» («Мечты»).
«Куда бы не приезжал Антон Павлович, – вспоминал И. А. Белоусов, – его прежде всего интересовала вода – реки, пруды, озера, где бы водилась рыба. Недаром он не раз говорил мне: “Я думаю, что многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбной ловлей”».
В 1884 году Чехов опять работает в Чикинской больнице, через день ведя прием; выезжает на судебно-медицинское вскрытие (возможно, это был не единственный случай); в течение двух недель в Звенигороде заменяет уехавшего в отпуск земского врача, принимает в день по 30—40 больных. Пришлось ему посещать и заседания уездных съездов, близко познакомиться с уездной чиновничьей жизнью.
Этим же летом появилась первая книжка Чехова – «Сказки Мельпомены», куда вошли его рассказы, связанные с театром. «Театральный мирок» – «газета литературно-театральная» – отозвалась одобрительно. Другие газеты тоже хвалили за живость, «юмор без натуги».
4
Три лета (1885—1887) Чехов вместе с семьей провел в трех верстах от Воскресенска, в Бабкине, имении Киселёвых, с которыми Чеховы познакомились благодаря Ивану Павловичу, у них репетиторствовавшему.
«Нанял я дачу с мебелью, овощами, молоком и проч., – писал Чехов Лейкину в конце апреля 1885 года. – Усадьба, очень красивая, стоит на крутом берегу… Внизу река, богатая рыбой, за рекой громадный лес, по сию сторону реки тоже лес… […] Вокруг усадьбы никто не живет, и мы будем одиноки… Киселев с женой, Бегичев, отставной тенор Владиславлев…»
А. С. Киселев был племянником русского посла в Париже, известного дипломата графа П. Д. Киселева. Его жена, М. В. Киселева, была внучкою просветителя Н. И. Новикова и дочерью бывшего директора московских императорских театров В. П. Бегичева.
Чехов с юности был знаком со многими литераторами, художниками. Но они помещали свои рассказы, стихи, рисунки в «малой» прессе, актеры играли в театре М. В. Лентовского, на провинциальной сцене. Встречи с представителями «большого» искусства – Ермоловой, Лесковым – были мимолетны. В Бабкине Чехов впервые близко сошелся с людьми другого круга, другого воспитания, которые не приходят в восторг от «рукопожатия пьяного Плевако», спокойно, как об обычном, рассказывают о беседах с А. Н. Островским, А. С. Даргомыжским, П. И. Чайковским (Чайковский когда-то даже делал предложение М. В. Киселевой). То, что в среде разночинной богемы Чехов видел редко – изящество, манеры, вкус, – здесь было естественной нормой аристократического поведения. С пристальным вниманием и симпатией вглядывался он в этих людей, представителей тогда уже уходящего мира. Они были обречены, он отчетливо это понимал. Но в этом была их слабость; он всегда был на стороне слабых. И написанный с Бегичева – аристократа, красавца – Шабельский в «Иванове», и связанный с этим же прототипом Гаев, при всей их карикатурности, нарисованы с печальным сочувствием.
Обитатели Бабкина много музицировали. Владиславлев пел глинковский репертуар, М. В. Киселева была ученицей Даргомыжского – звучали его романсы. Пели и Чайковского – «Евгений Онегин» был еще новинкой. Вечера по традиции заканчивались 14-й сонатой Бетховена – при лунном свете. Вся эта музыка позже зазвучала в произведениях Чехова («Припадок», «После театра», «Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь» и многие другие). Спорили об искусстве, обсуждали литературные новинки. Все это было интересно, профессионально – кроме этого, они ничем больше не были заняты, это и было их дело, которому они отдавали все душевные силы. Но остается загадкой, каким образом во всем этом ухитрялся принимать участие Чехов, при постоянной напряженной работе и огромной продуктивности.
Устраивали юмористические суды – над Левитаном (он жил сначала неподалеку, а потом переселился в Бабкино), над Николаем Чеховым как нарушителем «питейного устава». На столе стояли конфискованные бутылки с наливкой – как вещественное доказательство; члены суда их тщательно пробовали. Антон Павлович, одетый в шитый золотом бегичевский мундир, который подходил ему по росту, но был свободноват, выглядел очень внушительно, его вопросы свидетелям и подсудимым вызывали непрерывный хохот зрителей. В благодарность Бегичеву разрешали надевать для танцев (которыми дирижировал тоже Антон Павлович) студенческий мундир Михаила, который тому был настолько узок, что танцевать можно было – к общему веселью – только расставив руки несколько в стороны. Разыгрывали шарады – рядились эфиопами, турками. Катались на лодках и на ослах. Писали пародии, шутливые рецензии. И Чехов написал пародию на современные женские романы – «Любовь без зыби»: «Был полдень… Заходящее солнце своими багряно-огнистыми лучами золотило верхушки сосен, дубов и елей… Было тихо; лишь в воздухе пели птицы, да где-то вдали грустно выл голодный волк…»
Писал он и стихи в духе фольклорных нелепиц (теперь бы сказали: поэзии абсурда):
Купила лошадь сапоги,
Протянула ноги,
Поскакали утюги
В царские чертоги.
Сказал карась своей мамаше:
«Мамаша, дайте мне деньжат».
И побежал тотчас к Наташе
Купить всех уток и телят.
Но именно к Бабкину относятся единственные у Чехова лирические стихотворные строки:
Милого Бабкина яркая звездочка!
Юность по нотам allegro промчится,
От свеженькой вишни останется косточка,
От скучного пира – угар и горчица.
Правда, и здесь он к концу не удержался от легкой иронии да еще и добавил снижающее примечание: «В минуты идиотски-философского настроения».
Ему не была свойственна поза труженика с нахмуренным челом. Он не делал выговоров отвлекавшим. И сам все время отвлекался – на гостей, на рыбалку, на грибную охоту. Но часто в самый разгар веселья – и в бабкинской гостиной, и на Якиманке, и на Садово-Кудринской – он вдруг вставал, уходил к себе. Впрочем, скоро возвращался.
«Он всегда думал, всегда, всякую минуту, всякую секунду. Слушая веселый рассказ, сам рассказывая что-нибудь, сидя в приятельской пирушке, говоря с женщиной, играя с собакой – Чехов всегда думал. Благодаря этому он иногда сам обрывался на полуслове, задавал вам, кажется, совсем неподходящий вопрос и казался иногда даже рассеянным. Благодаря этому он среди разговора присаживался к столу и что-то писал на своих листках почтовой бумаги; благодаря этому, стоя лицом к лицу с вами, он вдруг начинал смотреть куда-то вглубь себя…» (В. А. Тихонов).
В работу он включался мгновенно, не разрешая себе роскоши раскачки. Жестокая школа юмористического многоописания и писания к сроку – независимо от настроения, здоровья, условий, времени суток – выработала литературного профессионала высокого класса.
Рассказ «Егерь» (1885), очень выверенный литературно (некоторые критики даже считали его сознательной полемикой автора с тургеневским «Свиданием»), Чехов написал в купальне, лежа на животе на полу, карандашом; тут же, не переписывая, заклеил в конверт и по пути домой занес на почту. «Сирену» (1887) автор, по собственному его признанию, написал без единой помарки, поставив этим своеобразный личный рекорд.
Рассказ обычно сначала долго обдумывался – во время езды на извозчике в дальние концы, рыбной ловли, в грибном лесу и, наконец, во время хождения из угла в угол по комнате. Потом он писал не отрываясь. Если дело шло и рассказ был короткий, он мог быть занесен на бумагу за два – два с половиной часа (так сочинен рассказ-монолог «О вреде табака», 1886, – написан «наотмашь»). В представлении молодого Чехова это был идеальный вариант, каковой удавалось осуществить далеко не всегда. «Начал я рассказ утром, – излагал он Лейкину историю писания “Отравы” (1886), – мысль была неплохая, да и начало вышло ничего себе, но горе в том, что пришлось писать с антрактами. После первой странички приехала жена А. М. Дмитриева просить медицинское свидетельство; после 2-й получил от Шехтеля телеграмму: болен! Нужно было ехать лечить… После 3-й страницы – обед и т. д. А писанье с антрактами то же самое, что пульс с перебоями».
И тем не менее к свидетельствам мемуаристов и утверждениям самого Чехова о том, что он не перебелял своих рассказов, надо относиться осторожно. Есть свидетельства и другие. Так, когда в октябре 1885 года на почте пропал отправленный Лейкину рассказ «Домашние средства», то Чехов послал его снова – очевидно, имея черновик. Сохранившиеся немногие рукописи ранних лет показывают тщательную работу над словом. Воспроизводя свидетельство о «беловом» исполнении «Сирени», не стоит забывать другое: по словам того же мемуариста, небольшой рассказ этот писался целый летний день.
Профессионализм был и в разнообразии жанров. Перепробовал все, шутил Чехов, «кроме романа, стихов и доносов». Стихи, правда, как мы видели, он тоже пробовал писать. Как, впрочем, и роман.
5
В течение двух лет (с перерывами) Чехов вел постоянное фельетонное обозрение «Осколки московской жизни» в журнале «Осколки».
О чем он писал? О крушении на железной дороге, страховании скота от чумы, об Академии художеств, канализации, о колокольном звоне, порядках в Зоологическом саду, о московских увеселительных заведениях, о грязи на фабриках, о собачьем вопросе и собачьем приюте, о жизни мальчиков-приказчиков, о театрах, о питьевой воде…
Что здесь было исходным – журнальный заказ или собственные устремления молодого автора? Так или иначе, но в сферу его систематических и теперь уже профессиональных наблюдений попадал тот самый разнообразный разветвленный быт, который так плотно окутывает его героев, пронизывает их жизнь, определяет ее и строит.
Много наблюдений и сведений самого разного толка – над судопроизводством, психологией подсудимых, административными порядками провинциального города – вынес Чехов со Скопинского процесса 1885 года – о многомиллионных хищениях в городском банке г. Скопина Рязанской губернии. Чехов сам вызвался писать в «Петербургскую газету» отчеты, целодневно в течение более двух недель присутствовал на заседаниях суда.
Темы были везде – стоит только посмотреть на толпу у пожарной каланчи, войти в аптеку, в трактир, сесть в вагон конки. К этому Чехова приучили юмористический журнал и газета.
В рассказах его «крестного батьки», Н. Лейкина, действие происходит, как видно даже по заглавиям, – «В вагоне и на империале», «В парикмахерской», «У церкви», «У доктора», «В конторе найма прислуги», «У ледяного катка».
«Это было время, – вспоминал хорошо знавший молодого Чехова литератор А. В. Амфитеатров, – той немой, бесшабашно-резвой, чтобы не сказать – шалой производительности, когда Антон Павлович на вопрос, откуда он берет такую пропасть тем для рассказов, весело усмехался:
– Да вот у вас пуговица на жилете болтается, того гляди потеряете. Хотите, присяду и напишу рассказ о вашей пуговице?»
Было изменено само представление о том, что есть тема для рассказа. Но если сценки Н. Лейкина, И. Мясницкого, И. Волгина, И. Вашкова, А. Герсона, А. и Д. Дмитриевых, Ф. Кугушева, А. и Н. Пазухиных, А. Подурова, А. Ястребского и многих прочих были действительно сценкой, фрагментом, занимательным эпизодом, не претендовавшим на художественное обобщение, то чеховские сценки, оставаясь внешне эскизами, «картинками», эпизодами, становились такими эпизодами, которые закрепляли важные этапы внутренней жизни человека, фиксировали существенные моменты в движении чувства, в личности человека в целом. Они становились законченными художественными образованиями, разрешавшими свою художественную задачу. И их композиция, с традиционной точки зрения кажущаяся незавершенной (отсутствие фабульного конца), на самом деле таковою не является, как не является незаконченным «фрагмент чувства» – лирическое стихотворение большого поэта.
Просмотрев рассказы Чехова первых пяти лет, можно убедиться, что трудно назвать тот социальный слой, профессию, род занятий, которые не были бы представлены среди его героев. Крестьяне и помещики, приказчики и купцы, псаломщики и священники, полицейские надзиратели и бродяги, следователи и воры; гимназисты и учителя, фельдшера и врачи, чиновники – от титулярного до тайного, – солдаты и генералы, кокотки и княгини, репортеры и писатели, дирижеры и певцы, актеры, суфлеры, антрепренеры, художники, кассиры, банкиры, адвокаты, охотники, кабатчики, дворники… Рождался писатель, у которого не было какой-то одной, определенной сферы изображения, очерченной четкими границами, – писатель универсального социального и стилистического диапазона.
В читательском сознании сосуществуют два Чехова: автор «Толстого и тонкого», «Хамелеона», «Лошадиной фамилии», «Жалобной книги» – и автор «Скучной истории», «Дома с мезонином», «Дамы с собачкой». Кажется: что общего между ними? Так думали уже современники. «Трудно найти какую-нибудь связь, – писал в 1897 году Н. К. Михайловский, – между “Мужиками” и “Ивановым”, “Степью”, “Палатой № 6”, “Черным монахом”, водевилями вроде “Медведя”, многочисленными мелкими рассказами».
Меж тем связь эта тесна; роль «юмористического» прошлого в создании новаторского художественного мышления Чехова значительна.
В ранних его вещах – как бы первые наброски, силуэты будущих вошедших в литературу героев: Бугров («Живой товар», 1882) – Лопахин («Вишневый сад», 1903); Топорков («Цветы запоздалые», 1882) – Ионыч («Ионыч», 1898); токарь Петров («Горе», 1885) – гробовщик Яков («Скрипка Ротшильда», 1894). Таких пар немало.
Многие художественные принципы, выработанные в первое пятилетие работы, навсегда останутся в прозе Чехова.
Никаких предварительных подробных описаний обстановки, экскурсов в прошлое героев и прочих подступов к действию – оно начинается сразу. Разговор героев, считал Чехов, «надо передавать с середины, дабы читатель думал, что они уже давно разговаривают» (письмо Л. А. Авиловой, 21 февраля 1892).
Отсутствуют развернутые авторские рассуждения, они всегда сжаты (там, где есть вообще).
В ранних же опытах – истоки знаменитых чеховских пейзажей.
Можно было бы показать «юмористическое» происхождение и многих известных особенностей чеховской драматургии – таких, как не связанные с действием или бессмысленные реплики персонажей, как напоминание ими друг друга и многое другое.
В основе сюжета юмористического рассказа лежит не биография героя или решение какой-то общей проблемы, но прежде всего очень определенная бытовая коллизия, ситуация. Герой попадает не в ту обстановку (вместо своей дачи – в курятник), героя принимают за другого (проходимца – за лекаря), простое, обыденное действие приводит к неожиданным результатам (человек умирает из-за того, что чихнул в театре) – все это коллизии, построенные на повседневных бытовых отношениях. Вне и без них не может существовать юмористический рассказ. Он может обладать глубоким содержанием – но оно надстраивается над этой предельно конкретной ситуацией.
В ранних рассказах Чехова эта ситуация обозначается в первой же фразе. Мы еще почти ничего не знаем кто, но нам уже сообщено, где и что.
«На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий» («Толстый и тонкий», 1883); «У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы» («Лошадиная фамилия», 1885).
В поздней чеховской прозе ставятся сложнейшие общественно-психологические проблемы. Но они опять-таки не обозначаются автором прямо, как центральные в сюжете. Сюжет не строится вокруг какой-либо из них, как у Достоевского, или вокруг истории героя, как у Тургенева, Гончарова. В основе по-прежнему оказывается конкретная жизненная ситуация, тоже часто называемая сразу: «Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы» («Черный монах»); «Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне…» («Дама с собачкой»). Можно бы сказать, что все вопросы всегда решаются в чеховском произведении на некоем бытовом фоне, но это было бы неточно: быт не фон, не задник сцены, он внедряется в самую сердцевину сюжета, сращен и переплетен с ним.
Герой юмористического рассказа погружен в мир вещей. Он не существует вне ближайшего предметного окружения, он не может быть изображен без него. И он изображается в бане, в больнице, в вагоне поезда и вагоне конки, за уженьем рыбы и вытаскиваньем апельсинных корок из графина.
В поздней чеховской прозе быт также пронизывает все. Как в «Полиньке» (1887) разговор о любви переплетается с разговором о сутажете и камбре, так и в поздних вещах Чехова размышления, рассуждения героев идут во время купания, в тарантасе, во время врачебного обхода, перебиваются, разрываются какими-то мелкими обыденными подробностями.
Персонаж юмористических рассказов – канцелярист, телеграфист, провинциальный актер, репортер, обитатель дешевых номеров Бултыхина – целиком погружен в заботы: как доехать до дачи, как заснуть, когда над головой и за стеной нажаривают на фортепьяно или рыдают, как получить обратно свои, хорошие, сапоги взамен надетых по ошибке чужих, с заплатками и стоптанными каблуками. Возможно, этот герой и позволил увидеть, как тесно сращен человек с обступившими его вещами. И может быть, именно благодаря этому герою Чехов пришел к мысли, что к своему вещному окружению прикован любой человек, что он не может оторваться от него ни в какой момент своей жизни – и только так он и может быть изображен.
Рассказ-сценка – это всегда зарисовка, выхваченная из жизни и представленная на обозрение, «кусочек жизни» без начала и конца. Не здесь ли истоки поздних чеховских рассказов, начинающихся «с середины» и кончающихся «ничем»?
Новый художественный мир, созданный Чеховым, – мир «Дуэли», «Дома с мезонином», «Архиерея» – уже не помнит о своем происхождении.
6
Литературные дела давно звали Чехова в Петербург, но денег все не было. «Вы советуете мне съездить в Петербург, – писал он Лейкину в октябре 1885 года, – чтобы переговорить с Худековым [5] , и говорите, что Петербург не Китай… Я и сам знаю, что он не Китай, и, как Вам известно, давно уже узнал потребность в этой поездке, но что мне делать? Благодаря тому что я живу большой семьей, у меня никогда не бывает на руках свободной десятирублевки, а на поездку, самую некомфортабельную и нищенскую, потребно minimum 50 руб. Где же мне взять эти деньги?»
Перед Рождеством Лейкин повез в столицу лучшего сотрудника «Осколков» на свой счет в вагоне 1-го класса и поселил в своем доме.
Лейкин был хозяин хлебосольный, кормили у него до отвала, «точно в старосветской усадьбе». Дом был огромный, богатый, набитый всяким добром. Более всего Чехова поразила особая перинка для лейкинских собак – Рогульки и Апеля. Потом в «Каштанке» появится маленький матрасик как показатель новой роскошной собачьей жизни, а сами лейкинские псы – с остротами об их взаимоотношениях – долго будут обыгрываться в чеховских письмах. Каждое утро у подъезда на паре сытых шведок ждал сытый кучер Лейкина Тимофей, любивший вспоминать, как он служил у графа Строганова. Ехали в Петропавловскую крепость, или в балаганы на Марсовом поле, или на Сенной рынок, или в старообрядческую церковь Николая Чудотворца на Николаевской улице, или – по наказу Павла Егоровича – к зданию Святейшего синода. Лейкин в Петербурге знал все – кажется, не было места, где бы не разворачивалось действие в какой-нибудь из тысяч его сценок. Обедали у лучших рестораторов – Бореля или Палкина.
Позже в письме к А. С. Суворину Чехов даст краткую и точную характеристику Лейкина: «Это добродушный и безвредный человек, но буржуа до мозга костей. Он если приходит куда или говорит что-нибудь, то непременно с задней мыслью. Каждое свое слово он говорит строго обдуманно и каждое ваше слово, как бы оно ни было случайно сказано, мотает себе на ус в полной уверенности, что ему, Лейкину, это так нужно, иначе книги его не пойдут, враги восторжествуют, друзья покинут, кредитка прогонит. Лисица каждую минуту боится за свою шкуру, так и он».
Но и теперь, в первые дни близкого знакомства, Чехов не заблуждается. «Был я в Питере, – пишет он брату Александру 4 января 1886 года, – и, живя у Лейкина, пережил все те муки, про которые в писании сказано: “до конца претерпех” […]. Кормил он меня великолепно, но […] чуть не задавил меня своей ложью…»
В отзывах о Лейкине вполне проявилась чеховская трезвость и объективность в оценке людей, и – стремление понять и простить (любимое Чеховым изречение). Несколько лет работая у редактора «Осколков», систематически с ним переписываясь, встречаясь, накопив к нему много претензий, Чехов отзыв о нем в письме к Суворину, однако, кончает так: «Несчастный хромой мученик! Мог бы покойно прожить до самой смерти, но какой-то бес мешает…» А за два года до того А. С. Лазарев-Грузинский писал Н. М. Ежову: «Чехов страшно бранит Лейкина, но говорит, что его надо и пожалеть…»
Иногда Чехову удавалось вырваться из радушных лейкинских объятий и встретиться или поужинать с В. В. Билибиным – секретарем и сотрудником «Осколков», печатавшим юморески, фельетоны, рассказы, «мелочи» под разными псевдонимами, из которых самым известным был «И. Грэк».
В короткое время молодые литераторы подружились настолько, что Чехов делился с ним в письмах достаточно интимными душевными переживаниями. В Москве в это время свирепствовал сыпной тиф; в несколько месяцев умерло шесть человек из чеховского университетского выпуска. «Боюсь! – писал Чехов. – Ничего не боюсь, а этого тифа боюсь… Словно как будто что-то мистическое…» Приоткрывал Чехов и другие стороны своей жизни, о которых не знал никто: рассказывал о взаимоотношениях с невестой, Е. И. Эфрос, окончившихся разрывом, – откровенность для Чехова необычная и, кажется, в его жизни больше не повторявшаяся. Уже два месяца спустя он спешит откреститься от репутации открытого собеседника: «Должно быть, вы, петербуржцы, считаете меня очень откровенным человеком! Вы просите написать откровенно о Лейкине, Лейкин на днях в P. S. просил, чтобы я откровенно изложил свое мнение об его рассказах, Суворин пишет, чтоб я откровенно сообщил ему, доволен ли я гонораром, и т. д. Этак вы все струны души моей истреплете!»
Главным результатом первой поездки в Петербург было быстро нарастающее изменение литературного самоощущения Чехова.
После «биографического наброска» А. А. Измайлова (1916) в литературе о Чехове закрепилось мнение о внезапном переломе в его биографии в марте 1886 года. В книге Измайлова об этом говорилось так: «Биографу Чехова нет надобности искать факта, от которого можно было бы начинать новый период его жизни, – того факта, какой иногда биографы создают почти искусственно. В жизни его такой момент налицо, и он приходит с эффектной внезапностью, с какой обычно совершаются все превращения вчерашних Савлов в Павла. Гранью, отделяющею первого, юного, почти не сознательного в литературе Чехова от Чехова нового и прозревшего, является письмо к нему маститого Григоровича, оказавшее на него впечатление грянувшего над головой внезапного благодатного грома. […] Можно думать, что в эту ночь он пережил душевный переворот в самом буквальном смысле слова, а наутро […] проснулся уже другим человеком».
Перелом происходил долговременнее и сложнее. Внутренне отделять себя от «малой» прессы Чехов начал рано: «Я газетчик […], но это временно… Оным не умру» (1883). Автор «Толстого и тонкого», «Смерти чиновника», «Хамелеона», несомненно, видел разницу между вещами своими и авторов «малой» прессы. Художественный вкус молодого Чехова показывают уже первые его пародии. Думал он и о литературной славе: в письмах можно найти и цитирование высказываний о себе («возводят меня в юмористы первой степени, в одного из лучших, даже самых лучших»), и шутки об «известном литераторе», о своем месте («я среди беллетристов 37-й»). Он был человеком очень скрытого, но большого честолюбия.
Но известность и даже положение профессионального литератора представлялись ему чем-то очень отдаленным. В Москве, в своем кругу, признания он не получил. Родители, живя на деньги, даваемые литературой, продолжали считать ее пустяками, «бумагомараньем» и вряд ли даже читали, что пишет их сын (Чехов – уже известным писателем – заметил как-то: «Мамаша до сих пор думает, что я пишу стихи»), В университетской среде только слышали о том, что он где-то что-то печатает. С редакторами и издателями отношения были исключительно деловые. Коллеги – мелкие московские литераторы – не составляли среды, которую можно было бы назвать литературной.
Первым, кто заговорил с ним на профессиональном языке и о литературных проблемах, был Лейкин. Но его профессионализм все время сбивался на ремесленничество и осложнялся множеством внелитературных мотивов: прагматизмом издателя, меркантильностью, ревностью хозяина – всем тем, что Чехов называл лейкинской «большой дипломатией».
В Петербурге Чехов нашел людей, которые читали литературу не только по службе и позволяли себе иметь о ней независимое и самостоятельное мнение. И эта среда его приняла и высоко оценила. Он увидел, что его «читают и судят»; в редакции «Петербургской газеты» он был принят, как «шах персидский»; «Суворин, Григорович, Буренин… все это приглашало, воспевало…»
Это было первым и сильным толчком: «…и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава. Знай, мол, я, что меня так читают, я писал бы не так на заказ». Уже через три недели Чехов писал Билибину: «Радуюсь, что мои шутки в “Петербургской газете” нравятся Вам, но, аллах керим! Своими акафистами вы все окончательно испортили мою механику. Прежде, когда я не знал, что меня читают и судят, я писал безмятежно, словно блины ел; теперь же пишу и боюсь…»
О том же, что больше всего и впервые подвигнуло молодого писателя на пересмотр отношения к своему литературному труду, мы имеем самое авторитетное свидетельство – Чехова. Это свидетельство значимо тем более, что содержится оно в письме к Григоровичу – том самом знаменитом письме, которое поразило Чехова, «как молния», и смысл которого – в восторженном утверждении роли старого писателя. Даже в таком письме Чехов не мог не признаться: «Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина».
А. С. Суворин, редактор и владелец одной из известнейших газет – «Новое время» – и не менее известного издательства, газетную беллетристику читал только «у себя»; юмористические журналы вообще вряд ли брал в руки. На рассказы молодого писателя ему указал Григорович. Суворин заинтересовался; Чехов это почувствовал сразу. Специальной телеграммой редакция «Нового времени» просила под первым напечатанным в газете рассказом поставить не псевдоним, а настоящую фамилию. Следом Суворин написал об этом рассказе особое письмо. Оно, как и несколько сот других его писем, до нас не дошло (после смерти Чехова письма Суворина были ему возвращены и, видимо, им уничтожены), но по ответу можно судить, что оно поразило Чехова прежде всего заинтересованным и уважительным отношением известного литератора к молодому коллеге:
«Как освежающе и даже вдохновляюще подействовало на мое авторство любезное внимание такого опытного и талантливого человека, как Вы, можете судить сами… Ваше мнение о выброшенном конце моего рассказа разделяю и благодарю за полезное указание. Работаю я уже шесть лет, но Вы первый, который не затруднились указанием и мотивировкой».
В глазах Чехова Суворин тогда был крупной величиной: в его «Литературной табели о рангах» (начало мая 1886) он стоит на 9-м месте (вслед за Львом Толстым, Гончаровым, Салтыковым-Щедриным, Григоровичем, Островским, Лесковым, Полонским, А. Майковым и перед Гаршиным, С. Максимовым, Г. Успенским, Плещеевым, Короленко, Надсоном).
«Перворедакторы» Чехова – все без исключения – советовали, требовали, побуждали Чехова писать как можно больше. Суворин был первым, кто говорил: «Когда много пишешь, далеко не все выходит одинаково хорошо».
Петербург и письмо Суворина нарушили литературное одиночество Чехова. «Одиночество в творчестве тяжелая штука. Лучше плохая критика, чем ничего…» (10 мая 1886); «В Москве мне разговаривать не с кем» (9 октября 1888).
Письмо Григоровича было следующим толчком. В оценке его значения для Чехова биографы опираются на ответное чеховское письмо; это справедливо. Однако к обоим документам часто подходят как к бытовым. Hо если они и явления быта, то – литературного, а точнее – литературного этикета, включающего участников в достаточно традиционную ситуацию напутствия, «передачи лиры».
Со стороны Григоровича чертами такой ситуации были: обращение первым (возможно, лично до этого они и не были знакомы) как знак игнорирования условностей пред лицом молодого дарования; воспоминания о тяжелых, голодных, но славных днях, когда, подразумевалось, не разменивались на мелочи, не поступались высокими целями литературы; подношение портрета с надписью «От старого писателя молодому таланту».
Чехов со своей стороны тона не нарушает: возвышенная поэтика была задана с первых слов и выдержана до конца: «добрый, горячо любимый», «Бог успокоит Вашу старость», «благовеститель» (обыгрывание Благовещенья, – это день, в который писал Григорович), «как молния», «нежданно-негаданно», «кажется, не лист, а целую стопу написал бы Вам».
Литературность ситуации ни в коей мере не исключала искренности и полноты чувств с обеих сторон. Но она вносила некоторые добавочные краски, которые нужно учитывать, размышляя над ролью этого факта в реальной биографии Чехова.
Письмо пришло в смутное время. После поездки в Петербург минуло три месяца; эта поездка и письмо Суворина подняли волну «самокритики»; автор сотен рассказов засомневался, стал «бояться». (Об этом он писал Билибину, Суворину.) И вдруг он получает новое и такое авторитетное подтверждение того, о чем ему за два месяца перед тем говорили и писали! Старый писатель заявлял: «У Вас настоящий талант, талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколенья». И он говорил не только от лица своего и ныне живущих, но – в глазах Чехова – от имени легендарного поколения Тургенева и Некрасова, от имени великой литературы. Говорил о ее судьбах, а о Чехове – как о человеке, к этим судьбам причастном: «Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко».
Григорович призывал молодого собрата не разбрасываться на срочную работу, поберечь свои впечатления «для труда обдуманного, отделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. […] Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики».
Письмо пришло тогда, когда собственные размышления Чехова над всеми этими вопросами стали особенно остры и даже мучительны из-за очевидной для него невозможности их скорейшего разрешения.
Глава шестая ОТ КУДРИНА ДО САХАЛИНА
1
Несколько лет жизни в Москве сильно изменили Павла Егоровича Чехова. Он помягчел, не читал нотаций, не кричал. Уклад свой оставил для себя: долго молился, ходил к вечерне и заутрене, следил за лампадами. Так же любил порядок, аккуратно записывал самые копеечные расходы, вел дневник.
Мать, Евгения Яковлевна, менялась мало. Целый день убирала, стряпала, шила, только вечером разрешая себе отдых – погадать на картах. Характер ее был далек от того, который рисуется обычно в биографических книгах о Чехове. При всей своей доброте и душевности («Талант в нас со стороны отца, а душа – со стороны матери») она любила жаловаться на жизнь и обвинять всех подряд в ее тяжестях; Антон называл ее «вечно ропщущей». «Мать клянет нас за безденежье» (1882); «Мамаша жива, здорова, и по-прежнему из ее комнаты слышится ропот» (1885). Такова она была и в поздние годы: «то у нее зубы болят, то она плачет, тоскует по родным местам» (запись слов Чехова в дневнике Б. А. Лазаревского, 1899).
Семья не увеличивалась, но члены ее взрослели – вместо гимназических мундирчиков и платьев с пелеринками стали нужны студенческие мундиры и взрослое платье, в котором можно было бы пойти в симфоническое собрание; всем требовались уже отдельные комнаты.
Если на Драчевке и Сретенке за жилье платили не более 25 рублей в месяц, то на Якиманке – уже 40, а за «дом-комод» на Садовой-Кудринской – 55. Платили не очень аккуратно, что отразилось даже в дарственной надписи на книге «В сумерках» «неисправного плательщика» домовладельцу доктору Я. А. Корнееву.
Семейные расходы росли – заработки Чехова за ними не поспевали. «100 рублей, которые я получаю в месяц, – писал Чехов Александру Павловичу в 1883 году, – уходят в утробу, и нет сил переменить свой серенький, неприличный сюртук на что-либо менее ветхое. Плачу во все концы, и мне остается nihil [ничего]. В семье ухлопывается больше 50. […] За апрель я получил от Лейкина 70 руб., а теперь только 13-е, а у меня и на извозца нет». А вот что он пишет через три года Лейкину: «Вы спрашиваете, куда я деньги деваю… Не кучу, не франчу, долгов нет, но тем не менее из 80 + 232 р., полученных перед праздником от Вас и от Суворина, осталось только 40, из коих завтра я должен буду отдать 20… Черт знает, куда они деваются!» Но сестре он писал: «Денег не жалейте, черт с ними» (1889).
Тяжесть положения добровольного главы семейства с годами уменьшалась мало. Помогать продолжал только Иван. К старшим братьям Чехов не обращался и иногда даже приукрашивал положение. «Ты сильно бы обидел нас, ежели бы прислал хоть копейку […] Мы сыты и ни в чем не нуждаемся», – писал он Александру в апреле 1883 года. Александр, впрочем, присылать и не собирался: когда отец потребовал прислать денег для Марии, старший брат отвечал, что к «немалому прискорбию» не может этого сделать. И – при всей сдержанности – у Чехова не раз прорывались фразы, что у него «на шее семья сидит».
Другие члены семьи зарабатывали как могли и когда могли. Антон должен был – всегда. «Мне нельзя зарабатывать меньше 150—180 р. в месяц, иначе я банкрот» (1883). «Аллаху только известно, как трудно мне балансировать и как легко мне сорваться и потерять равновесие. Заработай я в будущем месяце 20—30-ю рублями меньше, и, мне кажется, баланс пойдет к черту, я запутаюсь… Денежно я ужасно напуган…» (1885). Даже путешествуя по югу, в 1887 году, он должен был систематически посылать рассказы в газету – писал «через силу, поневоле, чтобы не заставить свою фамилию жить на чужой счет, писал мерзко, неуклюже, проклиная бумагу и перо». Когда деньги из газеты опаздывали, отец об этом сына уведомлял.
Были и другие хлопоты: с квартирами, дачами, дровами, разнообразными покупками, в которых он тоже принимал участие. «Целодневная напряженная возня с “домашними обстоятельствами” совсем отняла у меня энергию…» (1887). «Один болен, другой влюблен, третий любит много говорить и т. д. Изволь возиться со всеми» (1889). «Надо рассказ кончить и своих устроить. Надо за московскую квартиру 200 рублей заплатить, за летние месяцы. Надо искать новую квартиру и тоже платить и т. д., и все в таком же идиотском роде» (1891).
Особенно огорчали затруднения с любой поездкой. «Езжу теперь в III классе, и как только у меня останется в кармане 20 р., тотчас же попру обратно в Москву, чтобы не пойти по миру. Ах, будь у меня лишних 200– 300 рублей, показал бы я кузькину мать! Я бы весь мир изъездил! Гонорар из “Петербургской газеты” идет в Москву, семье» (1887). «Жизнь коротка, и Чехов, от которого Вы ждете ответа, хотел бы, чтобы она промелькнула ярко и с треском; он поехал бы на Принцевы острова и в Константинополь, и опять в Индию и на Сахалин. Но, во-первых, он не свободен, у него есть благородное семейство, нуждающееся в его покровительстве. […] Каждая поездка значительно осложняет мои финансовые дела» (Суворину, 1892).
Все это вместе – многолюдство, теснота, шум, безденежье, «роптанье» матери – вызывало раздражение, выливавшееся не в одних чеховских письмах: «Я, каюсь, слишком нервен с семьей. Я вообще нервен. Груб часто, несправедлив…» (1883). «Я, живучи у Вас, пополнел и окреп, а здесь опять расклеился. Раздражен чертовски. Не создан я для обязанностей и священного долга» (1893, Суворину).
Чтобы исключить все это, так мешающее работе, выход был один – отделиться от родительской семьи. Эта мысль являлась не раз, высказывалась в разговорах с братьями и в письмах: «Живи я в отдельности, я жил бы богачом, ну, а теперь… на реках Вавилонских седохом и плакохом…» (1883); «Гляжу на себя и чувствую, что не жить нам, братцы, вместе! Придется удрать в дебри в земские эскулапы. Милое дело!» (1884). Услужливо всплывали оправдания: «Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти себе извинение в характере матери, в кровохаркании и проч. Это естественно, извинительно. Такова уж натура человеческая» (Н. П. Чехову, 1886).
Но – это давно было продумано и решено раз и навсегда – такой выход для Чехова был неприемлем. «Поправить мои обстоятельства, т. е. сделать их иными или лучшими, невозможно. Есть больные, которые излечиваются только единственным простым и крутым средством, а именно: “Встань, возьми свой одр и иди”. Я же не в силах взять своего одра и уйти, а стало быть, и говорить нечего» (1891). Этот крест он нес до конца и с полным правом мог сказать Бунину в Ялте: «Я не грешен против пятой заповеди» [6] . Семья была им любима и его любила тоже.
Это была веселая семья. С самого приезда Антона в Москву, когда он привез с собою двух студентов, поселившихся у Чеховых «на хлебах», дом был наполнен молодежью: сначала это были медики, товарищи Антона, и художники – Николая, потом – педагоги, сослуживцы и коллеги Ивана, затем – подруги подросшей Марии, позже – музыканты, певцы, литераторы, актеры…
Несмотря на постоянное безденежье и не очень просторные квартиры, Чехов еще в доме на Якиманке (осень 1885 года) завел вечера-журфиксы по вторникам. Приезжали старые знакомые – Киселевы, Бегичев, «Тышечка в шапочке» – отставной поручик Э. И. Тышко, – двоюродный брат Чехова А. А. Долженко, хороший музыкант-дилетант, игравший почти на всех струнных, рояле, гобое. Набралось много новых. Николай недавно переселился в «Медвежьи номера» (угол Никитской и Брюсовского), дешевые меблирашки, набитые консерваторской и студенческой молодежью; благодаря своей мягкости и общительности он приобрел множество друзей. Некоторые из них надолго остались в орбите чеховской семьи – например, виолончелист М. Р. Семашко и флейтист А. И. Иваненко (возможно, некоторые их черты отразились в рассказе «Контрабас и флейта», написанном дней через десять после знакомства). «У нас полон дом консерваторов – музыцирующих, козлогласующих и ухаживающих за Марьей» (Ал. П. Чехову, 3 февраля 1886); «Ночью ходил в Кремль слушать звон, шлялся по церквам; вернувшись домой во 2-м часу, пил и пел с двумя оперными басами (Тютюник и Антоновский), которых нашел в Кремле и притащил к себе разговляться (Лейкину, 13 апреля 1886).
Особенно многолюдно стало в Кудрине, на Садовой, где Чеховы заняли целый небольшой дом. Переехали сюда с Якиманки 27 августа 1886 года. В числе первых посетителей были Л. Пальмин и В. Гиляровский; в ноябре заходил приезжавший в Москву Лейкин. Вместе и врозь бывали барышни – Варя Эберле, Даша Мусина-Пушкина; позже появились артистка Малого театра Г. Панова и Лика Мизинова, преподававшая вместе с Машей Чеховой; приходили бывшие пациентки Чехова сестры Яновы («Яшеньки»), О. Кундасова («астрономка»), учительница музыки А. Похлебина.
После завязавшихся отношений с театром Ф. А. Корша гостями стали артисты этого театра А. Я. Глама-Мещерская, Н. Н. Соловцов, с которым Чехов был знаком еще по Таганрогу, В. Н. Давыдов (петербургский актер, он на два года «эмигрировал» в Москву), читавший однажды в чеховской гостиной отрывки из «Власти тьмы» Л. Толстого. И о том и о другом Чехов напишет потом статьи в «Новом времени». Приходили артисты Малого театра, будущая его слава, – А. П. Ленский и А. И. Южин.
И, конечно, литераторы. В разное время в доме на Садовой-Кудринской побывали И. А. Белоусов, Н. М. Ежов, В. Г. Короленко, Вл. И. Немирович-Данченко, Н. И. Свешников, А. Н. Плещеев…
Сюда к Чехову однажды пришел П. И. Чайковский, которому писатель посвятил сборник «Хмурые люди», – благодарить за посвящение. Вскоре после ухода композитор передал с посыльным свою фотографию и письмо, где снова благодарил и просил Чехова подарить свою фотографию тоже. Выполняя эту просьбу, Чехов писал: «Посылаю Вам и фотографию, и книгу, и послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало мне». Сдержанный Чехов умел быть патетичным, а в самой патетике – новым. 2
В мае 1886 года вышел сборник А. Чехонте «Пестрые рассказы». На титуле после псевдонима – в скобках – стояло настоящее имя автора. Сборник был издан Лейкиным; состоял он из рассказов, напечатанных в «Осколках», а также в других юмористических журналах; несколько вещей было из «Петербургской газеты».
Ко времени, когда готовился сборник, Чехов напечатал уже несколько рассказов в «Новом времени». Один из них – «Кошмар» – Лейкин хотел в него включить. Автор был против: «Тон “Кошмара”, его размер и проч. не годятся: ансамбль испортят. Из рассказов, помещенных в “Новом времени”, нельзя поместить в книжку ни одного».
Может показаться (а критикам долго так и казалось), что в «нововременских» рассказах произошла внезапная перемена тематики, тона, стиля. Было иначе.
Чехов никогда не был юмористом по преимуществу. Дебютирует он в «Стрекозе» и «Будильнике», но уже в следующем году на несколько месяцев почти прекращает там печататься – работает над большой пьесой. В первом же неюмористическом издании, в котором он стал сотрудничать, молодой литератор помещает очерк «На волчьей садке» (1882) – о жестокой забаве, травле на Ходынском поле волков, выпускаемых из клеток. В следующий раз в том же журнале он печатает печальный рассказ «Забыл!!», начало которого по тону напоминает «Верочку» (1887). В том же году публикует «маленький роман» «Зеленая коса» и большой рассказ «Барыня».
Целую серию вещей совсем неюмористических он написал для журналов «Свет и тени» и «Мирской толк»: «Он и она», «Живой товар», «Цветы запоздалые», «Два скандала», «Барон». Все это появилось в 1882 году, прошедшем под знаком таких произведений; это был тон и стиль, совсем не похожий на манеру первых юмористических рассказов. И кто знает, по какому руслу пошла бы литературная судьба молодого писателя, не попади он так рано в «Осколки». Недавно возникший, этот журнал по своей установке был еще более юмористичен, чем «Будильник» и «Стрекоза» – старые журналы, по давней традиции еще печатавшие очерковые материалы и публицистические фельетоны. Девиз «Осколков» был – юмор во что бы то ни стало, ненужность «серьеза», сугубая краткость, установка на сценку, юмористическую мелочь, афоризм, анекдот.
Чехов с большим успехом сотрудничал во всех «осколочных» жанрах, одни из них реформируя, блестяще используя возможности других. Но это не исчерпывало его творческой энергии; сильно мешали строго предустановленные размеры рассказа. Уже через полтора месяца после начала сотрудничества в «Осколках» он сетует, что есть темы, которые не умещаются в рамки ста строк: «У меня есть тема. Я сажусь писать. Мысль о “100 и не больше” толкает меня под руку с первой же строки. Я сжимаю, елико возможно, процеживаю, херю – и иногда (как подсказывает мне авторское чутье) в ущерб и теме и (главное) форме».
Стесняло и требование непременного юмора. Отстаивая перед редактором свое право на «серьезные вещицы», Чехов ссылался даже на то, что «в заголовке “Осколков” нет слов “юмористический” и “сатирический” […] Легкое и маленькое, как бы оно ни было серьезно […], не отрицает легкого чтения… Упаси боже от суши, а теплое слово, сказанное на Пасху вору, который в то же время и ссыльный, не зарежет номера». Будучи постоянным сотрудником «Осколков», подобные темы Чехов отодвигал: «Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал» (1886).
Уже в «Петербургской газете» (1883—1886) читателям приоткрылся будущий Чехов – в таких рассказах, как «Егерь», «Кухарка женится», «Горе», «Художество», «Тоска», «Переполох», «Актерская гибель». Но и над этой газетой витал дух Лейкина, печатавшегося с Чеховым в очередь; объем тоже был ограничен («не больше двух гранок»); писать также надо было к сроку.
Поэтому понятен тот взрыв, который произошел, когда ему перестали ставить какие-либо условия относительно и сроков [7] , и тем, и объема, тона, и не нужно стало ничего «прятать» из опасения испортить, втискивая в прокрустово ложе короткого рассказа. В два месяца он печатает «Панихиду», «Враги», «Агафью», «Кошмар», «Святою ночью» – вещи, принадлежащие к лучшим его рассказам. Он буквально обрушил на читателя накопленные за несколько лет образы, картины, размышления. «Пятью рассказами, помещенными в “Новом времени”, я поднял в Питере переполох, от которого угорел, как от чада».
Так началось сотрудничество в «Новом времени», обогатившее русскую литературу многими замечательными произведениями.
Работа в газете Суворина имела и ощутимые материальные результаты: «“Ведьма” в “Новом времени” дала мне около 75 р. – нечто, превышающее месячную ренту с “Осколков”» (17 марта 1886). В очередной приезд в Петербург сотрудник известной газеты явился в редакцию «Осколков», надев «новое пальто, новые штаны и острые башмаки» (25 апреля 1886). Но при всем том Чехов печатается в «Новом времени» реже, чем в «Осколках» и «Петербургской газете»: лишь в марте и октябре 1886 года он опубликовал по три рассказа в месяц, обычно же печатал два или, чаще, один рассказ; были и пустые месяцы. Заказная работа начала впервые тесниться свободной. Но количественное сокращение написанного было еще впереди.
1886-1887 годы – время наивысшей чеховской продуктивности. В 1886 году им написано более ста произведений. Устанавливаются многие черты его манеры. Например, формируется поэтика чеховского пейзажа.
С первых лет Чехов очень охотно пародировал поэтический предметный набор массово-литературного пейзажа: «Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских беллетристов, висела нега… Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только г. Фета, который, стоя за кустом, во всеуслышание читал бы свои пленительные стихи» («Скверная история», 1882).
Однако если бы Чехов ограничился только отталкиванием и пародированием, его пейзаж так и остался бы в рамках юмористической традиции. Для создания нового литературного качества одного минус-приема не достаточно – он очень быстро становится обратным общим местом и опять, уже в этом качестве, входит в массовый литературный обиход эпохи. Нужно было что-то другое.
Начав с распространенных в юмористике форм, молодой Чехов на них не остановился. Фамильярность переходила в домашность, интимность; грубоватый антропоморфизм – в приближенность к человеку, его повседневному окружению, ненавязчивому приобщению природы к человеческим меркам, масштабам, ощущениям. «Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке» («Мальчики», 1887). Как писал современный критик, «текучая вода, вросший в землю камень, движущееся облачко – все это для него так или иначе проявление мировой жизни, подчиняющейся тем же законам, как и человек. Человек и природа сливаются в его глазах в одно, как часть и целое» («Каспий», 1888, 6 декабря, № 264).
Сближение явлений природы с миром бытовых явлений и вещей, ощущаемое как снижение, сначала имело у Чехова юмористическую и эпатирующую окраску. Но окраска ушла, сам же принцип остался, создав поэтичность нового типа.
В эти годы формируется чеховский рассказ – как новое и оригинальное явление русской литературы. Образцом этой определившейся поэтики может служить едва ли не любой из рассказов второй половины 1887 года: «Свирель», «Почта», «Беглец», «Холодная кровь», «Мальчики», «Поцелуй». В «Рассказе госпожи N» историю жизни, молодости, ожиданья любви, упущенного счастья, тоскливого настоящего оказалось возможным передать всего на нескольких страницах текста.
Но в это самое время он оставляет «старую манеру», короткий рассказ, – начинает писать большую вещь. Это была повесть «Степь». 3
Повесть была задумана после поездки в родную южную степь весной 1887 года (или поездка была задумана для повести).
Второго апреля Чехов выехал в Таганрог. Уже после станции Харцызской начались знакомые картины. «Вижу старых приятелей – коршунов, летающих над степью… Курганчики, водокачки, стройки – все знакомо и памятно. […] Хохлы, волы, коршуны, белые хаты, южные речки…»
После гимназии он был в родном городе на следующий год и еще на следующий. Но эти поездки не оставили в памяти особого следа. Теперь с отъезда из Таганрога минуло 8 лет; он ехал туда профессиональным писателем. Все виделось иначе – и родственники, и старые знакомые, и город.
«Силуэты акаций и лип были всё те же, что и восемь лет тому назад; так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко бренчало плохое фортепьяно, все та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед, но не те были люди. Уж по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно, когда на свои расспросы о знакомых я раз пять получил от Кисочки в ответ “умер”, моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику и слушая бренчанье фортепьяно, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какою жадностью одно поколение спешит сменить другое и какое роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь семь-восемь лет!» («Огни», 1888).
К этому времени в прозе Чехова вырабатывается повествовательная манера, которую принято называть объективной . В его рассказе автор-повествователь не выступает прямо со своими оценками героев или изображаемого вообще. Он скрыт, его точку зрения читатель улавливает из сюжета, соотношения высказываний и действий героев, всего произведения в целом. Все же изображаемое внешне дается так, как его видит герой. Из окружающей обстановки показывается только то, что может наблюдать он – из окна, из тарантаса, идя по улице, стоя на берегу реки. То, что он не видит со своего наблюдательного пункта, не изображается. А если все же показывается, то об этом говорится предположительно: «видимо», «очевидно»; автор не берет на себя ответственность говорить об этом категорически, «от себя». Это не значит, что речь повествователя нейтральна, эмоционально ровна. В ней не проявляются его эмоции, но чувства героев насыщают ее обильно; используется очень подходящая для этих целей несобственно-прямая речь.
Повесть «Степь» написана совсем в другом стиле и тоне. Сперва может показаться, что в ней, как и в рассказах, картины степной природы даны в восприятии мальчика Егорушки. Такие картины там есть. Но рядом с ними находим совсем другие, где повествователь говорит от себя и за себя, излагая свои мысли и чувства. «Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни. […] А вот на холме показывается одинокий тополь […]. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное – всю жизнь один, один…»; «…приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной».
«Степь», которую некоторые исследователи провозглашают едва ли не детской повестью [8] , вобрала в себя размышления Чехова над неразрешенными вопросами жизни, смерти, над глубоко для него личной проблемой одиночества.
Опыт новой манеры оказался важным – для будущей поэтики Чехова. В ближайшие же годы он не имел продолжения – писатель вернулся к объективной манере, к короткому рассказу. Но это было не простое возвращение.
В рассказах последующих лет решалась проблема, которую Чехов в это время ощущал для себя как главную, – проблема психологизма, изображения внутреннего мира человека.
У Чехова был громадный опыт сценок – их он писал по несколько десятков в год. В сценке, целиком сосредоточенной на явлениях внешне-предметного мира, непосредственное изображение внутреннего, за редчайшими исключениями, отсутствовало. Так, Лейкин, описывая «внешность», не углублялся, писал современный критик, «в психологические основы, на которых создается эта внешность». Внутреннее изображалось исключительно через наружные его проявления.
В самых ранних сценках Чехова находим некоторые приемы изображения внутреннего мира, близкие к общей традиции сценки: отсутствие прямого проникновения автора в сами душевные переживания персонажа и изображение их через фиксацию внешних признаков, через поведение, через диалог. Но это было не заимствование, а скорее принятие условий жанра: во всех этих случаях Чехов давал собственные оригинальные вариации. Многие из них вообще были лишь спровоцированы условиями жанра, а не взяты из готового.
В короткой сценке, ни слова не говоря о чувствах героя, Чехов может изобразить целую сменяющуюся их гамму. В «Хамелеоне» (1884) такие чувства, вызывающие и сопровождающие реплики героя, характеризуются исключительно при помощи его мимики, жестов, действий, причем очень немногих: «говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями»; «Сними-ка, Елдырин, с меня пальто»; «Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто»; «И все лицо его заливается улыбкой умиления»; «грозит ему Очумелов».
В задачи юмористической сценки входило подчеркнуть, выделить жест, выражение лица, подметить в них смешное, необычное, редкое, могущее удивить. Движения, мимика гротескно заостряются, их распространение на окружающие предметы гротеск усиливает: «Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, и узлы, и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее…» («Толстый и тонкий», 1883).
Пристальность юмориста, вглядыванье пародиста и сатирика вошли в плоть и кровь чеховского видения и психологического изображения. Отмечаются самые мелкие, как будто незначительные движения, жесты, выражающие чувство, сопровождающие высказывание: «Студент подошел к Евграфу Ивановичу, долго двигал губами и челюстями, и начал…» («Тяжелые люди»).
Постепенно это развилось в необыкновенно изощренную технику «мимического» психологизма, был создан целый арсенал способов и приемов, могущих выражать уже не только сравнительно простые душевные движения героев «Хамелеона» или «Радости» (1883), но и психологию героев рассказа «На пути» (1886).
Закреплением опыта психологического изображения к середине 80-х годов было известное высказывание в письме к Ал. П. Чехову от 10 мая 1886 года: «В сфере психики тоже частности. […] Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев». Эти слова часто цитируются; меж тем они отражают только определенный этап чеховского представления об изображении сферы психики. Художественный диапазон Чехова неудержимо расширялся, рассказ осложнялся и психологически и философски; выработанные принципы изображения через внешнее стали уж и стеснительны (далее они применялись к второстепенным героям), хотя Чехов открыл здесь много новых приемов: чувство связывается с действием или окружающими предметами не прямо а как бы по касательной, вещь не только выражает чувства человека, но как бы начинает светиться его эмоциями, создавая определенное настроение, – мебель глядит «сурово, по-стариковски» («Пустой случай», 1886); в рассказе «Шампанское» (1887) «стол, серые стены, топорный диван […], кажется, все до малейшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа».
Сложные философско-психологические темы чеховских рассказов конца 80-х годов невозможно было решить прежними методами. Нужно было что-то другое. Но решая в эти годы проблему психологизма, никак нельзя было обойти опыт величайшего современника – Льва Толстого. Толстой как философ, моралист занимал Чехова и прежде – Толстой-художник глубоко заинтересовал только теперь. В 1888 году появились «Именины» – самое «толстовское» произведение Чехова. Это не «вообще» толстовский рассказ – есть конкретный источник схождений: «Анна Каренина». Роман этот Чехов хорошо знал и высоко ценил; за полгода до начала работы над «Именинами» он перечитывал его.
Особое внимание именно к «Анне Карениной» неслучайно. В «Анне Карениной» – самом «объективном» романе Толстого – меньше, чем в других его вещах, заметен личный пристрастный авторский тон, которого Чехов после «Степи» стремился избегать.
Художественную близость рассказа к роману Льва Толстого осознавал и сам Чехов. В ответ на замечание А. Н. Плещеева о сходстве одной детали («Ольга Ивановна ненавидела теперь в муже именно его затылок») с толстовской (Анна вдруг замечает уродливые уши мужа) Чехов признавался: «Я это чувствовал, когда писал, но отказаться от затылка, который я наблюдал, не хватило мужества: жалко было». Позже он эту деталь из рассказа все же исключил. Тема разоблачения обмана, фальши, окутывающих общество, – одна из центральных тем Толстого с самого начала его творчества; в «Анне Карениной» она является не раз. Но и весь рассказ Чехова построен на изображении именин как лицемерного действа, когда героиня все время говорит не то, что думает, и делает не то, что хочет, в каждый момент остро ощущая ненужность и лживость ритуала. Поступки, речи, вся жизнь героев рассказа почти открыто оцениваются как истинные или ложные.
Нравственные искания толстовских героев, направление их мысли, душевные боренья всегда действенно-результативны, оканчиваются перерождением, постижением, кровью, новой жизнью, болезнью. У Чехова размышления, искания, борьба чувств героев в реально-жизненном плане обычно для них ничем не кончаются – все тонет в неостановимом и непрерывном потоке бытия. Но в «Именинах» вдруг оказывается, что это «гибель всерьез», что здесь пахнет кровью: является толстовская напряженность. За ложь расплачиваются страшной ценой – смертью ребенка.
Главным явилось изображение внутреннего мира, близкое к толстовскому: автор беспощадно вскрывает истинные мотивы поступков, высказываний, сама героиня пристально анализирует собственные чувства и мысли.
Толстовское влияние не прошло бесследно. У Чехова в области изображения внутреннего мира появились новые черты. Развился и расширил свои сюжетные права внутренний монолог, появились такие его формы, как «диалог в монологе», монолог, имитирующий «неоформленную» внутреннюю речь. Психологизм обогащается самоанализом.
Не раз еще Чехов воспользовался психологическим открытием Толстого – когда начинают возбуждать ненависть привычные детали внешности: «Ему были противны голос, крошки на усах…» («Убийство», 1895). Но от прямого влияния Толстого Чехов освободился.
Способы чеховского изображения внутреннего мира все больше удалялись от каких-либо образцов, все меньше походили на предшествующую традицию.
Прежде всего, по сравнению с этой традицией, отмеченной именами Тургенева, Гончарова, Достоевского, несравненно большее место занимает изображение «внешнего» за счет «внутреннего». Внешнее и внутреннее оказываются соединенными сложными и непрямыми связями. Во время тяжелого объяснения с женой Лаптев «опустился перед ней на ковер, […] вдруг поцеловал ее в ногу и страстно обнял» («Три года»). Далее следуй замечательная по психологической тонкости «внешностная» деталь: «И ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица. […] Утром оба они чувствовали смущение и не знали, о чем говорить, и ему даже казалось, что она нетвердо ступает на ту ногу, которую он поцеловал».
Другую важнейшую черту чеховской психологической рисовки можно условно обозначить как неисчерпанность объяснения. Сплошь и рядом повествователь обозначив какую-либо черту психологии героя, от объяснения открыто устраняется: «…и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?» («Попрыгунья», 1892).
В дочеховской традиции всякие изменения в характере героя тщательно подготавливаются. Особо выделяются черты, предопределившие превращение (например, Пьера Безухова). Подробно анализируются все внутренние причины, приведшие к такому результату. Изображение стремится к полной психологической детерминированности всех деяний персонажа. В изображении человека у Чехова такого стремления нет. Какие черты характера, чувства, прошлые поступки предопределили такие резкие перемены в поведении главного героя «Жены»? Какие внутренние процессы привели к возникновению «страстной», «раздражающей жажды жизни» у героя «Рассказа неизвестного человека»? Прямых ответов на эти вопросы читатель не найдет – он найдет целый комплекс причин, чувств, настроений, деталей обстановки, которые указывают, намекают ему на эти причины, демонстрируя тем самым их «невыговариваемую» сложность.
Черты нового психологизма обнаружились еще в чеховской драме, когда он в 1887 году впервые после юношеских опытов обратился к сценической форме. 4
К одной из «чеховских легенд» относится и та, что пьеса «Иванов» была написана «совершенно случайно, наспех и сплеча» (М. П. Чехов), «нечаянно, после одного разговора с Коршем. Лег спать, надумал тему и написал. Потрачено на нее 2 недели или, вернее, 10 дней». Последнее свидетельство принадлежит самому автору. И мы не можем не верить ему относительно сроков или внезапности начала работы. Но столь же несомненно, что сама тема и герои были у Чехова давно выношенными и подготовленными многолетними размышлениями. «Эти люди родились в моей голове не из пены морской, не из предвзятых идей, не из “умственности”, не случайно, – писал он Суворину. – Они результат наблюдения и изучения жизни. Они стоят в моем мозгу, и я чувствую, что я не солгал ни на один сантиметр и не перемудрил ни на одну йоту» (1888).
Идеи носились в воздухе; новое отношение к «лишним людям», «тоскующим» героям уже проскальзывало в публицистике. В 1880 году в «Русской речи» была опубликована (под псевдонимом) статья «Довольно!», на которую тогда же откликнулся Н. К. Михайловский. «Мы промотали ту нравственную энергию и силу, – писал автор, – которую преемственно получили от наших предков. Мы даже не промотались, а измотались, измочалились, обтрепались! Мы так долго носились с излюбленною нами хандрою и тоскою, что сами напустили туману на все нас окружающее и, наконец, перестали понимать, о чем собственно мы хандрим. Доболтались до излюбленного слова: “прострация, измождение сил” – и рады! Задрапировались этими словами даже не как тогою древних, а просто как халатом да туфлями, надетыми на босую ногу, – и довольны! И говорим это, лежа на диване и отплевываясь от горечи во рту, развившейся от того же лежанья… Мы себя величаем “изможденными”. Чем? […] Истощением, как результатом продолжительного непосильного труда? Нет, никакого особенного труда с нашей стороны не было. Бездеятельностью, за отсутствием всякого, мало-мальски добротворного труда? Нет, захотели бы – и нашли бы этого труда вдоволь, по горло. Чем же? Фразою! Жалкими словами! […] Мы получили хронический катар души… Мы развили в себе ужасную болезнь – мнительность, самое страшное зло, при котором организм не может жить здоровою жизнью, потому что даже когда он здоров, то воображение считает его больным и, действительно, доводит его до болезни. […] Довольно ныть! Довольно!»
Сходство с идеями чеховской пьесы удивительное, а главная мысль просто совпадает с той задачей, которую автор, по его собственным словам, считал главной в своей пьесе: «Я лелеял дерзкую мечту суммировать все то, что писалось о ноющих и тоскующих людях, и своим “Ивановым” положить предел этим писаньям».
Пьеса вызвала споры; многое в ней было не понято. В частности, недоумение вызывало построение характеров. В современных драмах мотивировки и разъяснения характеров персонажей обычно давались или в монологах, или во взаимохарактеристиках; большую роль играла интрига. Всего этого в «Иванове» было мало или не было совсем. Оказалось, что психологизм такого рода в драме воспринимается едва ли не с большим недоумением, чем в прозе. Находя в характере главного героя много неясностей, обозреватель газеты «День» П. Васильев рассматривал «для примера отношение Иванова к жене его. […] Почему он теперь ее разлюбил? Зачем он ее так оскорбляет? Наконец, как он относится к ее смерти?» Противопоставляя в этом отношении Чехову Гоголя, П. Васильев писал, что когда Подколесин выпрыгивает в окно, он «совсем понятен», но непонятно, «отчего же это сейчас застрелился Иванов? […] Думайте сколько угодно; драма на все дает общие намеки и ни на что не дает положительного ответа». «Остались непонятными, – подводил итог своему разбору обозреватель, – и причины “черной меланхолии”, охватившей Иванова. Недоумевает сам герой, недоумевает автор, недоумевают и зрители».
Чеховские принципы изображения героя и построения пьесы не были приняты не только критикою, но и друзьями, и актерами. В письмах, разговорах, на репетициях высказывались недоумения, давались советы, иногда очень настойчивые, с апелляцией к своему сценическому и драматургическому опыту. Советы находили подготовленную почву: Чехов сам считал (еще в процессе писания), что «выходит складно, но не сценично».
Рекомендации давались и по поводу фабулы, композиции, отдельных эпизодов, но больше всего – по поводу изображения психологии. Выполни Чехов их хоть вполовину, пьеса стала бы совсем другой, более традиционной.
Но некоторые изменения в первоначальный вариант позже Чехов все-таки внес. Первоначально пьеса заканчивалась шумной свадьбой, в конце которой Иванов неэффектно, своею смертью, умирал. В новой редакции Иванов перед самой поездкой в церковь стреляется у всех на глазах. В угоду привычной сценичности были исключены некоторые бытовые эпизоды, «тормозящие» действие, – те эпизоды, которые составят основу поздней чеховской драматургии.
Но это была временная уступка. Уже в «Лешем» (1889) Чехов возвращается к прежнему – к «лишним» эпизодам, к неявным, скрытым формам проявления внутреннего мира. Но это было возвращение на следующем витке эволюции, обогащенное новым опытом. Отсутствие объяснений, открытых мотивировок – шаг к построению драмы, базирующейся не на концентрации значимых поступков в их причинно-следственном сцеплении, но на основе более сложно организованного потока внутренней и внешней жизни, к построению, в полной мере воплотившемуся в драматургии «Трех сестер» и «Вишневого сада». 5
Сотрудничество в «Новом времени» продолжалось. С его редактором А. С. Сувориным Чехов познакомился еще во второй свой приезд в Петербург, в апреле 1886 года. Встреча состоялась в редакции и была недолгой. Потом он стал бывать у Сувориных дома, познакомился с его женой, детьми, с которыми мгновенно сошелся на почве любви к собакам и которые после «Каштанки» уже ловили каждое его слово, а своих собак назвали Федором Тимофеичем, Теткой и Иван Ивановичем.
Настоящее сближение с Сувориным произошло в 1888 году. Раньше в Петербурге Чехов всегда останавливался у Лейкина, в гостинице или у брата, Александра Павловича; теперь, уже через два дня по приезде, 15 марта, переехал на квартиру Суворина на Малой Итальянской. Там для него была выделена комната с особым ходом из передней, камином, роялем и фисгармонией, поставлен огромный, «министерский» стол с кипой превосходной бумаги (к письменным принадлежностям Чехов всегда был неравнодушен). Приставлен к нему был также лакей Василий, одетый лучше самого московского гостя; он спешил предугадывать малейшие желания своего нового барина; это сильно смущало писателя, получившего демократическое воспитание. (Потом, когда Суворины переехали в Эртелев переулок, у Чехова уже была отдельная квартира в две комнаты над суворинской.)
Неделя, прожитая у Сувориных, писал Чехов брату, «промелькнула как единый миг, про который устами Пушкина могу сказать: “Я помню чудное мгновенье…” В одну неделю было пережито: и ландо, и философия, и романсы Павловской, и путешествия ночью в типографию, и “Колокол”, и шампанское, и даже сватовство…» (О другом своем визите в Петербург – в конце 1888 года – Чехов тоже написал: «Две недели, прожитые у Суворина, прошли как единый миг».)
Именно тогда начались знаменитые многочасовые разговоры Чехова с Сувориным: «От обеда до чая хождение из угла в угол в суворинском кабинете и философия».
Летом того же года он гостил у Сувориных на их даче в Феодосии. Здесь, писал Чехов, он «поближе познакомился» с Сувориным, который стал для него «своим человеком». «Я не написал ни одной строки, – жаловался он своим домочадцам накануне отъезда с суворинской дачи. – […] Встаю я в 11 часов, ложусь в 3 ночи, целый день ем, пью и говорю, говорю без конца. Обратился в разговорную машину. Суворин тоже ничего не делает, и мы с ним перерешали все вопросы». «Целый день проводим в разговорах, – описывал Чехов свою феодосийскую жизнь И. Л. Леонтьеву-Щеглову. – Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых, еще никем не приподнятых вопросов. Говорим, говорим, говорим и, по всей вероятности, кончим тем, что умрем от воспаления языка и голосовых связок. Быть с Сувориным и молчать так же нелегко, как сидеть у Палкина и не пить».
Основным внутренним двигателем этих споров и разговоров было то, что Чехов в этом же письме определил как «воплощенная чуткость» Суворина. «В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер в охоте на бекасов, т. е. работает чертовским чутьем и всегда горит страстью». Любопытно, что в своих воспоминаниях Суворин определил главную особенность Чехова-собеседника тем же самым словом: «Наедине с приятелем или в письмах он судил с необыкновенной тонкостью и чуткостью о людях и о жизни…»
Продолженьем этих разговоров были чеховские письма. Невозможно себе представить биографию Чехова, его философские и литературные взгляды без этих писем – настолько меньше б мы знали обо всем этом, настолько беднее была бы история русской литературной и общественной мысли 80—90-х годов.
Как ясно видно из этих писем, Чехов всегда прямо и откровенно высказывал Суворину свои взгляды, в том числе и на его публицистику: «Либеральное Вам всегда чрезвычайно удается, а когда пытаетесь проводить какие-нибудь консервативные мысли или даже употребляете консервативные выражения (вроде “к подножию трона”), то напоминаете тысячепудовый колокол, в котором есть трещинка, производящая фальшивый звук» (2 января 1894).
Отношение Чехова к сотрудничеству в «Новом времени» известно по пересказам мемуаристов и его письмам: лучше пусть читатели получат его рассказ, чем какой-нибудь «недостойный, ругательный фельетон». «У газеты 40 000 читателей, […] этим пятидесяти, сорока, тридцати тысячам гораздо полезнее прочитать в фельетоне 500 моих безвредных строк, чем те 500 вредных, которые будут идти в фельетоне, если я своих не дам».
Это было давнее убеждение Чехова. Еще в рассказе 1884 года он писал: «Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках […] да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения…» («Марья Ивановна»), «Служа в “Новом времени”, – твердо говорил он брату, – можно не подтасовываться под нововременскую пошлость».
От Чехова «Суворин не требовал […] никаких компромиссов с “Новым временем”» (А. В. Амфитеатров). Возможность этого Чехов доказывал своим творчеством; предположение о какой-то иной своей позиции он воспринимал чрезвычайно болезненно. Видимо, с этим связано его несостоявшееся в эти годы сотрудничество с либеральной «Русской мыслью»: в процессе переговоров один из ее соредакторов, В. М. Лавров, с неосторожной высокомерностью либерала сказал об одном из чеховских рассказов, что «только для “Нового времени” такие и писать» (Л. Пальмин – Чехову, 9 ноября 1886).
А. С. Суворин всячески отделял себя от своей газеты, давно уже получившей славу официозной. В беседах и письмах (об этом отчасти можно судить по его дневнику) он высказывал совсем другие взгляды. Недаром после смерти Чехова он потребовал обратно свои к нему письма и, видимо, уничтожил их, боясь, что они повредят его официальной репутации (о репутации в веках он заботился мало). Он постоянно подчеркивал, что газета идет «сама собою», и подтверждал это невозможными для действующего редактора многомесячными отлучками. «Вы – счастливец, – за год до появления в Петербурге Чехова писал Суворину издатель газеты “Русь” И. С. Аксаков, – Вы – баловень судеб, Вы – барин: хотите пользоваться летом, пользуетесь! Шутка ли! Издатель газеты отсутствует 6 месяцев сряду, жуирует себе в Италии, и что еще завиднее: удит себе рыбу в своей реке! А мое издание – “Всё во мне, и я во всем!”»
Чехов очень ценил культурно-просветительскую деятельность Суворина – театральную (он был владельцем частного театра и театральным рецензентом), книгоиздательскую. Диапазон изданий А. С. Суворина был огромен – от календарей до Шекспира, от популярных брошюр до специальных трудов по истории, музыке, археологии, естествознанию. Его деятельность сильно способствовала повышению издательского и полиграфического уровня, тому, чтобы русские книги выходили «в цивилизованной форме» (Григорович).
Суворин бесконечно любил Чехова. «Исполнить какое-нибудь желание его, не говоря о просьбе, для него было прямо одно удовольствие», – писала жена издателя, и это подтверждается документально вполне. Суворин продолжал любить Чехова и тогда, когда тот под влиянием все ухудшающейся репутации «Нового времени» уже охладел к самому близкому своему собеседнику и корреспонденту [9] . Суворин очень поддерживал Чехова материально в тяжелые годы (а в первое десятилетие знакомства у Чехова тяжелыми были все), выпускал одно за другим издания его сборников (конечно, не бескорыстно для себя), выписывал авансы, постоянно давал бессрочно деньги в долг, и умел это делать так, что Чехов их брал. Он печатал все, что Чехов давал в газету: рассказы, пародии, водевили, повести с продолжением, публицистические статьи и театральные рецензии. Короткие заметки, писавшиеся часто прямо в кабинете Суворина, тут же посылались в набор. Так было, например, с серией известных чеховских заметок, написанных во время пребывания в Петербурге в январе 1893 года. Двенадцатого января Чехов присутствует на обеде беллетристов, 13-го – на спектакле в Александринском театре, и уже 14 января в «Новом времени» появляются две его заметки – об обеде и о спектакле; 22 января он – на бенефисе И. А. Мельникова, а 23-го в газете уже напечатано его сообщение об этом бенефисе; 24-го он – в Мариинском театре, на концерте оперных артистов Н. Н. и М. И. Фигнер, а на другой день в «Новом времени» можно было прочесть его заметку о концерте.
Такая многообразная поддержка – и это зачтется Суворину в истории русской культуры – сильно помогла творческой работе Чехова в самые годы расцвета его таланта. 6
Лето 1888 года Чехов с семьей провел на Украине, в Сумском уезде, в усадьбе Линтварёвых Лука на реке Псёл. С хозяевами – как было и в Бабкине и будет в Богимове – Чеховы сразу подружились. «Все они, – писал о Линтварёвых Чехов, – умны, честны, знающи, любящи».
С самых первых дней Чехов буквально захлебывается от восторга. Его письма неузнаваемы, они пестрят эпитетами «великолепный», «чудный», «величественный». Ему нравится все: пруд, «старый-престарый сад», сама усадьба (в письме рисуется ее план), река, катанье на лодке, мельница, хохлы, их белые хаты и их речь. И, конечно, рыбная ловля. «Река широка, глубока и красива. Водятся в ней следующие рыбы: окунь, чебак, язь, судак, белизна (порода шилишпера), голавль, плотва, сом, сибиль, щука ласкирка… Первая рыба, которую я поймал на удочку, была щука, вторая – большой окунь. […] Требуются большие крючки для сомов…» (И. П. Чехову; следует рисунок большого соминого крючка).
Однажды он даже ночевал с «маньяками-рыболовами» на островах и всю ночь ловил рыбу.
Многостраничные письма с Луки напоминают страницы чеховской прозы; быть может, поэтому он здесь писал так мало. В письме к Суворину он применяет тот прием, который не раз использовал в своих рассказах: пародируя заезженные темы, тем самым находит способ все таки ввести их в описание вместе с сопутствующим им эмоциональным ореолом: «Природа и жизнь построены по тому самому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях: не говоря уж о соловьях, которые поют день и ночь, о лае собак, который слышится издали, о старых запущенных садах, о забитых наглухо, очень поэтичных и грустных усадьбах, в которых живут души красивых женщин, не говоря уж о старых дышащих на ладан лакеях-крепостниках, […] недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница (о 16 колесах) с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна и, по-видимому, чего-то ждет» (30 мая 1888).
Все лето были гости: флейтист А. И. Иваненко, поэт А. Н. Плещеев, беллетрист К. С. Баранцевич… Получилось то, что как-то и не ожидалось от провинциального хутора: музицирование (Жорж Линтварев был хорошим пианистом, его сестра Наталья пела), разговоры о литературе (на Луке читали все журналы), игры, шаржи – совсем как в Бабкине, хотя и проще, демократичней.
Еще собираясь в Сумы, Чехов хотел «покружиться» (как его герой Варламов) по Украине. Так он и сделал: побывал на ярмарке в Сумах, в Лебедянке, в Гадяче, в Сорочинцах; проехал в коляске более 400 верст.
В июле его маршрут был: Харьков – Симферополь – Севастополь – Ялта – Феодосия. Десять дней – дача Суворина, разговоры, море, пляж; с сыном Суворина поехал на Кавказ: Новый Афон – Сухуми – Поти – Батум – Тифлис – Баку. Далее был план плыть по Каспию в Узнада, на Закаспийскую дорогу, в Бухару, Персию. Но его спутник получил телеграмму о смерти брата – надо было возвращаться. В это лето Чехов успел съездить еще в Полтавскую губернию.
Впечатления тех летних месяцев щедрее всего отразились в «Именинах», писавшихся сразу после Луки, в сентябре 1888 года, и целиком «линтваревских» – с их усадьбой, рекой, остроносыми челноками, музыкантами в лодках, спорами, фигурой «украйнофила» в журнальном варианте рассказа. Театральные разговоры с актером П. М. Свободиным – уже в следующее лето на Луке – отразились в «Учителе словесности» и «Скучной истории».
В этом, 1889 году Чехов берет с собою на Украину больного брата Николая, у которого началось тяжелое чахоточное обострение.
Сперва все было, как и год назад: великолепная природа, великолепный воздух, величественный Псёл. Чехов усиливается вернуть прошлогоднее настроение; письма опять напоминают пейзажи его рассказов: «Стволы яблонь, груш, вишен и слив выкрашены от червей в белую краску, цветут все эти древеса бело, отчего поразительно похожи на невест во время венчания: белые платья, белые цветы и такой невинный вид, точно им стыдно, что на них смотрят».
Приезжают гости: Суворин, Свободин, виолончелист Н. А. Семашко, брат Александр. Было заблаговременно снято два флигеля; Чехов заговаривает о «климатической станции для пишущей братии», мечтает купить «громадное имение» и отдать его «в распоряжение тех десяти человек, которых люблю».
Но состояние духа было уже не то: тяжело и, как лучше других понимал Чехов, безнадежно был болен брат Николай. Умер он 17 июня. «В гробу лежал он с прекраснейшим выражением лица. […] По южному обычаю, несли его в церковь и из церкви на кладбище на руках, без факельщиков и без мрачной колесницы, с хоругвями, в открытом гробе. Крышку несли девушки, а гроб мы. В церкви, пока несли, звонили. Погребли на деревенском кладбище, очень уютном и тихом, где постоянно поют птицы и пахнет медовой травой. Тотчас же после похорон поставили крест, который виден далеко с поля» (Чехов – М. М. Дюковскому, 24 июня 1889).
После поминок Александр Павлович писал отцу, П. Е. Чехову: «На душе скверно и слезы душат. Ревут все. Не плачет один Антон, а это – скверно». Умер самый близкий Чехову человек.
Наступили тяжелые недели. Чехов уезжает из Сум, не очень ясно представляя, куда и зачем. Через Одессу хотел ехать за границу; передумал – поехал в Ялту. Там составилось шумное общество: актеры (больше – актрисы), журналисты, чиновники, начинающие литераторы. Устраивали в горах пикники с вином и шашлыками, ездили в Ливадию, Ореанду, в Симеиз, на водопад Учан-Су. Развеяться не удавалось; часами Чехов сидел одиночестве у моря.
Молодость кончалась. Многие писатели, кому посчастливилось этот рубеж перешагнуть, запечатлели его в своих героях. У Чехова никогда не было возрастного параллелизма творчества и жизни – и в ранней молодости он описывал стариков, безнадежно больных, одиноких и неудачников. Трагические размышления этих месяцев вылились в рассказе, где о смерти думает человек более чем вдвое старше автора, оканчивающий жизнь знаменитый ученый. Семидесятипятилетний Томас Манн удивлялся, как «Скучную историю» мог написать человек, которому не исполнилось даже 30-ти лет, 83-летнего Бунина это тоже восхищало. Споря о повести о том, есть ли в ней влияние Л. Толстого, современные критики были поражены глубиной, блеском и зрелостью рассуждений ее героя. После этой повести молодым беллетристом ее автора уже не называли.
Менялась внешность, менялось творчество, другим стал сам процесс работы, писания. Началось это еще года два с половиной назад, когда Чехов «три недели выжимал […] из себя святочный рассказ для “Нового времени”, пять раз начинал, столько же раз зачеркивал, плевал, рвал, метал, бранился […]. Так мучился, что и тысячи целковых гонорара мало». Работал он теперь больше, а печатал гораздо меньше. И мемуаристы уже вспоминают не то, как он писал рассказ без помарок, а как несколько дней на его столе лежала одна и та же страница рукописи. Писание «залпом» стало неправдоподобным прошлым. Начинало мешать и садово-кудринское многолюдье. 7
Конец 80-х – начало 90-х годов – время расцвета таланта Чехова. Появляются новые сборники его рассказов: «Хмурые люди», «Рассказы», «В сумерках». За последний сборник молодому писателю в 1888 году присуждена Пушкинская премия. Водевили «Медведь» и «Предложение» ставятся в профессиональных театрах и на любительской сцене в Казани, Калуге, Костроме, Новочеркасске, Симбирске, Ревеле, Тифлисе, Томске, Туле, Ярославле…
Слава его росла; она не была ему неприятной, но он не выносил ее шумные и экзальтированные формы. Василий Иванович Немирович-Данченко вспоминал, как однажды в театре Корша какая-то поклонница «набросилась» на Чехова:
«От восклицательных знаков перешла к цитатам. И не успел еще бедный А. П. очухаться, как она одну его страницу – наизусть. Чехов весь пошел красными пятнами:
– Ради бога, уведите ее… У меня в кармане свинцовка есть. Я ведь и убить могу…»
«– Помилуйте, – возмущался Чехов, – вспоминает другой мемуарист, – пошел я в Тестов трактир обедать, а какой-то купец напротив увидел меня, поперхнулся и всю даму рядом обрызгал. Что ж тут красивого? Не дают расстегая съесть…»
В самый разгар своих беллетристических и театральных успехов Чехов уехал на Сахалин. Даже родственникам казалось, что «собрался он на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно». Но он уже давно считал, что в его жизни образовался некоторый застой и «надо подсыпать под себя пороху», как он писал Суворину весной 1889 года. А меньше чем через год дал важное разъяснение: «Поездка – это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя “дрессировать”».
Жизнь временно перестала требовать решения постоянных задач на грани возможностей, вроде писания во время экзаменов на медицинском факультете или писания ста рассказов в год, – и такую задачу он себе ставит сам.
Путешествие было сопряжено с огромными трудностями: нужно было проделать путь через всю Сибирь, в том числе четыре тысячи верст на лошадях.
Коллеги Чехова говорили, что, не будь он писателем, он стал бы хорошим врачом. Если вспомнить, сколько и с какой страстью он ездил, что на карте его маршрутов можно отметить Украину, Азовское море, Кавказ, Сибирь, Амур, Сахалин, Тихий океан, Гонконг, Сингапур, Цейлон, Индийский океан, Суэц, Константинополь, Вену, Париж, Флоренцию, Рим (и все это – с плохим здоровьем и минимальными средствами), если вспомнить, как бесконечно восторгался он с молодых лет жизнью таких людей, как Ливингстон, Миклухо-Маклай и Пржевальский, если вспомнить его неосуществленные планы поездок в Африку и Арктику, то можно сказать: в нем жила еще одна душа – путешественника.
На Сахалине Чехов за три месяца единолично сделал перепись всего населения острова, заполнив более 8000 карточек; он беседовал буквально с каждым, в доме или камере тюрьмы. Несмотря на запрет встречаться с политическими ссыльными, Чехов говорил и с ними. Это были в основном народовольцы и члены польской социально-революционной партии (всего около 40 человек).
Поездка на «каторжный остров» оказалась важной для всего последующего творчества Чехова, которое, по его собственному выражению, «все просахалинено». «Как Вы были не правы, когда советовали мне не ехать на Сахалин! – писал он Суворину вскоре после возвращения. – У меня […] чертова пропасть планов […], какой кислятиной был бы я теперь, если бы сидел дома… Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел – черт меня знает». Впечатления от поездки воплотились в рассказах «Гусев» (1890) [10] , «Бабы» (1891), «В ссылке» (1894), «Убийство» (1895).
Но главные результаты поездки не в прямом отражении впечатлений и эпизодов путешествия. Дело обстояло сложнее.
Первым крупным произведением после Сахалина была повесть «Дуэль».
Действие повести происходит на Кавказе, однако она не производит впечатление «южной» и солнечной. Уже современники говорили о связи «Дуэли» с впечатлениями Чехова от Сахалина. «Когда я читал Сахалин, – писал Чехову литератор В. Кигн-Дедлов, – мне думалось, что тамошние краски сильно пристали к Вашей палитре. Почему-то мне кажется, что и великолепная “Дуэль” вывезена отчасти оттуда». И дело не в том, что к сахалинскому путешествию восходят некоторые реалии повести. Дело в самом ее эмоциональном колорите, тревожном и временами почти мрачном, в ностальгии ее героя, в тоске его по какому-то другому краю, куда ему хочется вырваться из этого, солнечного и благословенного.
Второй крупной послесахалинской вещью была «Палата № 6». В ней, так же как и в «Дуэли», место действия не имеет никакого отношения к «каторжному» острову, и вместе с тем связь с ним несомненна. Изображение палаты умалишенных в повести удивительно близко к описаниям тюремных лазаретов в книге Чехова «Остров Сахалин». Память мемуариста (врача П. А. Архангельского) донесла до нас любопытную чеховскую ассоциацию. Когда Чехов познакомился с «Отчетом по осмотру русских психиатрических заведений», его первый вопрос к автору был: «А ведь хорошо бы описать также тюрьмы, как Вы думаете?»
Центральная коллизия повести – спор героев, есть ли разница «между теплым, уютным кабинетом и этой палатой» и должен ли человек реагировать на «боль, подлость, мерзость». Спор этот разрешается для одного из героев признанием правоты оппонента, признанием, что естественны «борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение», что именно в этом и заключается чувство самой жизни. В главе «Беглые на Сахалине», законченной как раз перед «Палатой № 6», ставится сходная проблема: «Причиною, побуждающею преступника искать спасение в бегах, а не в труде и не в покаянии, служит главным образом не засыпающее в нем сознание жизни». Для многих современников Чехов на долгие годы остался в первую очередь автором этой повести. В 1896 году один читатель в письме к Антону Павловичу подписался так: «Глубоко уважающий Вас за “Сахалин”, “Палату № 6”».
О глубоком впечатлении, произведенном на молодого В. И. Ленина «Палатой № 6», есть свидетельство его сестры, Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой:
«…Остался у меня в памяти разговор с Володей о появившейся в ту зиму в одном из журналов новой повести А. Чехова “Палата № 6”. Говоря о талантливости этого рассказа, о сильном впечатлении, произведенном им, – Володя вообще любил Чехова, – он определил всего лучше это впечатление следующими словами: …Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6”». 8
В «Дуэли» и «Палате № 6» воплотились размышления Чехова конца 80-х годов над философскими, общественными и естественнонаучными вопросами. Один из них – необходимость «ясно сознанной цели» – нашел яркое воплощение уже в некрологе «Н. М. Пржевальский» (1888). В рассуждениях героев «Дуэли» о праве естествоиспытателей решать философские вопросы, о союзе естественных и гуманитарных наук, соотношении веры и знания и таких теорий, как непротивление злу, с данными положительных наук отразились собственные мысли Чехова. Подготовка к сахалинскому путешествию и писание книги о нем, чтение множества специальных трудов, споры с зоологом В. Вагнером оживили и обострили естественнонаучные интересы Чехова, в частности его внимание к дарвинизму, – герои спорят и об этом.
В «Палате № 6» тоже очень много спорят. В эти годы Чехов заинтересовался философией античного мыслителя-стоика Марка Аврелия, которая в разных планах отразилась в повести. Герой, Андрей Ефимыч, неоднократно высказывается на тему о ничтожности всего внешнего и противопоставляет ему внутреннее, «успокоение в самом себе», в своем разуме. С мыслями Аврелия о «единении с разумением общечеловеческим» сходны и высказывания Андрея Ефимыча об «обмене гордых, свободных идей» между мыслящими людьми.
Но во многом герой и спорит с древним мыслителем – например, с тем, что смерть – не более чем перемена состояния, что изменится только вид существования, а человек «останется жив». «Какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! – восклицает Рагин. – Только трус может утешать себя тем, что тело его будет жить в траве, в камне, в жабе…» В полемике героя в какой-то степени нашли отражение мысли Чехова, который, пересказывая одному своему корреспонденту разговор с Толстым, писал: «Мое я – моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой, – такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его».
Эту мысль Чехова мы вполне могли в «Палате № 6» и не узнать, да и вообще поверять слова героев произведения высказываниями его автора, сделанными в другом месте, не совсем корректно. Но все же мы не можем отставить в сторону вопрос: как же относится Чехов к тем идеям, которые так страстно высказывают его герои? кому из героев симпатизирует? на чьей он стороне?
Для литературы традиционна ситуация, когда идея героя выявляет свою истинность или (несравненно чаще) ложность, несостоятельность в процессе столкновения с реальными обстоятельствами. Способы проверки различны.
Эта проверка может не зависеть от воли героя. Таковы многочисленные произведения на тему «утраченных иллюзий» в русской и мировой литературе.
Проверка может исходить от героя. В такие положения ставит своих персонажей Достоевский. Раскольников хочет убедиться, смеет ли он преступить «обычную» мораль.
У Чехова есть оба варианта проверки. В «Дуэли» фон-Корен собирается на практике осуществить свою идею об «уничтожении слабых». В рассказе «Пари» герой для доказательства своего тезиса просидел 15 лет в добровольном заключении. В «Палате № 6» Рагину предоставлено убедиться на собственном опыте в степени справедливости своих рассуждений: «Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко… Отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее». В «Огнях» рассказана история с Кисочкой, показывающая, к каким «ужасам и глупостям» в практической жизни, в столкновениях с людьми ведут мысли о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломонова «суета сует».
У Чехова человек, не признающий поправок, вносимых в его воззрения жизнью, прямолинейно своим идеям следующий, – обычно человек узкий, ограниченный. Таковы Львов из «Иванова», Власич из «Соседей», Рашевич из рассказа «В усадьбе». Авторские симпатии безусловно отдаются людям, способным к душевной эволюции.
И все же ни про одно из упомянутых произведений нельзя сказать, что идея в нем полностью исчерпана или проверена в столкновении с реальным миром. Увидев воочию, что человек может измениться, фон-Корен в конце повести тем не менее говорит: «Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор… Правда, как я вижу теперь к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровной дороге, и такова уж человеческая судьба: если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды».
В «Огнях» история с Кисочкой не убедила студента, которому рассказ инженера и предназначался в первую очередь. Она не убедила и второго слушателя – рассказчика: «Многое было сказано ночью, но я не увозил с собой ни одного решенного вопроса». Законченная, готовая мудрость опять не дана в руки читателя.
В идейных столкновениях персонажей носителем правды или более других приближающимся к ней всегда является не тот, чья логика строже и идея обоснована убедительней, а тот, чьи чисто человеческие качества вызывают большую симпатию автора. Программа Лиды из «Дома с мезонином», что нужно делать «малые дела» («На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива»), гораздо разумнее, чем фантастические идеи художника, убежденного, что истина была бы найдена очень скоро, если бы «все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день». Но авторское сочувствие безусловно на стороне художника, а не Лиды, – и эти симпатии вызваны свойствами его личности.
Мисаил Полознев в «Моей жизни» прав не в своих идеях опрощения (конечного решения по этому вопросу Чехов не дает), а в том, что в конкретных жизненных ситуациях поступает более нравственно, чем его оппоненты (отец, тесть – инженер Должиков) или его бывшие друзья.
Прозрение героя «Жены» началось тогда, когда он понял, что дело не в таком или ином осуществлении идеи, вокруг которой идет борьба между ним и женой, «весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно».
Вопреки обыкновению своих литераторов-современников Чехов на Восток ездил прежде, чем на Запад. Но в марте 1891 года он вместе с Сувориным поехал за границу: был в Вене, Венеции. Лето провел – как всегда, с семьей – на этот раз в имении Богимово, в 12 верстах от Алексина. Шла работа над повестью «Дуэль» и книгой «Остров Сахалин». Был написан рассказ «Бабы». Сибирское путешествие и картины «каторжного острова» не уходят из творческого сознания Чехова.
Глава седьмая В СЕРЕДИНЕ ПУТИ
1
1892 год начался для Чехова деятельностью, далекой от его литературных занятий.
14 января он выехал в Нижегородскую губернию по делам помощи голодающим; 22 января вернулся, но уже 2 февраля снова уехал по тем же делам – на этот раз в Воронежскую губернию. Все это время продолжался сбор средств для голодающих, в котором Чехов принимал участие еще осенью 1891 года.
4 марта 1892 года Чехов впервые приехал в свою новую усадьбу Мелихово, в полутора десятках верст от станции Лопасня (ныне город Чехов) Московско-Курской железной дороги.
С самого начала Чехов много работает как врач. «С первых же дней, как мы поселились в Мелихове, – вспоминал Михаил Павлович, – все кругом узнали, что Антон Павлович – врач. Приходили, привозили больных в телегах и далеко увозили самого писателя к больным. С самого раннего утра перед его домом уже стояли бабы и дети и ждали от него врачебной помощи. Он выходил, выстукивал, выслушивал».
В 1892 году в центральных губерниях России началась эпидемия холеры. В июле Чехов начал работать врачом в Серпуховском уезде. «Открыт новый врачебный пункт в с. Мелихове Бавыкинской волости, – сообщалось в отчете Серпуховского санитарного совета, – благодаря любезному предложению местного землевладельца доктора Антона Павловича Чехова, выразившего санитарному совету желание безвозмездно принять участие в борьбе с эпидемией. Благодаря самоотверженному предложению А. П. Чехова надобность в устройстве особых обсервационных (наблюдательных) пунктов в названной местности устранилась сама собою. В состав нового мелиховского врачебного участка вошел значительный район в составе 26 селений».
В июне 1893 года в качестве профилактической противохолерной меры в Мелихове снова был открыт временный врачебный участок. Как писал свидетель работы Чехова в Серпуховском земстве доктор П. И. Куркин, «обязанности земского врача были приняты в полном объеме», т. е. велся регулярный прием (для подсобной работы придан фельдшер), выдавались лекарства, осуществлялись санитарный надзор и статистические записи о заболеваниях. При этом Чехов «нашел удобным отказаться от вознаграждения, какое получают участковые врачи». Посещал Чехов и все заседания уездного санитарного совета в Серпухове и земских уездных лечебницах; он был человек обязательный.
«Я теперь разъезжаю по деревням и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда», – писал он Лейкину в июле 1892 года. «Почти все лето прошло у меня в медицинских заботах», – сообщал он Л. П. Гуревич в сентябре.
На литературу времени оставалось мало.
С событиями голодного года связан рассказ «Жена» (1891). Именно так определял его тему автор через несколько дней после завершения работы: «Я написал рассказ на злобу дня – о голодающих».
С легкой руки самого Чехова, обмолвившегося как-то, что писать он может только «по воспоминаниям», а также из-за малочисленности документов о творческой истории его вещей прочно утвердилась версия, будто непосредственные жизненные факты использовались писателем через много времени. На самом деле по горячим следам событий Чехов писал гораздо чаще, чем принято думать.
В «Жене» были использованы старые сюжеты, замыслы, записи – в основу рассказа легли самые недавние впечатления. Это видно, например, при сопоставлении рассуждений героя о комитетах, о недоверии к администрации с письмом Е. П. Егорову от 11 декабря 1891 года, где Чехов говорил о сентябрьских событиях: «Публике благотворить хочется, и совесть ее потревожена. В сентябре московская интеллигенция и плутократия собиралась в кружки, думали, говорили, копошились, приглашали для совета сведущих людей; все толковали о том, как бы обойти администрацию и заняться организацией помощи самостоятельно. […] Я с полным сочувствием относился к частной инициативе, ибо каждый волен делать добро так, как ему хочется; но все рассуждения об администрации, Красном кресте и прочем казались мне несвоевременными».
В следующем году Чехов писал Суворину: «Летом безвыездно сидел на одном месте, лечил, ездил к больным, ожидал холеры… Принял 1000 больных, потерял много времени, но холеры не было. Ничего не писал, а все гулял в свободное от медицины время, читал или приводил в порядок свой громоздкий “Сахалин”» (11 ноября 1893).
Что бы ни писали авторы статей и книг «Чехов-врач», «Чехов и медицина», главные его интересы с ранней молодости лежали в другой сфере. И его медицина оказалась важной прежде всего для мировой литературы. Но для того чтобы так случилось, это должна была быть не любительская, а настоящая медицина.
Чехов получил прекрасное медицинское образование. В годы его студенчества медицинский факультет Московского университета блистал великими именами. Он слушал лекции одного из крупнейших терапевтов века Г. А. Захарьина, основателя отечественной научной гигиены Ф. Ф. Эрисмана, одного из пионеров патологической анатомии А. А. Остроумова, выдающегося хирурга Н. В. Склифосовского, в больницах видел работу замечательных практиков – русских земских врачей. Будучи уже известным писателем, он ходил на доклады ученых, посещал Пироговские съезды, следил за медицинской литературой. И, главное, он владел основным и самым трудным во врачебном деле – тем, что не компенсируется ни образованием, ни опытом, но существует как свойство личности врача: он был хорошим диагностом.
Один известный биограф Чехова с иронией говорил о том, что Чехов гораздо менее скромно отзывался о себе как о враче, чем как о писателе. Но в литературе все видно и так, в медицине же ему приходилось разъяснять и убеждать, отстаивать свои методы и диагнозы. Мы не столь уж много знаем о медицинской практике доктора Чехова, но дошедшие до нас его диагнозы и врачебные предсказания почти всегда оказывались удивительно точными.
Еще будучи студентом 4-го курса, он единственный из всех лечивших литератора Ф. Ф. Попудогло врачей поставил верный диагноз: воспаление твердой оболочки мозга (приведшее к смерти).
Чехов знал (и писал друзьям) о близкой кончине брата, своих друзей – П. М. Свободина, И. И. Левитана.
Бывают минуты, говорил Чехов, когда он хотел бы не быть врачом. В конце 1892 года он осматривал Н. С. Лескова и сказал литератору Ф. Ф. Фидлеру, что писателю осталось жить не более года. Лесков умер через два. К. С. Станиславский вспоминал, как Чехов присутствовал при его беседе с одним близким режиссеру вполне жизнерадостным человеком. Когда тот ушел, Чехов «в течение вечера неоднократно подходил ко мне и задавал всевозможные вопросы по поводу этого господина. Когда я стал спрашивать о причине такого внимания к нему, Антон Павлович мне сказал: “Послушайте, он же самоубийца”. Такое определение или предсказание показалось мне смешным. Я с изумлением вспомнил об этом через несколько лет, когда узнал, что человек этот действительно отравился». В июле 1888 года Чехов плывет из Сухуми в Поти на пароходе «Дир»: «Глядя на толстенького капитана, я чувствую жалость… Мне что-то шепчет, что этот бедняк рано или поздно тоже пойдет ко дну и захлебнется соленой водой…» В ту же осень «Дир» затонул у берегов Алупки.
Суворину, которого он постоянно наблюдал, давал серьезные медицинские советы и чье здоровье считал крепким, Чехов шутливо обещал: «Вы будете жить еще 26 лет и 7 месяцев» (письмо от 30 ноября 1891). Суворин прожил еще 21 год. Долгую жизнь предсказал Чехов Бунину.
Может, все это было что-то другое, не диагностика, – то, о чем Чехов говорил: «Мое пророческое чувство меня не обманывало никогда – ни в жизни, ни в моей медицинской практике».
Врачебная практика была немалой еще до переезда на Садовую-Кудринскую. «Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика больше рубля» (1885).
«Улыбаться тут не приходится, – комментирует чеховские слова хорошо помнивший реалии прошлого века писатель Б. К. Зайцев. – В те времена за гривенник, пятиалтынный можно было в Москве далеко уехать».
Медицина делала круг его общения практически безграничным. Случалось лечить солдат, извозчиков, кухарок, рабочих. Михайловскому или Скабичевскому, много писавшим о народе, такой демократизм и не снился. С переездом в Мелихово социально-демократический диапазон пациентов Чехова еще расширился. До этого мужиков он лечил эпизодически, теперь – почти исключительно. За 2 года в мелиховском врачебном участке было принято более 1500 больных.
Врачебное общение было лишь частью жадной чеховской общительности. Он бывал на ярмарках, заводах, скачках, на свадьбах, в самых дешевых трактирах, в сумасшедших домах, в тюрьмах, за кулисами театров и за клиросом, ездил на конках, в поездах, на пароходах. Тридцати-тридцатитрехлетний Бунин, уже повидавший многое, писал о беседах с Чеховым в Ялте: «Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него был разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок…»
2
Имение Мелихово было куплено с рассрочкой долга на несколько лет и выплатами по закладной; это всерьез беспокоило Чехова: «Пока я жив […], долги будут казаться игрушкой […], ну а вдруг я уйду от вас, грешных, в иной мир, т. е. поколею? Тогда герцогство с долгами явится для моих маститых родителей и Ма-Па (сестры, Марии Павловны. – А. Ч. ) такою обузою, что они завопиют к небу».
Летние месяцы со времени окончания Чеховым университета его семья жила в усадьбах старинных, барских, просторных. Своя оказалась совсем другой. На всем лежал отпечаток благоприобретенных усадеб эпохи «оскудения». К «классическому» деревянному дому, выстроенному в 40-х годах прошлого века, предыдущий хозяин, декоратор театра Лентовского Н. П. Сорохтин пристроил веранду с перилами, четырьмя колоннами, арками с зубчатым карнизом и деревянными грифонами на тумбах (на семейных чеховских фотографиях уже в первый год грифонов нет). Вековых аллей не было – деревья пришлось сажать самим. Имение вообще было больше хозяйственного уклона: в длинном перечне «инвентаря, поступившего при продаже», весь список занимают телеги, сохи, бороны, веялки, пахотные хомуты, и только в конце робко значатся «рояль, 2 зеркала, гардероб».
Игра в землевладельца, хозяина, очень занимает Чехова: его письма пестрят упоминаниями о сараях, амбарах, парниках, лопатах, клевере, овсе, лошадях – конечно, с самоиронией: «Мамаша сегодня говела и ездила в церковь на собственной лошади; папаша вывалился из саней – до того был стремителен бег коня!»
Усадьба была маленькой, лес – «розговой», пруд в несколько аршин после полутораверстного на Луке казался игрушечным, речка Лисенка после многоводного Псёла – ручейком. И все же Чехов получил то, о чем всегда мечтал. Усадьба для Чехова не только собственный дом, независимое существование, природа – это тот образ жизни, который казался ему идеальным: в единстве природного и культурного, работы души и работы рук. Деятельной натуре писателя всегда не хватало физического труда – теперь его было в избытке.
Впервые он встречал раннюю весну не в городе. «Прилетели скворцы, везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава […]. Настроение покойное, созерцательное…» Мелиховские пейзажи многообразно отразились в чеховской прозе.
Жили в Мелихове две собаки-таксы, подарок Лейкина: длинный Бром Исаич, по прозванию «Царский вагон», и Хина Марковна, или «Рыжая корова». «Первый ловок и гибок, вежлив и чувствителен, вторая неуклюжа, толста, ленива и лукава. […] Оба любят плакать от избытка чувств». С собаками хозяин любил разговаривать и на общение времени не жалел: «– Хина Марковна!.. Страдалица!.. Вам бы лечь в больницу!.. Вам-ба, там-ба, полегчало-ба-б!»
«Он был гостеприимен, как магнат» – начнет свою книгу «О Чехове» Корней Чуковский и приведет массу примеров, как Чехов всегда звал, приглашал к себе множество людей. Но с годами это стало уже и утомлять. «Длинные, глупые разговоры, гости, просители […] одним словом, такой кавардак, что хоть из дому беги. Берут у меня взаймы и не отдают, временем моим не дорожат…» (23 декабря 1886). «Я ведь и из Москвы-то ушел от гостей» (8 декабря 1892).
Но и в Мелихове он получил не совсем то, что хотел: останавливались земские деятели, врачи, охотники, ночевали, задерживались. Да и сам Чехов по-прежнему приглашает всех так энергично, точно и не жаловался никогда. В конце концов для уединения от собственных гостей был построен в саду небольшой флигель. В нем была написана «Чайка». С нее началась «большая» драматургия Чехова.
3
21 октября 1895 года Чехов сообщал Суворину: «Пишу пьесу […]. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены».
Это и была «Чайка». Она действительно была необычна для тогдашней сцены. Это отчетливо стало видно уже на ее первом представлении.
Премьера состоялась 17 октября 1896 года в Александринском театре. Современники оставили несколько записей своих впечатлений от этого спектакля. Присутствовавший на премьере А. С. Суворин в этот вечер записал в дневнике:
«Пьеса не имела успеха. Публика невнимательная, разговаривающая, скучающая. Я давно не видел такого представления. Чехов был удручен. […] Он пришел в два часа. Я пошел к нему, спрашиваю:
– Где вы были?
– Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление. Если я проживу еще семьсот лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. В этой области мне неудача».
На другой день, с 12-часовым поездом, Чехов уехал из Петербурга.
Подробное – по действиям – описание скандального спектакля давали «Новости и биржевая газета»:
«Уже после первого действия пьесы […] публика осталась в каком-то недоумении… Идет второе действие, волнение публики усиливается; движение и шум в зрительном зале заглушают часто речи, произносимые на сцене. Опустился занавес, и уже угроза выполняется: создается сильное шиканье […].
Дальше еще хуже: После третьего действия шиканье стало общим, оглушительным, выражавшим единодушный приговор тысячи зрителей тем “новым формам” и той новой бессмыслице, с которыми решился явиться на сцену “наш талантливый беллетрист”» (№ 288, 18 октября).
Диссонансом прозвучал отзыв Суворина: «Сегодня день торжества многих журналистов и литераторов. Не имела успеха комедия самого даровитого русского писателя из той молодежи, которая выступила в восьмидесятых годах, и – вот причина торжества. […] О, сочинители и судьи! Кто вы? Какие ваши имена и ваши заслуги? По-моему, Ан. Чехов может спать спокойно и работать. […] Он останется в русской литературе с своим ярким талантом, а они пожужжат и исчезнут. […] За свои 30 лет посещения театров в качестве рецензента я столько видел успехов ничтожностей, что неуспех пьесы даровитой меня нисколько не поразил». Это – единственная попытка защиты пьесы среди откликов первых дней.
Среди зрителей были и такие, кто понял достоинства и оригинальность пьесы. «Одного из лучших наших беллетристов, Чехова, освистали как последнюю бездарность, – записала в своем дневнике литератор С. И. Смирнова-Сазонова. – […] Ума, таланта публика в этой пьесе не разглядела. Акварель ей не годится. […] Он слишком талантлив и оригинален, чтобы тягаться с бездарностями». Но подобные отзывы в печать почти не проникали.
Часто пишут, что причины неуспеха заключались в неудачной постановке. В качестве второй причины обычно называют то обстоятельство, что на премьере присутствовала публика, явившаяся на бенефис комической актрисы Е. И. Левкеевой и ждавшая от пьесы совсем другого.
Но дело было не в «бенефисной» публике. Статьи о «Чайке» писала не она. Недостатки постановки влияли тоже недолгое время: меньше чем через два месяца пьеса была напечатана в «Русской мысли», а через полгода вышла в составе сборника, и понимание ее перестало зависеть от случайностей сценической интерпретации. Меж тем отзывы лишь перестали быть грубыми по тону, но мало изменились по существу.
Дело было в чеховском драматургическом новаторстве.
Недоумение вызывало отсутствие в пьесе прямо обозначенных мотивировок взаимоотношений персонажей, сюжетно-фабульного движения, которое вело бы к «определенной» развязке, выражало бы «ясную» мысль. Подробно эти претензии современной критики к построению чеховской пьесы развернул в своей статье, посвященной киевской постановке «Чайки», И. Александровский. Между сценами пьесы, писал он, «есть такие, присутствие которых нельзя ничем ни оправдать, ни мотивировать. К чему, например, понадобилась госпитальная сцена перевязки огнестрельной раны?.. Также совсем неожиданно герои Чехова начинают играть в лото в четвертом акте. Автор завязал несколько интриг перед зрителем, и зритель с понятным нетерпением ожидает развязки их, а герои Чехова, как ни в чем не бывало, ни с того ни с сего, усаживаются за лото! […] Зритель жаждет поскорее узнать, что будет дальше, а они все еще играют в лото. Но, поиграв еще немножко, они так же неожиданно уходят в другую комнату пить чай…»
Этот упрек в «ненужности» сцен и деталей повторялся во всех рецензиях в форме обвинения в незнании «элементарных требований сцены», «отсутствии драматического таланта» у писателя-беллетриста. Но причина была не в «несценичности». В это привычное требование выливалось явственное ощущение чего-то принципиально нового, чему еще не было подходящего наименования. Речь все время шла – скрыто или явно – о самих принципах изображения в драме, как за несколько лет до того шел спор, по сути дела, об этом же по отношению к чеховской прозе. Драматический язык Чехова был не только нов – он был сложен. Его трудно было понять и принять сразу и целиком.
Первое представление «Чайки» в МХТ состоялось 17 декабря 1898 года. Насколько раздражительны, недоуменны и грубы были утренние рецензии 1896 года, настолько два года спустя они были благожелательны, даже восторженны. Почти все рецензенты противопоставляли провалу на александринской сцене полный успех в Москве. Друзья в письмах сообщали Чехову о триумфе. «С первого же акта началось какое-то особенное, если так можно выразиться, приподнятое настроение публики, – писал А. С. Лазарев-Грузинский, – которое все повышалось и повышалось. […] Всегда очень сдержанный и “благоприличный” Н. Е. Эфрос неожиданно кинулся на меня с кресла […] и воскликнул чуть не на весь театр: – А!!! Какова пьеса-то, А. С.?! Каково игра-то!» (19 сентября 1899).
Но в своих положительных отзывах критики ограничивались чаще всего лишь общей оценкой.
Н. Ладожский (В. К. Петерсен), один из первых критиков Чехова-прозаика, заканчивавший свою статью пассажем о том, что «внуки и правнуки […] изумятся нашей слепоте» в оценке Чехова, из достоинств «Чайки» смог отметить только общее «чарующее, искреннее и трогательное впечатление при чтении», а при дальнейшем разборе повторил обычный упрек в немотивированности взаимоотношения персонажей. «В этой пьесе, – писал он, – конечно, самая большая ошибка состоит в том, что любовь восторженной Нины к дрянненькому Тригорину, живущему на содержании у дрянной актрисы, совсем ничем не мотивирована».
Л. Е. Оболенский, также один из первых доброжелателей Чехова, отмечавший, что его ранние рассказы «обещают большой, выдающийся талант» и упрекавший критику в неспособности «понять глубочайшую правду и значение» «Чайки», в позитивной части своей широковещательно озаглавленной статьи («Почему столичная публика не поняла “Чайки” Ант. Чехова?») ограничился утверждением о «сценичности» пьесы и замечаниями о том, что «ее основная идея нешаблонна, в высшей степени оригинальна и глубока».
«Положительная» критика, таким образом, старалась или сразу отмести замечания о «несценичности», «лишних эпизодах», необычности обрисовки персонажей, или совсем обойти «острые места», ограничившись похвалами на старый лад. Когда же она все-таки касалась этих необычных сторон чеховской драмы, то сразу неудержимо сближалась с «отрицательной» критикою, повторяя те же суждения о немотивированности, нарушении «условий сцены» и т. п. и не сумев иначе оценить те черты поэтики Чехова, которые большинством уже были отмечены со знаком минус. Положительная критика тоже не смогла угадать в этом сложном для первых зрителей и читателей художественном языке черты нового литературного качества.
4
80-е и 90-е годы XIX века были временем изживания многих доктрин, так сильно занимавших умы в предшествовавшую эпоху. Наступило разочарование в «хождении в народ» и всем круге идей, с ним связанных, в либерализме старого толка, теории «малых дел» и многом другом. У литераторов, критиков самых разных направлений находим высказывания, которые сближает одно – отрицательное отношение к узкому доктринерству, стремление выйти на более широкий общественно-философский простор. «Нужны не творцы доктрины и отвлеченных принципов, – писал И. С. Аксаков в 1884 году, – сего было слишком довольно, а нужно дать самой жизни, дать ежедневности […] время и свободу проверки и критики всей этой массы отвлеченности, натворенной предшествовавшими поколениями».
В книге о Пушкине и других поэтах, вышедшей в 1888 году, Н. Н. Страхов писал, что главная черта Я. П. Полонского – «служение истине, добру и красоте, ненависть ко всякому насилию». К этой характеристике удивительно близки тысячекратно цитировавшиеся слова Чехова, написанные в том же году: «Я не либерал, не постепеновец, не монах, не индифферентист. […] Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах […]. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних купеческих домах и кутузках: я вижу их и в науке, в литературе, среди молодежи. […] Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святое святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались» (А. Н. Плещееву, 4 октября). И. Л. Щеглов-Леонтьев приводит такой разговор с Чеховым: «– Я люблю природу и литературу, люблю красивых женщин и ненавижу рутину и деспотизм». – «Политический деспотизм?» – «Всякий… где бы и в чем бы он ни выражался, – резко оборвал Чехов. – Все одно: в министерстве внутренних дел или в редакции “Русской мысли”».
Отрицательно относясь к старым догмам, Чехов не принимал и новые течения, если видел в них черты доктринерства, претензии на исключительность. Так, в период своей близости к «Северному вестнику» Чехов раз-другой побывал в салоне Мережковских. Мемуарист воспроизводит его нарочито грубовато-иронический отзыв «о банкетах декадентствующей мысли»: «У нас лучше, у нас проще. Ситный хлеб, молоко ковшами…»
Чехов очень сочувственно относился к издательству «Посредник», выпускавшему книжки для народа. Но во главе издательства стояли толстовцы. Они не только отбирали произведения в духе своих идей, но и позволяли себе вмешиваться в самый текст, делая сокращения, внося изменения и т. п. Это привело к конфликту Чехова с этим издательством.
Чехов не признавал никакого диктата, из каких бы благородных побуждений он ни исходил. Это было непросто. Как писал современный критик, «в России в силу своеобразных условий русской жизни стоять вне направлений есть настоящий подвиг нравственного мужества, и Чехову не дешево он достался».
Главным упреком критиков со времени вступления Чехова в «большую» литературу был упрек в отсутствии в его творчестве общей идеи, четкого миросозерцания, объединяющего начала.
Наиболее последовательна эта точка зрения была сформулирована Н. К. Михайловским. Редкая общая статья о Чехове обходилась без цитирования его высказывания: «Чехову все едино – что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца. […] Вон быков везут, вон почта едет […], вон человека задушили, вон шампанское пьют».
Высказывания Михайловского не только цитировались – они обосновывались и развивались. «Отношение г. Чехова к своему творчеству напоминает фотографа, – писал П. П. Перцов. – С одинаковым беспристрастием и увлечением снимает этот беллетристический аппарат и прелестный пейзаж […], и задумчивое лицо молодой девушки, и взъерошенную фигуру русского интеллигента-неудачника, и одинокого мечтателя, и тупоумного купца, и безобразные общественные порядки […]. Чехову как писателю, как однажды уже было замечено критикой, действительно все равно – колокольчики ли звенят, человека ли убили, шампанское ли пьют. […] Все это для него безразличные и отдельные явления, и он, г. Чехов, обязан только срисовать их, а отнюдь не объяснить и даже хотя бы понять их».
Начиная с первой крупной вещи Чехова, повести «Степь», все его большие по объему произведения вызывали упреки в отсутствии четкости композиции, в загроможденности повествования случайными, не идущими делу деталями. При появлении новых повестей обвинения повторялись. В «Палате № 6» и «Рассказе неизвестного человека» нашли те же недостатки. Причину их критика опять видела в отсутствии «объединяющей идеи».
Много лет повторялись и упреки в мозаичности эпизодов произведения, из которых невозможно «составить общую картину».
Большие сомнения вызывали у критиков основные принципы построения чеховского сюжета: отсутствие обширных вступлений, фабульных «концов», детально разработанной предыстории героев, подробной мотивировки их действий и т. п.
Чеховские принципы изобразительности понимались как нарушение традиционных беллетристических канонов. В этом смысле его творчество все чаще сопоставляли с новыми течениями в европейском искусстве, давшими новые формы; слово «импрессионист», которое так широко вошло в обиход чеховистики XX века, уже было произнесено.
Постоянное внимание критиков привлекала чеховская объективная манера. Они не уставали отмечать отсутствие прямых авторских оценок, открыто сформулированной точки зрения автора на изображаемое. Рассматривая «Палату № 6», А. М. Скабичевский замечал, что автор «ни разу не промолвился, какая основная идея рассказа и какого мнения он о своем герое». Это новое по сравнению с предшествующей литературной традицией качество расценивалось как очевидный недостаток. Нормой считалась литература, где «все ясно, точно, определенно: цель автора, личность героя, наши отношения к нему» (Н. К. Михайловский).
Мастерство Чехова отмечалось во всех статьях середины 90-х годов. Но почти всегда оно отмечалось как-то отдельно, в глазах критики оно существовало как бы вопреки основным принципам чеховской поэтики.
Но в это самое время взгляд на Чехова как на писателя, лишенного миросозерцания и в понимании общественной жизни «не подающего надежды» (П. П. Перцов), начинает встречать сильную оппозицию. В рассказах и повестях «Жена», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», книге «Остров Сахалин» уже многие увидели существенно новое, некий перелом в творчестве.
Опровергая сложившуюся репутацию писателя как «равнодушного к каким-либо идеям», И. И. Иванов категорически заявлял: «Последние произведения г. Чехова идут безусловно наперекор такому представлению о его таланте. Именно здесь подняты серьезнейшие вопросы общественного содержания, именно здесь с полной ясностью сказалось стремление литературы отдать отчет в знамениях времени!» Другой критик, В. Голосов, в последних повестях Чехова видел признаки «нового удачного периода творчества с сильным общественно-прогрессивным направлением» («Новое слово», 1894, № 1). Полемизируя с Н. К. Михайловским, Р. И. Сементковский замечал, что у Чехова «начинает все сильнее звучать» общественная нота.
Изменил свой взгляд на Чехова и А. М. Скабичевский, постоянно упрекавший его в общественном индифферентизме и в своей «Истории новейшей литературы» (1891) приводивший его в качестве примера писателя без «какого бы то ни было объединяющего начала». После выхода в свет «Рассказа неизвестного человека» он написал статью под названием «Есть ли у г. А. Чехова идеалы?» На заглавный вопрос критик отвечал положительно. Разобрав сцену объяснения героев в XVII главе «Рассказа неизвестного человека», Скабичевский заканчивал статью вопросом: «Я обращаюсь в заключение ко всем мало-мальски беспристрастным читателям и спрашиваю: неужели подобную сцену, которую можно смело поставить на одном ряду со всем, что только было лучшего в нашей литературе, мог создать писатель, не имеющий никаких идеалов?»
К точке зрения о переменах, происшедших в творчестве Чехова, присоединился и Н. К. Михайловский, но только значительно позже. В 1900 году, в статье «Кое-что о г. Чехове», он писал: «Как “Палата № 6”, так и “Черный монах” знаменуют собою момент некоторого перелома в г. Чехове как писателе, перелома в его отношениях к действительности».
Общая оценка прозы Чехова в начале 90-х годов установилась: талант его признан. Еще в 1891—1892 годах появились рецензии целиком отрицательные – после «Палаты № 6» это стало уже почти невозможным. Даже очень скептически относящиеся к Чехову критики – М. Южный, Ю. Николаев, М. Протопопов – снабжают свои статьи оговорками, иногда весьма существенными.
И критики и читатели все решительнее выделяют Чехова из ряда его литературных сверстников; рядом с ним рискуют ставить только Гаршина и Короленко. А. И. Эртель 14 декабря 1892 года писал В. А. Гольцеву: «Глубоко радуешься, когда на плоскостях современного “промысла”, который лишь с натяжкою можно именовать “искусством”, возрастают такие будущие вершины, как Чехов и Короленко». В. А. Гольцев в свою очередь считал, что «среди современных беллетристов, которые привлекают особенно сочувственное внимание читателей и с именами которых связаны большие надежды нашей литературы, одно из наиболее выдающихся мест занимает Антон Павлович Чехов». «Из молодых беллетристов, выступивших на литературное поприще в восьмидесятых годах, – писал М. Белинский (И. И. Ясинский), – Антон Чехов, бесспорно, самый даровитый, и его ожидает блестящая литературная будущность».
Высоко оценил Чехова Лев Толстой. «Какая хорошая вещь “Палата № 6”», – писал он 24 декабря 1892 года И. И. Горбунову-Посадову. «Он очень даровит», – замечал он через три года (Л. Л. Толстому, 4 сентября 1895).
В рецензии на сборник Чехова «Повести и рассказы», напечатанной в «Новом времени», С. А. Андреевский в 1895 году писал, что в его авторе «все видят общепризнанного наследного принца наших крупных писателей». Правда, против такой оценки Чехова на страницах той же газеты выступил В. Буренин, некогда приветствовавший вступавшего в большую литературу Чехова, но по мере роста его славы критиковавший его все несправедливей и злее: «Признаюсь откровенно, я должен себя выключить из этих всех. […] По-моему, г. Чехов до сих пор не создал еще ничего такого, что бы давало ему право на титул, любезно преподносимый г. Андреевским. Если под крупными писателями разуметь Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, то, я полагаю, сулить г. Чехову в будущем трон этих королей родной литературы немножечко рискованно».
Но этот фельетонист был уже одинок. Все чаще в критике, переписке, высказываниях современников Чехов ставился именно в этот литературный ряд – вместе с Гоголем, Тургеневым, Толстым.
5
В русской литературе обсуждение главных общественных проблем времени традиционно было уделом произведений большого эпического жанра – романа (вспомним «Отцов и детей», «Обломова», «Войну и мир»). Чехов романа не создал. И вместе с тем он – один из самых социальных русских писателей.
Сам Чехов считал, что он пишет рассказы. Иногда – довольно редко – он вдруг обмолвится в письме словом «повесть» (например, о «Дуэли»), но в другом письме «поправится»: «Наконец кончил свой длинный и утомительный рассказ…»
Роман был главным прозаическим жанром XIX века. И современники Чехова ждали от него именно романа и уговаривали взяться за него. Одно время сам Чехов тоже считал, что надо написать роман. «Хочется писать роман, есть чудесный сюжет […], – сообщает он Д. В. Григоровичу в 1888 году, – те мысли, женщины, мужчины, картины природы, которые скопились у меня для романа, останутся целы и невредимы. Я не растранжирю их на мелочи и обещаю Вам это».
Работа над романом была начата и на первых порах значительно продвинулась. Правда, это был странный роман. «Назвал я его так: “Рассказы из жизни моих друзей”, – сообщал Чехов через полгода, – и пишу его в форме отдельных, законченных рассказов, тесно связанных между собою общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие».
Романа Чехов так и не написал, а готовые его главы мы, очевидно, читаем в полном собрании его сочинений в виде «отдельных законченных рассказов». Но в форму небольшого рассказа-повести он смог вместить огромное социально-философское и психологическое содержание.
С середины 90-х годов едва ли не каждая такая короткая повесть Чехова вызывала бурный резонанс в печати. Раньше такого внимания этот жанр не удостаивался. Вокруг «Дуэли», «Палаты № 6», «Рассказа неизвестного человека», «Мужиков» сталкивались мнения, разгорались споры, подобные тем, которые вызывались многопланными романами.
Каждая чеховская вещь, несмотря на малый жанр, в котором она была написана, поднимала огромные пласты жизни общества. «Умею коротко говорить о длинных вещах», – замечал Чехов, и это было правдой. Он создал целую систему выразительных средств, позволивших ему этого добиться.
Прежде всего это особая форма композиции – когда рассказ начинается без каких-либо подходов, сразу вводя читателя в середину действия, и так же неожиданно, без «закругленной» развязки, кончается. При такой композиции сферы действительности, оставленные автором за границами произведения, ощущаются нами как присутствующие, подразумевающиеся.
Это и ставка на сотворчество читателя, которому дается не исчерпывающий набор событий, реалий, оценок, а как бы их канва, некий пунктир, в расчете на то, что недостающие элементы, как писал Чехов, читатель «подбавит сам».
И это, наконец, чеховская деталь. Хрестоматийным стал пример, как Чехов в рассказе «Ионыч» изображает рост преуспеяния доктора Старцева при помощи изменения его «средств передвижения»: сначала он ходит пешком, потом у него появляется пара лошадей, затем – тройка с бубенчиками.
Важным средством создания социальной значимости и художественной емкости текста было то особое свойство чеховской детали, которое не сразу было понято и принято его современниками.
Речь шла о деталях, не востребованных «немедленно» развитием действия. Так, в «Огнях» инженер, рассказывая историю своей любви, среди прочего говорит: «Укромные уголки […] всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. […] Какой-то Крос, вероятно очень маленький и незначительный человек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, все это дела не касается… Простите, я не умею рассказывать коротко». Рассказчик сам указывает, что эпизод «не касается» сюжета истории.
В рассказе «Новая дача» (1898) есть эпизод, где крестьяне захватили у себя на лугу скотину, принадлежащую их соседу-инженеру. Далее сообщается, что «вечером инженер прислал за потраву пять рублей, и обе лошади, пони и бычок, некормленные и непоенные, возвращались домой понурив головы, как виноватые, точно их вели на казнь». Живописное изображение скотьей процессии функционально: оно участвует в создании того настроения, которое возникает у героев из-за глубокого социального непонимания друг друга. Но непосредственно перед этой картиной в рассказе есть еще одна, со столь же точной фиксацией движений: бычок «был сконфужен и глядел исподлобья», а потом его настроение переменилось и он «вдруг опустил морду к земле и побежал, взбрыкивая задними ногами»; старик Козов «испугался и замахал на него палкой, и все захохотали». Зачем же такое повествовательное пространство отдается подробностям сцены, не имеющей прямого отношения к основному смыслу и целям всего эпизода?
В повести «Мужики» (1897) описывается пожар. Завершается картина общей суматохи на улицах упоминанием о том, что вместе со скотом на волю был выпущен злой вороной жеребец. Деталь существенна и вполне традиционна. Но вот она разрастается: сообщается, что жеребца «не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей»; что тот «топоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами». Отвлекшись от изображения пожара, автор вдруг начинает пристально следить за его поведением.
Для чего это нужно? Именно данная деталь вызвала в свое время возмущение Михайловского: «Зато мы узнаём, не только как вел себя на пожаре вороной жеребец, но и какой у него вообще дурной характер». Впрочем, были мнения, что и вся картина пожара «совершенно случайна», «не имеет никакой связи, кроме чисто внешней, с нитью рассказа» и «никакого отношения ни к Николаю, ни к его семье».
Это был другой язык – все эти эпизоды, не имеющие прямого касательства к фабуле, имели отношение к каким-то более далеким, неявным и сложным смыслам.
Для Чехова все сущее достойно равного внимания – и живое, и неживое. Но коль скоро изображаемое оказалось принадлежащим первому, то для автора полны значения все проявления этой жизни, и он не жалеет на них специальных эпизодов, отдаваемых движениям облаков, клочьев тумана, жизни цветов, деревьев, капель воды…
Естественно, что еще пристальней вглядывается он в жизнь животных. Речь идет не о тех случаях, когда они выведены в качестве главных или равноправных героев – как Муму, Валетка, Холстомер, Каштанка, Белолобый, белый пудель, гаринская Жучка, а об их изображении среди всего остального, в общей картине.
Собственной собачьей жизнью в «Учителе словесности» живет Мушка – «маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордой, злая и избалованная». Злой собачонке в рассказе уделено едва ли не больше места, чем Шелестову, ее хозяину. Она – полноправный участник застолья. Когда Варя говорила: «Арррмейская острота!» то «это “ррр” выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стула: “ррр… нга-нга-нга…”» Это знаменитое «ррр… нга-нга» – из тех «бесполезных» и удивительно тонко подмеченных подробностей, которые так возмущали литературных обозревателей толстых журналов и солидных газет.
Правда, в конце рассказа выясняется, что Мушку Никитин получает в приданое, и она, таким образом, выбивается в героини. Но не меньше столь же конкретных и выразительных подробностей сообщено и про явно «не героя» – пса Сома, большого и глупого. «Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола». Далее сообщается, что он любил «класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки» и что от этой пагубной привычки его не могло отучить ни битье «по большому лбу колодкой ножа», ни щелканье по носу. Через несколько страниц мы узнаем дополнительные подробности его жизни (еще меньше связанные с фабулой): «Пробежал куда-то Сом с двумя дворняжками».
В «Бретёре» Тургенева вдруг появляется робкая и смирная собака Перекатова. И тут же выясняется зачем: ее скромное поведение подчеркивает, что «хозяин ее не слишком властный человек в доме». В «Отцах и детях» через посредство «красивой борзой собаки с голубым ошейником» характеризуется престарелая тетушка: собака оказывается единственным существом, могущим еще вызвать у нее душевное движение. В гончаровском «Обрыве» есть злая и хриплая моська, напоминающая Мушку, но эта старая и заспанная собачонка – часть неподвижного, не меняющегося уклада в доме старых дев Пахотиных.
У Чехова же и старый пудель, «который стоял посреди комнаты и, расставив свои слабые, больные ноги и опустив голову, думал неизвестно о чем» («Три года», 1894, журнальный вариант), и дог из незаконченного «Расстройства компенсации» (около 1898), который ходил за хозяином, «печально опустив голову», и «белая собака с грязным хвостом» из рассказа «Тяжелые люди» (1886), и другие многочисленные собаки, большие и маленькие, рыжие и черные, злые и добрые, умные и глупые, – не предназначены для целей прямой характеристики чего-либо. В произведении они для повествователя представляют такой же интерес, как в жизни для Антона Павловича Чехова кудринский пес Корбо, мелиховские Арапка, Белолобый, Хина Марковна и Бром Исаич.
Все подобные детали и эпизоды, разумеется, нужны и нелишни. Только цель их иная, чем в дочеховской литературной традиции. Современники, воспитанные на той традиции, новаторство почувствовали, но не смогли его верно оценить.
Детали эти демонстрируют, что всякая картина – как бы сегмент, вынутый целиком из круга жизни, вместе со всеми его главными и побочными чертами; они передают чеховское видение мира и человека в его целостности. Чеховские детали – это его пристальный интерес к человеку во всей полноте его существования, где важно и интересно все – «и лицо, и одежда, и душа, и мысли». «Художественная литература потому и называется художественной, – писал Чехов одной начинающей писательнице, – что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда безусловная и честная. Суживать ее функции такою специальностью, как добывание “зерен”, так же для нее смертельно, как если бы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы […]. Литератор должен быть так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль».
Иногда говорят, что Чехов впервые изобразил обыкновенного человека. Но внимание к ординарным, ничем не выделяющимся людям в русской литературе началось еще с физиологического очерка, который обратился к «обыкновенным» людям в полном смысле этого слова. Двумя десятилетиями позже шестидесятники запечатлели рядового члена крестьянской общины, жителя города, мастерового, приказчика. Общий поток литературы 70-х годов закрепил этот интерес (не дав, правда, значительных художественных достижений). Принципиально новым у Чехова было другое. В предшествующей литературе обыкновенный человек изображался или как открыто типический, или без специальной концентрации черт, как один из многих. Но и в том и в другом случае не ставилась задача изображения индивидуальности и неповторимости именно этого человека.
Художественное видение Чехова было направлено прежде всего на индивидуальность, со всем ее багажом – не только типическим, но и второстепенным, случайным: и то и другое для него достойно воплощения. Это касается и таких персонажей, как герои «Скучной истории» и «Архиерея», и таких, как герои «Мужиков», «В овраге», «Новой дачи»; это относится к лицам главным и эпизодическим.
Чехову недостаточно показать человека в кругу его мыслей, идей, верований, изобразить героя в индивидуальных чертах физического облика. Такой индивидуальности ему мало. Ему надобно запечатлеть особость всякого человека в преходящих, мимолетных внешних и внутренних состояниях, присущих только этому человеку сейчас и в таком виде не повторимых ни в ком, нигде, никогда. Индивидуальное сращено со всеми мелочами этой минуты этого человека, и внимательность чеховской индивидуализации, иногда кажется, дошла до предела в своем интересе к самым пустячным, ничтожным привычкам, жестам, движеньям. То, что герой любит мять манжеты, поглаживает себя по голове, по груди или щелкает пальцами, может не иметь никакого характеристического значения. Но это создает особое, недистанцированное, близкое отношение к нему – в противоположность обобщенной характеристике, заставляющей рассматривать героя издали, со стороны.
Все это утверждает ценность каждого человека не только как духовного феномена, но и как личности, со всем «частным», что есть в ней, – ту ценность, которая была осознана обществом только значительно позже. Как бытие в целом у Чехова – царство индивидуальных форм, так и часть его – герой – прежде всего индивидуальность, со всем единственным в своем роде сочетанием черт, в этом качестве и включенная в поток бытия.
Диапазон художественного изображения человека расширился.
Это был новый художественный язык, открывавший новую страницу в мировой литературе.
6
Новых землевладельцев мелиховские крестьяне встретили настороженно. Были конфликты – впрочем, небольшие: мужики заменили кобылу на мерина той же масти, думая, что хозяева этого не заметят, темнили при определении границ имения. Все уладилось, но не сразу; ситуация непонимания друг друга «барами» и мужиками, так глубоко изображенная в «Новой даче» (1898), время от времени – по мелочам – возникала снова, несмотря на всю доброжелательность чеховской семьи.
В Серпуховском уезде Чехов не только врачевал. Его иждивением в 1896 году была построена школа в соседнем с Мелиховом селе Талеже, на следующий год – в Новоселках, еще через два – в самом Мелихове. Он не только давал деньги, собирал пожертвования, но и участвовал в обсуждении планов, покупал материалы, следил за строительством. Этот опыт, включая отношения с мужиками во время стройки, нашел отражение в повести «Моя жизнь» (1896). Школы получились хорошие и по теперешним меркам. Когда Чехов говорил о школах, вспоминал Михаил Павлович, то «глаза его зажигались, и видно было, что если бы ему позволили средства, то он выстроил бы их не три, а множество».
«Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно» (записная книжка Чехова).
В Талежской и Чирковской школах он был попечителем, присутствовал на экзаменах, входил и в неприятную повседневность: «Постоянные дрязги в Талежском училище, поп, мужики, бьющие стекла, г-жа N со своим характером, жалостные письма ее помощницы, полное невнимание управы…» (1899). Земство помогало мало, но благодарило письмами; правительство тоже: в 1899 году Чехов получил орден Станислава 3-й степени.
Одно время Чехов даже предполагал обобщить опыт своей работы по устройству школ: «Я готовлю материал для книги, вроде “Сахалина”, в которой изображу все 60 земских школ нашего уезда, взявши исключительно их бытовую, хозяйственную сторону. Это земцам на потребу» (Суворину, 14 декабря 1896).
Когда в 1897 году началась всеобщая перепись населения, Чехов участвовал и в ней; несмотря на плохое в это время самочувствие, он ходил по избам с казенным портфелем, в который «не лезут переписные листы».
Без всякого преувеличения можно сказать, что Чехов принимал самое живейшее участие во всех местных делах, не подразделяя их на мелкие и крупные, – будь то борьба с холерой, рытье колодца, строительство школы или проведение шоссе, открытие почтового отделения на станции Лопасня.
С мелиховскими впечатлениями связаны главные произведения Чехова о деревне – «Мужики» (1897), «На подводе» (1897), «Новая дача» (1898), «В овраге» (1900).
Чеховские «Мужики» подняли в печати долгую и острую полемику между народниками и легальными марксистами, которая, выплеснувшись за рамки произведения, затронула коренные вопросы путей развития российской деревни. Врач Н. И. Коробов, товарищ Чехова по Московскому университету, писал ему в 1897 году: «Чем больше я думаю про “Мужиков”, тем больше прихожу к убеждению в их значительности и своевременности. Они вопиют, бьют в набат и должны быть запрещены цензурой». Опасения сбылись: цензура действительно вмешалась и вырезала из уже отпечатанной книжки журнала с «Мужиками» целую страницу.
«Мужики» вобрали весь главный материал деревенских наблюдений писателя; он сам это сознавал: «В беллетристическом отношении после „Мужиков” Мелихово уже истощилось и потеряло для меня всякую цену» (Суворину, 1899).
Уклад жизни в его усадьбе был похож на тот, который Чехов видел в чужих, где он живал: гости, обеды, прогулки, музицирование. Но хозяева тех имений были люди праздные. Или их занятия не требовали той сосредоточенности, какая нужна для писательства. Чехов это понимал, но порядков не переменял. В Мелихове бывали И. И. Левитан, виолончелист М. Р. Семашко, флейтист А. И. Иваненко, актер П. М. Свободин, писатели В. А. Гиляровский, И. Н. Потапенко, И. Л. Щеглов-Леонтьев, Вл. И. Немирович-Данченко, А. С. Суворин…
Постоянно гостили барышни: певица В. А. Эберле, художница М. Т. Дроздова, начинающая писательница и переводчица Т. Л. Щепкина-Куперник, Л. С. Мизинова. Приезжала бывшая невеста, Е. И. Эфрос, теперь Коновицер, замужняя дама.
С Ликой Мизиновой были сложные отношения полулюбовных признаний, с обеих сторон постоянно старательно иронически снижаемых. Так сразу завел Чехов; он был большой мастер единой интонации и стиля в отношениях. Письма к Лике – едва ли не единственные, где чеховский юмор становится принужденным и почти натужным. Но в этих шутливых, местами почти ёрнических письмах встречаются и слова, из которых многое становится понятно: «В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, хорошо я делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею». Планировалась тайная совместная поездка на Кавказ. Чувство было, безусловно, и с той и с другой стороны, но с чеховской с самого начала было и явное опасение ему поддаться, потерять свободу, связать судьбу с женщиной богемного настроя и темперамента.
Совсем иные обстоятельства разъединяли Чехова с другой любившей его женщиной, писательницей Л. А. Авиловой: у нее была семья, дети. Но была и та же причина – боязнь изменить сложившуюся жизнь, целиком построенную на творчестве.
«Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником, – писал И. Н. Потапенко, – а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями».
7
В 1893 году Чехов написал рассказ, снискавший славу одного из самых загадочных его произведений, – «Черный монах». Споры о нем начались сразу же и продолжаются доселе. Но в них одно осталось в стороне – автобиографичность. Автобиографичен он не в смысле прямых соответствий, но с точки зрения отношения к главному вопросу, который в нем ставился, – о цене, которая платится за творчество.
Героя рассказа, магистра философии Коврина, большинство критиков очень охотно лишает права не только на исключительность, но даже на какое-либо значение в своей науке, забывая о том, что подобное мнение высказывается или в тяжелую минуту женщиной, или им самим, и тоже в минуту «покорного, безразличного» настроения. Наука была – у него многое было в жизни, все то, что звал он перед смертью: «Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость…» И в то еще недавнее время он был счастлив.
Но и когда Коврин занимался своей «чудесной наукой», «был погружен в свою интересную работу» и обостренно воспринимал прекрасное в музыке и природе, – все это давалось ему ценою огромного нервного и физического напряжения: «В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело». Для здоровья это было, конечно, неполезно, и Коврин заболел, у него появились галлюцинации.
Но Коврина вылечили; он стал работать «только два часа в сутки», «пил много молока», пополнел. Теперь он уже не замечал «роскошных цветов», не слышал шепота сосен; от всей науки осталась «небольшая компилятивная работа»; жизнь его стала вяла, пуста и скучна.
Но не хотим ли мы сказать, что Чехов отвергает нормальную, здоровую жизнь? Нет, ибо вопрос ставится иначе. Независимо от того, как к этому относиться, дело обстоит так: человек творчества должен отдать ему всю жизнь, здоровье, все силы души и тела. Только тогда может получиться что-нибудь значительное. Чехов знал это лучше кого-либо другого. Творческая жизнь – свеча, сжигаемая с двух концов. «Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! – сказал Коврин. – Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки».
Если повезет, телесная оболочка может оказаться крепкой, жизнь – долгой. Но так бывает не часто. Однако, говорит рассказ, третьего не дано: или пить молоко, или сжигать жизнь в огне творчества. Сам Чехов выбрал второе.
Биографы Чехова, среди которых уже набралось и немало профессиональных медиков, недоумевают: почему столь квалифицированный врач так долго не мог разглядеть у себя чахотки, симптомы которой давно наблюдал, почему не лечился, не обращался к специалистам и т. п.
Если собрать все мемуарные свидетельства и многочисленные высказывания Чехова в письмах о своей болезни, то становится ясно, что о ней он знал, а все отговорки о «желудочном» кашле и отсутствии «совокупности признаков» – лишь для родственников и друзей.
Знал, но считать себя больным не хотел. «Лечение и заботы о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отвращению. Лечиться я не буду». Как врачу ему было ясно, что лечебный режим туберкулезного больного исключает творческую работу – во всяком случае в тех формах непрестанного напряжения, как это было у него. Выбор делался вполне сознательный. И лечиться он начал только тогда, когда состояние стало катастрофическим.
Врачи рекомендовали жить в Ялте. В сентябре 1898 года он туда выехал и прожил там всю зиму. В октябре умер П. Е. Чехов. «Выскочила главная шестерня из Мелиховского механизма, – писал Чехов, – и мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мелихове потеряла всякую прелесть».
Глава восьмая ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
1
В ялтинский период написаны такие шедевры, как «Дама с собачкой», «В овраге», «Три сестры», «Архиерей», «Вишневый сад».
Но столь плодотворные годы в целом не были счастливы. Чехов не любил Ялту – ее, как он говорил, «парфюмерную» природу, ее курортников и туристов, «рожи бездельников-богачей с жаждой грошовых приключений». Его тянуло в среднюю полосу России, в Москву. Но общее мнение врачей было твердым: ему надо жить на юге.
Устраиваться приходилось основательно. Чехов затеял постройку дома. Как и при покупке Мелихова, выбирал он недолго. Купил участок в 20 минутах ходьбы от Ялты, далеко от моря, без воды, рядом с шоссе. Когда М. П. Чехова увидела впервые это дикое каменистое место, она чуть не заплакала от огорчения.
И так же, как и Мелихово, участок был куплен в долг. Узнав об этом, А. И. Эртель писал: «Что такое Чехов? Ведь это одна из гордостей нашей литературы, одно из самых лучших ее имен, одна из самых лучших ее надежд. Ведь по таланту это писатель, быть может не меньше Мопассана во Франции, Тургенева у нас […] И вот стоило этому крупному молодому писателю серьезно заболеть, – у него, кажется, чахотка, – стоило ему вследствие этой болезни возыметь нужду в отдыхе, в поездке на юг, в хорошей обстановке, – в той самой, которую имеет клоун Дуров или какой-нибудь тенор из “Яра”, и вдруг оказывается, что надо вести унизительные переговоры о займах, надо искать денег…»
Стройка дома шла медленно, с обычной грязью и хламом на строительной площадке, с остановками, перебоями. Чехов продолжал жить на частных квартирах. Весной 1899 года он уехал в Москву, потом в Мелихово.
Несмотря на начавшееся строительство, ясности в душе не было. «Я не знаю, что с собой делать. Строю дачу в Ялте, но приехал в Москву, тут мне вдруг понравилось […], и я нанял квартиру на целый год, теперь я в деревне, квартира заперта, дачу строят без меня – и выходит какая-то белиберда».
Надо было продавать Мелихово, расставаться с ним, где все устраивалось с таким трудом, было жалко. «Хотел продать Мелихово и не хотел, – писал Чехов, – ничего еще не решено. Теперь у меня четыре квартиры».
В ноябре 1899 года дача наконец была готова. Она была красива и не так тесна, как сначала думал Чехов. Но у нее оказался один недостаток, для больного человека очень существенный: зимой в ней было холодно.
Чехов, как мог, с холодом боролся. Из двери, выходящей из спальни на балкон, сильно дуло – он заказал в Москве, в магазине Мюра и Мерилиза, специальные шторы. Но когда их прислали, они оказались «жидковаты немножко» – с балкона по-прежнему дуло.
Холоднее всего было в кабинете – там не было печи, а только камин, который Чехов зажигать не любил. В первую зиму в кабинете иногда было всего 12 градусов; даже письмо написать было трудно – мерзли руки. Спать приходилось в шапке и туфлях. В следующие зимы теплее было не намного. «Сейчас сажусь писать, буду продолжать рассказ, но писать, вероятно, буду плохо, вяло, так как ветер продолжается и в доме нестерпимо скучно»; «Вчера я не писал, ибо в моей комнате было только 11 градусов» (1—2 и 3 февраля 1903 г.).
Конечно, и самую плохую печь можно натопить, в крайнем случае ее переложить; можно, наконец, добавить новую. Но для этого нужно было, чтобы кто-нибудь этим специально занимался. Почему-то так получилось, что Чехов должен был заниматься этим сам. И он это делал, хлопотал, вызывал печников (без особого результата), тратил силы, которых было уже не так много, и время, которого оставалось меньше пяти лет.
В Ялте ему не нравилось все: «преподлая», «гнусная» погода зимой и промозглая – осенью. Ему нужно было одеваться теплее, но в зимнем еще никто не ходил и надевать шубу он стеснялся.
Не нравилась южная природа, казавшаяся ему «холодной», вечнозеленые растения напоминали ресторанные пальмы («сидишь, точно в Стрельне»). «С каким чисто телячьим восторгом я пробежался бы теперь в поле, около леса, около речки, около стада. Ведь, смешно сказать, уже два года, как я не видел травы».
Однажды, когда Чехов стал говорить про это при Левитане, художник взял картон, в полчаса написал пейзаж «Стога сена» и вставил его в нишу камина чеховского кабинета (эта картина и сейчас находится там).
В июле 1902 года Чехов с удовольствием принимает предложение К. С. Станиславского пожить в его имении Любимовке, среди подмосковной природы, у речки, где можно было целыми часами сидеть с удочкой. Это было последнее такое лето.
Болезнь и так лишала аппетита, а в Ялте не было привычной еды. Не было молока, хотелось обыкновенных щей. «Привези пшена и гречневой крупы хоть по три фунта, – писал он сестре 6 марта 1902 года, – здесь в лавке держат старую крупу, каша получается горькая». Издатель Сытин взял да и прислал грибов.
Мать и старая кухарка обеспечить нужного питания не могли. «Питался Антон Павлович, – писал О. Л. Книппер врач И. Н. Альтшуллер, – по его собственным словам, очень плохо, мне кажется, иногда он ничего не ел. То, что готовилось и подавалось, ему не нравилось; принять меры, чтобы это было иначе, он не хотел, и говорил, что это бесполезно и что сделать ничего нельзя. […] С приездом Марии Павловны наладилось и кормление, и я раньше никогда не видел, чтобы он столько и с охотой ел. Результат сказался сейчас же. Его внешний вид и настроение совершенно изменились». Обед, писал Чехов, «пока Маша здесь, стал вкусным». Но «после того, как Маша уехала, все перевернулось и идет по-старому, как до приезда Маши, и иначе невозможно». А Мария Павловна приезжала редко и ненадолго.
Особенно тоскливо было в холодные зимние месяцы.
Чехову вообще было свойственно чувство внутренней близости к природе, ощущение себя как ее части и своей зависимости от нее. Времена года – важные этапы его жизни, целые комплексы эмоций: «Завтра весна […]. Но увы! – наступающая весна кажется мне чужою, ибо я от нее уеду» (28 февраля 1890 г.). Дождь, снег, любая перемена погоды для Чехова – явления, равноценные в ряду с литературными и общественными делами. Он вполне может начать письмо с сообщения о том, что «выпал снег». Или так: «У меня целое событие: ночью был дождь» (18 сентября 1902 г.).
Прилет птиц для него – событие, воспринимаемое на равных с литературными делами: «У меня далеко не кончена моя работа. Если я ее отложу до мая, то сахалинскую работу придется начать не раньше июля […]. Моя повесть подвигается, но ушел я недалеко. Был в деревне у Киселевых. Грачи уже прилетели» (Суворину, 5 марта 1891 г.). «Погода хорошая. Через 1—2 недели прилетают грачи, а через 2—3 – скворцы. Понимаете ли вы, капитан, что это значит?» (И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 28 февраля 1883 г.). Это событие обсуждается. Чехов может посвятить ему значительную часть письма (следующее письмо Леонтьеву-Щеглову, 6 марта 1888 г.).
Его настроение барометрически реагировало на атмосферно-погодные изменения:
«Милый Алексей Николаевич! На дворе идет дождь, в комнате у меня сумеречно, на душе грустно» (А. Н. Плещееву, 31 марта 1888 г.).
Таких признаний множество: «Солнце светит вовсю, снега нет, и мороз слегка щиплет за щеки. Сейчас я гулял по Невскому. Все удивительно жизнерадостно, и когда глядишь на розовые лица, мундиры, кареты, дамские шляпки, то кажется, что на этом свете нет горя…» (М. Е. Чехову, 13 марта 1891 г.). «Я думаю, что мой “Леший” будет не в пример тоньше сделан, чем “Иванов”. Только надо писать не зимой, не под разговоры, не под влиянием городского воздуха, а летом, когда все городское и зимнее представляется смешным и неважным. Летом авторы свободнее и объективнее. Никогда не пишите пьес зимой […]. В зимние ночи хорошо писать повести и романы…» (А. С. Суворину, 8 января 1889 г.).
На Сахалине «небо по целым дням бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечною. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь» («Остров Сахалин»).
Зимними холодными вечерами в ялтинском доме он был один. Рано темнело, за окнами выл ветер («ветер дует, как в четвертом акте “Чайки”»), по крыше стучал дождь…
Ялтинская жизнь шла год за годом, но ощущение от нее и настроение не менялись.
«Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь, точно не знаешь, какая скука, какой это гнет – ложиться в 9 час. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я – это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас тут некому играть» (М. П. Чеховой, 11 ноября 1899 г.).
Не улучшали настроение и сомнения в нужности всех этих жертв: среди медиков возникли разногласия, действительно ли обязательно жить в Крыму.
Но хуже всего было то, что Чехов считал: ялтинская обстановка не способствует, а мешает его писанью. Стоило ему заговорить о том, что в последнее время пишется хуже, как тут же всплывала Ялта: «Я пишу, работаю, но, дуся моя, в Ялте нельзя работать, нельзя и нельзя. Далеко от мира, неинтересно, а главное – холодно» (17 ноября 1901 г.); «Ах, какая масса сюжетов в моей голове, как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает – в обстановке ли, в здоровье ли. Не следовало бы мне жить в Ялте, вот что! Я тут как в Малой Азии» (23 января 1903 г.). Ему уже начинает казаться – то, чего никогда не было раньше, – что он в стороне от жизни, уже не видит ее «как прежде», и он тоже сразу же связывает это с Ялтой: «Я все похварываю, начинаю уже стариться, скучаю здесь в Ялте и чувствую, как мимо меня уходит жизнь и как я не вижу много такого, что, как литератор, должен бы видеть» (В. Л. Кигну-Дедлову, 10 ноября 1903 г.).
2
Было еще одно обстоятельство, которое заставляло ощущать Ялту как «тюрьму».
В сентябре 1898 года на репетиции «Чайки» в Охотничьем клубе в Москве Чехов увидел актрису Ольгу Леонардовну Книппер. После другой репетиции – драмы А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», где Книппер играла Ирину, – он пишет Суворину о ней в необычном для себя восторженном тоне. Ему нравится все: «Голос, благородство, задушевность […]. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину». В Москве он не остался, но об Ирине – Книппер вспоминал и удивлялся, что в рецензиях на спектакль о ней не пишут.
В Москву Чехов попал спустя полгода и уже через неделю неожиданно пришел с визитом в дом Книппер. Шестнадцатого июня 1899 года он написал ей письмо – первое из тех 433 писем и телеграмм, которые пошлет он за следующие пять лет.
В июле 1900 года Ольга Леонардовна гостила в Ялте, у Чехова в семье. Этот месяц был решающим в их отношениях.
Однако венчание произошло только в мае 1901 года. «Если ты дашь слово, – писал Чехов будущей жене накануне, – что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, – то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться».
Так и сделали: на церемонии присутствовали только необходимые свидетели.
Мать и сестра Чехова были сильно обеспокоены его женитьбой, возможными переменами в своей сложившейся жизни. Чехов их успокаивал – это была одна из главных его забот тех дней. В день венчания он телеграфировал матери: «Все останется по-старому». А через несколько дней разъяснял в письме к сестре: «Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановки, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит уже бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет решительно никаких, все останется по-старому» (2 июня 1901 г.).
Действительно, не изменилось почти ничего – еще меньше, чем он предполагал и хотел. Книппер жила в Москве, играла в своем театре, Чехов – в Ялте, с матерью; изредка приезжала сестра. Жена была – семьи не было.
Врозь они были чаще, чем вместе, со дня знакомства, но этой зимой, после женитьбы, он переживал разлуку особенно тяжело. Впервые в эпистолярии Чехова появляются жалобы и даже просьбы: «А вдруг ты бы взяла и приехала в Ялту на 2—3 дня! Понадобилась бы только одна неделя для этого. Я бы встретил тебя в Севастополе. В Севастополе пожил бы с тобой… А? Ну, бог с тобой!»
Просьбы становятся почти настойчивыми – раньше для Чехова вещь непредставимая: «Итак, помни, деточка, в декабре ты должна быть в Ялте. Непременно! Твой приезд для меня был бы сущим благодеянием» (22 ноября 1901 г.). «Итак, просись не в Севастополь, а в Ялту. Милая дуся моя, уважь! Прошу тебя!» (24 ноября 1901 г.). «Дусик, брось хандрить, не стоит, – отвечала Книппер. – Ты ведь человек с большой душой».
Он звал ее еще несколько раз – и на рождество, «денька на три» или «хотя на один день», и просто так. «Теперь январь, у нас начинается отвратительная погода, с ветрами, с грязью, с холодом, а потом февраль с туманами. Положение женатого человека, у которого нет жены, в эти месяцы особенно достойно сожаления. Если бы ты приехала, как обещала, в конце января!» (3 января 1902 г.). Она собиралась; когда здоровье Чехова ухудшилось, писала, что «способна все сейчас бросить и лететь», но не приехала ни в декабре, ни в январе.
Л. А. Сулержицкий, добрый и чуткий человек, писал ей из Ялты в конце января 1902 года о душевном состоянии Чехова: «По тому, как он разубеждал меня в возможности Вашего приезда, я особенно ясно понял, как ему этого сильно хочется. Если бы Вы, Ольга Леонардовна, сумели устроить так, чтобы приехать хоть на два-три дня, то уж и это было бы очень хорошо. Антону Павловичу это прямо-таки необходимо. Он задыхается в своих четырех стенах и, как сильный человек, не жалуется, не старается разжалобить других своим положением, а от этого ему еще тяжелее. […] Не забывайте, что он не только муж Ваш, но и великий писатель, к которому Вы имеете право приехать не только по этой причине, но просто как человек, могущий поддержать его бодрость, а следовательно, здоровье, которое необходимо всем, всей русской литературе, России».
В начале февраля вопрос о приезде был наконец решен. «Итак, ты решила приехать. Смилостивилась. Владимир Иванович [Немирович-Данченко] телеграфирует, что ты выедешь 22-го, а 2-го уже должна быть в Петербурге. Очевидно, чтобы увидаться с тобой, я должен не терять мгновений, даже поцеловаться с тобой не успею…» (6 февраля 1902 г.).
Книппер приехала 22 февраля и, пробыв меньше недели, уехала.
Проводив ее, Чехов пишет: «Если, не дай бог, заболеешь, то немедленно кати ко мне, я за тобой буду ухаживать» (28 февраля). Он, как всегда, оказался печально угадлив: через полтора месяца тяжело больную Книппер снесли в Ялте с парохода на носилках. Эта болезнь дала им больше не повторившуюся возможность побыть вместе целых полтора месяца, а потом – в Москве – еще два.
3
Конечно, не всегда было плохо. Весной и ранней осенью радовала погода. Был «воздвигнут дом в 2¼ этажа, белый дом»; и уже появилось у него прозвание: Белая дача. Из дома открывался «широчайший вид, такой вид, что просто описать нельзя».
Куприн считал, что чеховская дача стала «самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными – то широкими, то узкими – окнами, она походила бы на здания в стиле “модерн”, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником […]. Антон Павлович не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с Аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны».
Сад был главной радостью. К его посадке Чехов подошел так же серьезно и основательно, как ко всему, что он делал. Читал специальную литературу (на подаренной М. Лавровым книге П. Золотарева «Флора садоводства» – многочисленные пометки); в тетрадку «Сад» им занесено 159 латинских ботанических названий растений. Саженцы и семена он выписывал из Одессы, из садового заведения «Синоп» в Сухуми, заказывал в Никитском ботаническом саду. Каждое дерево был посажено собственными руками – этого он не доверял никому. К лету 1903 года в саду уже росли кедр атласский, магнолия, хурма китайская, гледичия, ива вавилонская, абрикосовые, грушевые деревья, кипарисы. Все было продумано. Когда Мария Павловна предложила посадить каштан, Чехов писал ей: «Каштан широкоразвесист, он займет половину сада, а сад и так мал. Погоди, через 2—3 года ты увидишь, что я посадил именно то, что нужно. Думаю, что это так, ибо я прежде, чем сажать, размышлял очень долго».
Он шутил, что если бы не был писателем, то стал бы садовником. Но в последние годы ухаживать за садом становится все труднее: «После каждого куста приходится отдыхать» (Книппер, 5—6 февраля 1902 г.).
В ялтинских письмах не меньшее место, чем в мелиховских, занимает «собачья» тема: Чехов пишет о характерах собак, их привычках, о том, как лечит их. Кроме собак, во дворе жили два ручных журавля; они важно ходили по саду.
Неожиданной радостью явилось известие, что «Душечка» очень понравилась Льву Толстому и что он постоянно читает ее вслух гостям и восхищается, называя ее автора «большим-большим писателем».
Зимой 1901—1902 годов Толстой жил недалеко от Ялты; Чехов бывал у него, много говорил с ним. Толстой болел; это глубоко волновало Чехова.
В Ялте Чехова посещают его старые знакомые, укрепляются дружеские отношения с входящими в славу И. А. Буниным и А. М. Горьким, с драматургом А. Найденовым, талант которого Чехов высоко ценил.
С Буниным, когда тот жил в Ялте, Чехов встречался почти ежедневно. Куприн в доме Чехова работал над одним из лучших своих рассказов – «В цирке» – и советовался насчет медицинской стороны сюжета.
В доме Чехова бывали и Н. Г. Гарин-Михайловский, Г. Короленко, Н. Д. Телешов, Ф. И. Шаляпин, В. Рахманинов… Но каждое расставание омрачалось: они уезжали в Петербург или любимую им Москву, он оставался в нелюбимой Ялте.
Кроме друзей, было много случайных посетителей. Приходили преподавательницы местной гимназии, студенты, поклонницы – «антоновки», журналисты, начинающие беллетристы. Чехов признавался в письмах: «Надоели и раздражают посетители» (1 декабря 1899 г.); «Вчера были гости, сидели долго, я злился. Сейчас по телефону получил известие, что ко мне едет на извозчике турист-венгерец, посещающий всех писателей» (17 декабря 1901 г.).
В Мелихове для работы над «Чайкой» Чехов уединялся во флигеле; в Ялте, чтобы писать «Три сестры», уезжал в небольшой домик в Гурзуфе. Ситуация повторялась. «Ах, как мне мешают, если бы только знала!! – писал он Книппер 30 августа 1900 года. – Не принимать людей я не могу, это не в моих силах».
Но одним из радостнейших событий всей ялтинской жизни был приезд в апреле 1900 года Московского Художественного театра. Чехов не видел его спектаклей в Москве – театр приехал к нему сам.
Гастроли начались в Севастополе. На «Дяде Ване» автора вызывали множество раз, а на последнем спектакле в Ялте, когда шла «Чайка», Чехову была устроена, как писала местная газета «Крымский курьер», «грандиозная овация». Две недели Чехов был в обществе актеров и писателей: в это время здесь оказались Бунин, Горький, Мамин-Сибиряк, Чириков. Каждый день с утра до вечера в чеховской даче кипел самовар, приходили и уходили веселые и остроумные гости.
4
Вскоре по приезде в Ялту Чехов столкнулся с одной чертой здешней действительности, не бросающейся в глаза на фоне общей курортной жизни, – с тяжелым положением туберкулезных больных. Они съезжались со всей России; большинство из них составляли неимущие.
«Одолели неимущие больные, – писал Чехов. – Приходится что-нибудь делать, иначе хоть вон беги из Ялты». И удивлялся: «Почему-то все ко мне идут».
Но больные знали, к кому идти, и не ошибались. Чехов устраивал на квартиры, оплачивал эти квартиры, хлопотал об определении в приют для хронических больных, о врачебных консультациях и т. п.
Сначала он действовал только сам, но скоро начинает принимать деятельное участие в работе ялтинского попечительства о нуждающихся больных, избирается уполномоченным по собиранию средств.
В сентябре он написал воззвание о помощи нуждающимся туберкулезным больным, которое напечатали многие газеты и журналы. «Попечение о приезжих больных, – говорилось в воззвании, – составляет задачу не одних лишь местных благотворительных сил; борьба с туберкулезом, который вырывает из нашей среды столько близких, полезных, столько молодых, талантливых, есть общее дело всех истинно добрых русских людей, где бы они ни проживали».
Как писал современник, «страстный призыв Чехова “На помощь умирающим!” облетел всю Россию. Кажется, ни одно воззвание не имело такого успеха, как воззвание Чехова. Пожертвования посыпались со всех сторон».
В составленном в 1901 году завещании, адресованном сестре, Чехов писал: «Я обещал крестьянам села Мелихова сто рублей – на уплату за шоссе; обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко […] платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение. Помогай бедным».
Приехав в 1902 году на несколько дней отдохнуть в имение С. Т. Морозова в Усолье, Чехов посетил всеволодо-вильневский химический завод. Увидел тяжелые условия работы и обратил на это внимание владельца. Вскоре после отъезда Чехова на заводе был введен 8-часовой рабочий день для основных рабочих и 10-часовой для подсобных. (Этот порядок просуществовал до 1906 года, когда его отменили наследники Морозова.)
Воззвание о помощи больным было едва ли не единственным широко известным общественным выступлением Чехова. Обычно же всю свою многообразную деятельность по постройке школ, прокладке дорог, устройству библиотек, помощи голодающим он старался проводить как можно менее заметно и открыто. Особенно отчетливо это проявилось в случае с так называемым академическим инцидентом.
В 1900 году Чехов был избран в почетные академики по разряду изящной словесности. «Званию академика рад […], – писал он вскоре. – Но еще более буду рад, когда утеряю это звание после какого-нибудь недоразумения. А недоразумение произойдет непременно…» Чехов, как это часто бывало, предугадал события.
В 1902 году почетным академиком был избран М. Горький. Однако вскоре выборы объявили недействительными. В «Правительственном вестнике» появилось сообщение «От императорской академии наук» о том, что академии не было известно о привлечении Горького «к дознанию в порядке статьи 1035 уголовного судопроизводства» (Горький привлекался по политическому делу). Как написал позже В. Г. Короленко, «в конце концов вышло, что академия сама, узнав о пресловутой 1035 ст., отменяет свой выбор и, значит, высочайшему повелению придан вид самостоятельного акта академии. […] Между тем академики даже не знали, что от их имени делается такое объявление».
«Будь я на вашем месте, гг. академики, – писал Чехову литератор А. И. Эртель, – я бы не замедлил расплеваться с академией после этого пассажа, – конечно, наивозможно шумнее, чтобы подчеркнуть это новое проявление “ослиномании” в наших, решительно спятивших, сферах».
С протестом выступили два почетных академика В. Г. Короленко и А. П. Чехов. В двух письмах в академию Короленко подробно говорил о случаях «административно-полицейского воздействия» на литературу, вспоминая Н. И. Новикова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. В заключение он отказывался от звания почетного академика.
Чехов тоже написал письмо с отказом от этого звания; но его письмо было гораздо скромнее и сдержаннее, – он подчеркивал несовместимость дальнейшего пребывания в академии с чувством чести: «Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными – такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог».
5
Когда-то Чехов мог написать короткий рассказ за день, большой – за неделю, пьесу – за десять дней. Теперь он работал медленно и мучительно.
Над рассказом «Архиерей» он начал работать в декабре 1899 года в Ялте, продолжал его после большого перерыва в 1900 году в Москве, писал в 1901 году в Ницце и с несколькими перерывами в Ялте; закончил только в феврале 1902 года. Причем это был не какой-то неясный для него замысел: по собственному признанию Чехова, этот сюжет сидел у него в голове лет пятнадцать.
«Невеста» писалась без больших перерывов; были периоды, когда он «был в ударе» (О. Л. Книппер, 19 декабря 1902 г.). И тем не менее небольшой рассказ писался почти три месяца, да еще несколько месяцев спустя он «искромсал и переделал» рассказ в корректуре. Счастливо дошедшие до нас черновой и беловой автографы, а также две правленые корректуры показывают, сколь огромна была работа, как велика авторская правка.
Теперь он писал «по 6—7 строчек в день». И дело было не только в сильно ухудшившемся здоровье, но во внутреннем ощущении степени совершенства сделанного.
В 1899—1902 годах вышло первое собрание сочинений Чехова. Издатель, А. Ф. Маркс, приобрел право издания всех произведений Чехова сроком на 20 лет. Договор обеспечивал писателю финансовую независимость на ближайшие годы. Но он представлял и известные неудобства. Маркс становился полным собственником всех сочинений Чехова, настоящих и будущих: после публикации в периодической печати автор не мог ничего отдать ни в какое другое издательство. Деньги Маркс выплачивал частями.
То, что Маркс даже в печати именовался «собственником» сочинений Чехова, писателю было неприятно; он невесело шутил о «кабале» и «хищной тигре Марксе». Но, как писал Чехов позже, «не надо все-таки забывать, что, когда зашла речь о продаже Марксу моих сочинений, то у меня не было гроша медного, я был должен Суворину, издавался премерзко, а главное, собирался умирать и хотел привести свои дела хотя бы в кое-какой порядок» (О. Л. Книппер, 9 января 1903 г.).
Как бы ни оценивать договор с Марксом, одно его достоинство несомненно: договор этот побудил Чехова собрать свои рассеянные по десяткам периодических изданий сочинения, пересмотреть их, многие заново отредактировать. Благодаря этой работе в ряде случаев мы имеем по сути дела новые оригинальные вариации на темы старых рассказов.
Читатель получил основные сочинения Чехова. Особенно широко они распространились, когда Маркс дал их в 16 томах в виде бесплатного приложения к популярнейшему в России журналу «Нива».
В эти годы еще больше крепнет близость с Московским Художественным театром. Специально для него Чехов написал пьесу «Три сестры». Она шла с большим успехом и была в МХТ одной из самых репертуарных. Театр просил еще. «Мой идеал будущего сезона театра, – писал Вл. И. Немирович-Данченко Чехову в 1902 году, – открытие его 1 октября твоей новой пьесой».
Чехов написал «Вишневый сад». Как и другие вещи этого времени, пьеса писалась трудно. «Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями», – сообщал он.
Премьера спектакля была задумана театром как чествование автора.
Юбилеев и речей Чехов не любил. Бунин вспоминал, как однажды в ресторане в Алупке, где завтракал Чехов, какой-то господин встал и предложил тост «за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений… Побледнев, он встал и вышел». Иногда, вспоминал Бунин, он острил на эти темы: «Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!»
За четыре года до того Чехов писал сестре: «О, как это хорошо, что никому неизвестно, когда я начал писать!» Этого действительно никто не знал и не знает до сих пор – споры о том, какой год считать дебютным, все еще идут. Но МХТ решил таким годом считать 1879-й, чтобы был повод в 1904 году отметить юбилей 25-летия литературной деятельности создателя «чеховского театра».
О готовящемся торжестве Чехов не знал. На премьере он не был. Но во время третьего акта за ним специально съездили. В антракте после 3-го акта «Вишневого сада» начались речи, чтение приветствий и телеграмм: от «Русской мысли», от Общества любителей российской словесности, «Русских ведомостей», Малого театра, «Мира искусств»…
От Художественного театра речь произнес Вл. Немирович-Данченко: «Милый Антон Павлович! Приветствия утомили тебя, но ты должен найти утешение в том, что хотя отчасти видишь, какую беспредельную привязанность питает к тебе все грамотное русское общество…»
Чехов был очень слаб, старался унять кашель; многие в зале кричали: «Сядьте, сядьте…» Многим этот праздник показался похожим на прощанье.
К лету здоровье его настолько ухудшилось, что врачи настаивали на немедленном отъезде на курорт в Шварцвальд, в Баденвейлер (Германия). Третьего июня Чехов выехал туда вместе с женой.
В Баденвейлере он сначала почувствовал себя лучше, мечтал даже о путешествии по Италии, а возвращаться в Ялту хотел через Константинополь.
Но внезапно состояние резко ухудшилось. В первом часу ночи с 1 на 2 июля (15 июля нового стиля) 1904 года он проснулся от удушья и впервые попросил послать за врачом. Врач констатировал упадок сердечной деятельности; введение камфоры не помогло. Умирающий стал бредить, говорил о каком-то матросе, спрашивал о японцах. Потом очнулся и сказал с улыбкой жене, которая хотела положить ему на грудь мешок со льдом: «На пустое сердце льда не кладут». Когда врач велел принести новый баллон с кислородом, Чехов остановил его: «Прежде чем принесут, я буду мертв».
Чехов умер в три часа ночи. До последних минут он был мужественно спокоен.
И. А. Бунин вспоминал, что Чехов «много раз старательно, твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме – сущий вздор […]. Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное: “Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие – факт”». Это – своеобразная микромодель подхода Чехова к таким явлениям, как смерть, жизнь, бессмертие. Он как бы допускает возможность двух противоположных решений.
По свойствам своей личности, натуры, Чехов склонялся к вере в мировую гармонию, определяемую высшей волей, хотел в нее поверить. Но честность и трезвость его как мыслителя и художника была такова, что он не мог закрыть глаза на дисгармонию окружающей действительности. Мир представал в его восприятии и изображении как поле движения и столкновения противостоящих сил, и именно в этом прежде всего он видел его сложность, непостигаемую до конца человеческим разумом. Он жаждет единства, гармонии – и трезво осознает ее недостижимость, во всяком случае в современных ему условиях.
Мечта и мысль Чехова были обращены к человеку подвижнического труда. Если перечислить даже не полно, что делал в своей жизни сам Чехов, то можно подумать, что речь идет об общественном деятеле. Он лечил, организовывал помощь голодающим губерниям, был заведующим холерным участком, строил школы, больницы, укомплектовывал общественные библиотеки, выступал с обращениями о помощи и сам, лично, помог сотням людей в их нуждах и бедах; печатал публицистические статьи; написал книгу о каторжном острове – Сахалине, проделав для этого путь через всю Сибирь, в том числе четыре тысячи верст на лошадях. Это делал человек, никогда не отличавшийся крепким здоровьем. И все это – наряду с непрекращающимся, гигантским литературным трудом, с созданием произведений, открывших новую страницу в мировом искусстве.
Из дневника А. П. Чудакова (публикуется впервые)
1965
16 апреля
Страна отмечает 20-летие окончания войны [11] . Единственный неофициальный юбилей. Ничего не забыто.
Слушал днем (случайно, в вестибюле больницы) «Темную ночь», «Танцевать я давно разучился…» – и понял, что даже я, который был ребенком, помню все. Как же помнят они, кто воевал?
Слушал передачу про 57, которые под командованием лейтенанта Очкина 9 дней защищали обрыв Волги у тракторного завода в Сталинграде. Их осталось 6. Лейтенант Очкин жив. Поклон ему, всем, кто командовал ротами, кто умирал на снегу. Память погибшим.
Мое поколение – последнее, которое будет помнить великую войну. Младшие – уже не помнят. И для них – многое проще. Им кажется, что можно простить и забыть, потому что они не помнят, как было, не помнят эшелонов чеченцев в легких черкесках в феврале, немцев Поволжья, военной барахолки, безруких инвалидов, поющих «Раскинулась степь Сталинграда», баб в отрепьях с опухшими от голода ногами, костыли, костыли…
1973
6 июля, Коктебель
<…> Дважды был у Марии Степановны Волошиной. Второй – сегодня. Навел разговор на Чехова и беззастенчиво записывал.
Она встречала его 14-15-летней девочкой, когда МХТ приезжал в Петербург. <…> «Меня не хотели брать на “На дне”. Я стала за столом просить Горького:
– Ну ради Христа…
Горький так громко:
– Такая дылда и веришь!
– А как же? А мама, а батюшка, все верят?
– Все врут.
Я вскочила и в слезах убежала. За столом зашумели, и помню возмущенный голос Чехова: “Ведь она верит твердо!”.
Потом Чехов поднялся за мной наверх и стал гладить меня по голове, по плечам, что-то говорил (“Успокойся, все пройдет”), а потом рассказал мне про Каштанку…».Краткий список рекомендуемых книг
Биография
Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М.: Искусство, 1954.
Роскин А. Статьи о литературе и театре. Антоша Чехонте. М.: Сов. писатель, 1959.
Гитович Н. И. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М.: Гослитиздат, 1955.
Литературное наследство. Т. 68: А. П. Чехов. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
Книппер-Чехова О. Л. Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым (1902—1904). М.: Искусство, 1972.
Чехов М. П. Вокруг Чехова / Встречи и впечатления // Чехова Е. М. Воспоминания. – М.: Худож. лит., 1981.
Малюгин Л., Гитович Н. Чехов: Повесть-хроника. М.: Сов. писатель, 1983.
Переписка А. П. Чехова: В 2 т. М.: Худож. лит., 1984.
Чехов в воспоминаниях современников / Составление, подготовка текста и комментарии Н. И. Гитович, И. В. Федорова. – М.: Худож. литература, 1960.
Творчество
Белкин А. Читая Достоевского и Чехова: Статьи и разборы. М.: Худож. лит., 1973.
Бялый Г. Чехов и русский реализм. Л.: Сов. писатель, 1981.
Лакшин В . Толстой и Чехов. М.: Сов. писатель, 1978.
Семанова М. Л. Чехов-художник. М.: Просвещение, 1976.
Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М.: Худож. лит., 1972.
Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971.Права
© Александр Чудаков, наследники, 2013
© «Время», 2013
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga, 2013
Примечания
1
О том, как после церкви Павел Егорович устраивал еще домашнюю службу, писал и М. П. Чехов: «Каждую субботу вся семья отправлялась ко всенощной и, возвратившись из церкви, еще долго пела у себя канон. Курилась кадильница, отец или кто-нибудь из нас читал икосы и кондаки, и после каждого из них пели положенное по чину, строго сообразуясь с текущим гласом. Утром в воскресенье шли к обедне, после которой все, также хором, пели акафист дома». (При подготовке к изданию мемуаров этот текст из рукописи был исключен.)
2
Званцев С. Дело Вальяно: Рассказы о чеховском Таганроге. Ростовское кн. изд-во, 1959. С. 8—9.
3
То есть один метр 84 сантиметра.
4
Павел Егорович в то время служил в амбаре купца Гаврилова и там же жил, приходя домой только в воскресенья и праздники.
5
С. Н. Худеков – редактор-издатель «Петербургской газеты».
6
«Чти отца твоего и матерь твою».
7
«Я радуюсь, – писал Чехов Суворину, – что условием моего сотрудничества Вы не поставили срочность работы. Где срочность, там спешка и ощущение тяжести на шее, а то и другое мешает работать…» (21 февраля 1886).
8
Впрочем, столетний читательский опыт не включил ее в детское чтение. Традиция извлечения из произведений русской классической литературы «детских» отрывков не коснулась чеховской повести: такие отрывки из нее извлечь просто невозможно – голос маленького героя постоянно сменяется, смешивается, замещается голосом автора.
9
Решающим в охлаждении отношений стало знаменитое дело Дрейфуса (1898), несправедливо осужденного офицера французской армии. В этом деле газета Суворина заняла резко националистическую позицию и вела себя, по словам Чехова, «просто гнусно» (письмо Ал. П. Чехову от 23 февраля 1989 г.).
10
В вахтенном журнале парохода «Петербург», на котором плыл Чехов, есть запись: «В 3 ч. предали воде тело умершего бессрочно-отпускного Федора Кудрявцева.
11
В 1948 году Сталин отменил День Победы как праздничный (выходной) день. В 1965 году День Победы праздновался впервые – спустя 17 лет (пояснение публикатора).

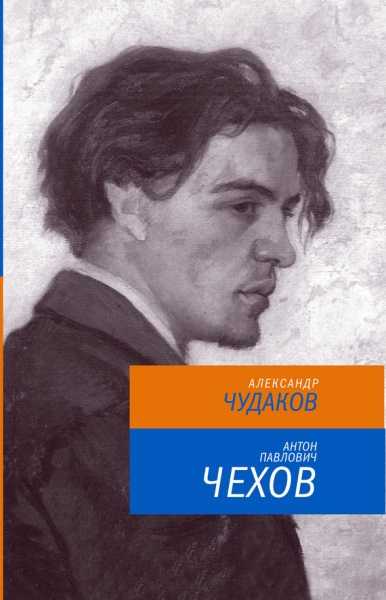




Комментарии к книге «Антон Павлович Чехов», Александр Павлович Чудаков
Всего 0 комментариев