Елена Кейс «Ты должна это все забыть…»
Глава 1
Родилась я в Оренбурге и спала в корыте. Семья наша эвакуировалась в этот уральский город вместе с ленинградским Малым оперным театром, в котором мой папа работал концертмейстером. Сестре моей, Анечке, в то время как раз исполнилось два года. С моим рождением она сразу стала старшей сестрой, а потому и взрослой. Из-за трудностей военного времени никто не хотел моего рождения. Мама мечтала сделать аборт, но по указу Сталина от 1938 года аборты были запрещены. За нарушение указа — тюремное заключение. Поэтому хочешь — не хочешь, а Сталину я обязана жизнью. Вот такой парадокс получился.
Папа с концертной бригадой выступал в госпиталях и выезжал на передовую линию фронта. Мама хоть и была архитектором, но пошла работать посудомойкой в привокзальное кафе. К слову сказать, за четыре года эвакуации она стала заместителем заведующего, и это изменило всю нашу дальнейшую жизнь. Кормить меня у мамы не было времени, а потому я с упоением, хотя и безрезультатно, сосала мочку бабушкиного уха. С каждым днем мочка распухала и увеличивалась в размере, напоминая диковинный плод, выросший на бабушке при моем активном участии. Но ничего этого я, конечно, не помню, а знаю из рассказов мамы с папой. То есть для меня самой меня еще как бы не было.
Мои первые воспоминания живут в Ленинграде, в огромной коммунальной квартире на Литейном проспекте 38, куда наша семья вернулась в 1945 году. У нас было две смежные комнаты, заполненные неумолкающим трамвайным звоном и грохотом переключающихся стрелок на рельсах. Мне это очень нравилось и создавало иллюзию вечного участия в уличной суете. Одними из многочисленных наших соседей по квартире была еврейская семья по фамилии Коган. Высокая, дородная, яркая, с рыжими волосами — тетя Тамара, ее муж — дядя Зоня и две дочери — Циля и Лариса. Циля была нашего возраста, и мы с ней дружили. Лариса, которой было лет двенадцать, осталась в моей памяти серьезной и недоступной. Дядю Зоню я скорее всего бы забыла, если бы не один забавный случай, засевший в моей памяти.
Летом мы отдыхали вместе с ними в дачном поселке Кавголово под Ленинградом. Мне в то время было четыре года, и это был мой первый летний отдых за городом. Мы с Цилей возвратились с озера и зашли к ним домой. Дядя Зоня сидел один, пил водку и аппетитно хрустел соленым огурцом. «Ну что, пигалицы, выпьем за компанию?» — обратился он к нам. Мы были в восторге от такого предложения. Он налил нам по рюмке, отрезал огурец, и мы, стараясь опередить одна другую, опустошили содержимое. Дядя Зоня хохотал, и мы вместе с ним. «Ну, а теперь марш отсюда», — скомандовал он уморительно грозным тоном. Я встала — мир перевернулся в глазах моих. Устоять на ногах не было сил. Я опустилась на четверенки и поползла к кровати, и хохот дяди Зони бил мне в уши. Потом пришел папа, что-то громко и сердито говорил дяде Зоне, затем взял меня на руки, и тут меня вывернуло наизнанку. С тех пор и по сей день у меня отпала охота к спиртному.
Когда Анечке исполнилось шесть лет, папа начал учить ее играть на скрипке. На этом и закончилось ее детство. Я играла в куклы, а Анечка становилась к пюпитру. Уголок свой я организовала за шкафом и могла просиживать там часами. Игрушек у нас не было, и приходилось пускать в ход фантазию. Однажды пришло мне в голову поиграть в магазин. Я принесла за шкаф булку, сахар, печенье и организовала прилавок. Дело было только за деньгами — и торговля бы пошла полным ходом. В этот момент взгляд мой упал на стол, где лежали Анечкины ноты. Это была потрясающая идея — нарезать из нот деньги. Я взяла ножницы и аккуратно нарезала полоски разной длины: много точечек — большие деньги, мало — маленькие. Игра была в самом разгаре, когда я услышала сердитый папин голос, обращенный к Анечке: «Что значит ты не знаешь, где твои ноты? А где твоя голова — ты знаешь?!» Анечка стояла у пустого пюпитра и боялась на папу взглянуть. «Я оставила их на столе», — с сомнением произнесла она, уже сама себе не веря. Папа разозлился и кричал, что ничего путного из моей сестры не получится. Смысл происходящего начал медленно, но устрашающе доходить до меня. Я тихонько собрала все обрезки и остатки изуродованных нот, положила их себе в трусики и поспешно вышла из комнаты. В это время Лариса, соседка, выносила в ведре мусор. Я выкинула ноты к ней в ведро и, облегченно вздохнув, спокойно и уверенно прошла мимо Анечки с папой в свой угол.
Через некоторое время папа успокоился, дал Анечке другие ноты, и они начали заниматься. Часа через три к нам приехал в гости папин родной брат дядя Яша. Он был шумный и веселый. Обнимая папу, он сообщил, что купил для нас с Анечкой билеты в кукольный театр. «Ленку ты можешь взять, а Аня наказана и останется дома», — ответил папа. И мы с дядей Яшей ушли. Шел спектакль «Аленький цветочек». Моя любимая сказка. В антракте дядя Яша купил мне конфет и газированной воды. Конфеты я съела, а фантики решила подарить Анечке. Дело в том, что в то время мы очень увлекались игрой в «фантики». Суть ее заключалась в том, что фантики определенным образом складывались, образуя квадрат. Затем такой квадратик клали на ладонь и били ладонью по столу. Фантик отлетал и приземлялся на стол. Следующий играющий проделывал то же самое со своим фантиком, стараясь накрыть первый. Если ему это удавалось, он забирал оба фантика себе. Конфет в обертке тогда было мало, и каждый фантик мы очень берегли.
Вернувшись домой со спектакля, я застала Анечку с Цилей, играющими в фантики. Я подошла к моей сестричке, вытащила горсть разноцветных оберток и сказала, гордясь своей щедростью: «Посмотри, что я принесла тебе в подарок!» Анечка взглянула на фантики, потом на меня и сказала с горечью: «Эх, ты! Все конфеты съела, а мне принесла бумажки!» Я помню, как мне стало стыдно. Я помню это чувство до сих пор. «Прости», — прошептала я и отошла.
Вечером папа с удивлением всем рассказывал, что ноты как будто испарились. «Я перерыл весь дом, — говорил он, — но их как будто нечистая сила унесла». Случайно этот разговор услышала Лариса. «Вы ищете ноты? — спросила она. — Да ведь Леночка какие-то ноты выбросила мне в ведро». Папа потерял дар речи. «Уйди с моих глаз, — гневно сказал он. — Мне неприятно тебя видеть!» Я забралась за шкаф и горько заплакала. Лучше бы папа наказал меня, ударил, наорал. А он просто презирал меня. Я плакала и давала себе слово никогда, никогда в жизни не быть такой трусливой и никогда не лгать.
Вообще воспитывал нас папа наглядными примерами. Помню, ранней весной пошли мы с ним в канцелярский магазин. Папа купил огромный рулон плотной зеленой бумаги. Такой бумагой покрывали обычно письменный стол, чтобы не запачкать его чернилами. И мне захотелось этот рулон нести самой. «Это очень тяжело для тебя», — сказал папа. Но я ныла и приставала к нему до тех пор, пока он не сказал: «Я дам тебе эту бумагу при одном условии: ты будешь нести ее до самого дома». Я тут же согласилась и взяла рулон. Через минуту я поняла, что нести его тяжело и неудобно. Его не за что было ухватить, и он выскальзывал из моих рук. «Я больше не хочу», — сказала я, протягивая рулон папе. «Я предупреждал тебя, — ответил папа. — Ты мне не поверила. Теперь неси его сама. В следующий раз будешь думать и прислушиваться к тому, что тебе говорят». Никакие мои мольбы не помогли. Папа шел ровным шагом, не обращая на меня внимания. Минут через пять рулон выскользнул из моих рук и упал в грязь. Я остановилась, с ужасом глядя на него. Папа спокойно сказал: «Ты обещала донести его до дома». Сил у меня уже не было. Я нагнулась и покатила его перед собой. Когда мы добрели до дома, рулон уже никому не был нужен. Этот урок я запомнила на всю жизнь и всегда верила папиному слову.
В квартире на Литейном мы прожили два года, а потом переехали в небольшую отдельную квартиру на улице 8-я Советская. Мама пошла учиться в институт Советской торговли. Училась она на вечернем отделении, а утром работала, поэтому мы ее практически не видели. У папы спектакли начинались в восемь вечера, и он весь день был с нами. Папа заплетал нам косички, готовил обед и читал книжки. И мы буквально обожали его. Когда кто-нибудь из знакомых просил меня передать маме какое-нибудь сообщение, я всегда отвечала: «Я лучше скажу это папе». «Почему?» — удивлялись знакомые. «Понимаете, — серьезно отвечала я, — у нас папа — это мама, а мама — это папа». Такое «соотношение сил» оставалось в нашем доме всегда.
Когда мне было пять лет, я уже умела читать по слогам, но это было неинтересно, и я предпочитала, чтобы папа читал мне вслух. Однажды он начал читать мне рассказ Тургенева «Муму». Я слушала, затаив дыхание. В том месте, когда барыня приказала своему крепостному глухонемому Герасиму утопить его любимую собачку, папа отложил книгу и сказал: «Ну, а дальше читай сама». Я умоляла его, давала обещание каждый день читать самостоятельно, но папа стоял на своем: «Если ты хочешь узнать, что произошло с Муму, ты дочитаешь рассказ сама». И я дочитала. Заливаясь слезами от жалости к Муму и Герасиму, я по слогам пробиралась к печальному концу. Дочитав рассказ и убедившись, что Муму в конце-концов утонула, я не могла в это поверить. До сих пор все сказки и рассказы, которые читал мне папа, имели счастливый конец. Я не могла представить себе, что бывает по-другому. В пять лет папа разбил этот миф, подготавливая меня к суровой реальности окружающей жизни. Именно с тех пор я начала читать самостоятельно.
Когда папа сердился на нас, мы понимали его с одного взгляда. Ему не надо было повторять нам свое требование два раза. Если мы не слушались, достаточно было ему посмотреть на нас внимательно и строго, как мы тут же переставали баловаться. Происходило это совсем не потому, что мы его боялись. Просто мы безумно дорожили его отношением и не хотели его расстраивать. С папой мы ходили гулять, в зоопарк, в кино. Он без устали мог рассказывать нам удивительные истории. У него всегда находилось время и терпение отвечать на наши бесконечные вопросы. Он находился рядом с нами во время наших болезней и был всегда удивительно нежен и заботлив. Даже сейчас, по прошествии многих лет, я помню тепло и ласку папиных рук, и мне хочется возвратиться в мое детство, сесть к папе на колени, прижаться к его щеке и замереть от восторга и любви к нему.
Папа никогда не поднимал на нас руку, именно поэтому на всю жизнь я запомнила случай, когда он в первый и последний раз отшлепал меня. Я уже к тому времени училась во втором классе. Занятия в школе начинались в три часа дня. Утром я отправилась гулять, и папа несколько раз повторил мне, чтобы я вернулась домой не позже двух часов дня. Я вышла на улицу. Был яркий, солнечный весенний день. Встретила подружек, и мы пошли к ним во двор играть в «скакалки». Дворы в нашем районе были проходные и напоминали лабиринт. Даже когда мы, девочки, назначали встречу друг другу в чьем-нибудь дворе, нам надо было как-то уточнить место. Например, мы говорили: «Давайте встретимся в том дворе Нелльки Корниловой, в котором три мусорных бачка». В тот день мы с упоением скакали через веревочку в одном из таких дворов, «ленинградских колодцев», как их прозвали взрослые. По части «скакалок» я была виртуозом и энтузиастом. Это был первый день после долгой зимы, когда мы смогли начать наши любимые игры. Я забыла обо всем на свете. Куртка моя валялась в грязи, волосы растрепаны, платье испачкано. О времени не думал никто. В этот момент в арке двора появился папа. Если бы от неожиданности я могла зависнуть в воздухе, я бы так и сделала. Ноги мои перестали меня слушаться, и я запуталась в веревке. Папа подошел ко мне, отбросил скакалку в сторону, одной рукой поднял мою куртку, а другой резко взял меня за руку. При этом он не произнес ни слова. Так же молча мы шли домой: папа чуть впереди, я — моя рука в его — сзади. Когда мы зашли в парадную и поднялись на второй этаж, папа не выдержал. Тут же, на лестничной площадке, он всыпал мне, как говорят, по первое число. Вечером я слышала, как он рассказывал все маме и страшно переживал, что не сдержался. «Но ты пойми, Мусенька, — жаловался он маме, — эта разбойница свела меня с ума. Ведь я же обегал все дворы, передумал черт знает что. А она скачет себе — и только ветер в голове!»
С Анечкой мы жили очень дружно, и я не могу вспомнить ни одной ссоры с ней. Она всегда относилась ко мне, как к маленькой девочке, нуждающейся в защите и покровительстве, и я с удовольствием и обожанием исполняла эту роль. В те немногие часы, когда она была свободна от занятий, мы сидели вместе и выдумывали фантастические истории, в которых мы были главными героинями. Ее авторитет для меня был непререкаем, и это чувство сохранилось во мне практически до сих пор. По характеру и темпераменту мы были очень разными. Она — серьезная, вдумчивая, любившая погружаться в себя, и я веселая, взбалмошная, вечно окруженная подружками. Возможно, именно эта «разность» помогала нам дополнять друг друга и делала наше общение необходимым и бесконфликтным.
Когда я перешла в пятый класс, мы переехали в значительно большую трехкомнатную квартиру на Невском проспекте, 146. Нам с Анечкой пришлось поменять школу. Анечка уже к тому времени серьезно занималась на скрипке, ходила кроме обычной школы в музыкальную и была всегда занята. Практически все свое время она посвящала скрипке. Конечно, не всегда она занималась с удовольствием, но она знала, что вопрос о занятиях на скрипке обсуждению не подлежит. Обычно папа занимался сам в одной комнате, Анечка — в другой, и до меня доносилась эта какофония звуков. Иногда, если Анечке попадалась интересная книга, она ставила ее на пюпитр, поверх нот, и, играя автоматически бесконечные упражнения, с увлечением читала ее. Не дай Б-г, если папа заставал ее за такими занятиями. Измена скрипке — единственное, что выводило его по настоящему из себя. Когда Анечка еще была маленькая и занималась с папой первый год, я часто слышала, как он кричал ей: «Ну, почему, как только ты возьмешь в руки скрипку, ты обязательно хочешь пить, потом писать, потом еще что-нибудь! Будь любезна закончить со всеми посторонними делами до занятий». Иногда Анечка в те моменты, когда у нее что-нибудь на скрипке не получалось, и папа был раздражен, предпочитала написать в штаны, чем признаться папе, что она хочет в туалет. Сидя за своими уроками, я слышала, как папа кричит: «Выше си-бемоль! Болван! Тебе что, слон на ухо наступил?!» Больше всего меня поражало, что, закончив такое занятие, папа подходил к Анечке, обнимал ее и говорил: «Вот сегодня ты позанималась как следует. Молодец! Я очень тобой доволен!» Нет, я не хотела бы заниматься на скрипке!
Итак, мы поменяли школу, и я пришла в незнакомый класс. «Новенькую» встретили враждебно. Со мной никто не разговаривал и на переменках не подходил, но если на уроках я отвечала на вопрос, на который никто не мог ответить, со всех сторон в мою сторону несся шепот: «Воображуля!» Из-за всего этого я страшно переживала. А заводилой такого ко мне отношения была самая симпатичная, самая бойкая, самая веселая и самая умная девочка в классе — Таня Белогородская. Она была всеобщей любимицей — и учителей, и учеников. Однажды я заболела и в школу не пришла. В первый день никто из класса не навестил меня. А на второй день Таня зашла ко мне. Она была тихой и серьезной. «Я принесла тебе письмо, — сказала она. — Если захочешь, потом позвони мне». И ушла. Я вскрыла конверт. Таня писала, как она виновата передо мной и как настроила весь класс против меня. Писала, что ей очень стыдно и что больше такое не повторится. И если я прощу ее, то она просит меня позвонить ей по телефону. Господи, как я была рада. Я понимала, как трудно было ей, такой гордой, написать это покаянное письмо. С тех пор началась наша дружба. Прошло сорок лет, но не было и не будет у меня более преданного и любимого друга, чем Татьяна. Мы дружим до сих пор. В моей жизни было много горя и измен близких людей, но никогда моя подруга не предала меня. Через много лет на допросе в КГБ следователь был вынужден признать: «У вас хорошая подруга, Елена Марковна. В этом вам можно позавидовать». Я знала это и без него. С подругой мне в жизни повезло, а это не так уж мало.
Закончила я школу с золотой медалью. Таня, кстати, тоже. Мама к этому времени работала на торговой базе инспектором по качеству плодовых продуктов. Человеком она была исключительно инициативным, деловым и трудоспособным. Работа полностью поглощала ее. На ней лежала огромная ответственность. И как я понимаю теперь, она была настоящим бизнесменом. Однако такая деятельность в условиях советской экономики не только не поощрялась, но была исключительно опасной. Всю жизнь мама играла с огнем и укрощала его. Она безумно любила свою семью и рисковала ради нее. Она создавала нам комфортную жизнь, не имея времени сходить в парикмахерскую. Я помню в детстве меня всегда раздражала ее занятость. Бывало, в редких случаях, когда она сидела с нами и разговаривала, она вдруг на полуслове вставала и шла звонить кому-нибудь по телефону. Я страшно обижалась. Папа никогда так не поступал. Уже будучи взрослой, я поняла, какой непосильный груз мама взвалила на свои плечи и несла его одна, предоставив нам возможность шагать налегке.
Папу мама обожала всю жизнь. Папа был очень красивый. Даже в старости он еще обращал на себя внимание. Помню, бабушка, мамина мама, как-то рассказала мне, что в молодости, до свадьбы, папа пользовался огромным успехом у женщин. Я, честно говоря, думаю, что и после свадьбы тоже. Но не в этом дело. Когда мама с папой поженились, бабушка вначале жила с ними. Однажды, когда мамы с папой не было дома, раздался звонок в дверь. «Кто там?» — спросила бабушка. «Я — теща Марка Лейкина. Хотела бы с ним поговорить», — ответил женский голос. «Это становится интересным, — подумала бабушка. — Если она теща, то кто же тогда я?!» Оказалось, что до свадьбы папа несколько лет жил с какой-то балериной. Связь их зарегистрирована не была, но мать этой балерины была уверена, что это серьезно и на всю жизнь. Когда папа вдруг исчез, она разыскала его и хотела вернуть «домой», думая, что у него очередное легкое увлечение. Бабушка, поговорив с этой мнимой тещей, страшно расстроилась. Когда мама вернулась домой, бабушка рассказала ей все и добавила: «Мусенька, пока не поздно, оставь его. Он испортит тебе жизнь». На что мама ответила: «Разломать брак не сложно, гораздо труднее поставить под него фундамент. Вот этим я и займусь». И занялась. И построила. Надежно и прочно. Недаром она была архитектором.
Когда я закончила школу, Анечка уже жила в Москве. Случилось это так. После седьмого класса обычной и музыкальной школ Анечка поступила в специальную музыкальную десятилетку при Консерватории. Это была очень престижная школа, ученики которой почти автоматически поступали в Консерваторию. Анечка была очень способной, училась прекрасно и закончила школу с серебряной медалью. В аттестате у нее была только одна четверка — по физике. Особенно ей удавались гуманитарные предметы. Она много читала, у нее был прекрасный стиль и безупречная грамотность. Экзамены в Консерваторию она сдавала с легкостью. Перед последним экзаменом, письменным сочинением, всех будущих студентов собрали и предупредили, что перед началом занятий они поедут на целину. Тогда как раз в Советском Союзе началась очередная кампания по поднятию целинных земель. И, как всякая кампания, была она политической. Сестра моя всю жизнь была человеком принципиальным и говорила то, что думала. Но иногда сначала говорила, а потом думала. Вот и на этот раз она встала и сказала, что посылать музыкантов на полевые работы — это авантюра и что лично она ни на какую целину не поедет и руки калечить не станет.
О последствиях такого заявления она даже не задумывалась. Она была уверена, что в Консерваторию она поступит. Оставалось написать одно сочинение, и ей достаточно было получить даже тройку, чтобы набрать проходной балл. Она написала сочинение и уехала на юг, даже не дождавшись результата. Вернувшись с юга и зайдя в Консерваторию, она увидела список фамилий и рядом оценки за последний экзамен. Против ее фамилии стояла жирная двойка. Реакцию ее можно не описывать. В приемной комиссии ей ответили, что работы абитуриентам не показываются. Учительница литературы, преподававшая Анечке в музыкальной десятилетке, узнав о двойке, была в шоке. Анечка была ее лучшая ученица. Она пошла в Гороно (городской отдел народного образования) и написала заявление. В нем она указала, что или она не соответствует требуемому уровню преподавания или отметка подтасована. Делу был дан ход. Комиссия Гороно затребовала сочинение. И тут оказалось, что сочинение исчезло. Вся приемная комиссия якобы в полном составе со всем имеющимся у них рвением безуспешно пыталась его разыскать. Я-то знала, как это делается. В трусики — и в ведро. Но меня никто не спросил. А Анечка впала в депрессию. Ленинградская Консерватория опостылела ей еще до ее туда поступления. И она уехала в Москву. И училась у лучшего в Союзе профессора Янкелевича.
Мама страшно скучала и делала все возможное, чтобы облегчить Анечке учебу и быт. Дело доходило до абсурда — в Москву скорым поездом отправлялись обеды. Но истины ради надо сказать, что отправлялись не регулярно — только в период экзаменов и концертов. Думаю, что Анечке это было не нужно. Мама делала это для себя, и с ней никто не спорил. У нас вообще было не принято перечить маме.
Отъезд Анечки я также переживала безумно тяжело. Это была моя первая разлука в жизни с дорогим и любимым человеком. Наш жизненный путь разделился, оставив в моем сердце щемящее чувство пустоты, которая заполнялась счастьем в редкие наши встречи, всегда бурные и радостные, но с самого начала омраченные неизбежным расставанием.
Итак, я закончила школу и поступила в ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Это был один из ведущих электротехнических институтов Ленинграда. Училась я на радиотехническом факультете. В нашей группе я была единственной девочкой и единственной еврейкой. Факультет этот отличался особой строгостью по отношению к евреям. «Известная» квота о пятипроцентной еврейской норме, о которой нигде не было написано, но которую все прекрасно знали и принимали как нечто само собой разумеющееся (в том числе и я), выполнялась на этом факультете с удивительным рвением и значительным ее уменьшением. До сих пор не понимаю, что меня побудило пойти именно на этот факультет. Очевидно, я решила доказать всем и себе в первую очередь, что в любую квоту пролезу.
Вообще «еврейский» вопрос, как таковой, меня в молодости не очень волновал. Я считала, что главное — знать правила игры. А дальше все будет зависеть от того, насколько ты искусный игрок. Впервые я столкнулась с этой проблемой в одиннадцать лет. Дело было в 1953 году и жили мы еще на 8-ой Советской. Как-то раз я вышла во двор, и мои подружки, с которыми я проскакала на скакалке, наверное, полмира, вдруг закричали мне в лицо: «Жидовка, жидовка, вы Сталина убили». Помню, я тогда обомлела, но совсем не от того, что меня жидовкой обозвали. Для меня «жидовка» звучало вроде «жила». А так я и сама обзывала тех, кто нечестно играет, «жилит». А больше всего меня обидело то, что мы, якобы, Сталина убили. Я тогда Сталина очень любила и в день его смерти горькими слезами плакала. Жутко расстроенная, в слезах, я прибежала домой. И был тот редкий случай, что мама дома была. Выслушав меня, она посадила меня рядом и сказала: «Прежде всего запомни: евреи никого не убивали, а Сталина тем более. И это уже всем известно и в газете об этом напечатано». Ну, а потом, когда я немного успокоилась, она мне про правила игры и рассказала. Конечно, первые только ходы, для детского возраста. В общем, с этого и начались мои познания в сложном предмете «Как выжить еврею в России». И до поры до времени меня такая ситуация вполне устраивала.
Студенческая жизнь с походами, вечеринками и кратковременной любовью проходила мимо меня. В тот момент я не задумывалась над причинами своей пассивности к окружающей меня веселой и беззаботной жизни. Сейчас, по прошествии многих лет, когда я смотрю на свою юность отстраненным и непредвзятым взглядом, я понимаю, что поведение мое было естественным и органично вытекало из моего домашнего воспитания. Отношение к учебе было заложено во мне с детства и являлось одним из основных правил той игры, которой я была обучена еще в раннем детстве. «Запомни, — говорила мне мама, — если ты хочешь хоть чего-нибудь добиться в жизни, ты, еврейка, должна быть на голову выше, чем окружающие тебя неевреи. Если они учатся на пять, ты должна учиться на десять. Это первый необходимый залог успеха». И я училась. Мои подружки шли в кино, а я брала задачник и решала все задачи подряд с первой до последней. Делала я это с удовольствием, не объясняя моим соученикам причину такой усидчивости, будучи уверенной, что я посвящена в тайну, секрет которой известен только мне.
Вторая причина моей некоторой отчужденности была более прозаическая и в корне своем тоже была связана с мамой, хотя она об этом и не догадывалась. Так получилось, что Анечка, сестричка моя, была внешне похожа на папу. А это значит, что была она красивой и знала это. Я, в свою очередь, была похожа на маму, которая особой красотой не отличалась, но и не придавала этому особого значения. Очевидно, из самых добрых побуждений, обнимая меня и лаская, она часто повторяла: «Ты у меня маленькая пуговочка, — имея в виду мой курносый нос, — но ничего. Это не главное. Не родись красивой, а родись счастливой». Результатом такого успокоительного разговора было то, что я прежде всего усвоила — до красавицы мне далеко. И глубоко-глубоко в подсознании развился у меня маленький, но устойчивый и колючий, как заноза, комплекс неполноценности. И не хотела я, показав кому-нибудь свое расположение, получить щелчок по своему курносому носу. И избавляться мне от этого комплекса пришлось самой. И не всегда это было безболезненно как для меня, так и для того, кого я выбирала себе в компаньоны. Ну и нельзя не упомянуть еще одно маленькое замечание, которым мама напутствовала меня всякий раз, когда я время от времени выбиралась с подружками на танцы или вечеринку. «Конечно пойди, доченька, развлекись. Но учти, что я тебе доверяю». Эти последние слова всегда сидели во мне, и я не могла определить для себя, где та граница, переступив через которую, я потеряю доверие своей мамы. Поэтому когда все мои подружки наперебой рассказывали о своих поцелуях с мальчиками, я этим похвастаться не могла. С моей точки зрения мои поцелуи уже входили в сферу маминого доверия.
Таня поступила в тот же институт, но на другой факультет. Сделала она это абсолютно независимо от меня. Подавая документы, мы решили не говорить друг другу, какой институт выбрали, чтобы наша дружба не повлияла на наши профессиональные интересы. Каковы же были наши радость и удивление, когда мы обнаружили друг друга в стенах одного и того же учебного заведения. Группа, в которой я училась, была в меру дружной и доброжелательной. Выезжая летом на полевые работы, что являлось обязательным дополнительным летним трудовым семестром, мы, естественно, сплачивались, и это помогало дальнейшему общению во время учебы.
Был у нас в группе один студент, Боб. Я вообще его не замечала, кроме тех немногочисленных случаев, когда я просила его помочь мне разобраться в некоторых сложных для меня практических радиоэлектронных схемах. Он с детства был радиолюбителем, и практика для него была намного понятнее, чем теория. У меня как раз все было наоборот. Однажды зашел он ко мне с очередным объяснением (по моей просьбе, конечно), и так случилось, что в это время гостила у нас Анечка. Это, наверное, странно звучит, но она именно погостить приезжала. Боб увидел ее и влюбился с первого взгляда. Это был не исключительный случай для Анечки. В нее очень часто влюблялись именно с первого взгляда. Но помню в тот раз меня почему-то это страшно задело. «Как же так, — подумала я с оскорбленным самолюбием, — он видел меня каждый день в течение трех лет и не обращал на меня внимания. Но стоило ему увидеть Анечку мельком, и он потерял голову». Заноза моего комплекса больно кольнула меня, и я решила ее вытащить. Анечка уехала в Москву, они стали переписываться, а я обдумывать свой план выхода из душевного кризиса. Я поставила перед собой задачу — оставалось найти решение: каким образом «отбить» Боба у Анечки и влюбить в себя. Не скажу, что это было легко. У каждой девушки есть свои приемы, и я выпустила свои щупальца. Конечно, борьба была неравной, что и говорить. Анечка была далеко, а я встречалась с Бобом ежедневно на лекциях, в лабораториях и в библиотеке. Я обхаживала его по спирали, верно приближаясь к центру. Наступил день, когда он признался мне в любви и написал об этом моей сестре. Я вошла в свою роль и упивалась победой. Никаких чувств, даже похожих на любовь, у меня к нему не было. Но я купалась в волнах его преклонения и наслаждалась своей властью. Так закончился четвертый год моей учебы.
На пятом курсе за мной очень красиво начал ухаживать еще один студент Володя Кейс. Это был исключительно замкнутый мальчик, всегда державшийся несколько отчужденно от всех. Было такое впечатление, что его никто не интересует, и он ни на кого не смотрит. Именно поэтому знаки внимания, которые он начал оказывать мне, были восприняты всеми в группе, и в том числе мной, без всяких шуточек и насмешек. С самого начала в наших отношениях появилось серьезное ядро. Я продолжала время от времени встречаться с Бобом, ловя себя на мысли, что во время этих встреч думаю о Володе. Боб не мог не заметить этого и очень страдал.
Во время зимних каникул Анечка пригласила меня к себе. К тому времени (уже давно забыв про Боба) она вышла замуж по взаимной любви, возникшей как всегда с первого взгляда со стороны ее мужа. Я не буду, да и не имею права вдаваться в подробности ее личной жизни. Скажу только, что ее муж, врач, получил направление на работу в подмосковный город Калинин и жил там в изумительном месте, окруженном лесами с протекавшей рядом рекой. Анечка каждую неделю приезжала к нему, а во время зимних каникул у нас была возможность побыть две недели вместе. Вот тогда-то я и пригласила Володю поехать со мной. Стояла морозная, снежная зима, сама по себе веселящая и бодрящая. Я была счастлива быть рядом с Анечкой, которую боготворила всю жизнь. Я была рада видеть ее мужа, перед которым испытывала преклонение, как перед человеком, завоевавшим мою сестру. Надо признать, что он заслуживал уважения не только поэтому, но не об этом сейчас речь. И я была возбуждена близостью Володи и чем-то значительным, что должно было произойти.
Помню, захотелось мне побыть одной и разобраться в своих мыслях. И решила я сходить в магазин, что был по ту сторону реки. Подошла к берегу, река льдом покрыта, и ясно виден путь по льду, по которому люди ходят. На льду не просто тропинка, а дорога настоящая образовалась. Видны следы от саней, запряженных лошадьми, и следы от полозьев детских саночек. И цвет в этом месте не белый был, как вокруг, а желтовато-бурый, грязный. Ну, я и пошла. А в некоторых местах чувствуется, что вода под ногами подхлюпывает: то ли подтаяло, то ли снизу просачивается. Неприятное возникло ощущение. На другой берег дошла и думаю, что обратно я уж по этой дороге ни за что не пойду. Зашла в магазин, книжку купила. Даже помню, что были это рассказы Ликока, канадского юмориста. Подошла снова к реке и пошла по непроторенной дороге, да и дороги-то там никакой не было, логично рассудив, что лед там толще и идти безопаснее. Сделала шагов двадцать и вдруг чувствую, что лед подо мной трещит и ломается. Помню это ощущение ужаса и беспомощности, страха и отчаяния, и круговорот мыслей бессвязных в голове. И медленное погружение в ледяную воду, и крик, застывший в горле. И еще помню, что инстинктивно руку с книжкой вверх подняла. И кровь в голове бьет, и одно слово только в сознании: «Конец, конец, конец». Думаю, это всего несколько секунд продолжалось, а потом я дно ощутила. Стою по грудь в воде, книжку в сторону берега откинула и боюсь пошевелиться. Холода совсем не чувствовала. Оглянулась — вокруг ни души. Пытаюсь о лед окружающий опереться, а он ломается. Как выбралась — не знаю. Помню только, что до берега по льду ползла, руками впереди себя дорогу ощупывая. Потом уж догадалась, что это полынья была, что рыбаки во льду пробили, и она тонким льдом затянулась. Подошла опять к грязно-бурой дороге и, как пьяная, домой направилась. Мыслей никаких в голове не было. Удивительное ощущение пустоты. Анечка меня увидела, ахнула, спиртом растерла и в кровать уложила. А вспомнила я этот случай к тому, что решение выйти замуж за Володю именно тогда пришло. Как-то сама мысль о серьезности предстоящего шага отошла на задний план. «Подумаешь, замуж, — размышляла я тогда. — Все равно под Б-гом ходим. Все предусмотреть невозможно».
Через месяц Володя сделал мне предложение. И хоть я в душе была готова к этому, я почему-то воскликнула: «А как же Боб?!» «Я люблю тебя в тысячу, в миллион раз сильнее, чем Боб, — ответил Володя, — и всю жизнь буду любить так». Я согласилась выйти за него замуж. Но при одном условии — пожениться после защиты диплома. Почему после? Я хорошо помню, о чем я думала тогда. И если уж начала говорить, то скажу до конца. Я, конечно, любила Володю. Но это не была любовь, о которой я читала в книжках. Я не умирала от страсти, сердце мое не выскакивало из груди при его прикосновении, и я не хотела выцарапать глаза девушке, с которой он разговаривал. Я начиталась романов, и у меня в голове сложился определенный эталон любви. Мои чувства под этот эталон не подходили. А вдруг, думала я, на предприятии, на котором я буду писать дипломную работу и останусь впоследствии работать, я встречу кого-нибудь (наверное, я мечтала о принце!), в кого без памяти влюблюсь? И пожалею, что вышла замуж так поспешно. Была, безусловно, еще одна веская причина моей отсрочки. Я уже говорила, что к учебе относилась исключительно серьезно и понимала, что замужество выбьет меня из учебного ритма.
Так или иначе о предстоящей свадьбе узнали в группе. Через некоторое время я получила по почте посылку. Вскрыв ее, я поняла, что вселенная, центром которой я считала себя и на которую смотрела через призму своих чувств и переживаний, у каждого своя. Я вдруг осознала, что если причиняешь боль другим, эта боль бумерангом возвращается к тебе. И еще я на всю жизнь запомнила, что победа, одержанная только ради победы, за которой не стоит великая цель, достойная затраченных сил на ее достижение, не приносит победителю ни славы, ни удовлетворения. Вскрыв посылку, я увидела маленького чугунного черта, двумя руками показывающего мне длинный нос, со ртом, растянутым дьявольской усмешкой. Я поняла — так Боб оценил мою роль в наших отношениях. Он, увы, был недалек от истины. В посылке также лежала магнитофонная пленка. Я нашла в себе силы прослушать ее. До меня донеслась печальная, рвущая сердце мелодия известного романса «Очи черные» в исполнении Шаляпина. Дослушав до слов «Вы уби-и-ли меня, очи черные!» — я разрыдалась. И не могла найти себе оправдания. Единственное, что может смягчить мою вину, это только то, что сейчас, через тридцать лет после описанных событий, я могу сказать, что никогда, никогда не повторяла такой эксперимент. Через несколько месяцев после моей свадьбы Боб тоже женился. Жизнь его сложилась неудачно. Прости меня, Боб.
Через месяц после моего согласия стать Володиной женой, в институте происходило распределение. Как известно, все студенты, окончившие ВУЗ, получали направление на работу. В институт съезжались представители различных предприятий, сделавших заявку на будущих инженеров. Были организации, которые нуждались только в одном человеке, другие — в нескольких.
Поэтому, чтобы соблюсти справедливость, студенты высказывали свои пожелания о работе в очередности, соответствующей их успеваемости. Это значило, что чем лучше ты учился, тем больше возможностей для выбора своей будущей работы ты имел. На нашем факультете было два человека, окончивших учебу с отличием — Гена Чавка и я. Учитывая, что моя фамилия по алфавиту стоит раньше, меня пригласили на распределение первой. Студентов представлял декан факультета. Вокруг стола сидели заказчики с предприятий. Декан назвал мое имя, охарактеризовал мои успехи и спросил, где бы я хотела работать. Перечень предприятий был известен студентам заранее, поэтому я, не задумываясь, назвала НИИ телевидения, который выбрала для своей будущей работы. Представитель этого НИИ опустил глаза. «Мы не хотим брать женщину», — пробормотал он. Воцарилось неловкое молчание. «Может быть у вас есть другое пожелание?» — обратился ко мне декан после легкого замешательства. Я назвала другую организацию. Ответом мне было гробовое молчание. Декан начал выходить из себя. Он стал перечислять мои достоинства, зачитывать оценки из зачетной ведомости. Представители заерзали на стульях, но рта не раскрыли. Декан не выдержал: «Может быть, кто-нибудь сам изъявит желание пригласить на работу нашу лучшую студентку?» Представители тупо смотрели в лежащие перед ними чистые листы бумаги и продолжали хранить молчание. «Лена, выйдите на минутку», — попросил декан. Я вышла. Скорее обескураженная, чем расстроенная. Вышла и прислонила ухо к закрытой двери. За дверью послышался гул. У всех представителей тут же прорезался голос. До меня донеслось «еврейка», и дальше слушать было бесполезно. Через некоторое время вошел следующий студент. Меня на заседание больше не приглашали. По окончании распределения в коридоре ко мне подошел представитель НИИ радиоэлектроники и сказал: «Вы видели, что никто не хотел брать вас на работу. А я решил рискнуть и согласился. Я надеюсь, что своей работой вы оправдаете мое доверие». И все. Праздник не получился. Фейерверк угас, не успев зажечься. Фарс с распределением пробил первую брешь в маминой «теории игр». Я училась хорошо, мамочка, но правила «игры» были нарушены. В одностороннем порядке. Мне поставили нечестный «шах». Посмотрим, кому будет «мат».
Итак, мне предстояло писать дипломную работу в НИИ радиоэлектроники. Я появилась в лаборатории. Принц не свалился на меня с неба. Обстановка была деловой и скучноватой. Я написала и защитила диплом на отлично. Руководителем диплома был ведущий инженер нашей лаборатории Анри Петрович. Ох, не знала я тогда, какую роль он сыграет в моей жизни!
После защиты диплома у нас был отпуск, и мы с Володей поехали в Челябинск, где жили его родители. Они произвели на меня прекрасное впечатление, и мне никогда не пришлось изменить его. Родители Володи уходили на работу, и мы оставались одни. Понятно, что Володя хотел, чтобы я стала его женой немедленно. Обстановка безусловно способствовала его желанию. Но образ чистой, непорочной невесты, скромно стоящей в белом воздушном платье и вздрагивающей от дружных криков «Горько!», прочно укоренился в моем не по возрасту детском сознании, запутанном маминым доверием и идеализированным представлением о порядочности и долге. Сейчас я понимаю, что мучила его напрасно.
После свадьбы мы уехали на три дня в пансионат. И оказалось, что стать женой совсем не просто. Володя уходил вниз в вестибюль, а я горько плакала в номере от боли и разочарования. Через три дня мы возвратились домой расстроенные, усталые и обескураженные. Я пошепталась с мамой, и она повела меня к врачу. К женскому. Впервые в жизни. Врач удивилась и дала пару советов. Но больше всего были ошарашены Володины родители, которые после свадьбы еще гостили у нас. Они намеренно оставляли нас наедине в Челябинске и считали своим долгом задерживаться на работе, чтобы нам не мешать.
Но женой Володи я все-таки стала. И мы зажили все вместе: мы с Володей и мои родители. Мама, будучи деловой и предприимчивой, поменяла нашу квартиру на Невском на изумительную, можно даже сказать роскошную квартиру на Таврической улице. Был март 1965 года. До трагических событий в нашей семье оставалось ровно десять лет.
Первые годы моей семейной жизни остались в моей памяти как один длинный праздничный день. Володя — сильный, высокий, стройный — создавал атмосферу уверенности и покоя. Как-то он рассказал мне, что еще на втором курсе института, во время какой-то экскурсии за город, в которой вся наша группа принимала участие, какой-то студент поднял меня на руки и перенес через ручей. Под общий хохот я весело воскликнула: «Ну уж теперь я поняла, что мой муж должен быть высоким и сильным, чтобы носить меня на руках!» И Володя тогда подумал, что уж по крайней мере по этому признаку он удовлетворяет моим требованиям. И, отдавая должное его любви и преданности, я могу сказать, что первые годы нашей совместной жизни он носил меня на руках — в буквальном и переносном смысле.
Что сильней исчадий ада? Слаще что, чем песнь баллады? Что прекрасней стен Багдада? Ты — Любовь. Для одних ты — как награда, Для других — смертельней яда, Но от старого до млада Ждут Любовь. Без любви, как двор без сада, Осень как без листопада, Как победа без парада. О, Любовь! Ты очей наших услада, Ты, как сок из винограда, И слагают серенады Про Любовь.В 1967 году у Анечки родилась дочка Лариса. Анечка в то время уже училась в аспирантуре московской Консерватории. Все ее усилия продолжать учебу и одновременно воспитывать дочку оказались напрасными. Необходимо было срочно найти выход из тупика. Вся цель ее предыдущей жизни, ее упорные занятия с шестилетнего возраста и будущая карьера скрипачки вынудили ее временно расстаться с самым дорогим, что неожиданно, но желанно появилось в ее жизни — дочкой.
В трехмесячном возрасте Лариса появилась у нас и стала самой большой радостью моей жизни. Папе в то время исполнился шестьдесят один год, он тут же ушел на пенсию и посвятил свою жизнь крошечной внучке. Мама и мы с Володей уходили на работу, а папа становился молодой кормящей матерью! Как он умудрялся справляться один с маленьким ребенком — ума ни приложу. Он готовил, гулял, пеленал, а по ночам спал с ней в одной комнате, не раздеваясь, чтобы всегда быть наготове. Надо признать, что и Лариска, подрастая, платила ему не меньшей любовью. Моя жизнь тоже изменилась. На работе и в транспорте все мои мысли были поглощены маленьким живым комочком. Прибегая домой, я выхватывала Ларису у папы, и до вечера она принадлежала мне. Чувство, которое я испытала к ней, было настолько остро и сильно и было наполнено такой безраздельной любовью и обожанием, что начало пугать моего мужа. Однажды он не выдержал и выразил робкое недовольство. «Запомни, ответила я ему серьезно, — я прежде всего мать, а потом жена». Впоследствии я пыталась анализировать, почему к своему ребенку я не испытывала этого безудержного восторга и безграничного взлета чувств. И поняла. С Лариской у меня сложилась уникальная ситуация, дающая мне право любить и не быть обремененной никакой ответственностью. Если Лариска заболевала, все тяготы ложились на мою сестру, которая срочно приезжала из Москвы на время болезни дочки. Врачи, лекарства, бессонные ночи, ее плач — все было уделом Анечки. Помню, Лариске надо было делать прокол уха. Анечка держала ее на руках, а я выбежала на улицу, захлопнула парадную дверь и отошла подальше, чтобы не слышать ее крика. Может быть, именно из-за такой ситуации бабушки и дедушки часто к своим внукам испытывают более острое чувство обожания, чем к своим детям.
Воспитывали мы Лариску все хором, а потому она быстро научилась ориентироваться в лабиринте противоречивых требований, исходящих от нас. Помню, подобрала она как-то с пола грязную бумажку. Я тут же говорю ей: «Лапочка моя, пойди выброси эту бумажку в мусорное ведро. Эта бумажка — фу, кака». Идет она к мусорному ведру и по дороге встречает папу, который понятия не имеет, что я сказала Ларисе. Он протягивает к ней руки, широко улыбается и говорит: «Какая замечательная бумажка есть у моей девочки. Покажи скорее дедушке. Ай-я-яй, какая прелесть!»
Работа в НИИ меня не увлекала. Очевидно, сказался тот насильственный метод, заставивший меня очутиться именно в этой лаборатории. Мое представление о «свободе выбора», хоть и ограниченное с самого начала определенными рамками, но принятое мной, как необходимое условие выживания, потерпело фиаско. До этого я представляла себя пловцом, мечтающем об открытом море, но вынужденным довольствоваться бассейном. Из бассейна меня пересадили в аквариум. Результатом явилось мое отношение к работе. Я исправно выполняла порученные задания, с нетерпением смотрела на часы и, не задерживаясь ни на минуту после рабочего дня, с удовольствием убегала домой.
Примерно через год такой однообразной и нудной деятельности я заметила неравнодушное к себе отношение со стороны моего бывшего руководителя диплома Анри Петровича. Собственно, заметила даже не я. Сказала мне об этом, хитро улыбаясь, моя сотрудница и приятельница по работе. Ее намек показался мне смехотворным. Однако через некоторое время я обратила внимание, что Анри Петрович буквально не отходит от меня ни на шаг. А когда я обнаружила, что он провожает меня до самого дома, следуя на почтительном расстоянии, я поняла, что намек моей приятельницы имел под собой почву. И хотя Анри Петрович был человеком неженатым, я, помня урок с Бобом, всячески избегала его.
Так прошло два года моего пребывания в лаборатории. Однажды, возвратившись из очередного отпуска на работу, я нашла в своем рабочем столе тетрадку, исписанную мелким почерком. Это было признание в любви, записанное в виде дневника, фиксирующее страдания человека день за днем в период моего отсутствия. Я прочитала эту исповедь, и вполне естественное чувство удовлетворенного женского самолюбия было заглушено сопричастностью к горю другого человека. Состоялся серьезный разговор. Я честно объяснила свою позицию. Но разве можно в чем-нибудь переубедить влюбленного человека? Он всегда уверен, что его чувство сильнее всех преград.
Когда Лариске исполнилось два года, мы с Анри Петровичем уехали в месячную командировку в Крым. Там находилась база нашего института, где велось наблюдение за сигналами из космоса с помощью гигантского радиотелескопа. Я страшно не хотела уезжать. Во-первых, из-за Лариски, а во-вторых, я была уже не маленькая, глупенькая девочка и прекрасно понимала, чем может быть чревата такая поездка. Была весна 1969 года. В поезде мне было грустно, и перед моими глазами стояла Ларискина заплаканная мордочка, а в ушах — ее горький плач: «Леночка, не уж-ж-ай, не уж-ж-ай!»
В Крыму мы поселились в старом замке на горе, который прозаически был переоборудован в гостиницу базы. Моя жизнь стала напоминать мне жизнь разорившейся герцогини: замок разрушен, средств нет, но почестей — как в старые добрые времена. Каждое мое желание предупреждалось еще до того, как я сама осознавала, что оно у меня есть. Анри Петрович выполнял двойную работу, давая мне возможность отсыпаться и наслаждаться природой. Чтобы мне не было скучно в его отсутствие, он притащил мне откуда-то ежа, с которым я забавлялась днем и который своим неумолчным топотом не давал мне спать ночью. Моя комната утопала в цветах, аромат которых можно было уловить даже на улице.
Примерно через две недели Анри Петрович не выдержал. Вечером он подошел ко мне, и намерения его никаких сомнений не вызывали. Он обнял меня и поцеловал. Солнце опускалось в море. Я отстранилась. Он настаивал. Я чувствовала, что могу не выдержать. И я сказала: «Если сегодня это произойдет, то завтра я буду тебя ненавидеть». В его глазах появилось выражение боли и презрения. «Ты не женщина, а бревно», — сказал он и ушел в свою комнату. Больше ничего подобного не повторялось. Он был опять нежен, вежлив, предупредителен и осторожен. Единственное сближение, которое реально проявилось между нами, это то, что я стала называть его не по имени отчеству, а по имени — Анри. О чем он давно просил. Кстати, именно это внешнее и видимое изменение в наших отношениях послужило поводом веселых насмешек и неотвратимых сплетен в нашей лаборатории. Меня это забавляло и разнообразило пребывание на работе.
Как ни странно, но это изменение в обращении облегчило мое общение с Анри, которое постепенно (по крайней мере с моей стороны) перешло в чувство огромной признательности и уважения. Стараясь не злоупотреблять его ко мне отношением, я чувствовала, что рядом со мной есть надежный друг, готовый в любую минуту прийти на помощь. И если я со своей стороны могла ему чем-нибудь помочь, я с радостью делала это.
Пять лет у меня с Володей не было детей. За это время у меня случилось два ранних выкидыша, и я впала в беспокойство. В январе 1970 года, когда мне было двадцать восемь лет, я забеременела в третий раз. В марте, когда Лариске исполнилось три года, Анечка забрала ее в Москву. Только сознание, что внутри меня зреет мое собственное дитя, помогло мне перенести разлуку без болезненных последствий. Беременность моя сопровождалась сильным токсикозом. Меня положили в больницу и хотели ее прервать. Я отказалась. Я лежала на кровати с тазами по обе стороны и успевала только крутить головой. Все запахи, даже которые я раньше любила, вызывали у меня одну и ту же реакцию. Я не могу вспоминать об этом без содрогания. Я считала дни, боялась и ждала. Наступил сентябрь, начались схватки, мама повезла меня в больницу, а я проклинала свою женскую долю и хотела, чтобы мама рожала вместо меня. Я думаю, если бы мама могла, она бы согласилась. В больнице мне сказали, что время еще не пришло. «Господи, — думала я, — что же будет, когда время-таки придет?!»
Когда подошел срок, сомнения мои отпали. Я поняла, что меня уже домой не вернут. В приемном покое после медосмотра все засуетились, спросили, куда я смотрела, если не заметила, что воды давно отошли, и срочно перевели в родильное отделение с предписанием стимуляции родов. Около меня крутились акушерка и анастезиолог, с которыми мама (конечно же, мама) договорилась заранее. Мне давали что-то выпить, что-то внушали, за что-то ругали. А я ходила из угла в угол, стонала и думала: «Как же так? Если люди рождаются в таких муках, почему существуют войны? Почему кто-то, не рожавший и не родивший, может убить человека, у которого есть мать, давшая ему жизнь в таких страданиях?» Я, помню, думала именно о матери, теряющей ребенка, а не о самом ребенке и сочувствовала тогда только ей. Ребенок еще был чем-то абстрактным. Он причинял мне невыносимую боль, и эта боль захлестывала меня и выплескивала из реального мира. Я уже не думала, зачем я здесь, я хотела только освободиться от этих мучений. Врачи и сестры, казалось, намеренно улыбались и болтали друг с другом, только чтобы позлить нас, рожениц, теряющих самообладание и кричащих в пустоту. Прошло семь часов моих страданий. При очередном бессчетном уже прослушивании меня врачом я успела только услышать: «Скорее, я не слышу пульса». Медсестры, врачи, акушерка и анастезиолог вдруг зашевелились одновременно, как будто кто-то завел и отпустил завод. Последнее, что я помню, это склонившееся надо мной лицо анастезиолога и нервно-спокойный приказ врача: «Щипцы, быстро!».
Сколько прошло времени до того, как я очнулась, не знаю. Я лежала одна, и лампы на потолке проплывали мимо. Меня качало. Я не очень понимала, что происходит. Подошла акушерка, нагнулась и утешительно сказала: «Ты не переживай. Молодая ведь. Еще родишь». В глазах почернело. Лицо ее расплылось, стало огромным и бесформенным. «Мой ребенок умер?!» — прокричала я тихим голосом. Я и не знала, что можно кричать почти шепотом. «Еще не умер. Но очень, очень плох. В барокамере он». Потом помолчала и добавила: «Надо бы маме твоей позвонить. Ждет она. А я и не знаю, что сказать».
Она ушла. Я приподнялась. Весь персонал стоял около какой-то стеклянной бочки. На меня никто не обращал внимания. Мимо проскользнул какой-то практикант. «Послушайте, — позвала его я. — Мой ребенок умер?» Я даже не знала, кого же я родила, если вообще родила. «Жив пока», — быстро сказал он, не глядя на меня. «Господи, — шептала я в исступлении, — сделай так, чтобы он остался жив. Пожалей меня». Через некоторое время мне наложили швы и увезли в палату. Мой ребенок находился между жизнью и смертью. Потом уже я узнала, что анастезиолог позвонил маме. Было три часа ночи. «Ребенок находится в критическом состоянии. Мы не уверены, что его можно спасти», сказал он маме. «Он должен дожить до утра. Я повторяю — до утра. Дальнейшее я беру на себя», — ответила мама.
Итак, меня увезли, а моему сыночку (мне сказали, что сын у меня, сын) надо было по крайней мере дожить до утра. Вот как проходила его первая ночь, согласно выписке из его истории болезни:
«Началась асфиксия плода (задыхаться начал мой мальчик, задыхаться). Наложены выходные щипцы (это то, что я еще помнила). После отсасывания слизи из верхних дыхательных путей подключен к аппарату искусственного дыхания (он родился и не задышал, не закричал, родился — но не жил! А я ничего, ничего еще не знала, что он так мучается). Появились редкие судорожные вдохи (не дыхание, нет, только редкие вдохи!). Через пятнадцать минут помещен в барокамеру (наверное, в этот момент ко мне подошла акушерка и сказала, что я рожу еще раз. А этот раз?!). В барокамере появилось более глубокое судорожное дыхание, порозовел (а до этого, до этого какого был цвета?!). По извлечении из барокамеры дыхание стало поверхностным, исчезло сердцебиение (исчезло, не билось, умолкло — а я, наверное, была в палате и не знала). В агональном состоянии вновь помещен в барокамеру» (мой мальчик, крошка — в агональном состоянии). И мама: «Он должен дожить до утра».
До утра он дожил, он понял, что должен. Утром в больнице собрался консилиум из лучших врачей со всего Ленинграда. Я лежала в палате, ко всем принесли новорожденных, а я осталась одна. «Состояние вашего ребенка крайне тяжелое», — сказала дежурный врач. Я вышла в коридор и зарыдала. Мимо проходил анастезиолог. «Лена, — сказал он мне. — Я не хочу вас успокаивать. Но и для вас, и для ребенка лучше, чтобы он умер. Последствия таких родов могут быть ужасными». Я не хотела, не могла его слушать.
На седьмой день я впервые увидела моего малыша. Оказалось, что только в этот день он впервые начал выказывать нормальные рефлексы новорожденного. Меня привели в бокс, где недоношенные дети лежали в аквариумах. Мой сыночек лежал в кроватке и спал. Мне объяснили, что почти все время он находится под воздействием снотворного. Мне показалось, что он очень красивый ребенок, и это почему-то испугало меня. Слезы градом потекли из моих глаз. Я не плакала, слезы текли сами. Через минуту меня увели. На одиннадцатый день я впервые дала ему грудь. На четырнадцатый день нас выписали. Диагноз, поставленный врачами, гласил: внутриутробная асфиксия, внутричерепная родовая травма, ателектаз легких. Выписывается под наблюдение врача-невропатолога.
Я стала мамой, но не испытала ни физической легкости, ни душевной. Сына назвали Андреем. Первые три месяца все шло нормально, только глазки Андрюши бесконечно слезились. «Пройдет само», — говорили одни врачи. «Конъюнктивит», — говорили другие. Наконец был поставлен диагноз: закупорка слезного канала. «В шесть месяцев начнем усиленный массаж, пока рановато», — таково было окончательное решение. Тем временем я изучала литературу по воспитанию, закаливанию и кормлению детей. На стене появился график роста, веса и количества высасываемого молока. На столе — весы. После каждого кормления я взвешивала малютку, сравнивала с научно-обоснованной цифрой и чайной ложкой докармливала, если он выпивал, по моему мнению, недостаточно.
Примерно в три месяца Андрей вдруг отказался от груди. Сначала я не придала этому значения. Не хочет сосать грудь — я вливала молоко ложкой. Потом началось нечто ужасное. Только я хотела приложить его к груди, он закатывался в истерике и орал до изнеможения. При виде ложки или рожка начиналось то же самое. Накормить его удавалось только в те моменты, когда, обессилев от крика, он почти терял сознание. Стоило ему на секунду прийти в себя и почувствовать вкус молока, как все начиналось сначала. Он побледнел, начал худеть. График веса неумолимо пополз вниз. Мама не могла найти себе места. Как раньше папа из-за Лариски ушел с работы, так мама из-за Андрея ушла на пенсию. Она носилась по городу в поисках хорошего врача, готовая заплатить любые деньги за выздоровление внука. День в нашем доме перемешался с ночью. Никто не спал, когда я вымеривала шагами комнату с орущим ребенком на руках. Врачи сменяли один другого. Я уже заученно и устало рассказывала им симптомы, свои предположения и назначения предыдущих врачей. Каждый внимательно выслушивал меня, прописывал новые лекарства и уколы, но лучше Андрюше не становилось. Володя старался изо всех сил хотя бы помочь мне сохранить силы. Ночью он забирал от меня кричащего сына и уходил в другую комнату, чтобы я могла хоть ненадолго забыться. Но, как выяснилось, это мне не помогало. Более того, я напрягала свой слух до звона в ушах, и мне мерещился его крик, зовущий на помощь, даже в те минуты, когда он, обессилев, засыпал.
Мы сделали все возможные исследования, включая рентген головы и кистей рук, анализы крови и суточной мочи. Никаких отклонений найдено не было. Папа ходил убитый, мама сидела на телефоне и разыскивала очередного врача, Володя осунулся и молча вздыхал, а я прижимала маленькое, худенькое, кричащее тельце и поливала его своими слезами.
Наступил момент, когда все врачи в один голос заявили, что ребенка надо класть в больницу. Мама все организовала, договорилась, заплатила кому надо, и мы поехали с ней в клинику. В приемном покое Андрюшу поверхностно осмотрели и забрали от меня. Почувствовав чужие руки, он забился в истерике. «Мамаша, — строго сказала мне медсестра, — что вы ходите из угла в угол? Ребенка надо обследовать. Раз вы не кормите его грудью, делать вам здесь нечего. Зайдите в бокс и попрощайтесь с ним». Я зашла в бокс, мама ждала меня в вестибюле. Бокс представлял собой комнату, разделенную на маленькие клетушки. В каждой — ребенок. Около некоторых детей — мамы. Видно, кормящие. Внесли Андрея в больничном одеяле. Он лежал на руках медсестры и вздрагивал. Кричать у него уже не было сил. Я взяла его на руки. Он сначала дернулся, потом, узнав меня, замер и закрыл глаза. «Это невыносимо, это невыносимо», стучало у меня в голове. Решение пришло необдуманно, спонтанно и окончательно. Я посмотрела на Андрея, на клетушки, на медсестру и сказала: «Если моему ребенку суждено умереть, пусть умирает дома». И ушла с ребенком на руках. Мама увидела нас, на секунду обомлела, но ничего не сказала. Она как всегда все понимала без слов.
Вернулись домой, и все началось сначала. Но для мамы не было безвыходных положений. Она продолжала действовать, и кто-то сказал ей, что в Педиатрическом институте есть врач, Рохленко Евдокия Исааковна. «Она делает чудеса, — сказали маме. — Только домой на частные визиты не ходит. Попробуйте попасть к ней». Была зима, декабрь, мороз. Мама поехала в Педиатрический институт. Вошла во двор — а это целый город. Корпуса, корпуса, корпуса. Видит — идет женщина в ватнике поверх белого халата. «Простите, — обратилась к ней мама, — как мне найти Рохленко Евдокию Исааковну?» И услышала: «Я — Рохленко. Что вы хотите?» Мама бросилась перед ней на колени, в снег: «Вы должны мне помочь, — захлебываясь от волнения проговорила мама. — Вы не можете мне отказать. У меня умирает внук, спасите его». И расплакалась. «Встаньте, встаньте, — проговорила Евдокия Исааковна. — Ну, что вы так нервничаете? Я посмотрю вашего внука».
Так Евдокия Исааковна оказалась у нас дома. Она пришла строгая, подтянутая, вымыла руки и подошла к Андрею. В комнате, кроме меня, находилась медсестра с очередным уколом. «Подождите делать укол», — сказала Евдокия Исааковна повелительно. И начала осматривать Андрюшу. Я опять устало и заученно начала рассказывать историю своих и Андрюшиных злоключений. Только я дошла до слов «мне кажется, что это результат…», как Евдокия Исааковна резко перебила меня: «Простите, вы врач?» «Нет», — ответила я. «Тогда ваше мнение меня не интересует». Я обалдела. Все врачи терпеливо выслушивали меня, и вдруг — такая неожиданная реакция. Евдокия Исааковна мне не понравилась, но я прониклась к ней уважением. Она выпрямилась, строго и неприязненно посмотрела на меня и сказала: «Вы сами замучили своего ребенка. Я вообще не уверена, что вам можно доверить его. Ваш ребенок абсолютно здоров, а вы своими графиками, весами и прочими глупостями довели его до такого состояния». «А вы можете уходить, — обратилась она к медсестре, — ему укол не нужен». Когда первый шок от такого вступления у меня прошел, я робко, как будто она действительно могла отобрать у меня ребенка, спросила: «Так что же я наделала?» И услышала: «У вашего ребенка повышенная нервная возбудимость. Он ел нормально, сколько хотел и сколько ему было нужно. А вы впихивали в него молоко ложкой и развили у него анорексию — отвращение к еде. И если вы не выполните в точности мои указания, я не ручаюсь, что вы его спасете». «Я сделаю все, что вы скажете», — сказала я и действительно была готова подчиниться любому ее слову. Евдокия Исааковна продолжала: «Он начнет учиться кушать. И научится очень скоро. Если вы ему не будете мешать, конечно. — Легкая пауза. — Завтра и послезавтра ничего, кроме воды, не давайте. Ничего». Она взглянула на меня пронзительным взглядом, будто проверяя не настолько ли я тупа, что не понимаю, что первые два дня кормить нельзя. Я слушала внимательно и почтительно. Это ее чуть-чуть успокоило: «На третий день вы начнете давать ему молоко, как будто он только что родился шесть раз по тридцать граммов, не более». На последних словах она повысила голос. «Но он не будет», — воскликнула я. Она впервые улыбнулась и уверенно сказала: «Будет». У меня отлегло от сердца, как будто Андрей и вправду уже начал есть. Далее Евдокия Исааковна объяснила мне, как и когда увеличивать количество молока, чем разнообразить пищу и что делать, если он вдруг снова откажется от какого-нибудь кормления. Все было расписано четко, подробно, на все случаи. «Ну, вот. В ближайшие две недели я вообще вам не нужна. Через две недели позвоните, и я вам скажу, что делать дальше. И никаких лекарств, никаких уколов. Он и так за свою короткую жизнь уже принял столько лекарств, что на десять лет хватит». Она поднялась и вышла из комнаты. Я за ней. «У вас прекрасный мальчик. Вот только с мамой ему не повезло», — она улыбнулась уже совсем по-домашнему. И уже в дверях сказала: «В чем-нибудь засомневаетесь, не стесняйтесь мне звонить». И ушла.
И все пошло в точности, как она сказала. Я скрупулезно выполняла ее советы. Через три месяца Андрей вышел на нормальный режим питания. С тех пор, если я вижу, как родители уговаривают или заставляют своих детей есть и даже иногда не разрешают им выйти из-за стола, пока все не будет съедено до последней крошки, я вспоминаю себя, Евдокию Исааковну, моего крошечного мальчика, бьющегося в судорогах, и мне хочется подбежать к этим мамам и папам, бабушкам и дедушкам и прокричать им всем сразу раз и навсегда: «Остановитесь! Замрите! Ваш ребенок знает, сколько он должен съесть! Вы сами калечите его! Пожалейте, пожалейте его чуткую, ранимую, подвластную вам, но выходящую необратимо из строя, удивительную и непонятную вам нервную систему!»
С трехмесячного возраста и до восемнадцати лет, до самого отъезда Евдокии Исааковны в Соединенные Штаты, я никогда не пользовалась советами другого врача. Эта необыкновенная женщина, которая стала моим другом и заменяла мне мать в трагический период моей жизни, достойна великой любви и огромного уважения. Я преклоняюсь перед ней по сей день. Я пою вам гимн моего восхищения, Евдокия Исааковна, родная моя!
Когда Андрею исполнилось шесть месяцев, мы начали ходить с ним на массаж, чтобы избавиться от закупорки слезного канала. Папа шел со мной, но в кабинет врача не заходил. Как когда-то я сбегала со второго этажа вниз, чтобы не слышать Ларискин плач, так теперь он уходил в дальний конец коридора, чтобы не слышать Андрюшин крик. Крик моего сына принадлежал мне. По праву матери. Именно этим правом никто воспользоваться не хотел. Мы заходили в кабинет, я клала его головку себе на колени и зажимала своими руками, как тисками. Он смотрел на меня снизу вверх испуганными, уже испытавшими боль глазами, и во взгляде его было недоумение, страх, обида, обращенные ко мне, своей маме, которая привела его на эту боль, и не отпускает его, и позволяет мучить. При первом прикосновении врача, делающего глубокий массаж, личико его искажалось от боли, и крик его проникал мне в поры и разрывал меня на части. «Держите крепче», — командовала врач, и я выбрасывала этот крик из себя вместе со своим сердцем и держала крепче, еще крепче, чтобы не видеть бесконечных слез в твоих глазах, сыночек, из-за какой-то проклятой закупорки слезного канала, о существовании которого я вообще впервые узнала только шесть месяцев назад.
Целый месяц ежедневных массажей не дал никакого результата. «Будем делать прокол», — сказала врач. Нас назначили в институт глазных болезней и поставили на очередь. В назначенный день мы с папой подошли к указанному кабинету. На нем крупными буквами было написано: «Операционная». Одно только это слово привело меня в панику. Вышла медсестра и забрала Андрея. Я направилась за ними. «Вам нельзя», — отрезала медсестра. Я осталась за дверью. Руки-ноги дрожали. Я хотела быть рядом с моим сыном и его криком. Я не знаю, действительно ли я услышала крик или это был звон в ушах, но что-то сломалось во мне, и из носа ручьем потекла кровь. Вынесли Андрея. Он чуть всхлипывал. В глазах стояли слезы. Это были нормальные слезы, проходящие по открытому слезному каналу. Все-таки, будь он проклят, этот слезный канал! И кто только его выдумал?!
Когда Андрею исполнился год, нас вызвали на осмотр в клинику родильного дома. Осмотр проводил врач, принимавший роды. В приемной сидели родители с детьми, умственная отсталость которых не вызывала сомнений. Это был прием детей с послеродовыми травмами. Подошла наша очередь. Врач заученно соболезнующе кинул взгляд на Андрея. Лицо его вдруг вытянулось от удивления, и он поспешно начал проверять его реакции. После осмотра он встал, пожал мне руку и сказал: «Я могу поздравить вас. Ваш ребенок действительно родился „в рубашке“. Только один из десяти тысяч после таких родов остается абсолютно нормальным. А говорят, что чудес не бывает!» Я возвращалась с осмотра счастливая и испуганная. «Боже, — думала я, — как хорошо, что я не знала этой статистики раньше!»
У Андрюши появилась няня, а я вышла на работу. Надо сказать, что в течение года, предоставленного мне по закону для воспитания ребенка, мама, по моей просьбе, пыталась найти мне другую работу. При всех ее связях, попытка окончилась неудачей. Никто не хотел брать еврейку. В одном месте человеку, который меня рекомендовал, начальник отдела кадров сказал прямо в лицо: «Мне „французы“ не нужны!» — и рассмеялся громко и откровенно, довольный своей шуткой.
Я вернулась на работу, а через несколько месяцев Анри попросил меня выйти за него замуж. «Я не могу жить без тебя», — так он сказал. «Ты сошел с ума, — ответила я, — у меня муж и ребенок». «Ребенок не помеха, а с мужем можно развестись». Я отказала, он заплакал. Видеть плачущего мужчину мне еще не приходилось. Я вышла на улицу, шла сквозь толпу спешащих куда-то людей и думала: «Ну, почему я такая несчастная?! Вот кругом меня люди, идут себе по своим делам, никто их не любит, не делает предложений, не ставит перед выбором и не хочет усыновить их детей! Ну, почему это случилось со мной?» Я понимаю, что умных мыслей было не много в моих рассуждениях, но этот бредовый монолог сидел в моем взбудораженном мозгу, и я искала выход из положения, которое казалось мне уникальным и которое на самом деле было старо, как наш бесконечно старый, но всегда удивляющий нас мир.
Через несколько месяцев отношения с Анри стабилизировались, и я поняла, что он набрался терпения, но не выбросил свою нелепую идею из головы. Володя, чувствуя, что у меня появились какие-то непонятные ему проблемы, начал настаивать на нашей самостоятельной жизни, отдельно от моих родителей. Мне это показалось заманчивым, и я высказала наше пожелание маме. Мама не была против, но понимала, что технически осуществить это в Союзе, с обязательной пропиской и установленной на каждого человека допустимой нормой жилой площади, очень сложно. Обдумав все, она нашла решение проблемы. Она всегда находила решение. И мы привыкли к этому и принимали, как должное. Мы привыкли к коллекциям картин, висящим на стенах нашей квартиры, к изумительным предметам старины, бронзовым и фарфоровым статуэткам. Мы тогда не умели ценить мамин вкус архитектора и хватку бизнесмена. Для меня это было естественно, как воздух, которым я дышу. Мама находила решение и подавала нам результат в своих руках, всегда готовых поддержать и защитить нас.
Итак, по маминому предложению мы с Володей фиктивно разошлись и прошли все стадии развода, кроме уплаты специальной пошлины. Штамп в паспорте нам поставлен не был (именно из-за этой неуплаты), а выписку из суда мы получили. С этой выпиской, используя свои связи, уплатив кому надо и обратившись к кому следует, мама сумела купить на имя Володи очаровательную однокомнатную кооперативную квартиру на Новочеркасском проспекте. Когда Андрею было два года, мы переехали туда. Знала бы я, знала бы только я, что через три года я буду вспоминать каждый проведенный вместе с мамой день, как ускользнувшее счастье, которое невозможно вернуть, как невозможно вернуть прожитый день.
А Анечка в Москве жила своей жизнью и своими проблемами. В 1973 году она начала прощупывать почву для поступления Ларисы в школу при московской Консерватории, где преподавала сама. Ей недвусмысленно дали понять, что евреев там и так слишком много. Анечка не стала углубляться в изучение статистики. Что значит «слишком» много, ее не интересовало. Она никогда не жила по правилам, навязываемым со стороны, и не хотела жить в государстве, где ее дочку считают лишней. Пока я была занята лечением и воспитанием Андрея, ее волновали проблемы значительно более глобального характера. В самом начале 1974 года она, поставив нас в известность об уже свершившемся факте, подала с мужем документы на выезд в Израиль. Это известие маму подкосило, но она считала себя не вправе вмешиваться.
Вообще взаимоотношения родителей и детей всегда будут волновать умы, и всегда они останутся загадкой. Всю жизнь мама любила Анечку какой-то болезненной любовью и даже недолюбливала Анечкиного мужа только по той причине, что после замужества она перестала принадлежать безраздельно ей. Во всяком случае, я так думала. Папа, который вложил Анечке в руки скрипку и посвятил ей свою жизнь, любил меня больше и нежнее, чем свою старшую дочь. Той душевной близости, которая установилась между мной и папой, у меня никогда не возникало с мамой. Однако мама полюбила Андрея, именно моего сына, той слепой и сжигающей любовью, от которой всегда нас оберегала и которая оказалась сильнее ее разума.
Я разделяла мамино преклонение перед Анечкой и потому никогда не чувствовала себя обделенной маминой любовью. Тем более, что и меня она любила сильно и глубоко, и я знала, что ради меня она по каплям отдаст свою кровь. У нас была любящая и дружная семья, и я с гордостью говорю об этом.
Тем не менее, Анечкино решение вывело маму из привычной колеи. Разум боролся с чувством. «Боже, как я это переживу?» — восклицала мама, и мы понимали, что скоро тоже начнем паковать чемоданы. Анечка через два месяца после подачи документов получила разрешение и взяла билеты на тридцатое сентября. Двумя неделями раньше Андрюше исполнилось четыре года.
Глава 2
Анечка уехала в Израиль. Как мы и ожидали, мама потеряла покой. Жизнь, в какой-то степени, потеряла для нее смысл. До отъезда моей сестры у нас практически не было знакомых, так или иначе связанных с Израилем. Откуда они вдруг появились после ее отъезда — ума ни приложу. Чтобы прочитать какое-нибудь обычное письмо из Израиля, мама была готова ехать на другой конец города. Она договорилась с почтальоном, чтобы он приносил к нам домой письма от Анечки, а не оставлял их в почтовом ящике. Если бы по какой-то причине она бы не смогла с ним договориться, мне кажется, она бы просто дежурила около почтового ящика, чтобы не потерять ни одной секунды в бесконечном, как ей казалось, ожидании драгоценного конверта. Она в то время знала про Израиль все: какая партия у власти, какой процент безработицы, кто там сейчас бастует и какой курс доллара по отношению к лире. А потому совершенно не удивительно, что, будучи в Москве и улаживая какие-то дела с Анечкиной кооперативной квартирой (в которой Анечка с мужем жили до отъезда), мама позвонила одному Анечкиному знакомому, некоему К., с которым незадолго до этого познакомилась на Анечкиной «отвальной». Знакомство это произошло неожиданно и имело, я бы сказала, некоторые пикантные подробности.
В самый разгар застолья появился вальяжного вида интересный мужчина и попросил Анечку передать для своей дочери, живущей в Израиле, коробку конфет. Анечка согласилась, а мама, услышав про дочь в Израиле, тут же обменялась с ним координатами. Когда К. ушел, Анечка сказала, что этот К., ее знакомый по Консерватории, по слухам человек странный, даже можно сказать подозрительный. И добавила: «Держись от него подальше». Из всего этого мама уловила только, что Анечке может грозить какая-то опасность. Коробка конфет начала приобретать двойной смысл. Через час после его ухода мама сказала: «Вот что, доченька. Я куплю тебе другую коробку конфет. Не хуже этой. А эту мы съедим». И купила другую. А эту мы с удовольствием съели. И ничего недозволенного в ней не оказалось. И все посмеялись. И забыли и про коробку, и про К.
Так вот, будучи в Москве, мама решила позвонить этому К. и узнать, нет ли свежих писем от дочери. Оказалось — есть. И К. был очень любезен и пригласил маму на обед. И обед прошел прекрасно, и письма были оптимистичные, и все остались довольны. И так завязалось знакомство.
А тут надо заметить, что после отъезда Анечки одна мысль не давала маме покоя: Анечке на таможне не разрешили взять скрипку в Израиль. Тут и о скрипках уместно сказать несколько слов. Была у папы прекрасная, ценная коллекция скрипок. Начало этой коллекции положил еще дедушка, папин папа, который тоже был музыкантом и оставил папе несколько инструментов. Папа же начал их собирать сразу после войны. Много в то время было вдов музыкантов, которые были готовы продать инструмент погибшего мужа за бесценок. В то время вообще буханка хлеба была ценнее рояля. А папа очень увлекался скрипками, прекрасно в них разбирался и в то время во многом себе отказывал, чтобы их приобрести. За тридцать лет он собрал изумительную коллекцию, которой очень гордился и очень дорожил. На одной из этих скрипок и играла Анечка, пока жила в Союзе. И все мы очень переживали, что она вынуждена была уехать в Израиль без скрипки. Было ясно, что пока Анечка не получит каким-то образом скрипку, работать она не сможет. Мы-то с папой только волновались да вздыхали, а мама действовала. Вспомнила она, что вместе с Анечкой учился в Консерватории один студент из Югославии. Душка его звали. Поехала мама в Москву, встретилась с ним и, обсудив разные варианты, остановилась на самом простом. Душка должен был попросить музыканта из Югославии приехать в Союз с двумя дешевыми скрипками, наличие которых и будет отмечено советской таможней, а возвратиться с другими двумя — нашими. Одну из которых он передаст Анечке, а другую возьмет себе за помощь. План оказался до гениальности прост и был осуществлен без всяких осложнений. Как бы мне хотелось на этом и закончить свои воспоминания! Словами «без всяких осложнений». Увы, на этом клубок несчастий сделал свой самый первый виток.
Через некоторое время мама попросила меня написать Душке в Югославию письмо, чтобы дать ему знать, что все прошло благополучно и чтобы он проследил за передачей скрипки Анечке. А попросила мама написать это письмо именно меня, потому что в нем надо было не упоминать «скрипок», и она думала, что я составлю такое конспиративное письмо лучше. Начала я писать сначала черновик и вместо слов «послали мы вам две скрипки» писала «послали мы вам две книжки». Однако, забываясь, иногда писала «скрипки», зачеркивала, чертыхалась и исправляла на «книжки». Переписала черновик набело, отослали мы письмо в Югославию, а черновик мама отложила в стол. «Я хочу иметь его при себе, чтобы помнить о чем мы ему написали», — сказала она. А папа хоть и был против сохранения черновика, но активно перечить не стал — у нас всегда мама принимала окончательные решения.
И, насколько я помню, Анечка уже благополучно получила скрипку, и все были так счастливы, что про какой-то там черновик забыли. А мама так и жила душой в Израиле. И меня Израилем «заразила». Именно ее интерес к Израилю, а даже не отъезд Анечки, привел меня однажды в ОВИР, то есть в специальное учреждение Министерства внутренних дел, занимающееся выездными визами. Проходя однажды мимо этого здания и увидев надпись «ОВИР», я и зашла туда, скорее от любопытства, чем от осознанного решения. Тогда, в 1975 году, инспектора ОВИРа были вежливы и учтивы. Это потом, уже много позже, я в полной мере смогла почувствовать их жестокость и издевательства. А в 1975-ом все было вполне пристойно. Выдали мне анкеты, я их заполнила. Тогда от руки еще можно было заполнять, это уж потом они стали требовать все документы, отпечатанные на пишущей машинке. Подала я анкеты инспектору, а она спрашивает: «А где же ваш „Вызов“ из Израиля?» А дело было в феврале месяце, еще и полугода с отъезда Анечки не прошло, и «Вызова» от нее у меня не было. Ждали мы его. Он и пришел в скором времени, да, к сожалению, уже не понадобился. А тогда в ОВИРе я сказала инспектору: «Вызов на днях должен придти — я занесу». Сунула она анкеты в стол и говорит: «Учтите, анкеты без „Вызова“ не рассматриваются. Получите „Вызов“ — приходите с мужем. Все члены семьи должны присутствовать». Ушла я от нее страшно довольная. Дома маме все рассказала, а она улыбается: «Глупенькая, ну чего ж ты поперед батьки в пекло лезешь? Вот придет „Вызов“ — мы все и пойдем в ОВИР. А без „Вызова“ это пустой номер».
А где-то в начале марта поехала мама снова в Москву по своим делам. Остановилась в гостинице «Россия». Надо заметить, что простому советскому человеку почти невозможно было попасть в гостиницу. Я с этими трудностями столкнулась много позже, в Казани, куда занесла меня судьба. Я тогда согласна была переночевать на стуле, в коридоре, а меня и оттуда гнали. Ну, мама с такими проблемами никогда не сталкивалась, у нее везде знакомые были. И вот, приехав в Москву, позвонила мама этому К., у которого дочь в Израиле, и он пригласил маму в гости, на обед. А пока до обеда было у мамы время заняться делами. И, выходя из гостиницы, увидела мама, что прекрасно изданную книгу продают — «Виды Москвы». Красочная книга. Мама ее тут же купила, прямо из гостиницы отослала Анечке и занялась своими делами. Вечером пошла на обед к К. И снова все об Израиле спрашивала, фотографии его дочери смотрела и письма ее читала. А потом вернулась в гостиницу.
Тем же вечером вызывают маму к администратору гостиницы в кабинет. А там еще двое сидят, с характерными лицами и с отсутствующим взглядом. Это все потом мама нам их описывала, в Ленинград вернувшись. И сказала нам: «Меня не проведешь. Я сразу поняла, что они из КГБ». Я еще тогда про себя подумала, ну как это можно по лицам догадаться, откуда они. Позже я поняла, насколько мама была права. Ну, администратор начал спрашивать маму, как она в гостиницу попала. Такой вопрос, как я уже писала, только советскому человеку понятен был. Ибо во всем мире гостиницы для того и построены, чтобы в них люди останавливались. Маму-то, естественно, вопрос не удивил. Однако знакомую свою она подводить не хотела. Поэтому сказала она, что приехала на один день в Москву, к врачу. И что пожалела ее женщина, оформлявшая документы в гостинице. И дала ей номер на одну ночь. И завтра, мол, мама уедет. Еще каких-то пару вопросов администратор задал, и маму отпустили. А эти двое, с характерными лицами, ни одного слова не произнесли, на маму не смотрели, будто их это вовсе не касалось. Мама утра дожидаться не стала, а этой же ночью в Ленинград приехала. И все это нам возбужденно рассказывает и возмущается, что вот стоило только посылку в Израиль из гостиницы отослать, как тут же кагебешники интересуются.
Сколько раз я потом думала, что не отошли она эту злосчастную книгу в Израиль, ее бы насторожила встреча с КГБ, задумалась бы она о других причинах, вызвавших ее. Вернулась бы, может, к ней ее обычная бдительность, помогавшая ей столько лет заниматься бизнесом в стране, где частная инициатива уничтожалась в зародыше. Но, увы, в то время мама находилась в предвкушении отъезда, и мысли ее были далеко, у Средиземного моря. И забыла она на мгновение, ценою в жизнь, где она еще жила.
Я только помню, что этот случай, к которому мама отнеслась очень легкомысленно, почему-то напугал меня. Возможно, потому что сочетание «мама и КГБ» было несовместимым в моем сознании, а может быть потому, что всю жизнь мама оберегала нас от всяких осложнений и неприятностей и никогда не посвящала в свои дела. И, выслушав все это, я вдруг брякнула: «А вдруг они придут к нам с обыском?» И моя осторожная, предусмотрительная, закаленная бизнесом мама ответила мне уверенным и спокойным голосом: «Ну, нет. Сейчас не сталинские времена. Чтобы придти с обыском, нужны о-очень веские основания». И я с облегчением выбросила все из головы. Мама для меня была самым большим в мире авторитетом.
Было это седьмого марта 1975 года. Прошла неделя. Все было тихо-спокойно. Приближалось шестнадцатое марта, день моего рождения. И была-то я уже не маленькая девочка, а дни рождения свои ждала с нетерпением. Всегда какой-нибудь приятный сюрприз мне мама с папой готовили. И вот в таком приподнятом настроении звоню я маме из телефона-автомата на станции метро «Московская», возвращаясь с работы домой. Я хоть тогда отдельно от мамы жила, но каждый день мы перезванивались. И вдруг мама отвечает мне холодным, я бы сказала злым голосом: «Ко мне не звони и не приходи». И трубку повесила. А я настолько этого не ожидала, что, помню, страшно обиделась и уже в пустую, с короткими гудками трубку, огрызнулась: «А я и не собираюсь». И сама трубку бросила. И с гордым видом к эскалатору направилась. Но только встала на ступеньки, как сердце мое куда-то провалилось. Еще и мысль никакая созреть не успела, словами не обросла. А сердце отметило — беда! И пока я три минуты спускалась — эскалатор там длинный — я уже ясно поняла, что произошло. Как доехала до дома — не помню. Голова была тяжелая и мысли какие-то чугунные, неповоротливые. Вбегаю домой — там няня Андрюшина, Вера Михайловна. Я сразу выпаливаю: «Мама звонила?» А Вера Михайловна была женщина полная, медлительная, с певучим протяжным голосом. И вот так же неторопливо повернувшись ко мне, она нараспев ответила: «Звонила. Очень так странно разговаривала. Про Андрюшеньку, воробышка нашего, ничего не спросила. Да, а вам, Леночка, просила передать, чтоб вы к ней не звонили и не приходили. Наверное, занята она…» Не дослушав до конца рассуждения моей преданной няни, я хлопнула дверью и помчалась на Таврическую, где мама жила.
Вечер уже был. Мороз сильный. Во дворе никого. Я встала посреди двора и в наши окна уставилась. И вижу там тени мужские. Маму ни разу не увидела. Во дворе совсем темно стало. Я, наверное, замерзла на морозе. Но этого не помню. Внутри у меня, видимо, холоднее, чем снаружи было. Долго стояла. Часа три. Не шевелясь. И только бормотала дрожащими губами: «Мамочка, мамочка, мамочка». Потом вижу, двое мужчин из парадной вышли. Руки друг другу пожали и разошлись в разные стороны. Я — наверх. На втором этаже мы жили. Дверь еще после них открыта была. Мама совсем не удивилась, увидев меня. Значит, так и надо было, чтобы я пришла. Вхожу. Вижу — папа растерянный, потухший какой-то. А мама очень собранная. Только лицо бледное очень. И на шее красные пятна. И спокойно они между собой разговаривают. И мама говорит: «Где-то кроется причина всего этого. Но я не могу понять». И спокойно ко мне: «Это конец. Они забрали черновик письма в Югославию. Из него все ясно про скрипки. Запомни — ты тут ни при чем. Так и говори — понятия ни о чем не имела. Писала под мамину диктовку. Выдержи, доченька, ты же у меня умница». И к папе: «Тебе лучше на первое время уехать. Пусть со мной разбираются». И ко мне: «Спрячь эту коробочку. Здесь наши драгоценности. Спрячь — и забудь куда положила. Ни при каких обстоятельствах не отдавай. Тебе поручаю, не папе — ты сильнее». И к папе: «Анечке пока ничего не сообщайте. Вдруг обойдется. Не надо ее волновать». И ко мне: «Надо куда-то срочно вывезти вещи и скрипки. Подумай. К моим знакомым нельзя — их всех перетрясут». И смотрит на меня, и ждет тут же ответа. А я все еще в пальто и ничего не соображаю. Как будто фильм ужасов смотрю. А мама: «Выпей чаю. Ты совершенно замерзла. И думай, думай». Я, как заведенная, пальто сняла и говорю: «Вещи пусть Анри возьмет». Мама: «Правильно. Звони ему. Скажи, чтоб взял такси и приехал. Такси пусть не отпускает». И к папе: «Поезжай в Гагры. К Левону. Заодно и отдохнешь там».
Еще они о чем-то говорили, а я пошла Анри звонить. Коробочку в руках держу. Уже был второй час ночи. Анри, слава Б-гу, ничего спрашивать не стал. Сказал только, что сейчас приедет. Я в комнату вернулась, а мама мне говорит: «Завтра в Москву поедешь. Надо Душку предупредить. Вот тебе телефон и адрес в Москве — это его приятель. И вот список моих знакомых, к которым можешь обратиться за помощью. По пустякам не обращайся. Бумажку эту никому не показывай. Людей этих засвечивать нельзя. Отнесись к этому очень серьезно». И вдруг, как будто она с нами и не говорила, идет к телефону и звонит в Москву. Возвращается еще бледнее, чем была. И упавшим голосом говорит: «Догадалась я в чем дело. К. арестован. По подозрению в валютных операциях. Я с женой говорила. За мной, значит, еще в Москве начали следить, после того как я к нему зашла. Видно, всех его знакомых проверяют. Вот так получилось: пришли искать валюту, нашли черновик письма». Мы с папой ничего на это не сказали. Не тот это был момент, чтобы напоминать маме, что это она решила черновик не уничтожать. Потом папа пошел делать чай. А мама вдруг тихая такая стала, постаревшая сразу. Села на стул, а до этого не присела ни разу, обняла меня и сказала: «Тебе никогда не придется краснеть за меня. Если это действительно конец, то помни, что я ушла из жизни, как Зуйков. Это я тебе говорю, твоя мама. И Андрюшеньку береги. Я этого ребенка больше жизни люблю».
Вот тут у меня истерика началась. Как я услышала «ушла из жизни, как Зуйков», меня прямо замутило, и в глазах все потемнело. Я не очень хорошо знала, за что Зуйкова арестовали. Лет десять назад это было. Знала только, что он был начальником Торгового отдела Ленгорисполкома. На следствии он никого не выдал, ни одного человека за собой не потянул. И его расстреляли. В Советском Союзе, как известно, расстрел чаще всего применялся именно за экономические, с их точки зрения, преступления. У меня истерика, а мама меня не успокаивает, молча сидит. Только сильнее ко мне прижалась. И вдруг мне так стыдно стало, до боли в животе. Мама к аресту готовится, силы в себе сохраняет, а я, чертова дура, в истерике закатываюсь. Когда папа позвал нас чай пить, мы с мамой так, обнявшись и пошли. И я уже не ревела. В одну секунду я почувствовала, что повзрослела. А за чаем мама говорит мне: «Я поздравляю тебя сейчас, доченька. Ведь через два дня тебе тридцать три годочка стукнет». Ушла в свою комнату и выносит мне набор в целлофановой коробке: кошелек, футляр для очков, зеркальце. Все серебряного цвета. «Будь счастлива», — говорит, и впервые у нее слезы на глазах появились. С тех пор двадцать лет прошло. Этот набор всегда со мной, новый, не распечатанный.
А в это время приехал Анри. Мы ему ничего объяснять не стали. Он сам все понял. Чего уж тут не понять было. И опять мама деловая стала. Вещи отбирала, аккуратно их упаковывала. Со стороны посмотреть — так просто на другую квартиру переезжаем. Я к Анри подошла, коробочку с драгоценностями ему сунула и говорю: «Ради всего, что есть у тебя дорогого в жизни, храни ее, пока я не попрошу вернуть». Он по тону моему понял, как это важно для меня. Взял коробочку, во внутренний карман положил и пуговку на нем застегнул. И даже мама не видела, что я ее ему передала. И все эти вещи мы быстро в такси перенесли, и мне показалось, что все это заняло несколько минут. На самом деле уже больше трех часов ночи было, просто ощущение времени потерялось, как будто я на другой планете оказалась.
Анри уехал, мама какие-то указания папе давала. А я отключилась совсем. А утром побежала за билетом в Москву и заскочила к Андрюшке. Володя, муж мой, дома был. На работу не пошел. Понял, что что-то случилось, раз я ночевать домой не пришла. Я ему наскоро все рассказала, у него лицо изменилось. И я все, что угодно, ожидала от него услышать, но только не те слова, что он в сердцах произнес: «Ну, уж теперь я в Израиль ни за что не поеду!» Я Андрюшку поцеловала и ушла. Разве есть такие слова, чтобы можно было достойно ответить? Взяв билет на Москву, снова на Таврическую поехала. И как ни странно, но мы пошли с мамой прогуляться. И об Анечке говорили, и о всяких других вещах, и ни слова о вчерашнем. Только когда я уже на вокзал собралась, мама крепко-крепко меня поцеловала и сказала: «Я так хотела, чтобы вы ни в чем не нуждались. Никогда я не жила спокойно, думала хоть вы нормально жить будете. Прости меня, доченька. И помни, что я безумно вас люблю. За Андрюшей следи — он звездочка моя». И я ушла. Больше никогда я маму в нормальной обстановке не видела.
В Москве я все сделала, как мама просила. А наутро уже была в Ленинграде. И маму уже не застала. Пришли за ней и увезли в Москву. И так получилось, что пересеклись ведь в какой-то момент наши поезда, разводящие нас в разные стороны, в разные миры, в разные страдания. И никогда я не узнаю, о чем ты, мамочка, думала в ту бессонную ночь, еще не в тюрьме, но уже не на свободе. И теперь я уверена, что мама так срочно отослала меня в Москву совсем не потому, что дело это не терпело отлагательств. Просто она хотела избавить меня от жуткой картины своего ареста. И понимаю я, как, наверное, хотелось ей до последней минуты быть со мной, но материнское чувство сохранения и защиты своего дитя оказалось сильнее всех остальных чувств. Пощадила ты меня, мамочка. И вот уже двадцать лет нет мне покоя, что даже взглядом не смогла я облегчить тебе последние мгновения нашего расставания. И хоть говорят, что время лечит, но есть хроническая боль, времени не подвластная.
Лиха беда — начало. Но где ж беде конец? Начало — ведь сначала. Каков ее венец? Пришла беда — известно: Ворота ей открой. Но ей в воротах тесно Ввалилась к нам домой. Ввалилась и уселась, Нас в угол оттесня. И мы стоим несмело, И дом наш — западня. Не трогай лучше лиха, Пока оно молчит. А если лихо тихо, Но все же говорит? А если лихо гадко Начнет тебя пытать? А если лиху сладко, Что ты не можешь встать?! Никто еще слезами Себе помочь не смог. Мы это знаем сами, Но нам не впрок урок. И мы глотаем слезы, Мы пьем их по ночам. И даже ночью грезы Уж не подвластны нам.А на следующий день папа уехал в Гагры, к Левону, как мама просила. Причины, которыми руководствовалась мама, настаивая на папином отъезде, были для нас совершенно очевидны. А потому мамино предложение не вызвало у нас с папой ни удивления, ни протеста. Дело в том, что к тому времени папа был очень болен. У него была бронхоэктазия в тяжелой форме, сопровождавшаяся длительными и мучительными приступами удушья. Без лекарств и ингалятора папа практически не мог обойтись ни одного дня. Поэтому мы понимали, что мама попытается внушить следователям папину непричастность к отправке Анечке скрипки и спасти от заключения, которое было бы для него смертельным. Отправляя папу, мама освобождала себя от излишних волнений за него в первые дни следствия и давала себе возможность сконцентрироваться, не позволяя эмоциям взять верх над разумом.
Левон, к которому поехал папа, был большим другом нашей семьи, и полное имя его было Левон Капрелович. Когда-то, лет двадцать назад, мама его очень выручила. И он еще тогда ей сказал: «Я должник ваш и друг на всю жизнь. Пока я жив и дети мои живы, мой дом — ваш дом». Это оказались не просто слова. И когда маму арестовали, и когда она в тюрьме сидела и много позже — всегда он другом оставался. А после его смерти жена и дети эстафету приняли. Я его очень любила и очень уважала. Особенно, когда убедилась на собственном опыте, сколько наших друзей отвернулось от нас во время несчастья. Были моменты, когда я не решалась обратиться к нашим знакомым за простым советом, боясь увидеть в их глазах отчуждение и желание поскорее избавиться от меня. Прошло немало времени, пока я разобралась, кто есть кто. И тяжесть познания облачалась в рифму.
Хочешь — рыдай, Хочешь — страдай. Должен ты знать, Что всем наплевать. Больно — терпи, Страшно — не спи. Должен ты знать, Что всем наплевать Слезы — в глазах, Крик — на устах, Должен ты знать, Что всем наплевать. Мысли — гони, Вслух — не стони. Должен ты знать, Что всем наплевать. Силы — ушли. Годы — прошли. Жутко узнать, Что всем наплевать…Ну, да ладно. Б-г им судья. Папа уехал, а я осталась одна. Сказать по правде, папа очень не хотел никуда уезжать. В такой момент находиться вдали от дома значительно труднее, чем встретить судьбу такой, какая она есть. На папу было страшно смотреть, так он переживал, оставляя меня одну. Но слово, данное маме, было для нас свято. Так было всегда у нас дома. И он не решился нарушить этот порядок сейчас. Мама должна была быть уверена, что все делается, как она сказала.
День и ночь смешались. Начался отсчет трех суток, в течение которых можно было держать маму без предъявления обвинения. Если через три дня она не приедет — значит ее арестовали надолго. На третьи сутки я не выдержала, пошла к бабушке, маминой маме. Бабушке тогда уже восемьдесят пять лет было, она еле ходила, хотя разум сохранила до последнего дня жизни. А умерла она через пять лет, прикованная к постели, так и не увидевшая маму. Жила бабушка вместе с маминой старшей сестрой Галей. Вот к ним я и пришла. Сели мы вместе, а говорить не о чем. То есть хотим, конечно, о маме говорить, но никто не решается начать. И вдруг звонок в дверь. У всех мгновенно одна и та же мысль — мама вернулась! Мысль появилась мгновенно — но, увы, только на одно мгновение. Галя открыла дверь — и застыла, как вкопанная. Все иллюзии исчезли. В квартиру вошли трое. С характерными лицами. С этого момента и до последних дней моей жизни я эти, и другие им подобные, лица забыть не смогу. Словами описать их невозможно. Их можно только почувствовать. Нутром. Так антисемит чувствует еврея. Так и для меня кагебешники — это люди какой-то особой национальности. Входят эти трое и предъявляют ордер на обыск. Двое садятся — один напротив меня, другой — напротив бабушки с Галей. А третий идет за понятыми. А эти двое сидят как у себя дома, уверенно так, не на кончике стула, а всем телом подминая стул под себя. И оглядываются по-хозяйски. Изучают, видно, с чего начинать.
И тут я с ужасом вспоминаю, что записка, которую мне мама дала с фамилиями и телефонами своих знакомых — у меня в сумке. И слова мамины в ушах звучат: «Бумажку эту никому не показывай. Людей этих засвечивать нельзя». Что делать?! Что можно сделать?! И вдруг решение пришло само, то есть руки начали действовать быстрее, чем ответ на этот вопрос воплотился в конкретную мысль. Достаю я из сумочки зеркальце, помаду — и начинаю губы подкрашивать. И, кокетливо улыбаясь тому, что сидит напротив меня, говорю: «Какие мальчики к нам в гости пожаловали! Может, и про маму мою что-нибудь знаете?» А он тут же отвечает: «Ну, что ж, Елена Марковна, — то есть знает уже кто я есть, сразу по имени-отчеству называет, — я могу вам про вашу маму рассказать. Сидит ваша мама, крепко сидит». Я ему в глаза смотрю в это время, помаду на место в сумочку кладу, бумажку руками нахожу и начинаю рвать на мелкие кусочки. А сама продолжаю с ним разговаривать и всякие дурацкие вопросы задавать: «А чего ж, — говорю, — вы понятых сразу не привели? Никто не соглашался, что ли?» Он что-то отвечает, а я бумажку рву, так что уже пальцы от напряжения сводит. Тут и понятых привели. Обыск начался. Я сидела, в окно глядела, не знаю, где они рылись и что делали. И сколько времени это продолжалось, не помню абсолютно. Может — минуту, может — три часа. Помню только, окликнули меня, чтобы я расписалась где-то. Ничего они у бабушки не нашли и найти не могли. И сказали нам с Галей собираться на допрос нас повезут. А один из них — с раскосыми глазами — бабушку остался допрашивать. Бабушка не транспортабельная была.
В этот момент я и говорю, что перед дальней дорогой не грех и в туалет сходить. Сумочку — подмышку, и в туалет направляюсь. А этот, что напротив меня сидел — высокий, мощный парень, оперативник (так он мне сам представился) — мгновенно среагировал: «Сумочку вы, Елена Марковна, здесь оставьте. Очень мне интересно посмотреть, что в ней находится». Я тут же и про туалет забыла. Да и туалет-то нужен был мне, чтобы разорванные обрывки выбросить. Высыпает он на стол все содержимое — бумажки, как снег, оттуда и посыпались. Вижу — удовольствие на его лице появилось. Достает откуда-то маленький полиэтиленовый мешочек, все эти обрывки туда складывает, медленно складывает, смакуя, и при этом приговаривает: «Вот до чего-то интересного и добрались. У нас в КГБ очень любят такие головоломки складывать. Большие специалисты по этому делу есть». Сложил все, и нас на допрос повезли, в здание КГБ на Литейном. «Большой Дом» в народе его зовут.
Дом действительно огромный. Над всеми домами возвышается. В сталинские времена построен. Галю в одну комнату завели, а меня — в другую. Комната как комната. Ничего особенного. Рабочий кабинет. Допрашивал меня молодой следователь. Во время допроса ему его мама позвонила. Поздно очень было. Она, наверное, волновалась. Я даже как-то удивилась тогда. Надо же, думаю, и у них матери бывают. И вот этот следователь (матери своей он, кстати, очень раздраженно ответил, что он работает, а она ему мешает) все спрашивал меня про маминых знакомых и наших родственников. Про родственников я ему все рассказала, тем более, что их не так и много у нас. Бабушка с Галей, да папин брат родной. Ну и, конечно, Анечка в Израиле. Он еще сказал: «Израиль меня не интересует». А я про себя подумала: «А даже если и интересует, так тебе туда не добраться». Я такими мыслями себя как-то успокаивала. Хотя надо признаться, что при первом допросе я страха не чувствовала. Видно, то, что маму посадили — все заглушило. Про маминых знакомых ни слова не сказала. Живу, мол, отдельно. В чужую жизнь соваться не привыкла. Ни разу он не крикнул на меня. Из себя выходил, но без крика. Часа через два отпустил. Ну, а через несколько дней начались настоящие допросы. Это когда следователь московский, что мамино дело вел — Новиков Сергей Валентинович — в Ленинград приехал.
Это был молодой, симпатичный, можно было бы даже сказать красивый, если бы убрать эту присущую им «характерность», мужчина. Интеллигентный, образованный — юридический факультет Московского Университета закончил. Учился отлично. Это я все по его рассказам пишу. Он во время допросов иногда о себе рассказывал, чтобы, так сказать, доверительную, откровенную атмосферу создать. Так вот, закончил он Университет с отличием. И тогда-то и оказали ему эту честь — пригласили работать в КГБ. И он без колебаний согласился. И работой очень доволен. Сказал, что работа интересная и творческая. Он рассказывал, а я думала: «Господи, ведь мог же нормальным человеком стать. Адвокатом, к примеру. Как же так получилось?» Это уж я потом поняла, что «характерность» эта не во время работы в КГБ появляется, а еще до нее. С ней как бы рождаются. Это как родинка, как веснушки. Только некоторые находят себя (или их находят), а другие — маются, время убивают на неподходящей для них работе. Доносы строчат. Но все равно не находят удовлетворения. И невдомек им, что они с «характерным» лицом родились, что во всем родители виноваты. Я таких потом тоже встречала. Из них бы хорошие кагебешники вышли. И работа бы «творческая» была.
Так вот, когда Новиков приехал, тогда и настоящие допросы начались. По двенадцать часов без перерыва. Я тогда и курить начала. Во время затяжки и ответ обдумать можно. Да, забыла я еще рассказать, что во время самого первого обыска у мамы они сберегательные книжки забрали. Ну, с книжкой на мамино имя — все понятно. А была там еще сберегательная книжка на имя Тани, подруги моей. И всего-то на ней было тысяча пятьсот рублей. Положена она была давно, лет десять назад, когда мама еще работала. Мама тогда дала Тане деньги и попросила на свое имя положить. А книжку эту мама у себя хранила. И Татьяна о ней давным-давно забыла, а я подавно. А во время обыска ее и обнаружили. Так Татьянино имя в этом деле фигурировать стало. Я, когда немножко в себя пришла после маминого ареста, поехала к Тане, рассказала все, что произошло, и про книжку на ее имя тоже рассказала. И говорю ей: «Ты так им и скажи, что деньги не твои, что тебя мама попросила. Тогда они от тебя сразу отстанут, и дело с концом». Очень мне не хотелось еще и Таню в это дело ввязывать. А она вдруг отвечает: «Ну, нет. Деньги мы эти им не отдадим. Они тебе самой еще пригодятся». Тогда я подумала, что она по неопытности так храбрится. Видно, недостаточно я знала свою подругу.
А папа все это время в Гаграх находился. И по определенным дням в условленные часы звонил на почту. Оттуда я с ним и разговаривала. Я просила его ни в коем случае не возвращаться, ни слова не упоминала о своих допросах и убеждала его, что бессмысленно проделать такой далекий путь, чтобы вернуться через несколько дней. Я обещала ему, что при первых же осложнениях в моей ситуации я поставлю его об этом в известность. Я не могу найти сейчас никакого рационального зерна в своих просьбах, никаких особых мотивов. Просто мне было легче при мысли, что папа далеко от всего этого, и казалось, что этот кошмар не может продолжаться долго.
Вызывают меня однажды на допрос и начинают насчет папы спрашивать. Допрос Новиков вел. Ну, я ему отвечаю, что понятия не имею, где папа находится. Я, мол, с ним давно отношения не поддерживаю. А дело в том, что папа с мамой в разводе были, фиктивном, конечно. Я уже упоминала, что разводы такие — исключительно советское явление. И как раз тогда, когда мы с Володей наш развод оформили, чтобы квартиру кооперативную получить, мама с папой тоже развелись, чтобы сохранить квартиру на Таврической. В квартире на Таврической было три изолированные комнаты. Если бы папа с мамой в разводе не были, им по советским законам достаточно было бы одной комнаты. Во второй комнате жила бы я, а в третью комнату могли бы подселить целую семью. Вот поэтому папа с мамой развелись — и все встало на свои места. Каждому по комнате. Полный абсурд — зато все по закону!
Итак, Новиков про папу спрашивает, а я повторяю, что папу знать не хочу и где он находится, меня не интересует. В это время буквально врывается какой-то другой следователь. Я его тогда в первый и последний раз видела. Врывается и с ходу начинает орать и кулаками стучать. И кричит: «Где ваш отец скрывается?! Мы его отыщем! Мы всесоюзный розыск объявим! Мы его за укрывательство от следствия за решетку посадим!» Это был какой-то ужас. Я уже слов его не различала. А он все орет на меня. Я с тех пор крика не выношу. Если кто-то кричать на меня начинает, я теряюсь и плачу. А они потом часто это практиковали. И прием-то это известный — один следователь «добрый», другой «злой». Как в самом примитивном детективе. Но, помню, леденела я вся от крика, и хотелось только рассказать им все, что они хотят, и убежать оттуда.
А еще через несколько дней они опять с обыском пришли к маме на квартиру, на Таврическую. Двое понятых было. Один — какой-то алкогольного вида мужик с улицы, а другая — женщина, хорошая наша знакомая, Зинаида Михайловна, соседка с первого этажа. Я, помню, с ногами в кресло забралась и так там, не шевелясь, просидела. Обыскивать, собственно, было уже нечего. Это они и сами понимали. В основном описью имущества занимались. А Зинаида Михайловна мне уже потом сказала: «Леночка, я понимаю, как тебе неприятно стало, когда ты меня увидела. Но когда они зашли ко мне, я подумала, что лучше уж это я буду, чем кто-то другой. По крайней мере, это все со мной останется, и по дому сплетни не пойдут». И я оценила это и до сих ей благодарна. Описали они тогда все. От каждой ложки-вилки до картин на стенах. Тех картин, что мама оставила и Анри не отдала. А так как каждую вещь в отдельности описать надо — размеры, цвет, материал — то это оказалась огромная работа, горы писанины. И Новиков устал. Когда уже одна только люстра осталась, он вздохнул и сказал: «Ну, люстру мы описывать не будем. Б-г с ней». И в это время этот мужик алкогольный, все время молчавший до того, вдруг произносит: «Ну, нет. Люстру тоже описать надо. Она рублей двести потянет». «Вы так считаете?» — спросил Новиков и люстру тоже описал. Знал бы этот мужик, что через десять лет люстра эта будет украшать Летний дворец императрицы Екатерины в г. Пушкин. Закончили они опись, снесли все картины в одну комнату и комнату опечатали. А я расписалась.
А при очередном телефонном разговоре с папой я ему рассказала, что его разыскивают. Он только ответил: «Я понял». И все. И сижу я как-то дома, вечер уже. А вечером и ночью тяжелее всего. И бессонная ночь почему-то всегда длиннее даже самого бездеятельного дня. Вдруг звонок телефонный. Звонит наша общая с Таней приятельница Нина. И таким деланно бодрым голосом говорит: «Ленка, приезжай к Татьяне. Посидим, чайку попьем». Я про себя думаю, что она, рехнулась что ли? На ночь глядя ехать на другой конец города чай пить. А она настырно уговаривает: «Ну, чего ты одна будешь сидеть? Приезжай». И тут меня осенило — папа. Папа приехал. Это он меня зовет. «Сейчас приеду», — кричу. И бегом из дома. Доезжаю до Тани, через две ступеньки по лестнице перепрыгиваю, звоню — и папа открывает сам. Какое это было облегчение после трехнедельного одиночества, страха, допросов, отчаяния снова почувствовать себя маленькой девочкой, прижаться к папе, потереться о его щеку и на минуту забыть обо всем. На минуту. А через минуту папа сказал: «Я поеду в Москву. Ничего не поделаешь, доченька. Рано или поздно это должно произойти».
И я помню, как я провожаю папу, и мы идем по Московскому вокзалу и молчим. И слезы застилают мне глаза. И я думаю: «Боже, как я тебя люблю. Как я тебя люблю, папуля!» А папа говорит: «Будет возможность, я тебе позвоню». Я понимаю. Я все понимаю. Возможности может и не быть. У мамы не было. Теперь папа. Он садится в поезд, смотрит в окно. Грязное окно. И папу плохо видно. Поезд трогается.
Возвращаюсь домой и сижу у телефона, как завороженная. Проходит утро, проходит день. Телефон молчит. Время от времени поднимаю трубку — гудок телефон в порядке. В доме тишина. Андрюша ко мне не пристает. Чувствует, что мне не до него. Кто-нибудь знает, какое это мучение — ждать звонка?! К восьми вечера я была полумертвая. От телефона не отхожу. В девять вечера звонок. Единственный за весь день. Единственно нужный для меня. Папа. Говорит, что он на вокзале и едет домой. Повесила трубку и разрыдалась.
Папа приехал и рассказывает: «Вышел из поезда, куда идти — не знаю. Подхожу к милиционеру. Говорю — меня разыскивает КГБ. Милиционер оглядел с головы до ног — не пьяный — и показал дорогу. В бюро пропусков называю себя, прошу вызвать Новикова. Через пятнадцать минут говорят: ждите. Прождал больше четырех часов, потом за мной зашли. Часа два допрашивали. Ни слова не спросили, где был все это время. Никаких угроз. А часа через два отпустили».
Я представляю, каково ему было ждать больше четырех часов в приемной. Однажды, уже после окончания следствия, я сама напросилась к Новикову на прием. Я хотела передать ему одну вещь, которая, как мне казалось, облегчит мамину судьбу. Я об этом еще расскажу. Сейчас я не об этом хочу сказать. Так вот, вместе со мной в приемной сидел какой-то пожилой мужчина. Я взглянула на него, и кровь застыла у меня в жилах. Он сидел бледный, уставившись в одну точку, и трясся всем телом, так что стул под ним дрожал. Я до сих пор помню его лицо. Я никогда не задумывалась, как я веду себя перед допросом. В это время не думаешь, как ты выглядишь со стороны. Но я помню парализующий страх от взгляда на пропуск при входе в КГБ и предательская, жуткая мысль получу ли такой же на выход.
Позже, обсуждая с папой характер задаваемых ему вопросов и анализируя весь тон разговора, нам стало ясно, что папу запугивали возможностью моего ареста. Они прекрасно знали про нашу с папой безудержную любовь, его желание защитить меня и били в самое больное место. Я думаю, что за время трехнедельных допросов многочисленных наших знакомых, у них сложилась правильная картина расстановки сил в нашей семье. В смысле делового участия папа был меньше, чем простой наблюдатель. Скрипка была единственным делом, которому он поклонялся и в котором достиг совершенства. И если бы не полное отсутствие честолюбия, я думаю (и знаю мнение о нем знаменитых скрипачей), его имя не сходило бы с концертных афиш. Его беда, как артиста, заключалась в том, что он любил играть только для себя и узкого круга знакомых и родных. Поэтому кагебешники, выбрав маму и меня в качестве основных объектов дознания, нашли рычаги давления на нас. Маме они угрожали папиным арестом, а, вероятнее всего, говорили, что папа сидит, и его освобождение зависит от ее чистосердечных признаний. Подтверждение такому предположению я получила позже. На меня же хотели воздействовать папой, который при каждом известии о моем очередном допросе начинал задыхаться и чуть ли не терять сознание. По их мнению, рано или поздно я должна была осознать, что папина жизнь у меня в руках. И именно поэтому на папиных допросах ему всегда угрожали моим арестом, предлагая вовремя меня облагоразумить. И папа, в отчаянии обращаясь почему-то к безмолвному телефону, спрашивал исступленно: «Ну, почему, почему мучают мою дочь?! Почему не хотят говорить со мной?!» И, глядя на меня воспаленными от бессоницы глазами, умолял не рисковать собой и отдать им скрипки, которые они настойчиво добивались у меня. Где находились скрипки, знала только я. Я спрятала их во время папиного отсутствия. Увы, папа был совсем не борец. Но за это я любила и жалела его еще больше. Ведь я и сама была не слишком-то сильна.
Я уже писала, что вызывали меня на допросы часто. И описывать их всех бумаги не хватит. Но все жестче и жестче они стали требовать выдачи скрипок. Буквально стали из меня душу тянуть: «Елена Марковна, верните скрипки. Скрипки по делу проходят. Поверьте, пока мы их не найдем, следствие не закончится. Даже если на это три года потребуется. Ведь не просим же мы ваши вещи другие, хоть и знаем, что они были. Вещи ваши нас не интересуют. А скрипки отдайте. Ведь вы только вашей матери вредите, следствие продлеваете…» Ну, и все в таком роде. Изо дня в день. И скрипки все перечислили, какие у папы были. Да это и не секрет был. Многие музыканты о них знали. Я — к папе. Советоваться. Папа мне говорит: «Отдай ты им скрипки. Все равно жить не дадут тебе спокойно».
А скрипки мы с Таней прятали. Как я уже говорила, папа тогда в отъезде был. Встретилась я с Татьяной, и решили мы отдать их. Пусть подавятся. А скрипки у разных людей были. Часть у Таниных знакомых — я их даже не знала, часть — у наших. Две очень хорошие скрипки были у наших знакомых музыкантов, что со мной в одном дворе жили. Они, кстати, сейчас в Нью-Йоркском филармоническом оркестре играют. Я все еще в отказе была в 1987 году, а этот оркестр под управлением маэстро Зубина Меты в Ленинград на гастроли приезжал. Я их случайно встретила. Было, что вспомнить.
Так вот, две изумительные скрипки были у них. И решила я одну из них забрать, а другую сохранить для папы. Я знала, что это был папин любимый инструмент. Татьяна пришла ко мне для поддержки, и мы решили к ним поздно ночью идти. Татьяна спрашивает: «А вдруг за нами следить будут?» Ну, а я, наивная идиотка, отвечаю: «Так мы же увидим тогда — двор большой, не спрячешься». В общем ночью пошли мы к Нюсе. Нюся — так эту скрипачку звали. Вышли мы с Татьяной и никого, действительно никого во дворе нет. Вдалеке-вдалеке, очень далеко — двор был огромный — сидит какая-то парочка. И целуются. И Татьяна мне еще раз сказала: «Ленка, посмотри, ведь это за нами следят». А я отвечаю: «Ну, Танька, брось ты думать об этом. У страха глаза велики». Вот такая я была дура и ее слова всерьез не приняла. Вошли мы в парадную, за нами никого не было видно. А чего им идти, у них, наверное, бинокль с ночным видением. Да и простым, я думаю, могли обойтись, ведь мы на лифте поехали, они тут же увидели, на каком этаже лифт остановился. А потом без труда вычислили, что там живут музыканты.
Короче, взяли мы у Нюси одну скрипку, потом все остальные скрипки по знакомым собрали. Осталось только забрать у одной нашей приятельницы, Марии Степановны. Она работала в билетной кассе и всегда помогала нам доставать билеты на поезд. И вот когда я к ней пришла и сказала, что скрипку хочу забрать, она вдруг говорит: «Лена, ты меня прости, но я так волновалась, что скрипка у меня и что ко мне придут с обыском, что я скрипку сожгла». Я говорю, сожгла и черт с ней, с этой скрипкой.
Все собранные скрипки мы отнесли Новикову. А как я уже говорила, следователи допрашивали всех музыкантов, знакомых папиных, и получили информацию обо всех скрипках, которые у нас были. И, как оказалось, они следили за всеми передвижениями моими и Татьяны, и всех, у кого скрипки хранились, они тоже вызывали на допрос. И так, естественно, забрали скрипку у Нюси, которую я пыталась сохранить для папы. Но в тот момент я этого еще не знала.
Потом вызывают меня на очередной допрос, показывают, что скрипку у Нюси изъяли, и угрожают мне тюрьмой за дачу ложных показаний. После этого я снова подписываю, что я возвратила все имеющиеся у нас скрипки. Затем опять начинаются угрозы и крик. Я на это время отключиться стараюсь, хоть это почти не получается у меня. И вдруг следователь спокойно так говорит: «Елена Марковна, не пытайтесь нас одурачить. Поверьте нам, что у нас есть методы заставить вас все вспомнить. И благодарите Б-га, что дело ведет КГБ, а не милиция. Мы крови не жаждем, но вы сами напрашиваетесь, чтобы мы поместили вас в спокойное и тихое место, где у вас будет время все обдумать». И так же спокойно спрашивает, где скрипка такого-то мастера.
Тут я им и говорю, что скрипку эту они уже не найдут никогда. И, уже понимая, что они вели за нами слежку все это время и видели, что я ходила к Марии Степановне, я говорю им, что скрипка была у Марии Степановны, но она ее от страха сожгла. А он говорит: «Вот сейчас мы это и проверим». Оказалось, что Мария Степановна уже сидит в другой комнате, то есть все мои предположения, что они следили за нами и уже вышли на Марию Степановну, тут же и подтвердились. Короче, они уходят, вернее, один из них, и приносит мне записку от Марии Степановны, в которой она возмущенно пишет мне, что я втягиваю ее в это дело, что она понятия не имеет о какой скрипке идет речь и что она поражена, зачем я это делаю. Понимаете, я обомлела. Ведь я видела ее за день до допроса. И она ни слова не сказала мне, что она откажется от сожжения скрипки или что она просит не называть ее имени. Если бы она предупредила меня заранее, я бы имела время что-нибудь придумать. А тут оказывается, что я опять на допросе лгу. А это уже не первый раз, когда они доказывали, что я им говорю неправду. Как-то на одном из допросов, после того, что я им в очередной раз сказала, что я не знаю одного маминого знакомого Б.С., они привели доказательства, что мы с ним встречались. И с такой гаденькой улыбочкой сказали мне: «Елена Марковна, вы нам очень напоминаете вашу маму, которая на допросах тоже крутится, как уж на сковородке. Разница только в том, что под ней сковородка уже накалена, а под вами только пока нагревается. И зависит от вас, раскалим мы ее или нет».
Так что мне по пустякам не хотелось им лгать. Особенно там, где они могли это легко проверить. Но делать мне ничего не оставалось, как взять все на себя. Не доказывать же с пеной у рта, что Мария Степановна просто боится сказать правду. И тогда я им и говорю: «Насколько я знаю, я после допроса должна протокол подписать. Но в том виде, в котором он записан до сих пор, я его не подпишу. Дело в том, что я вам все наврала». Следователь аж со стула вскочил: «Вы отдаете себе отчет в своих действиях?! Я сию же секунду могу посадить вас за дачу ложных показаний. Камера уже давно скучает по вас!» А я, уже зная, что у меня пути назад нет, буквально заорала ему в лицо: «Я повторяю, что я этот протокол не подпишу. В нем сплошная ложь». «Что же вы хотите сообщить мне?» — спрашивает он. А я кричу: «Я сожгла скрипку! Я! Я! Просто, когда вы их начали так упорно искать, я побоялась в этом признаться! Так и записывайте». «Где же вы ее сожгли?» — спрашивает. «У себя дома, говорю. — А где же еще». А он смотрит на меня и произносит, очень четко выговаривая каждое слово: «Я перепишу этот протокол. Но учтите, если выяснится, что и в этот раз вы мне морочите голову, будете отдыхать рядом со своей матерью». А я почти криком кричу, что, мол, много раз я их обманывала, но вот именно сейчас чистую правду говорю.
И уже сама даже начинаю верить, что это я ее сожгла. Всю картину сожжения мгновенно даже перед собой нарисовала для своей же собственной убедительности. Успокаивало меня только то, что они ее все равно никогда не найдут. Короче говоря, подписываю протокол о том, что я скрипку сожгла, прибегаю домой и лихорадочно начинаю жечь в ведре какую-то деревяшку, игрушку Анрюшину. Ведро это, понятно, не мою. И понимаю в душе, что если они сделают экспертизу, то тут же меня и разоблачат. Но напряжение настолько велико, что сидеть сложа руки невозможно. К счастью моему, обыска по поводу скрипки у меня не было.
Через несколько дней меня снова Новиков на допрос вызывает и среди прочего говорит: «Ну, что ж, Елена Марковна, я допускаю, что вы отдали нам все скрипки. И поверьте мне, что пока бы я их не получил, легко бы вам не было. Завтра мы уезжаем в Москву и будет у меня чем порадовать вашу маму». У меня аж в глазах потемнело, как я представила себе маму, из которой они сначала вытянут жилы, добиваясь сказать, где и сколько у нас было скрипок, а потом, когда она будет совсем обессилена, с улыбочкой ей их покажут.
Меня вообще все время преследовали картины маминых допросов, и ночью я не могла заснуть, все время о ней думала и знала, что она тоже не спит.
День пролетел, как угар Ночь на смену пришла. А в сердце моем пожар, Сгорает оно дотла. Челюсть до боли свело, Звенит, звенит слеза. А сон, как рукой, сняло, Хоть выколи к черту глаза. Я знаю, ты тоже не спишь, Ты думаешь обо мне. Не спишь, и молчишь, и молчишь… С тобой говорим лишь во сне. Но сон, как рукой, сняло, Хоть выколи к черту глаза. И челюсть до боли свело. Звенит, звенит слеза…Ночей я боялась ужасно, да и днем не намного легче было. Ходила по улицам бесцельно, просто чтобы отвлечься от своих мыслей. Смотрела на людей и думала, как они могут смеяться, ходить в кино, покупать какие-то вещи? Мне казалось, что все должно замереть от горя. Я, знаете, через две недели после ареста мамы взглянула на себя в зеркало и ужаснулась — я стала совсем седая. В тридцать три года.
Итак, возвращаюсь я домой после этого допроса и вдруг Вера Михайловна, няня Андрюшина, которая осталась помогать мне время от времени без всяких денег — дело в том, что ее мужа в тридцать девятом году арестовали, и больше она его никогда не видела, так она очень сочувствовала мне и понимала мое состояние — так вот, Вера Михайловна вдруг говорит мне: «Леночка, вам звонил какой-то ваш приятель, он попросил меня записать номера камер хранения на Московском вокзале, куда он свез какие-то вещи». Можете себе представить, что я почувствовала? Я-то прекрасно понимала, что наш телефон прослушивается. Мне в тот момент захотелось завыть, исчезнуть, мне хотелось проснуться и убедиться, что это сон.
В ту минуту я поняла, что это конец. Я поняла, что завтра утром ко мне придут. Но у меня еще вдруг появилась надежда, что если я рано утром поеду на этот вокзал, я их опережу. Собственно, мысль такая появилась у меня на рассвете, в пять часов утра, и я вскочила и начала судорожно одеваться. А четверть шестого раздается звонок в дверь. Входят следователь и два оперативника. Новиков ко мне обращается, можно сказать, прямо в дверях: «Ну, Елена Марковна, мы видим, что вы уже готовы». Я отвечаю: «Я, к сожалению, уже несколько месяцев, как готова. И со дня на день вас жду и не раздеваюсь». А Новиков говорит: «Вот и хорошо. Вот и скажите своему ребенку, — а Андрей проснулся от звонка, увидел чужих людей и заплакал, — чтобы он успокоился. Если вы не вернетесь, его воспитает другая мама. Он один не останется. Государство у нас гуманное и позаботится о нем».
Андрюша кричит: «Мама, не уходи, мамочка, не оставляй меня». Он один, пятилетний, в квартире, муж в командировке, Вера Михайловна еще не пришла. Я собрала все свое мужество, подошла к нему и спокойно, улыбаясь, говорю: «Андрюшенька, родной, я иду в больницу. К очень хорошему врачу. Я его очень долго ждала. Ты же не хочешь, чтобы мама болела? Скоро придет Вера Михайловна, а я может быть на операцию лягу. Так Вере Михайловне и передай». При этом прошу следователя, чтобы он разрешил мне остаться с сыном до приходя няни, а он даже не слушает меня и говорит, чтобы я скорее собиралась и прекратила это представление. Но спокойно говорит. Вежливо даже.
Я вот вспоминаю, как обычно следователь звонил и вызывал меня на допрос. Всегда было одно и то же: «Елена Марковна, здравствуйте. Это вас следователь Новиков беспокоит. Не могли бы вы завтра к десяти часам подойти к подъезду номер сорок восемь. Пропуск вам будет заказан». И если я говорила, что в десять часов мне очень неудобно, можно ли придти в двенадцать, голос его становился железным, и он кратко так говорил: «Уж постарайтесь в десять. Я буду вас ждать». И вешал трубку.
Ну, в этот раз оставила я плачущего Андрюшу дома, приезжаем в КГБ, заходим в кабинет, и Новиков мне говорит: «А теперь, Елена Марковна, позвоните-ка вашему приятелю и еще раз уточните, в каких камерах хранения, на каком-таком вокзале спрятаны ваши вещички. И если вы хотите, чтобы ваш приятель продолжал жить спокойно, давайте сразу же и закончим с этим делом. Тогда я обещаю вам, что мы оформим все как вашу добровольную выдачу и не будем мешать вашему знакомому нормально работать. Вы же понимаете, что мы его и без вас найдем. Но нам бы не хотелось в его поисках приглашать сюда всех ваших знакомых. И в этом, я думаю, наши желания совпадают».
Мне стало очевидно, что найти Анри — дело несложное. Тем более для КГБ. Но надо признаться, что я была такая злая на него, что в тот момент у меня и мысли не было его скрывать. Так что вся речь Новикова для меня никакого значения не имела. Сказать по правде, я до сих пор не могу простить Анри этого звонка. Я уверена, что именно когда они обнаружили все наши вещи и во что бы то ни стало решили их конфисковать, мамино дело приняло совершенно другой оборот. Я помню, что до обнаружения этих вещей на одном из допросов, когда я очень была расстроена из-за мамы и не смогла этого скрыть, Новиков сказал мне: «Ну, что вы так убиваетесь, Елена Марковна? Ну, получит ваша мама год тюрьмы, через год вы вообще забудете обо всем этом». И насколько изменилось их отношение к маме и ко всему этому делу после обнаружения вещей!
Но в тот момент я ни о чем таком не думала, в моем мозгу только стучало, что ведь и коробочка с драгоценностями тоже была у него. Я ведь считала его очень надежным другом. Он же любил меня! А по моим понятиям, если любишь, то не трусишь. Тем более, что ему надо было просто ничего не делать. И все.
В общем, звоню я ему на работу и прошу повторить номера камер хранения. И говорю с ним ледяным, официальным тоном, называю по имени-отчеству, что должно было, как мне казалось, хоть немного его насторожить. А Новиков слушает в параллельную трубку. И вдруг Анри говорит: «Кстати, когда я звонил тебе домой, я не все тебе перечислил. Наиболее ценные вещи я отнес в камеру номер такой-то». Я даже ответить ничего не смогла, просто положила трубку. А Новиков и говорит: «Ну вот, Елена Марковна, а теперь пишите заявление о добровольной выдаче». Я написала, он мне выписал пропуск на выход, и я ушла, как во сне. И не заезжая домой, поехала на работу. А надо сказать, что на работу я все это время не появлялась. До работы ли было мне. Подхожу к бюро пропусков, называю свой номер, а мне говорят: «Вам пройти нельзя. Вы уволены».
Как потом я узнала, меня уволили под предлогом, что я не заявила, что моя сестра уехала в Израиль. Меня в тот момент это не обеспокоило и не удивило. Ни формулировка, ни сам факт увольнения. Я даже не задумалась, на что, собственно, мы будем существовать. На одну зарплату моего мужа далеко не уедешь.
Но в тот момент я думала только о коробочке и всех выданных вещах. Вызвала Анри в проходную по местному телефону (он мне, кстати, сказал, что уже начальника моей лаборатории вызывали на допрос и спрашивали обо мне) и плачу, и сквозь слезы говорю ему: «Ну, что же ты сделал?! Ну, зачем мне звонил?» А он отвечает: «А что? Ведь я же звонил из автомата». Я говорю: «Ты же инженер-электронщик, ты разве не понимаешь, что если мой телефон прослушивается, то уже не имеет значения откуда ты звонишь?!» Но не было ни сил, ни времени, ни желания объяснять ему, что произошло. Я только спросила: «Коробочка тоже там?» Он ответил: «Нет, она при мне. Я могу тебе ее отдать».
Какое это было облегчение при всей этой ужасной ситуации узнать, что драгоценности, которые мама поручила мне хранить, не в руках кагебешников. В общем забрала я эту коробочку и больше не могла его тогда видеть. И сколько раз я потом думала бессонными ночами, что все могло сложиться по-другому в маминой судьбе, не выдай он эти вещи. И еще раз я убедилась, что один поступок (или проступок) в одно мгновение может изменить всю жизнь. Драгоценности я отнесла бабушке, и она их спрятала и держала до того момента, пока я своими уже руками не отнесла их в КГБ. Но об этом позже.
Все это время и даже когда уже приехал папа у нас не было никаких контактов с мамой и, естественно, никаких сведений о ней. Как известно, в период следствия по советскому законодательству адвокат к обвиняемому не допускается. Само следствие — его продолжительность — практически ничем не ограничено. Я знала случаи, когда следствие продолжалось более трех лет, и все это время подследственный находился в тюрьме без всякой связи с родными или адвокатом.
Раз в месяц во время следствия родственникам разрешалось послать в тюрьму одну пятикилограммовую посылку. Причем в эти пять килограммов входили и одежда и еда. Выбор еды был тоже строго ограничен и должен был соответствовать определенному перечню. Продукты или вещи, не перечисленные в этом «черном» списке, изымались при проверке посылки. Поэтому единственный человек, который был в это время «связным» между мамой и мной — это следователь Новиков. И каждый раз я спрашивала его, как мама, как она себя чувствует, не надо ли ей что-нибудь. И каждый раз с присущим следователям терпением и привычкой к подобным вопросам Новиков отвечал: «Ваша мама чувствует себя прекрасно, и ей ничего не надо. Мы обеспечиваем ее всем необходимым». И только через полгода, когда адвокат был допущен к делу и ознакомился с этим многотомным «трудом», я узнала страшную правду о мамином состоянии.
А где-то в начале мая мне приходит повестка с указанием приехать на допрос в Москву. Тут следует отметить, что на последнем папином допросе (которых в общей сложности было не очень много), уже получив пропуск на выход, он услышал реплику Новикова, брошенную ему вслед: «Кстати, Марк Соломонович, передайте своей дочери, что у нас уже накопилось достаточно материала на нее. Я советую вам ее образумить, если вы не хотите взять на себя заботу о посылках как для своей жены, так и для дочери». Помню, папа вернулся с этого допроса страшно угнетенный и испуганный за меня. Рассказав мне все, он только молча умоляюще посмотрел на меня, так и не решившись убеждать меня быть «благоразумной». Даже он понимал, при всей его любви ко мне, что есть вещи, на которые я не соглашусь и которые, ради мамы, он не вправе требовать от меня.
Итак, получив повестку из Москвы, я, естественно, подумала, что щедрость КГБ вряд ли будет столь безгранична, чтобы оплачивать мне билеты в оба конца. Я была уверена, что меня посадят. Дело в том, что на последних допросах в Ленинграде они без конца меня спрашивали: «Елена Марковна, подумайте хорошенько, вы ничего не забыли нам отдать? Учтите, что вы проходите по делу не просто свидетелем, а соучастником преступления». Напомню, что письмо в Югославию было написано мною. И черновик этого письма был у них в руках.
Когда папа узнал, что меня вызывают на допрос, на нем лица не было. Он постарел буквально на глазах. И мне было страшно, жутко страшно. Что уж скрывать. Но про себя я уже решила, что ничто не заставит меня отдать им эту коробочку. Я и так чувствовала себя бесконечно виноватой за всю эту цепь ошибок моих и чужих, которые поставили маму в безвыходное положение. Ведь от нее они ничего не узнали ни о чем и ни о ком!
Вобщем иду я к Татьяне, одалживаю (на какой срок?!) халат. Я уже к тому времени «образованная» была и знала, что халат с поясом (который был у меня) в тюрьму не пропустят. Так же как и туфли со шнурками. Они во время следствия очень заботились, чтобы вы не удавились. Вот я и одалживаю халат у Тани, собираю остальные вещи для отсидки — так сказать, сама себе передачу делаю. Ничего не забыла — от зубной щетки до комнатных туфель. И еду в Москву, садиться в тюрьму.
Тут уже мы с папой поменялись ролями. И он меня провожает, и я ему обещаю позвонить при первой возможности. И не плачу, стараюсь его подбодрить.
Я помню, как в поезде я смотрела на пассажиров и думала, что вот все они едут по своим делам, в командировку, в отпуск, в гости, а я — в тюрьму. И они даже не подозревают об этом, глядя на меня. А мне хочется крикнуть: «Люди, спрячьте меня, спасите меня. Я устала. У меня уже нет сил». Так весь путь и простояла, тупо глядя в окно.
Но и эта ночь кончилась. Приехала в Москву, в грязном привокзальном туалете вымыла лицо, нарумянила щеки, подмазала губы, чтобы не заметили они, что я провела бессонную ночь. И явилась к ним. А следственный отдел, куда меня вызывали, располагался не в страшном, внушительном, имперского вида здании на площади Дзержинского с угрожающей надписью «Комитет Государственной безопасности СССР», а в очаровательных розовых двухэтажных особнячках неподалеку. И почему-то это еще больше напугало меня, была в этом какая-то зловещая несовместимость. Как будто вы видите прекрасное лицо, а опускаете глаза чуть ниже и в ужасе убеждаетесь, что тело, которому это лицо принадлежит, уродливое, вместо ног копыта и шерстью обросло.
Я тогда об этом подумала и вот с таким ощущением вошла. И села ждать. И чувствую, что все дрожит у меня внутри. А может, я так же тряслась, как тот человек в приемной КГБ, о котором я уже упоминала и которого забыть не могу. И помню, что не от страха у меня эта дрожь была. Страх куда-то далеко ушел. В подсознание. А такое было напряжение внутреннее «не расколоться» на допросе, выдержать, не подвести маму, что нервы были, как струны, натянуты. И вот эти нервы и вибрировали. Правда, надо сказать, что как только вызвали меня, я мгновенно успокоилась. Абсолютно. Нечто сходное со мной бывало на экзаменах. Я всегда очень волновалась до того момента, пока в аудиторию не войду. А потом уж все волнения испарялись. Так было и тут.
Кстати и сам путь в следственную комнату проходил по обычным коридорам. Полная была противоположность с ленинградским КГБ. Там допросы проходили в главном здании, огромном и хмуром, в котором окна начинались на уровне третьего этажа и про которое ходили легенды, что в подвалах этого здания пытают и уничтожают неугодных людей. И что именно на первых двух этажах находятся следственные камеры с окнами в закрытый внутренний двор. Так вот, в Ленинграде, когда вы идете, конечно, в сопровождении следователя, перед вами вдруг закрывается дверь, раздается сигнал сирены и на дверях возникает светящаяся надпись: «Стоять. Не входить». Надпись эта мигает, сирена воет, и вы ощущаете в полной мере свою полную беспомощность. Откроется ли эта дверь для вас с той стороны, или перед кем-то другим она будет вот так светиться, а вас в это время будут вести на допрос по унылым лестницам, снизу доверху обнесенным железной сеткой? Так всегда при закрытых дверях проводят заключенных, чтобы они, не дай Б-г, с кем-нибудь посторонним не столкнулись. Я помню свое первое жуткое ощущение, когда я шла по этим лестницам, обнесенным сеткой, и вдруг эти двери с надписью. И сирена. Страшно.
Так вот, в Москве, в этих двухэтажных особнячках этого не было. Но двери за вами захлопывались автоматически. Привели меня в небольшую комнату, где был только письменный стол, два стула по разные стороны стола и сейф. Как только мы пришли, Новиков дает мне лист бумаги и просит переписать какой-то отрывок из книги. Говорит, что это нужно для экспертизы почерка на предмет подтверждения, что именно мной написано письмо в Югославию. Я говорю, я не отрицаю, что это письмо я написала. А он отвечает: «Для суда, Елена Марковна, нужны доказательства. Суд у нас законный и на веру ничего не принимает». Ох, какой издевкой вспоминались мне эти слова на суде. Каким жестоким фарсом оказался этот «законный советский суд». А тогда, я помню, наверное, минут тридцать я писала какой-то текст. Потом Новиков меня допрашивает и вежливо убеждает рассказать все, что я утаиваю. Я столь же спокойно отвечаю, что я не понимаю, на что он намекает. Прошу его выразиться конкретнее, а не ходить вокруг да около.
Ну и как в дешевых детективных романах, вдруг в комнату буквально врывается второй следователь и начинает на меня орать, стучать кулаком по столу и буквально вопит мне в ухо, показывая на сейф: «У меня на вашу мать здесь столько материала, что я подведу ее под расстрел! Вы здесь комедию перед нами ломаете?! Я обещаю, что и вы сядете рядом с ней! И уверяю вас, быстро все вспомните. Даже вспомните то, чего не было! И будете умолять меня вас выслушать! Не такие здесь языки развязывали!». И, уже не владея собой, орет: «Всех бы вас попересажать! На третий день следствие было бы закончено. Вы бы даже то, что до вашего рождения было, вспомнили бы! Запомните, Елена Марковна, камера для вас уже готова. И отделяет вас от нее одна ночь. И вы сами должны решить, быть ли вам рядом с матерью или рядом с сыном. Идите и хорошенько подумайте, во всем ли вы нам признались». И дает мне направление в гостиницу «Спутник», в одноместный номер.
И снова я на свободе до девяти часов утра. Вышла я из здания КГБ, и ничего меня вокруг не интересует. А здание это в самом центре Москвы, и рядом огромный универмаг «Детский Мир». Раньше, когда я приезжала в Москву в командировку или навестить Анечку, я часами болталась по этому Универмагу в надежде купить что-нибудь «по случаю» для Андрюши. А в этот раз я даже не взглянула в его сторону. Провожал меня до выхода оперативник, который делал обыск у бабушки. И опять я дурочкой притворяюсь и спрашиваю его голосом наивной девочки, как старого знакомого: «Послушайте, — говорю, — вы ведь, наверное, знаете, что они от меня хотят. Вы хоть намекните мне, а то они только угрожают, а толком ничего не говорят». Он, как и следовало ожидать, сделал недоуменное лицо и сказал, что он совсем, ну совершенно не в курсе.
Пришла я в эту гостиницу. В номере телефон. И я звоню папе в Ленинград. «Папуля, — говорю как можно более спокойным голосом, — они чего-то от меня хотят, а я ничего не могу понять. Но ты не волнуйся. Ты же понимаешь, что это просто недоразумение». Папа в трубку как закричит: «Ну, причем тут ты?! Если они хотят что-то выяснить, пусть меня вызывают! Что они тебя мучают?!» А я папе отвечаю: «Папуля, ну что ты нервничаешь? Они разберутся, что я им все уже рассказала. Все уладится. А сейчас я просто не знаю, на какую тему и думать, так как они толком ничего мне не сказали».
Конечно, в душе я знала, что бы им хотелось услышать. Определенно, кто-нибудь из маминых знакомых сказал, что у нее были драгоценности. А, кроме того, я умудрилась не назвать ни одного маминого знакомого и ни слова не сказать, чем она занималась на работе. Последнее мне было очень легко сделать, так как мама никогда меня в свою работу не посвящала. Но разве они могли в это поверить? И вообще, кроме того, что я им лично отдала скрипки, больше я ни в чем не раскололась. Хотя честно скажу, желание все рассказать во время допроса возникает у вас помимо воли. Помню, я возвратилась домой после двенадцатичасового допроса, измученная, опустошенная и говорю папе: «Знаешь, папуля, я никогда не буду осуждать людей, которые не выдержали на допросах. Только тот может осудить их, кто прошел через весь этот кошмар до конца и выстоял. Не на свободе, а в тюрьме. А я чувствую, если меня посадят — могу не выдержать».
А одно время допросы у меня были день через день. Уже язык заплетался повторять одно и то же: «Не знаю, не знакома, не в курсе, не знаю, не встречалась, не помню». В один из допросов Новиков, обычно выдержанный, (или играющий такую роль) вдруг закричал: «Что вы вроде вашей матери из меня дурака делаете?! Она называет мне своих знакомых, а потом оказывается, что они либо умерли, либо в Израиль уехали. Я уже предупредил вашу мать, что ей дорого это обойдется, и вам не мешает это помнить». А допросы были иногда и до двенадцати ночи, и домой я буквально приползала и, не раздеваясь, ложилась. Ложилась и думала, мамочка дорогая, на сегодня и для тебя все закончилось. На сегодня у тебя передышка. Если бы я знала тогда, что, в основном, маму допрашивали по ночам. А иногда и днем, и ночью почти без перерыва. И месяцами сидела она в одиночной камере. Но это я уж потом узнала, когда адвокат был к делу допущен.
Ну, вот, пришла я в эту гостиницу «Спутник», позвонила папе, включила радио, чтобы не слышать тишину, и, не раздеваясь, прилегла. И мыслей даже не было в голове. Какое-то оцепенение наступило. Одна только мысль время от времени возникала: «А Анечку вам, слава Б-гу, не достать. Она далеко». И злорадное такое чувство появлялось, как будто это мы намеренно сумели их обмануть. Приятное такое чувство. Чувство, что есть такое место, куда при всей их всесильности им не дотянуться. И гордость за сестричку.
На следующее утро прихожу снова на допрос. Новиков — сама вежливость. «Ну, что, Елена Марковна, вспомнили что-нибудь?» Я опять держусь своей версии и говорю, что я перед ними чиста. В это время входит в комнату тот оперативник, что обыск у бабушки проводил и меня вчера до ворот провожал. И вдруг он в разговор наш встревает и спрашивает: «Елена Марковна, дело прошлое уже. Но скажите мне, когда вы успели разорвать записку, что мы в вашей сумке обнаружили? Уж больно этот вопрос меня мучает». А я отвечаю: «Ну чего ж вы так долго мучаетесь-то? Спросили бы меня раньше, я б вам и сказала бы, что разорвала я ее на ваших глазах, пока ваш напарник за понятыми ходил. Теперь вы мучаться не будете? Очень я не люблю, когда люди по моей вине страдают». Вижу, лицо его вытягивается, и он так протяжно говорит: «Да, такие люди нам бы здесь не помешали». А я отвечаю: «Есть еще и другие места, где такие люди пригодятся». Надо тут заметить, что после окончания следствия они мне эту записку разорванную в полиэтиленовом мешочке и вернули. Хорошо я ее тогда разорвала. Не смогли они ее склеить. Новиков этот наш обмен любезностями прерывает и говорит: «Ну, что ж, Елена Марковна, раз вам нечего нам рассказать, вот ваш пропуск, получите предварительно в кассе деньги за проезд и до следующего нашего в вами свидания».
Схватила я свою сумку с «тюремными» вещами, деньги получила — и на свободу. На следующих допросах Новиков пару раз вскользь спрашивал, не распаковала ли я свою сумку, с которой в Москву приезжала. При этом каждый раз добавлял, что рано еще распаковывать.
Может быть, вы еще помните, что при самом первом обыске у мамы, они забрали сберкнижку на имя Тани. Ну и ее начали вызывать на допросы. Про всяких знакомых нашей семьи спрашивать и, в основном, про сберкнижку эту выяснять. А Татьяна на своем стоит — моя, говорит, эта сберкнижка, и все тут. И версию мы с ней придумали, что будто бы она от мужа своего прятала эти деньги. А деньги якобы достались ей после смерти ее мамы, и никто об этих деньгах не знает. Ее мама уже, к сожалению, подтвердить не может и она, мол, знакома с ответственностью за дачу ложных показаний. Так что безусловно она правду следователю рассказывает. А на вопрос, как же книжка у нас оказалась, отвечает, что после смерти своей мамы моя мама самым близким для нее человеком была. Как бы второй мамой стала (что, впрочем, недалеко от истины было).
А на одном из допросов (моих) Новиков вдруг ни с того, ни с сего закричал: «Мы вашу подругу, как волка, к стенке прижмем! Не такие герои у нас хвост поджимали». Встречаюсь я после этого допроса с Таней, все ей пересказываю и говорю, плюнь ты на эти деньги. Не спасут они меня. Расскажи ты им все. Не хочу я, чтобы они тебя мучали. А она еще к тому же и заводная была, разозлил Новиков ее своими угрозами. Она встала передо мной, глаза блестят, напряглась вся, как перед прыжком, и отвечает: «Ты что, с ума сошла? Он меня напугать хочет? Да я сама сейчас к нему на допрос явлюсь и все, что о нем думаю, выскажу». И действительно на следующий день звонит Новикову и говорит, что хочет сделать заявление. Принял он ее. А она, как вошла в кабинет, сразу же в атаку: «А что это вы, — говорит она ему, — при моей лучшей подруге меня оскорбляете и мне угрожаете? Я на вас жалобу подам вашему руководству». А Новиков уставился на нее в изумлении и отвечает: «А свидетели того разговора есть? Елена Марковна что-то напутала, да она и не свидетель вообще. Идите домой, Татьяна Владимировна, и успокойтесь».
Но успокоиться он ей не дал. И через несколько дней они заявились к ней с обыском. Перерыли весь дом, муку и крупу из банок высыпали. Хорошо, что ее мужа в это время в Ленинграде не было. Он метеорологом работал и в это время на научно-исследовательском судне заграницей был. Мы вообще долгое время уже по его возвращении не рассказывали ему, что Татьяну вызывали на допросы и что в квартире у них был обыск. Как всякий советский человек, у которого была виза для выезда заграницу, он был очень мнительным и боялся, что в любой момент ее могут закрыть. Да и мы, честно говоря, волновались, что это будет его последняя заграничная командировка. Забегая вперед, могу сказать, что все эти перипетии не повлияли на его научную карьеру.
Итак, они провели у Тани обыск и ничего, естественно, не нашли, кроме двух порнографических журналов, которые Эдик, Танин муж, однажды привез из плавания. Журналы такие в то время в Союзе были запрещены. А Татьяна вообще о них забыла, и валялись они где-то на дальней полке. После обыска они эти журналы забрали с собой, даже не составив протокол изъятия. Когда Таня рассказала мне об этом, мы с ней долго смеялись и были уверены, что на пару вечеров они от нас отстанут!
Папа все это время старался держаться молодцом. Много времени проводил с Андрюшей. У меня в тот период почти не было сил на него. Я уж не говорю, что я почти перестала вести домашнее хозяйство, даже просто поговорить с сынулей не было настроения. Ну, и, конечно, Вера Михайловна, няня Андрюшина, очень выручала. Муж целые дни работал. Надо сказать, что никаких претензий к своему мужу я в тот период не имела. Все свободное от работы время он посвящал Андрею. Старался, как мог, поддержать меня и выполнял почти всю домашнюю работу. В обстановке моей постоянной нервозности он умудрялся сохранять самообладание и создавал вокруг себя атмосферу покоя. И если мне лично это помогало мало, то на Андрея, безусловно, действовало самым благоприятным образом. На выходные дни он организовывал вылазки за город, и даже я на короткие мгновения возвращалась к нормальной жизни.
Кстати, в тот период я поняла, что такое в Советском Союзе партийная неприкосновенность. Родной дядя моего мужа был в то время вторым секретарем Ленинградского обкома партии. И когда на самом первом допросе, после обыска у бабушки, меня начали спрашивать про родственников, я и сказала кто есть родной дядя моего мужа. И с тех пор про моего мужа как будто забыли. Как будто его вообще у меня не было. Вызывали на допросы случайных знакомых, сослуживцев, наших дальних родственников, а моего мужа — ни разу! Ни единого разочка! Но все равно, волнуясь, что у него на работе будут из-за нас неприятности, я, будучи на допросе в Москве, попросила Новикова не звонить мужу на работу, если он им понадобится. А он мне так быстро отреагировал: «А зачем нам ваш муж?» И все.
Ну, а я в то время жила от допроса до допроса. Кстати, только в КГБ меня впервые в жизни начали называть по имени-отчеству. Дома, на работе, среди друзей я была просто Лена. Поэтому, когда Вера Михайловна мне говорила: «Леночка, пока вас не было, вам звонил какой-то мужчина», — я тут же спрашивала: «Он как меня называл — Лена или Елена Марковна?» И если она говорила, что «Елена Марковна», я уже знала, что меня вызовут на допрос. Я с тех пор страшно не люблю, когда меня по имени-отчеству зовут. Хорошо, что в Израиле нет отчества, а одни имена только. Очень это хорошо.
Ну, вот так я и жила от допроса к допросу. И вдруг пятнадцатого мая амнистия. И мамина статья — контрабанда — амнистируется! Амнистия эта вышла к Международному году женщин. И женщины старше шестидесяти лет по многим статьям, в том числе, и по контрабанде, отпускались на свободу. И надо же такое чудо, что следователь Новиков в это время в Ленинграде был! Я знала это, так как у меня как раз за день до этого был очередной допрос. Прочитав в газете утром эту амнистию, я тут же звоню Новикову и прошу срочно меня принять. Как на крыльях бегу в этот ненавистный дом, еле могу дождаться приема. Сердце стучит, кажется, что на расстоянии его стук слышен. Буквально влетаю в его кабинет, сую ему газету и спрашиваю: «Вы амнистию видели?» Он удивленно смотрит на меня, читает газету и чуть-чуть с заминкой говорит: «Ну, что ж, Елена Марковна, согласно этой амнистии я должен вашу маму отпустить». Вот такие слова говорит. Слово в слово. Я даже интонацию помню. И добавляет: «Позвоните мне завтра в десять утра».
Я выбегаю на улицу. Солнечный, радостный, весенний день! Я, не чуя под собой ног, бегу к папе. По моему лицу он видит все. Я целую Андрюшу, танцую, пою. Господи, как я была счастлива! И какой это был жестокий урок для меня. Уже много-много лет спустя, получив, наконец, разрешение на выезд в Израиль после долгого «отказа», мы до последнего мгновения ждали какого-нибудь подвоха. Радость затмевалась тревогой. И, даже уже сидя в самолете, мы боялись, что вот сейчас войдут люди «в штатском» и попросят нас выйти. Я разучилась радоваться предвкушению чего-то хорошего. Они убили это во мне.
Наутро, в десять часов, я позвонила Новикову и услышала ледяные слова: «Елена Марковна, к сожалению, мне нечем вас обрадовать. Прокурор не дал санкцию на освобождение вашей мамы». И повесил трубку. Я не могу описать свое состояние. У меня провал в памяти. Черная дыра. Вечная мерзлота. Паутина.
Я живу, как в липкой паутине, Чувствуя дыханье паука. А паук огромный, весь в щетине И кирзовых грязных сапогах. Я стою, опутанная ложью И оплеванная мерзкою слюной. Смрад и плесень на паучьей коже, В сердце мертвых жертв богатый перегной. Я живу, охваченная страхом, Что останусь жить здесь навсегда. Сколько судеб здесь покрыто мраком? К скольким людям здесь придет беда?И с этого момента начинается полное беззаконие и медленное убийство моей мамы. Прокурор Фунтов Владимир Иванович, спите ли вы спокойно или возмездие совершилось? Я ненавижу вас, прокурор Фунтов. Сколько еще жизней на вашей совести? Будьте вы прокляты! Увы, я могу только догадываться, почему вы не освободили мою маму. Может, вы мечтали о крупном еврейском процессе с впечатляющими доказательствами переправки ценностей в Израиль? Вас уже ждало продвижение по службе? Вы уже приготовили обличительную речь? И вдруг — амнистия. Такой неожиданный поворот! Да к тому же надо вернуть все отобранные вещи! Могли ли вы смириться с таким поражением?! Нет, Партия не научила вас отдавать. Вы привыкли только брать. И убивать… Жизнь моей мамы на вашей совести.
И начинается фабрикация нового обвинения. А сделать это совсем не просто: ведь огромное число статей подпадало под амнистию. Тон допросов резко ужесточился. Количество допрашиваемых свидетелей возросло. Следственная группа начала активно работать на месте прежней работы моей мамы. (Забегая вперед, скажу, что ничего криминального они там не обнаружили). Но им необходимо было выдвинуть против мамы новое обвинение, не подпадающее под амнистию. И они выдвинули абсурдное по сути, но ужасающее по последствиям обвинение: статья 88 часть 2 Уголовного кодекса — валютные операции в крупных размерах. Обязательно в крупных, так как мелкие валютные операции, то есть статья 88 часть 1 тоже амнистируется.
На чем же строится это обвинение? Во время обыска у мамы нашли сломанную сережку: бриллиант отдельно, а оправка отдельно. Бриллиант они конфисковали среди прочих всех вещей, а оправку даже взять не захотели. И я об этой сережке забыла, и они до поры до времени не обращали на нее внимания. И никто из нас не подозревал, что после амнистии они стали вынашивать этот зловещий замысел.
Оказывается, по советским законам хранение бриллианта как камня, не в изделии — уголовное преступление. Конечно, даже для них сфабриковать из этого факта обвинение о валютных операциях в крупных размерах было не просто, но разве для них нужны были какие-нибудь факты?!
Итак, допросы ужесточились. Можно предположить, что не только для нас. Бедная мама почувствовала, наверное, это в полной мере. Уже когда адвокат ознакомился с делом, он сказал мне, что признаки психического расстройства были замечены у мамы через два месяца после начала следствия. Но они продолжали держать ее в одиночке, не прекращались ночные допросы. И все это до последнего дня следствия, то есть все шесть месяцев.
Помню, где-то в августе на очередном допросе, когда уже становилось ясно, куда клонит следствие, Новиков вручает мне записку. От мамы. Уж почерк ее я знаю. Рука, правда, дрожала, но все было ясно написано. А записка такого содержания: «Дорогая доченька! Отдай, прошу тебя, следователю Новикову Сергею Валентиновичу коробочку с драгоценностями, которую я тебе отдала после обыска. В ней должны быть следующие вещи…» И дальше шло точное описание маминых драгоценностей. Я ожидала чего угодно на допросах. Но, прочитав записку, я онемела. И мысли забегали-забегали у меня в голове. Если мама просит все отдать, значит ей это зачем-то нужно. Может быть, после многочисленных допросов свидетелей они получили исчерпывающие доказательства о наличии у мамы драгоценноостей? И если они до сих пор не найдены, то значит они обвиняют маму в их контрабанде? И, может быть, маме нужно доказать, что она не переправила их заграницу? Или что не продала их кому-нибудь здесь, в Советском Союзе? Ведь по советским законам продажа бриллиантов из рук в руки, минуя специальный магазин, является тяжким преступлением. И даже совсем бредовая мысль проносится в голове: вдруг маме предложили «сделку» — она им бриллианты, они ей — свободу. Вот даже до какого абсурда может довести больное воображение.
Все это пронеслось у меня в мозгу, я спокойно встала и говорю: «Через два часа я вернусь». Поехала к бабушке, все забрала и через два часа была снова в кабинете. Новиков взял у меня эту злосчастную коробочку, повертел в руках, открыл и как-то очень спокойно произнес: «Елена Марковна, показать вам в скольких допросах вы говорили, что выдали следствию все? Сосчитать вам, сколько раз вы давали мне ложные показания? Зачем вы это делали? Вы ведь знали, что вы очень рисковали». А у меня пустота в душе и тоска по маме. И я столь же спокойно и безразлично отвечаю: «Меня так воспитали, что я слушаюсь маму, а не следователей КГБ». И замолчала. И даже не знаю, спрашивал ли он меня еще что-нибудь. Я не слышала. И не помню, как дома оказалась.
После этого меня ни разу не вызывали на допросы. А в начале сентября к делу допустили адвоката. Совсем незадолго до этого Новиков вызвал меня и сообщил, что во время следствия у мамы началось психическое расстройство. Я помню, что я впала в шоковое состояние. Я не могла, не хотела в это поверить. Перед моими глазами была мама, сильная, энергичная, волевая, редкостного ума женщина, всегда независимая и деловая, любящая и любимая, в любую минуту готовая придти нам на помощь, опора всей нашей семьи. У такого человека не могло быть психических отклонений!
Я начала умолять о свидании с ней. Мне отказали. Я почти перестала спать ночами, а если засыпала — мне снились кошмары. Я ходила по улицам и думала о самоубийстве. Я обвиняла себя в болезни мамы. Так или иначе, по моей вине были обнаружены все вещи, я сама отдала им скрипки. Сколько еще ошибок я совершила, о которых даже не подозревала?! И если я смогла перенести этот период, выжить и сохранить в себе силы быть дочерью, матерью и чуть-чуть женой, так это потому, что я убедила себя: этого не может быть, это мамина игра со следствием. Когда я ее увижу, я по глазам пойму, что она притворяется.
И как в подтверждение этих моих мыслей просходит событие, которому до сих пор я не могу найти достойное объяснение. К тому времени у нас уже появился адвокат Юдович Лев Абрамович, известный московский защитник. Этого адвоката Анечка в одном из своих писем из Израиля порекомендовала нам. Он уже начал знакомиться с делом, а я стала жить между Москвой и Ленинградом.
Помню, когда Лев Абрамович после нескольких встреч со мной, во время которых мы, как боксеры в начале боя, приглядывались друг к другу, дал свое согласие на ведение дела, я подошла к кассе внести определенную сумму. И в кассе этой сидела очаровательная молодая женщина, которая приняла эти деньги и выдала мне квитанцию с таким безразличным и отрешенным выражением на лице, как будто я покупала килограмм колбасы. И я подумала про себя: «Господи, вот сидишь ты здесь, ухоженная и недоступная, довольная и счастливая, и даже не представляешь, сколько несчастий заключено в этой повседневной для тебя процедуре: деньги — квитанция».
И еще раз жизнь преподала мне урок не судить поверхностно о людях, ибо знаю я теперь, что первое впечатление может быть, ой, как обманчиво. Женщина эта, Лиля Коган, на многие годы стала мне близким и родным человеком. Узнала я, сколько горя выпало на ее долю. Она, как никто другой, обладала уникальном даром сопереживания и многие годы старалась поддержать меня. В ее доме мне было спокойно и надежно.
А тем временем адвокат начал знакомиться с делом, и мы жили ожиданием суда. Где-то в начале сентября папа заходит ко мне домой, необычно взволнованный, и сообщает, что ему позвонила какая-то женщина и сказала, что хочет передать привет от мамы. И что они договорились встретиться в два часа дня у папы на Таврической улице. Конечно же я сказала, что в два часа буду у него.
Когда я туда приехала, она уже была с папой. Довольно молодая, лет сорока женщина, полная, высокая, с черными, как смоль, волосами, немного с бегающим, испуганным взглядом, вздрагивающая от каждого шороха и телефонного звонка. То, что она рассказала, показалось нам историей из потусторонней жизни.
По ее словам, звали ее Гизела, сама она из Молдавии. По подозрению в хранении валюты и участии в преступной группе, связанной со спекуляцией валютными ценностями, была задержана вместе с соучастниками. Во время следствия сидела в одной камере с мамой. Она рассказывала такие подробности о маме, ее привычках, выражениях, ласкательных именах, которыми мама называла нас, что мы тут же полностью поверили ей и слушали ее несколько часов, боясь шелохнуться. Мы узнали, что мама ухаживала за ней, когда она, измученная, возвращалась с допросов; что за камерой велось круглосуточное наблюдение и как напряжены были их нервы, когда они слышали лязг замков и еще не знали, за кем пришли; что мама страдала головными болями и не получала никакой медицинской помощи. Рассказала, что однажды во время допроса мама разбила стакан и маленький осколок стекла принесла в камеру. Как мама этим осколком пыталась перерезать себе вены, но охранники заметили это. Как прибежал начальник тюрьмы и кричал на нее и, брызжа слюной, орал, что ему наплевать на ее поганую жизнь, но что до суда ей придется дожить. Как на маму после этого надели наручники и посадили в одиночку. Как насильно кормили ее, когда она пыталась выбросить тюремную баланду в унитаз. И про ночные допросы, и про то, как мама тосковала без нас и волновалась, что всех нас посадили — про все это Гизела рассказала нам, иногда переходя на полушепот, а иногда совсем замолкая на несколько секунд, погружаясь в собственные воспоминания.
А мы слушали не прерывая ее, оцепенев от ужаса, и боясь вздохнуть. Еще рассказала она, что появился у мамы план притвориться сумасшедшей. И как они этот план разработали. И как мама начала писать в миску для еды и нести всякий бред. И как следователи не верили ей и направили ее на судебно-медицинскую экспертизу в институт им. Сербского. И мама сумела их всех обмануть. А я сидела и думала: «Ну, конечно, конечно. Так все и было. Мою маму нельзя сломать. Она сильнее всех на свете».
А потом Гизела сказала, что на одном из ее, Гизелы, допросов она встретила прокурора Фунтова. Оказалось, что они были знакомы уже много лет. И как Фунтов помог ей и познакомил с нужными людьми. И как потом был суд, и пятерых ее соучастников осудили на длительные сроки, одного приговорили к расстрелу, а ее осудили условно. И что теперь она хочет помочь нашей маме. И предлагает мне встретиться с людьми, которые помогли ей. Конечно, это будет не бесплатно. Но дело верное.
Услышав это, я возликовала. Вот оно — спасение! Меня не волновало в тот момент, что у нас нет денег расплатиться с людьми, которые помогут маме. Я уже представляла себе, как я хожу от одного маминого знакомого к другому и с какой охотой они дают мне деньги для мамы. Я, конечно, тут же сказала Гизеле, что я на все согласна. Я так была ей благодарна тогда.
Потом Гизела сказала, что ей надо идти к врачу на консультацию в Военно-Медицинскую академию, одно из лучших лечебных учреждений в Ленинграде. Мы предложили ей остановиться у папы на время своего пребывания в Ленинграде. Она охотно согласилась. Когда она ушла, я неожиданно сказала папе, что нам не следует все-таки предпринимать такие важные шаги в отношении мамы, не посоветовавшись с адвокатом. Что заставило меня практически необдуманно произнести эти слова? Может быть, то, что предложение Гизелы было слишком фантастичным, чтобы быть правдой? Но у меня — я ведь это хорошо помню — не возникло и тени сомнения в достоверности ее рассказа. Может, мне необходимо было срочно поделиться с кем-нибудь еще распиравшей меня радостью? А, может, разум на мгновение восторжествовал над чувствами? Может, постоянная напряженность последних шести месяцев развила во мне излишнюю подозрительность? Не помню. Помню только, что сказала папе, что я срочно поеду в Москву к Юдовичу.
Папа и слушать меня не хотел. Он поверил ей безоговорочно, без тени сомнений, без всяких колебаний. Тогда я сказала ему — сама не очень веря тому, что говорю, — что это слишком все серьезно и может далеко зайти, и мы должны быть уверены, что, по крайней мере, мы маме не навредим. Из слов Гизелы я знала, что слушание по ее делу состоялось в Московском городском суде, знала фамилию судьи и приговор. Этого уже было достаточно, чтобы навести справки. Папа с моей идеей согласился неохотно, убеждая меня, что это напрасная трата времени и денег. Но этим же вечером я уехала в Москву.
В Москве я все рассказала Льву Абрамовичу, нашему адвокату. Он тут же сказал мне, что никакого «расстрельного» дела в Москве давно уже не было, как не было «группового» дела, связанного с валютой. Чтобы окончательно удостовериться в этом, мы поехали в Коллегию адвокатов и убедились, что Юдович был прав: никто из адвокатов о таком деле не слышал.
Мне стало страшно. Кто она, эта Гизела? Что ей надо от нас? Юдович предположил, что в КГБ продолжают «испытывать» нас: не остались ли у нас деньги? Или, может быть, они хотят застать меня с поличным в момент передачи взятки? Но все это были только домыслы. И тогда я предложила Юдовичу, что соглашусь на встречу с ними и, приняв эту игру, попытаюсь выяснить их истинные намерения. В первый момент Юдовичу эта идея понравилась, но потом, поразмыслив, он сказал мне: «Лена, ты никогда их не переиграешь. Ты даже не заметишь, как они затянут на тебе петлю. Выйди из этой игры, не вступая в нее. Так будет лучше для всех». Я вынуждена была признать, что он прав.
На следующее утро я уже была в Ленинграде и все рассказала папе. Я видела, что он не может мне поверить. И хотя я его убедила не предпринимать никаких действий, он с сомнением в голосе произнес: «Но человек не может так притворяться. Я же вижу, как она вздрагивает от испуга, как убедительно говорит, как искренно плачет. Если все это игра, то поверь мне, она должна быть народной артисткой СССР». Я охотно согласилась наградить ее этим званием, при этом очень серьезно предупредила папу не поддаваться ни на какие провокации.
Вечером я еще раз встретилась с Гизелой и, притворяясь безумно расстроенной, сказала, что мы вынуждены отказаться от ее замечательного предложения, так как у нас просто нет денег. Она пыталась разубедить меня, ахала, охала, даже всплакнула, стала обращаться к папе, а не ко мне, и скажу по правде, что все это было так убедительно и естественно, что я до сих пор не знаю, как я смогла отказать ей. Поняв, что решение мое окончательное, она на следующий день покинула Ленинград, одолжив у папы сто рублей на дорогу. Папа еще долго верил, что она вернет ему долг. Мой дорогой, доверчивый папуля!
К тому времени адвокат ознакомился с делом и сказал, что он вообще не может себе представить, с чем обвинение выйдет на суд. Он сказал, что первый раз в жизни видит материалы следствия, проведенного КГБ, столь незаконченными и несостоятельными. Единственная маленькая зацепка — это один бриллиант без оправы, фигурирующий в деле. Вернувшись в Ленинград, я нашла оправку от этого бриллианта и повезла в Москву к Новикову.
Именно тогда я увидела в приемной КГБ этого несчастного, дрожащего человека, о котором уже упоминала. Оправку Новиков взять отказался под предлогом, что дело уже следствием прекращено. Я решила предъявить ее на суде. Я еще надеялась, что будет справедливый суд. Уходя из кабинета Новикова, вместо обычного «до свидания» я бросила ему в дверях: «Передавайте привет Гизеле». На секунду наши глаза встретились, затем он, не ответив ничего, уткнулся в бумаги.
Суд состоялся в Москве в середине сентября. Само здание Мосгорсуда производит удручающее впечатление. Это обшарпанное, длинное, двухэтажное строение с подвальными помещениями, в которых держат подсудимых, привезенных на суд. Внутри грязно, вдоль стен стоят скамейки, на которых сидят люди, уткнувшись глазами в пол. Почти никто ни с кем не разговаривает. Изредка доносится какой-то приглушенный шепот. Люди не смотрят друг на друга. Каждый поглощен своим горем. Время от времени проводят одного или группу заключенных, похожих друг на друга каким-то особым, отрешенным взглядом. Все они идут опустив голову, руки за спиной, спереди и сзади вооруженная охрана. На мгновение люди в коридоре оживляются, каждый старается найти «своего» среди подсудимых. Затем все опять погружается в тяжелое, гнетущее безмолвие. Однажды охранники буквально волочили под руки какого-то старика. Сам он уже ходить не мог. Говорили, что на суде он тут же засыпал от истощения и изнеможения, и суд приходилось уже несколько раз откладывать.
Мамы на суде не было, о чем меня предупредили заранее. Будучи психически больной, она не могла давать показания. Поэтому я никого не ждала и на проходящих заключенных не смотрела. Говорить не хотелось даже с адвокатом. Наконец, нас впустили в комнату. Они называют ее «зал судебных заседаний», хотя на самом деле это такое же обшарпанное, как и все здание, помещение. Место для обвиняемого — пустое — мамы нет. Судья, заседатели, прокурор, адвокат и я. Прокурор в своей речи долго говорил об ущербе, который, по предположению следствия, мама нанесла советской власти. Сказал, что в связи с тем, что обвиняемая впала в депрессивное состояние, следствие не удалось завершить. Адвокат говорил убедительно и красиво, или мне так казалось. Однако конкретно я ничего не помню. Мне с трудом удавалось сосредоточиться. Я сказала адвокату, что хочу предъявить оправку. Оказалось, что это не тот суд, где ее надо предъявлять. Этот суд только выносит «Определение», а не «Приговор». Я до сих пор не знаю разницы. Суд закончился примерно через два часа и вынес Определение: «Обвиняемую Лейкину Марию Львовну поместить в психиатрическую больницу закрытого типа до выздоровления. Следствие по делу прекратить до особого распоряжения».
Услышав такое «Определение», я потеряла дар речи. Прежде всего я осознала, что этот приговор практически бессрочный! Слова «до выздоровления» могли с таким же успехом означать «до смерти». А может мамы вообще уже нет в живых?! Ведь за полгода ее никто ни разу не видел: ни мы, ни адвокат. Я бросаюсь к Льву Абрамовичу и прошу его встретиться с мамой. Ведь он же ее адвокат, ему положено. Он просит свидания с мамой, ему отказывают. В мамином состоянии, мол, в адвокатах не нуждаются. Юдович обескуражен. Он говорит, что за более чем тридцатилетний адвокатский стаж, ему впервые не дали свидания с обвиняемой. При этом он пытается меня успокоить: «Лена, для меня они нашли предлог отказать в свидании. Для тебя даже предлог нельзя отыскать. Согласно законодательству тебе обязаны предоставить возможность увидеть мать».
Я звоню в Прокуратуру СССР, добиваюсь встречи с Фунтовым. До назначенного им времени оставался час. Пошла на почту и позвонила Анечке. Что утешительного я могла ей сообщить? Как только она услышала «закрытая психиатрическая больница», она заорала в ужасе: «Леночка, только не это! Не допусти этого. КГБ убило маму! Почему ее никто не видел?! Сестричка, сделай что-нибудь!!!» Господи, что же я могла сделать? Кто вообще мог бороться с КГБ? Расстроенная еще больше этим телефонным разговором, своей беспомощностью, неизвестностью, несправедливостью, я пришла к Фунтову человеку, не давшему санкцию на освобождение моей мамы после амнистии.
Передо мной был небольшого роста человек, вместо одной кисти — протез в черной перчатке и до неприятности бегающие глаза. За все время разговора мне так и не удалось хоть раз встретиться с ним взглядом. Однако на мою просьбу увидеть маму он ответил, что против ничего не имеет. Только сказал, чтобы я позвонила следователю и этот вопрос согласовала также с ним. И телефон дал. Я звоню, а там никто не отвечает. Фунтов предложил мне пару часиков погулять и зайти еще раз.
Вышла я на улицу, а деваться мне некуда. Вдруг вижу — рядом кинотеатр. Идет французский фильм — «Двое в городе». С Жаном Габеном в главной роли. Я и решила в кино пойти, время убить. Только так получилось, что не я время убила, а фильм окончательно добил меня. Как сейчас помню первые кадры: тюремный двор, тюремное окно, тюремная камера и в камере человек повешенный. И такой вот весь фильм вплоть до последнего кадра, когда главного героя, невиновного, готовят к казни, как его бреют, рвут ворот на рубашке и гильотина — крупным планом…
Хотела я сразу же после первых кадров из кино уйти, но что-то удержало меня, как будто я загипнотизированная была. Смотрю фильм, слезы в три ручья, а сама про себя думаю: «Так тебе и надо, смотри, запоминай. Так мама мучается. Не в кино, а в самой что ни на есть настоящей тюрьме». И сидела я, и смотрела, и когда гильотина опустилась с жутким стуком и скрежетом, было чувство, что это меня казнили.
Фильм закончился, а я все в зале сижу, плачу. Пока контролер не пришел и не попросил меня выйти. Вот в таком настроении я и возвратилась к Фунтову. А он, как и раньше, в глаза мне не глядит и как-то совсем суетливо объявляет: «Не могу я вам дать свидание с матерью, следователь возражает». Я — к телефону. Подходит Новиков. Я что-то в трубку объясняю, заикаюсь, умоляю, плачу, а он меня прерывает и жестко так говорит: «Елена Марковна, не просите, это невозможно». До меня даже смысл его слов не сразу дошел, я кричу ему: «Ну, как же невозможно?! Вот и прокурор не возражает!» А он, как отрезал: «Прокурор не в курсе», — и трубку положил. Вышла я из кабинета, в глазах темно — за стенку держусь. А в ушах: «Это невозможно, это невозможно, это невозможно». Боже, вдруг подумала я: это невозможно, потому что мамы нет в живых! «Прокурор не в курсе!» Не в курсе чего?!! А того, что мамы уже нет! Как ненормальная, хватаю такси, еду в тюрьму. До самой тюрьмы не доезжаю. За углом останавливаюсь. Язык не поворачивался сказать: «Мне в Лефортовскую тюрьму, пожалуйста».
Я вспоминаю, как я в первый раз эту тюрьму искала, когда после окончания следствия, будучи в Москве, решила маме передачу сделать. Объяснил мне адвокат как ехать, где выйти. Вышла я, вокруг дома одиночные, огромный пустырь, за пустырем фабрика — трубы до небес. Хожу по кругу, а спросить не могу. Не могу вымолвить слово «тюрьма», хоть убей меня. Минут сорок бродила. Наконец вижу — какой-то мужик на пустыре траву косит. Один. Подхожу к нему и, стараясь не смотреть ему в глаза, спрашиваю, где здесь тюрьма Лефортовская. Он рукой пот со лба утер, сочувственно так не меня взглянул и говорит: «Так вот же она перед тобой, милок. Вся она тут и стоит». И на «фабрику» показывает. У меня сердце зашло — зачем же, думаю, трубы там такие? На крематорий похожие.
Вот и в этот раз к самой тюрьме не подъехала, хоть и торопилась очень. Вбегаю — и к окошечку, где передачи принимают. Передачу, говорю, хочу передать Лейкиной Марии Львовне. А у самой и передавать нечего, кроме пары чулок капроновых, что себе купила несколько дней назад и забыла выложить. Да мне не это важно было. Важно хоть что-то передать. Вернее, сделать попытку передать, пусть чулки не примут, пусть это не положено. Разве дело в чулках или вообще в передаче? Хочу хоть слово о маме услышать. Стою, не дышу. А дежурный в военной форме в бумагах каких-то порылся и говорит: «Лейкиной здесь нет. Выбыла она». «Куда она выбыла?» — кричу. А он мне: «Вы здесь, гражданка, не кричите. А Лейкина вам сама напишет и адрес свой сообщит, если захочет. Ждите».
И я стала ждать. Вот тогда я только поняла, насколько это невыносимо. Я вспоминала, как мама ждала Анечкины письма из Израиля, хотя и понимала, что это несопоставимо. Я подумала о том, что я сама молчала два месяца и не писала писем в Израиль после того, что у нас случилось несчастье. Но это было совсем другое. Откладывая со дня на день свое намерение написать, я каждый раз отмечала, что вот и еще один день моя сестричка проживет в счастливом неведении. Пусть лучше волнуется, что нет письма, чем узнает убийственную правду, получив его. Я вспоминала свою жизнь и понимала, что никогда, никогда уже я не смогу стать той беззаботной девочкой, какой я была до рокового дня четырнадцатого марта. Я вспоминала и ждала, ждала и вспоминала.
Мне только тридцать с небольшим, А я живу воспоминанием. Кругом все кажется чужим, А на душе одно страдание. День наступает, как укор, Ночь не приносит облегчения, Душа закрыта на запор, И сердце бьется в заключении. Узнала я, что значит страх, Тоска, позор и унижение. Узнала я, что значит крах И что такое отчуждение. Узнала, как невыносимо ждать, Узнала цену разлучению. Узнала, что глагол «забрать» Имеет страшное значение. Мне только тридцать с небольшим. А я живу воспоминанием. Кругом все кажется чужим, А на душе одно страдание…С каждым днем ждать становилось тяжелее, мысли становились безнадежнее, и надежда проваливалась в преисподнюю. На исходе второго месяца ожидания я почувствовала, что теряю рассудок. Анечка атаковала меня отчаянными письмами, папа погрузился в пугающее молчание, а адвокат сказал, что наше обжалование в Верховный Суд осталось без удовлетворения. Я требовала от него какий-то действий, писем, жалоб, прошений. Он отвечал, что это будет «видимость деятельности» и результата не принесет. У меня начали появляться навязчивые мысли, и я начала терять самообладание. Ни следователь, ни прокурор на мои неоднократные просьбы, требования, письма, заявления никакого ответа не дали.
Моя мама бесследно исчезла! На исходе третьего месяца, совершенно отчаявшись, я посылаю телеграмму в Главное Медицинское Управление при МВД СССР. Телеграмму из ста одиннадцати слов. С оплаченным ответом. Посылаю мою боль, страх, мою любовь к маме — по почте, им — искалечившим ее. И снова жду. Через месяц приходит ответ. Не телеграфный. Письменный. На официальном бланке: «Ваша мать, Лейкина Мария Львовна, с 15.08.75 находится в психиатрической больнице МВД СССР г. Казани».
Так просто и так фантастически беззаконно! Находится в психиатрической больнице с середины августа! А суд, вынесший Определение поместить ее туда, состоялся только через месяц, в середине сентября. Стал понятен отказ в свидании с мамой после суда. Вспомнились слова Новикова: «Прокурор не в курсе». Кто же был тогда в курсе?! Кто, в каком эшелоне, на какой ступеньке власти захотел и сумел принять незаконное решение, минуя прокурора?! Кто стоит за всем этим делом? Кто вынашивает и осуществляет черные планы? Кто превратил суд в фарс и вложил приговор в руки судьи? Нет ответа и никогда не будет. Мне некому предъявить счет. Вендетта не состоится. Мама — в Казани. Далеко-далеко от меня.
Заказываю срочный телефонный разговор со справочной Казани. Как ни странно — тут же получаю номер телефона психиатрической больницы. Еще один срочный заказ — и в трубке спокойный, равнодушный мужской голос. Говорю быстро, задыхаясь, в ужасе, что связь может прерваться: «К вам должна была поступить больная Лейкина Мария Львовна». «Когда?» «В середине августа». Слышу неторопливое «минуточку». И молчание. А я вдавливаю трубку в ухо до боли. Сейчас мы одно целое — телефон и я. Мы срослись в ожидании и вдруг: «К сожалению, такой больной у нас нет». И мой крик: «Подождите, не уходите, не оставляйте меня!!! Я получила письмо. В нем сказано, что она у вас! Проверьте, проверьте еще раз. Это моя мама», — и уже рыдаю в трубку, и слезы утираю руками, и этими руками уже трудно трубку удержать, она скользит, будто мы плачем с ней одновременно. Секундное молчание. И уже другим, сочувственным, человеческим голосом: «Может быть, ваша мама в больнице МВД?» «Да, да», — всхлипываю я. «Вы не туда попали. Это обычная больница». И снова молчание. Но я чувствую, что он там, на проводе, думает. И снова его голос, чуть сомневающийся, но уже принявший решение: «Вы слушаете? Сейчас я вам дам правильный номер». И дал. Спасибо Вам, главврач «обычной» психиатрической больницы г. Казани. Это потом мне объяснили, что Вы нарушили инструкцию. Вы дали мне телефон тюрьмы. Телефон, которого нет в справочнике, как будто в тюрьмах не люди, а призраки, и интересоваться их судьбами — не принято. По инструкции. Прошло двадцать лет — я до сих пор благодарна Вам!
И еще один срочный заказ по телефону — в больницу МВД. И опять я со своим вопросом. Голос в трубке напряженный, с акцентом. В Татарию же звоню. «Кто вы?» — как обрубил. «Я ее дочь», — столь же кратко. «Она у нас. Состояние средней тяжести. Отказывается от принятия пищи. Свидания раз в месяц». «Я могу ее увидеть?!» «Раз в месяц. Адрес…» Я лихорадочно записываю адрес. Мамочка, я нашла тебя!
Следующие два дня прошли как в лихорадке. Билеты на самолет в Казань через Москву. Из Ленинграда самолетов нет. И закупка продуктов, выпечка пирогов, тортов, жарка котлет, доставание фруктов. В суматохе. В панике. В предвкушении встречи. Первый раз за целый год. За триста шестьдесят дней и ночей боли, страданий, отчаяния. Затем Москва, краткий визит к адвокату — и Казань.
Я в Татарстане. Об этом напоминают мне бесконечные плакаты и портреты Ленина с чуть раскосыми глазами. У меня в каждой руке по сумке. За плечами рюкзак. Всего — сорок килограммов. Вышла на улицу — мороз больше тридцати градусов, ветер сбивает с ног, а под ногами такая гололедица, что невозможно ногу передвинуть — тут же падаешь. Такси не достать. За все время, что я находилась там, я не увидела ни одного такси. Еле добралась до какой-то гостиницы — мест нет. Вернулась, оставила вещи в камере хранения вокзала. Спросила, как добраться до места. Кто-то объяснил. Села на трамвай. Кругом чужие люди, незнакомый язык. С трудом нашла больницу. Зашла. Приличное здание. Дежурная у входа. Через минуту убедилась, что мне не сюда. Глупая, как я сразу не догадалась, что приличные здания — не для меня. Мне объяснили: «мое» рядом, через пустырь. И почему всегда там пустырь?! Огромная стена. Я уже знаю, если стена — значит нашла. В стене ворота, огромные, без единой щелочки. А рядом дверь. Без надписи. Кому надо — тот найдет.
Мне было очень надо. Я вошла. Маленькая комната. Скамейка. Высоко в стене — крошечное закрытое окошко. Рядом дверь во внутреннее помещение. Постучала в окно. Секунд через десять створка поднялась. Я не успела произнести ни одного слова, как мне выпалили: «Завтра с девяти до часу дня». И окно захлопнулось. Я поняла, что попала по адресу. Мне оказали соответствующий прием.
Надо было устраиваться на ночлег. Обошла три гостиницы в разных концах города. А город мрачный, грязный, дома из красного кирпича приземистые, похожие на острог. Люди не улыбаются. Все кругом угрюмо. Добралась до четвертой гостиницы и сказала себе: «Отсюда меня только вынесут». Подошла к администратору. Мест нет. Села на стул в холле. Сижу, как замороженная. Подошла дежурная. Попросила уйти. Я снова к администратору. Духи свои из сумочки достаю — почти полный флакон — и ей сую, молча. Не о чем говорить. Она и так понимает, зачем я здесь. В окошке — улыбка. Духи — исчезли. Я поняла — ночлег есть.
В комнате две кровати. Одна для меня, на другой — молодая женщина, почти девочка. Потом узнала, что она приехала навестить свою маму в обычной психбольнице. В той — что я вошла поначалу по ошибке. Я ей позавидовала. Это точно помню. Видно, на худшее нет предела. Подумала, а кто может мне позавидовать? Подумала и нашла. Та, у которой то же самое, что у меня, но вместо мамы — сын. Стало легче, но стыдно. Прости меня, мамуля. Прости. Но эта зацепка помогла мне выжить. Привела себя в порядок и решила сходить за вещами. А вещи-то все — еда для мамы.
Женщина в окошке увидела, что я собираюсь выходить, и руками всплеснула: «Вы куда на ночь глядя?» Говорю, что только восемь вечера. Вещи, мол, нужно забрать. Она: «Вы что, здесь первый раз?» Отвечаю утвердительно. Смеется довольная, что может рассказать мне, непутевой, нечто новое и поучительное. «Голубушка, в Казани по вечерам нельзя одной ходить». Подумала и добавила удовлетворенно: «Да и вдвоем тоже. Убьют». Сказала просто и обыденно, улыбаясь снисходительно. И чуть покровительственно. Я поверила. Потом уж, когда часто стала в Казань ездить, убедилась, что правильно поверила. Сидя в очереди, ожидая свидания с мамой, я наслушалась страшных историй о происходящих в Казани убийствах и изнасилованиях. А уже много позже, в середине 80-х, в период перестройки и гласности в Советском Союзе, когда были обнародованы закрытые прежде данные, Казань была названа городом, держащим первое место в Союзе по числу совершаемых преступлений.
Утром встала в шесть утра, вещи забрала и прямо в тюрьму. Они ее больницей МВД называют. Пришла — в приемной народу полно. Все сидят и ждут чего-то. В основном народ простой сидит, в платках да валенках. Но однажды видела очень на вид интеллигентную пару. На машине из Москвы приехали. Сына своего навещали. Он за групповое изнасилование сидел. Его больным признали и сюда. Но ко всяким таким историям я позже прислушиваться начала. А тогда в окошко постучала, створки поднялись, я на цыпочки встала и увидела человека в военной форме. И не было на лице его никакого выражения, как будто без лица он был. Я такое первый раз в жизни видела. Ничего живого. Татарин. Без возраста. Лицо — которого нет — гладкое, глаза — щелочки. «Паспорт», — я подала. Хотела добавить, что к маме приехала, но окошко уже закрылось. Прошло минут пятнадцать. Никакого движения. Я снова в окошко стучусь. Створки открылись — меня увидел — створки закрылись. Кто-то сочувственно заметил: «Вызовут вас». Села и стала ждать.
И страшно от этой обстановки стало, как перед допросом. Жуткое что-то было во всем этом. Вдруг окошко открылось, меня по фамилии выкрикнули. Пока подошла — окошко уже закрыто, на прилавке мой паспорт. В двенадцать часов стали выкликать. Меня не назвали. Еще одну женщину, старушку, тоже не выкликнули. Остальные — человек десять — вошли в дверь. Стало совсем тихо. Через полчаса вышли все, подавленные, присмиревшие какие-то. Мы со старушкой сидим. Отупение наступило. Вдруг — вызывает. Дверь щелкает — открывается. Длинная комната с широким длинным столом. Во всю длину комнаты. Стулья по обе стороны. На одном конце, ближе к двери, сидит этот, без лица. Уткнулся в бумаги. Вижу парень сидит — на другой стороне. Старушка к нему привычно засеменила. И вижу еще дверь одну, по ту сторону. Я стою, за стол держусь и в дверь, не мигая, смотрю. Сколько времени так стою? Этого никто не скажет. Вдруг дверь открывается и входит женщина в белом халате, а рядом с ней старушка в ватнике, в платке. Беззубая, сморщенная, тощая, согнутая какая-то.
Я не узнала ее. Я не узнала маму свою! И сейчас все это перед глазами стоит. И сейчас говорю — ее невозможно было узнать. И вдруг эта старушка, эта тень, это подобие человека произносит маминым голосом: «Это я, доченька. Вот видишь, какая я стала». Я на стул упала и зарыдала. Вот тогда этот, без лица, как будто ударил: «Будете шуметь — прекращу свидание». Он так и сказал: «Шуметь». Не плакать, не рыдать, а шуметь. Я в руки себя взяла, до маминых рук дотянулась, а они холодные-холодные. И начала я быстро-быстро что-то говорить, вроде: «Мамочка, ты не волнуйся. Я вытащу тебя отсюда. У меня адвокат хороший». А она перебила и сломанно как-то, медленно сказала: «Ты не понимаешь. Здесь люди до самой смерти сидят. Я знаю. Я вижу». А я ей: «Не говори так. Ты не должна так думать. Я лучше знаю». А она как не слышала и продолжает: «Папа сидит?» «Папа дома, — отвечаю. — Он к тебе в следующий раз приедет». «Мария Степановна сидит?» — так же медленно спрашивает. Голос тихий, равномерный, без полутонов. «Да никто не сидит. Никто», — мне хочется крикнуть, вдолбить ей это. Но я знаю — шуметь нельзя.
Вдруг она чуть-чуть нагибается ко мне и как бы по секрету: «У меня сифилис. Но мне никто не верит. Я прошу врача. А они не вызывают. И перегородка в горле». Боже ты мой! Что сказать на это? Я это слушать не хочу! Я это не выдержу! Достаю еду — котлеты, пироги. Она тут же в лице меняется. Лицо становится злое, напряженное, что-то даже отталкивающее появляется. И жестко так говорит, губы поджав: «Я есть ничего не могу. И не буду. Убери это все». И тут же хватает рукой котлету и запихивает ее в рот. Потом еще одну. Жадно так, неаккуратно. Моя мама так не ела. Я тихо плачу. Я хочу уйти. Она как будто мои мысли прочитала, вдруг встала и пошла. И ни слова — ни до свидания, ни привет папе, ни об Анечке не спросила. Повернулась и ушла. Как тень.
И тут мне дурно стало. И никого рядом, кроме этого, без лица. И я бросаюсь к нему с плачем, ведь все же человек, живой. А он отстраняет меня и в дверь выталкивает. Вышла я на улицу. В глазах темно. Пошла, шатаясь. До какой-то стены добралась и начала головой об эту стену биться. Бьюсь и во весь голос ору сама себе: «Не забудь, не забудь, не забудь, что они с твоей мамой сделали». Мамочка, родная моя, единственная, я не забыла, я никогда не забуду. Жаль только, что тебе от этого легче не стало.
Потом в гостиницу пришла, на кровать легла и в подушку выревелась. В Ленинград вернулась другим человеком. Поняла — той мамы, которая была у меня, никогда уже больше не будет. Нет, они не обманывали меня, когда сказали, что мама больна. Они сделали свое дело профессионально, они-таки убили мою маму изнутри. Я видела ее потухшие глаза, уголки губ, загнутые вниз и придающие ее лицу раненое выражение, я слышала ее монотонный голос и держала ее холодную безжизненную руку. Нет, они не обманули меня, когда сказали, что мама больна. Они только не признались и никогда не признаются, как они сумели доконать ее так быстро и так безнаказанно. Я вернулась другим человеком, без надежд и иллюзий, с болью в душе и камнем на сердце. Я написала о свидании с мамой моей сестричке и знала, что нет таких слов, чтобы об этом рассказать. Потому что не придуманы еще слова, чтобы описать две двери по разные стороны длинного стола, мамину сгорбленную спину, исчезающую в той, второй двери, и автоматический щелчок — дверь захлопнулась, сожрала маму. Я слышу этот щелчок. Слышу сейчас…
Я написала своей сестричке, как могла. И послала ей свою измученную душу.
Скажи мне, за что нам такие несчастья, За что мы должны так страдать? Душа, как орех, раскололась на части, Ни склеить ее, ни собрать. Родная, тебе шлю души я частицу, Попробуй ее обогрей. Она прилетит к тебе раненой птицей С северных наших морей. Кусочек души я оставила сыну Ему без нее не прожить. Его не могу я душою покинуть, Его не могу обделить. А все остальное я отдала маме, Чтоб горе и боль разделить. Себе же на сердце повесила камень, Чтоб тяжесть души возместить.Написала как могла. И в ответ получила ее крик. Но это был крик свободного человека, вставшего на нелегкий путь борьбы за угасающую жизнь нашей недосягаемой, скрывшейся за той, второй дверью, мамы.
Я вернулась другим человеком, умудренным страданием мамы и состраданием к отцу. Я должна была сохранить и продлить его жизнь. Я приехала и сказала ему, что он должен уехать к Анечке. Как можно скорей. Папа отказался решительно. Он смотрел на меня непонимающими глазами. Мое предложение показалось ему кощунственным. «Как могло это прийти тебе в голову? — в недоумении воскликнул он. — На кого я оставлю маму? На тебя?! Ты что, хочешь угробить себя и оставить Андрюшу сиротой?» Я настаивала, я умоляла. Я боялась, что они могут добраться и до папы. Если они сумели сломать, раздавить, растоптать мою маму, сильную и закаленную, то папа погибнет там вообще в два счета. Я продолжала его убеждать, доказывать и просить, просить, просить уехать ради меня, ради мамы. Он отказался. Я сказала, что через месяц мы поедем вместе в Казань.
И мы поехали. Только на этот раз я привела папу сразу же в ту гостиницу, где ночевала сама в свой первый приезд. Та же, уже знакомая процедура: духи — улыбка — комната на двоих. Тот же пустырь и та же стена. Тот же человек без лица. Мне даже показалось, что те же люди в приемной. Передо мной прокручивался тот же фильм ужасов. Дверь открылась, и мы вошли. Я так волновалась за папу, что не заметила, как ввели маму. Я смотрела на папу и на его лицо. Когда я увидела маму, уже сидящую перед нами, и папу, еще ждущего, с воспаленными глазами, напряженно смотрящего на дверь, на эту трижды проклятую, обшарпанную, ненасытную пасть в стене, я поняла, что папа не узнал маму. Не узнал даже после моих рассказов. Не узнал свою жену, с которой прожил сорок один год и воспитал двоих детей.
Я толкнула его и вывела из оцепенения. Он вздрогнул и взглянул перед собой. Лицо его исказил ужас. Потом боль. Потом страх, но боль не проходила. Он побледнел и хриплым голосом сказал: «Ну, вот видишь, Мусенька, вот и встретились». «Да», — ответила мама безучастно. Папа замолчал. Я стала говорить. Неестественно бодрым голосом. О чем говорила — не помню. Очень странно сейчас — вот голос свой помню, интонации, а о чем говорила не помню абсолютно. И вдруг мама встала и пошла. И дверь съела ее. Проглотила. И щелчок.
Потом, уже в самолете, я поняла, что и папа стал другим человеком. Тоже без надежд. Тоже без иллюзий. Мы сидели в самолете, и я читала ему, заикаясь от рыданий, а он слушал — и слезы, папины слезы капали мне в тетрадь.
На свете много матерей, На свете множество детей. Их в муках мать должна рожать, Кормить, поить и воспитать, Учить людей распознавать, Учить любить и ревновать, Учить обиды не прощать. На свете много матерей, На свете множество детей. За своего ребенка мать Готова голову отдать, И душу дьяволу продать, И все, что знает, рассказать, И сердце вынуть, как печать. На свете много матерей, На свете множество детей. Но у меня одна лишь мать, И я хочу сейчас сказать, Вернее, громко прокричать, Что я готова жизнь отдать, Чтоб не страдала моя мать. На свете много матерей, На свете множество детей. Они должны меня понять, Помочь спасти мне мою мать. Я рада на колени встать, И их, рыдая, умолять Спасите, люди, мою мать! На свете много матерей, На свете множество детей. Мать и дитя, дитя и мать Их невозможно разорвать. Нельзя их взять и разорвать, Чтоб жизнь обоим не сломать. Молю, спасите мою мать!!!Мы приехали домой, и я сказала: «Ты поедешь к Анечке, и вы спасете маму». Папа уже был другим человеком — он согласился. Начались хлопоты, на время отвлекшие нас от гнетущей действительности. Папа собирал документы, я позвонила Анечке и сказала, что папа принял решение. Анечка развернула бурную деятельность. И не напрасно. Она умудрилась встретиться с женой президента Коста-Рики. Маленькая страна с прекрасной, понимающей, отзывчивой женой президента! В Советский Союз полетел «Вызов» от Анечки и письмо из Коста-Рики. Письмо пришло раньше. Папа еще не успел подать документы на выезд, как раздался телефонный звонок из ОВИРа. Вежливый, хорошо поставленный женский голос спросил: «Это Марк Соломонович? Тут пришло письмо из Коста-Рики с просьбой ускорить рассмотрение ваших документов. Но мы не можем их найти. Когда вы их подали?» «Я еще не подавал», — ответил папа. И голос его прозвучал одновременно радостно и разочарованно. Противоречивые чувства раздирали его. Он хотел уехать. Он надеялся, что будет полезнее маме, находясь в Израиле и присоединившись к Анечкиной борьбе. Но не хотел покидать меня и думал, что если ОВИР примет отрицательное решение — отъезд отменится помимо его воли.
Папа подал документы и получил разрешение. Спасибо тебе, сестричка! Ты продлила жизнь папы. Пятого мая 1976 года папа уехал. Ему было семьдесят лет. Мы сидели в аэропорту и болтали о всяких пустяках. Никто из нас не осмеливался затрагивать больные темы. Пришла его очередь оформлять багаж. Нужно было доплатить за лишний вес. Чтобы как-то разрядить обстановку, папа попытался пошутить: «Может быть, вы мне сделаете скидку за мой преклонный возраст?» — и улыбнулся кассирше. «Вся ваша порода такая. На всем хотите заработать, даже стоя уже одной ногой в могиле», — прошипела кассирша в ответ. Я хотела закатить скандал. Папа успокоил меня. До скандалов ли нам было из-за таких пустяков? Я обняла его и прошептала, прижавшись к его щеке, что, по крайней мере, такие высказывания он слышит последний раз в жизни. «Это избавит тебя от ностальгии», — сказала я.
Время неумолимо двигало нас к расставанию. О пустяках говорить уже не хотелось, а о происходящем — мы не решались. Наступило молчание. Каждый из нас думал о своем. А может быть, мы думали об одном и том же? Папуля, родной мой! Я думала о том, как будет невыносима для меня разлука с тобой, и в тот момент проклинала себя, что уговорила тебя уехать; что ты самый лучший отец на свете; что я люблю, люблю тебя до боли. И еще я думала — увижу ли я тебя еще раз?! А о чем ты думал, папочка? Я никогда не узнаю этого — и никогда не увижу тебя еще раз. Никогда. Пятого мая 1976 года ты уехал от меня навсегда…
После отъезда папы мы с мужем и Андрюлей переехали в квартиру на Таврической, а свою до поры до времени заперли на ключ. До поры до времени… У меня начались безрадостные будни, осложненные безденежьем. С работы меня уволили еще в марте 1975 года, сразу же после ареста мамы. Тогда начальник отдела вызвал меня и сообщил, что мое молчание относительно отъезда моей сестры в Израиль несовместимо с продолжением моей трудовой деятельности в стенах Института радиоэлектроники. При этом он сказал что-то невнятное и о моем желании покинуть пределы СССР. Я не прореагировала ни на его слова, ни на их решение меня уволить. Шел первый месяц маминого ареста. Начались мои допросы. Проблемы работы и безработицы казались проблемами из другого, нормального мира. Волнения по таким пустякам в то время были излишней роскошью для меня. Я даже не заострила внимание, что моим анкетам, заполненным «не по форме», без подписи моего мужа и без «Вызова» из Израиля, по-видимому, был дан ход. «Черный» ход.
Отсутствие денег я ощутила в полной мере после папиного отъезда. До этого у папы была пенсия, и он ухитрялся помогать нам. А кроме того, мы продавали все, что не было описано КГБ и что возможно было продать хоть за три рубля. Так мы реализовали мамину шубу и папину дубленку, шапки, шарфы и книги. И каждый раз, продавая какую-нибудь вещь, мы с папой радовались, как дети. Но и вещам пришел конец. Кроме того, отъезд папы потребовал дополнительных расходов. Анечка присылала посылки, но из-за огромной пошлины они были скорее моральной поддержкой. Не могу не вспомнить добрым словом Володиных родителей. Они делали все от них зависящее, чтобы поддержать меня.
Однако расходы мои были необозримо больше. Адвокат, поездки к маме и посылки ей поставили меня перед неразрешимой проблемой. И я начала продавать описанные вещи, не задумываясь о последствиях. Собственно, идея эта возникла неожиданно, и самое удивительное — в некоторой степени с подачи КГБ. Я уже говорила, что почти все описанные вещи были снесены в одну из комнат, и комната была опечатана. Я расписалась, что обязуюсь комнату не вскрывать. В противном случае мои действия преследовались бы по закону. С тех пор прошло больше года. Папа уехал. Однажды пришел Новиков с каким-то сотрудником. Они вскрыли комнату и большинство вещей вывезли. Комнату оставили незапечатанной, при этом Новиков, как всегда вежливо, но подчеркнуто убедительно сказал: «Я надеюсь, вы понимаете, Елена Марковна, что за оставшиеся вещи вы несете полную ответственность». Я, безусловно, это понимала.
А вот чего не понимал Новиков, так это то, что я несу еще ответственность перед своей мамой. Через месяц после вывоза вещей, просматривая без особой цели протоколы обысков и описи имущества, у меня вдруг заныло от страха под ложечкой. Я вдруг обнаружила, что Новиков не оставил мне никакого документа об изъятии им части вещей. Все, что имелось у меня на руках, — это моя расписка о сохранении вещей в опечатанной комнате. Я помню, как сердце у меня екнуло и, посоветовавшись с адвокатом, я позвонила в КГБ. Напомнив Новикову об изъятии, я заметила, что у меня нет об этом никаких подтверждающих документов. И в ответ услышала снисходительно-предупредительное: «Вы, Елена Марковна, о вещах, что мы забрали, не тревожьтесь. Они в надежном месте. А вот оставшиеся вещи — это ваша личная ответственность». Но, повесив трубку, меня вдруг осенило: «Кто и как сможет обвинить меня, если я эти вещи продам? Ответственность к делу не пришьешь. Эта их самоуверенность и нарушение порядка изъятия вещей помогут мне выйти из денежного тупика».
Не могу сказать, что я начала продавать эти вещи с легким сердцем. Или без страха. Да и покупателя надо было найти надежного. Ведь не понесешь же их в комиссионный магазин. Но это были уже технические трудности. Преодолеть их труда не составило. Но и тогда, и сейчас меня не покидает мысль, что это мама, на свои деньги посылала себе посылки и расплачивалась с адвокатом! Я же при этом была только посредником и, наверное, не лучшим.
Ежемесячные поездки к маме стали со временем бессмысленными. Мне говорили, что она отказывается от свиданий. Проверить это было невозможно. Я начала приезжать раз в три месяца. Безрезультатно. Дверная пасть, сожравшая маму, не хотела ее выпускать. Сведения о маме стали напоминать сведения, получаемые мной в процессе следствия от Новикова. За дверью, которая поглотила маму, стоимость человеческой жизни оценивалась по шкале полученных ими инструкций.
Человек — он живой, Его жизнь, как цветок. Не топчите ногой, Не срывайте не в срок. Но есть люди, как псы. Их клыки, как клинки. Под покровом грозы Рвут других на куски. А гроза, как напасть, Как в аду голоса. Каждый может пропасть В пасти жуткого пса. Человек — он живой. Его жизнь коротка. Нету жизни другой. Эта жизнь не легка…Несмотря на то, что мои поездки в Казань стали пустой формальностью, я, как одержимая, продолжала раз в три месяца ездить туда. Казань… Я ненавижу этот город. Я ненавижу его вокзалы и аэропорт, где билетов никогда нет и приходится простаивать перед кассой бесконечными часами, тупо глядя на равнодушное лицо кассира, пытающегося чем-то занять себя при полнейшем отсутствии работы. Однажды, простояв так четыре часа, боясь отойти от кассы даже на секунду, терпение мое было вознаграждено. Кассирша встала и направилась в туалет. Кассиршам тоже иногда надо было! Я — бегом за ней. Стою около ее кабинки, судорожно сжимая огромную коробку шоколадных конфет. Я уже давно научилась ездить с подарками. Она вышла и чуть не закричала, увидев в сантиметре от себя мои умоляющие глаза и при этом почувствовав, что я толкаю ее обратно в кабинку. Я не знаю, что подумали остальные посетители этого заведения, когда я затолкала кассиршу, нырнула за ней и защелкнула дверь. Там, в кабинке, и произошел деловой разговор. Она вышла с конфетами, а я с обещанием билета. Следующим рейсом я улетела.
С самого первого моего свидания с мамой, узнав ее адрес, я начала писать ей письма. Ежедневно. Не сделав ни одного исключения за долгие годы. Это превратилось в своего рода болезнь. Я не могла заснуть, не написав письма. Конечно, письма были похожи друг на друга, как близнецы-братья. В основном писала об Андрюше: что сказал, что ел, где был; о том, что папа и Анечка здоровы и шлют привет; если было письмо от Анечки, значит кратко о ее новостях. Я писала короткие, немного суховатые письма, зная, что прежде всего они попадают в чужие бездушные руки и проверяются холодным взглядом людей без лица и без сердца. А хотелось мне написать совсем другое и послать своей маме свою любовь и свою боль.
Сердце сжато в комок, в кулак, Сердце сжато в кулак — вот так! Сердцу трудно и нечем дышать, Сердцу больно — но надо стучать. Сердце плачет, но нету слез, И без слез — это тоже всерьез. Сердцу тесно и душно в груди, Сердцу надо сидеть взаперти. Сердце хочет всегда быть с тобой, Сердцу нужно найти там покой. Сердце хочет себя разорвать Хоть кусочек тебе отослать. Сердце бьется, ломает дверь И кричит оно мне — ты верь! Хоть сверлит его боль, как дрель, Но кричит оно мне — ты верь! Сердце ждет — ему надо ждать. Только где ж на все силы взять?!Помню, в очередной раз приехала в Казань. Мама не вышла. Зато появилась крашеная блондинка, вместо туловища — два пуфика на коротких ногах. Пуфики обтянуты белым халатом. «Вы — дочь Лейкиной Марии Львовны?» — обратилась ко мне. При этом взгляд был такой, будто есть у нее ордер на мой арест. Сердце упало — что-то случилось с мамой. Просверлив меня своими глазами несколько секунд — я тогда подумала, надо же и глаза будто крашеные — она без всяких предисловий грозно сказала: «Вы слишком часто пишите письма, мы не успеваем их читать». Она сделала акцент на слове «мы». «Это запрещено? Есть ограничения на количество писем?» — в свою очередь спросила я. Глаза у нее, как мне показалось, стали другого цвета. «Это не запрещено, но у меня на столе уже нет свободного места от ваших писем». «Купите еще один стол», посоветовала я. И ушла. Я могла себе позволить выйти на пустырь, который рядом со стеной казался самым свободным местом на земле. Две двери — два мира, но одно страдание, разорванное длинным столом…
С ребенком мне повезло. Андрюша рос чутким ребенком, чувствующим мое настроение и не задающим лишних вопросов. Он приобретал опыт не из объяснений, а из молчания. Только однажды, увидев, как я тихонько плачу на кухне, он подошел ко мне и спросил: «Мамочка, ну почему ты опять плачешь?» «Бабушка Муся очень больна», — ответила я. Он задумался. Он очень хотел меня успокоить. А потом тихим, серьезным голосом сказал: «Знаешь, мама, если ты увидишь, что Смерть подошла к бабушке, ты скажи: „Смерть, Смерть, не забирай бабушку Мусю, возьми лучше меня“. Смерть подойдет к тебе (и глаза его наполнились слезами), а я подбегу к ней и закричу: „Смерть, Смерть, не забирай мою маму — забери лучше меня“. А тут бабушка Муся — она же меня очень любит, правда? — бабушка Муся подойдет к Смерти — ведь ходить-то бабушка может, да? — и скажет: „Смерть, Смерть, не забирай Андрюшу, забери лучше меня“. Вот Смерть и не будет знать, что ей делать». И после этого прижался ко мне, и мы заплакали вместе.
Папа писал грустные, но оптимистичные письма. По письмам все было отлично. Между строк — боль разлученной семьи, страх за меня и маму. Анечка писала обращения во все международные инстанции и добивалась встреч со всеми, кто мог хотя бы теоретически помочь. Через два года после маминого ареста мне дали понять (может быть, невольно), что ее крик и боль уже достигли этой, второй двери. Случилось это так. В очередную бесплодную поездку в Казань — мама не вышла, выплыла мне навстречу крашеная блондинка. Когда она шла, было впечатление, что пуфики развалятся, соскользнут один с другого. Тот же взгляд, но более изучающий. «Ваша мать от свидания отказывается». Обычно мне объявлял это человек «без лица». И тут же опять без всяких предисловий: «Скажите, а кто у вас есть в Англии?» «В Англии у меня нет никого», — я говорила правду. И добавила: «А что, в Англии что-нибудь произошло?» «Вы не хотели бы встретиться с главврачом?» — мой сарказм по поводу Англии без ответа. «Мне не о чем с ним говорить», произнесла я раньше, чем осознала сделанное предложение.
Потом уже, по пути домой, я проклинала свой невоздержанный язык и спрашивала себя, ну почему, почему я, не задумываясь, отказалась? И поняла я испугалась. Испугалась зайти в «пасть». К такой встрече я должна была «собрать себя». Ровно через месяц я снова была в Казани. Я ехала на встречу с главврачом. Хотя в голове у меня стучало: «Какая чудовищная должность главврач тюрьмы».
Казань. Пустырь. Окошечко. Человек «без лица». Казалось, он и ночует на посту. «Я хочу видеть главврача». Створки остались открытыми. «Я должен навести справки. Дайте паспорт и подождите. Я сообщу». Наверное, это была его самая длинная речь за всю жизнь. Ждать пришлось недолго. Выкатились «пуфики» и дали знать следовать за ними. Я обогнула длинный стол, переступила порог и очутилась по ту сторону двери. Дверь автоматически защелкнулась. Сознание зафиксировало щелчок. Я оказалась во дворе. Пусто. Ни одного человека. Вошли в какое-то здание. Поняла — административный корпус. Поднялись на второй этаж — не встретили ни одного человека. По обе стороны коридора — двери. Закрытые. И никакого звука. Неестественная, жуткая тишина. До боли в ушах. В конце коридора, по левую руку — дверь. Вошли. Увидела невысокого плотного человека в белом халате. Глаза раскосые. Возраст не определить. От тридцати до шестидесяти. По стенам — полки с папками. Письменный стол без единого листочка. Поздоровались. Акцента не почувствовала. «Пройдемте в мой кабинет», — это ко мне. «Принесите, пожалуйста, историю болезни Лейкиной и поторопитесь, я вас жду», — это к блондинке. Да, акцента нет совсем.
Вошли в дверь рядом. Большой просторный кабинет. Сели. Он — за стол, я — напротив. «Сейчас придет лечащий врач вашей матери, тогда будем говорить». У меня тут же мороз по коже. «Вот эта „кушетка“ — лечащий врач?! Да от одного ее взгляда можно заболеть и остаться хроником». И еще подумала: «Не хочет говорить наедине. Собачья должность — самому себе не доверять». Сидим. Молчим. Вошла блондинка. Подала папку. Села в кресло — стало три пуфика. За все время нашего с ним разговора не проронила ни слова. Наверное, такие есть инструкции.
Главврач ко мне: «Мне передали, что вы хотели встретиться со мной». Мое секундное замешательство. Ведь я готовила себя, что он (он, а не я!) хочет поговорить со мной. Он оказался умнее — инициатива у него. «Меня интересует мамино здоровье. Она отказывается от свиданий. В чем причина?» «Вы же знаете — ваша мать очень больна. Отказ от свиданий — одно из последствий ее болезни», — ответ мгновенный, как заученный урок. «Здесь ей только хуже. Она поступила в лучшем состоянии». В его ответе прозвучало еле заметное раздражение: «Она здесь всего два года. Выводы делать рано». Я поняла намек: «Сколько же времени у вас обычно уходит на лечение?» Глаза его посмотрели настороженно. Мы понимали друг друга. «Ну, по крайней мере, пять лет». И вдруг: «Вы же должны понять — ваша мать совершила тяжкое преступление». Вот оно! Он напоминает — здесь не больница, а тюрьма. Я стараюсь, стараюсь говорить спокойно: «В ее возрасте и при ее состоянии — пять лет огромный срок. Она не выдержит». Он тоже уже не говорит о лечении: «За такие преступления люди находятся здесь гораздо дольше».
Бессмысленно объяснять ему, что обвинение сфабриковано, что у следствия нет никаких, даже самых надуманных аргументов ее вины по предъявленной ей статье. Его это не касается. Его осведомленность и инструкции строго ограничены. Он встал: «У нас гуманное государство. Но нарушать закон никому не позволено». Это кивок в сторону Англии. И для отчета блондинке. Ведь он и в ней не уверен. Однако цифра прозвучала — пять лет. Это долго, это очень долго. Но лучше, чем «до выздоровления».
Я не знаю, что писала в своем рапорте блондинка. Я написала своей сестричке так, как было. Ее задача была передать это в нужные и добрые руки. О своих просьбах и заявлениях в соответствующие инстанции упоминать не хочется. Адвокат делал, что мог. Но это, как я уже отмечала и как он предупреждал, была «видимость деятельности».
Потянулись дни и ночи ожидания. Кто не ждал, тот не поймет. Вот уж когда я воистину поняла, что время — понятие относительное. Что касается меня, то оно двигалось всегда наоборот относительно моего желания. И останавливалось совсем, когда я мечтала, чтобы оно пронеслось мимо меня, не оставив и следа в моей памяти. Может быть, время остановилось для меня, чтобы скорее пройти для моей мамы? Ох, как я сомневаюсь в этом…
Я не открою нового закона, Все, что скажу, известно всем давно: Не может мать родить дитя без стона, Не светел взор, коль на душе темно. Счастливые часов не наблюдают. И эта истина подмечена не мной. Но чем, вы мне скажите, измеряют Весь долгий день, заполненный бедой? Когда секунды бьют по сердцу, как гранаты, Минуты плачут, будто чувствуют вину. Когда часы стоят на месте, как солдаты, И вы находитесь у времени в плену. Но все-таки, ну чем же измеряют Весь долгий день, заполненный бедой? Те, кто в беде, отсчет часов теряют Они стоят для них тюремною стеной.Наступала весна 1978 года. Андрей заканчивал второй класс. Я старалась быть хорошей мамой. Я любила его за бабушку, дедушку и за себя. Я продолжала ежедневно писать маме письма и ездить в Казань. После отъезда папы я закончила курсы машинописи и устроилась на временную работу машинисткой. Работу разрешили выполнять на дому — машинисток не хватало. Стала брать частные заказы. Кому-то — диссертация, кому-то — отчет. Работа давала заработок и помогала отвлечься от мыслей. Самое страшное наступало ночью. Я стала бояться ночей. Мысли одолевали меня и душили. Мои мысли стали моими врагами. Спрятаться от них было некуда.
Что может быть страшнее мыслей? Они, как спрут, меня обвили, Как туча черная нависли, Надежду всякую убили. Лишь только ночь опустит крылья, Они безжалостной толпою, Подобно вражьей эскадрилье, Все кружат, кружат надо мною. От них мне никуда не скрыться, И начинает мне казаться, Что как прожорливые птицы Они в мозгу моем теснятся. И разрывают мозг на части, И кровь сосут, как вурдалаки. А я бессильна, я в их власти. А мысли бесятся во мраке…Но весна 1978 года все же наступила. Неожиданно (или после бесконечного ожидания?!) получаю письмо из суда: «Медицинская комиссия Управления МВД признала вашу мать, Лейкину Марию Львовну, хронически больной. Дело передано в Московский городской суд». Что мне, радоваться или рыдать? Боже, можно ли радоваться, если твою маму признают хронически больной?! Можно ли радоваться, что над твоей хронически больной мамой будет суд?! Рыдать надо. Рыдать. И кричать на весь мир — моя мама навсегда, навсегда, навсегда останется больной! Куда вы смотрели, люди?! За что?!
Но я радуюсь. Вопреки разуму, который еще у меня есть. А у мамы?! Где ты, мамочка, сейчас? Где?! Я потом узнала, где была моя мама в то время. Они перевели ее из Казани в Лефортовскую тюрьму. В одиночную камеру.
За неделю до суда раздался звонок из Лондона. Мужской голос на русском языке с иностранным акцентом спросил: «Вас можно поздравить?» «С чем?» — недоуменно в свою очередь спросила я. «Я слышал, вашу маму освободили», — голос прозвучал уверенно. «Вы ошибаетесь, — с горечью ответила я. — Суд будет только через неделю». «Но у меня есть сведения, что все в порядке. Возможно, сообщение пришло ко мне быстрее, чем к вам. Не волнуйтесь», голос был спокойный и надежный. Я замерла. Я хотела верить. Я почти поверила. Но я не забывала, где я живу. Еще стояли перед глазами две двери два мира. А голос продолжал: «Через неделю я буду в Москве. Скажите, как вас там найти». Я сказала.
Через неделю я была в Москве. У Лили. У той самой Лили Коган, которая сидела в кассе адвокатской конторы и казалась мне беспечно счастливой. У той самой Лили, к которой я заезжала каждый раз по дороге в ненавистную Казань. Ее дом стал моим домом. Это мне, первой, позвонила она в Ленинград в пять часов утра, когда умерла ее мама от болезни Паркинсона. Это мне, первой, сообщила она о своей свадьбе. И я, первая, увидела ее с ребенком, выходящую из роддома. Во время суда я жила у Лили Коган, и голос из Лондона нашел меня там.
Мы встретились по указанному им адресу. Передо мной стоял красивый подтянутый мужчина. Средних лет. С умным, проницательным взглядом. Высокий. Худой. Встреча происходила на одной московской квартире. Стол накрыт. Меня пригласили. «Гарри Лобби», — представился англичанин. Квартира принадлежала молодой паре. Его звали Володя, ее не помню. Оба диссиденты. Оба уже сидели в психушках за борьбу против Советской власти. Оба готовились к очередному аресту и помещению в психиатрическую больницу. Ведь по советской логике только сумасшедший мог бороться против властей.
Гарри Лобби — известный психиатр из Лондона, борец за права человека, приехал освидетельствовать их и убедиться, что они здоровы. Это будет потом большим козырем в борьбе за их освобождение. Я впервые в жизни видела диссидентов так близко. Я не очень понимала их. И я спросила Володю: «Если вам не нравится Советская власть, почему вы не боретесь за свой выезд?» Я высказала то, о чем мечтала сама. Уехать, убежать, улететь отсюда! Володя спокойно ответил: «Нам не надо бороться за выезд. Нам уже много раз предлагали покинуть СССР». Я не понимала, чего же они хотят еще?! Я была в недоумении. И я воскликнула: «Так почему, почему вы не уезжаете?!» И услышала ответ: «Кто-то же должен бороться здесь». Вот оно что. Так просто. Они были русскими патриотами. Я взглянула на него другими глазами. С уважением. Со страхом за него. Вспомнила Солженицына «Бодался бычок с дубом». Я глядела на него с уважением, но не верила в его успех.
При этом в моей душе появилось что-то вроде зависти к нему: он чувствовал себя дома и боролся за свое будущее. Впервые в жизни я четко осознала, что это не моя земля и будущее ее меня не волнует. Я до боли ощутила, что лишена чего-то очень важного. Я не знаю, что стало с тобой, Володя. Но все эти годы я желала тебе удачи и сил. Разговор с Гарри был обнадеживающим. Он обладал удивительным свойством излучать спокойствие. Я обещала держать его в курсе.
Начался суд. И снова я была в том уродливом здании с зарешеченными окнами в подвальном помещении. Но мамы не было там. Суд опять проходил без нее. Меня в зал суда не пустили: я «проходила» свидетелем. Свидетелей было много. Некоторых из них я знала хорошо. Других видела в первый раз. Ко мне никто, ни один из них не подошел. Свидетелей по очереди вызывали. Они нервозно, суетливо вскакивали со скамеек и, подчеркнуто торопясь, входили в зал. Столь же суетливо выходили, неопределенно оглядывали оставшихся, ни на ком не задерживая взгляд, и, облегченно вздохнув, уходили. Я сидела долго. Пока не осталась одна. Дверь приотворилась, и солдат в форме внутренних войск назвал мою фамилию. Я вошла.
Прямо передо мной — судья-женщина. На стуле с высокой спинкой. Рядом два заседателя — мужчина и женщина. Слева от меня — прокурор. Справа адвокат. В углу — секретарь. Скамейки для публики пусты: судебное заседание закрытое. Формальные вопросы — фамилия, имя, отчество, год рождения, кем прихожусь обвиняемой. Предупреждение о наказании за дачу ложных показаний. А потом все напоминало допрос. И я отвечала автоматически. В голове была только одна мысль: «Что будет с мамой?» Разговор зашел о вещах. Я сказала вещи родителей. Показывали фотографии. Много и долго. Я подтверждала — эти вещи остались дома, а другие вывезены сотрудниками КГБ. Те вещи, что я продала, воспользовавшись вскрытием опечатанной комнаты, указывала, как вывезенные КГБ. Никто не перебивал меня. Забегая вперед, скажу, что вопрос об этом никогда не вставал. Тут кстати отмечу, что Таню вообще на суд не вызывали и возвратили сберкнижку сразу после суда.
Однако разговор о вещах казался мне кощунственным. Решался вопрос о маминой судьбе, а они тратят столько времени на имущество. Меня потом упрекали знакомые и родные, почему я не боролась за вещи, не доказывала, что они принадлежат мне, папе, Анечке. Как я могла объяснить, что для меня было бы кощунственно на одном и том же судебном заседании бороться за освобождение мамы и одновременно «отвоевывать» имущество! Чаши весов были так неравны! Ведь не исключена возможность, пусть даже самая минимальная, что начни я борьбу за вещи, из-за которых, собственно, и началось все это дело, приговор мог быть другой. Я интуитивно чувствовала это и не хотела рисковать. Возможно, с точки зрения здравого смысла, я вела себя глупо. Но и сейчас я об этом не жалею. Зачем жалеть, если я знаю — не дай Б-г, повторись это все еще раз, я бы вела себя так же.
Судья вдруг повысила голос: «Подумайте, свидетель, и ответьте. Вещи, которые были изъяты у вас на квартире, принадлежат вам?» А я даже забыла, что и у меня был обыск и какие-то вещи они забрали. Я посмотрела на нее. Впервые за все время. Невероятно. Невероятно, но в ее глазах было сочувствие. «Эти вещи принадлежат мне». «Вы отметили это?» — обратилась она к секретарю суда.
И тут я попросила слова. Это вырвалось у меня неожиданно. Еще секунду назад я не знала, что захочу говорить. И, практически не дождавшись разрешения, я произнесла свою неподготовленную речь, самую искреннюю и самую прочувствованную речь в моей жизни. Я забыла про прокурора, адвоката и заседателей. Я обращалась к ней, судье, как женщина к женщине, как дочь к дочери. Я говорила о любви к своей маме. И о любви мамы к нам, своим дочерям. Я говорила о трех бесконечных годах страданий. Я просила ее быть милосердной и вернуть мне маму, пока она еще жива. Я плакала, и слезы мешали мне говорить. Меня никто не перебивал. Я говорила и думала о своей несчастной маме, загубленной и одинокой. Я просила помощи и сострадания. Я умоляла ее и убеждала. Когда я замолчала, в зале была тишина. Я взглянула на судью. По ее лицу текли слезы. Потом что-то говорил прокурор. Затем — адвокат. Я сидела оглушенная и ничего не слышала. «Суд удаляется на совещание», — донеслось до меня.
Я вышла в коридор. Было семь часов вечера. Я сидела и ждала. Время тянулось бесконечно долго. Я не отходила от зала заседаний ни на одну минуту. Я боялась упустить судью. Они вернулись в десять вечера. В здании суда уже почти никого не было. Мы снова вошли в зал. Все проходило очень по деловому и без эмоций. Судья была подтянута и строга. На меня ни разу не взглянула. Все сели. Судья положила перед собой отпечатанный текст и прочла: «Рассмотрев в судебном заседании дело по обвинению Лейкиной Марии Львовны по подозрению в нарушении ст.88 ч.2 и……суд пришел к заключению, что следствие не представило достаточных доказательств для обвинения Лейкиной Марии Львовны по ст.88 ч.2 УК СССР. Суд постановил обвинение по указанной статье отменить за недостаточностью улик. Вещи конфисковать, как возможные предметы контрабанды. Лейкину Марию Львовну из под стражи освободить. Решение суда входит в силу с момента оглашения приговора».
Я ничего не слышала тогда, кроме слов «из под стражи освободить». Освободить! Освободить! Освободить!!! Решение суда входит в силу немедленно! Но для меня — это завтра. Завтра мама должна быть со мной. Внутри у меня все горело. Было ощущение высокой температуры. Я схватила такси и понеслась к Лиле. Уже в такси, пересказывая про себя решение суда, повторяя его много раз, как припев песни, я вдруг осознала весь трагизм маминой судьбы. Они сняли обвинение по ст.88 ч.2. У них не было доказательств. И не могло быть. Они держали маму три года незаконно! Они обязаны были отпустить ее три года назад, семнадцатого мая 1975 года, когда вышла амнистия, приуроченная к Международному году женщин. Отпустить — и сохранить ей жизнь. Сегодня на суде это прозвучало как незначительная ошибка следствия. В конце-концов все могут ошибиться. Следователи — тоже люди. Люди ли?!
Приехала к Лиле, рассказала взахлеб. Всю ночь не сомкнула глаз. Утром чуть свет Лиля поехала на рынок купить овощи, фрукты, мясо, цветы. А я — на вокзал за билетами в Ленинград. Прямо с вокзала позвонила Гарри Лобби. Сказала, что через три дня мы уезжаем. Договорились встретиться на вокзале.
В десять часов утра, с билетами в кармане, я приехала в Лефортовскую тюрьму. Подошла к дежурному, дрожа от нетерпения. «Я — дочь Лейкиной Марии Львовны. Суд освободил ее из-под стражи», — скороговоркой выпалила я. На лице дежурного не дрогнул ни один мускул. Услышала односложное: «Паспорт». Я судорожно начала рыться в сумочке, соображая с трудом: «Причем здесь мой паспорт? Ведь не меня освобождают, а ее». Нашла. Подала. Окошечко захлопнулось. Как все это знакомо! Несколько минут длиною в вечность. Открылось. Тот же бесстрастный голос: «Никаких распоряжений не имеется». Паспорт передо мной. Окно захлопнуто.
Боже, что это? Куда бежать? Кому звонить? Выскочила на улицу. Телефон-автомат. Звоню Новикову. «Сергей Валентинович, здравствуйте, это…» Перебил: «Здравствуйте, Елена Марковна, я вас узнал». «Я звоню из тюрьмы. Маму не освобождают». И слышу спокойный и равнодушный ответ: «Я вам ничем не могу помочь. Дело вашей мамы закрыто. В настоящий момент я не имею к нему никакого отношения». Все. Он не имеет никакого отношения! Он свое дело сделал! Звоню прокурору. Гудки. Гудки. Гудки. Нет ответа. Я стою на улице. Мысли суетятся в голове. Одна набегает на другую. Я ищу выход из этого абсурдного положения. Бегу в тюрьму. Стучу в окно. Открылось. Почти кричу: «Проверьте! Вы ошиблись! Вчера был суд». И снова мускул не дрогнул. Может, их учат не шевелить мускулами? Голос звучит твердо, без модуляций: «Гражданка, мы не ошибаемся». У меня начинают дрожать ноги. Мысли возникают самые черные. Звоню адвокату. Он изумлен. Он сталкивается с такой ситуацией впервые. Ну почему все невообразимые ситуации должны случаться с моей мамой? Где конец этого страшного сна?! Я устала. Я устала страдать. Возвращаюсь в тюрьму. Она уже закрыта. Какая насмешка судьбы. Я хочу в тюрьму — а она закрыта! Какое несовместимое сочетание — тюрьма закрыта! Я еду к Лиле. Объяснять ей, что произошло, нет сил. Я ложусь и проваливаюсь в пропасть.
Утром еду опять в тюрьму. Тот же ответ: «Никаких распоряжений не имеется». Кто мне объяснит, что происходит?! Звоню Новикову. Вот ведь ирония ситуации — мне некому больше звонить. Он берет трубку. Он снова узнает меня по голосу. Но сегодня он почему-то в курсе. Как будто не было вчерашнего разговора. «Елена Марковна, приходите за мамой завтра к пяти вечера. В приемную тюрьмы». Я не задаю вопросов. Ответов на них не будет.
Я еду к Лиле. Мы жарим котлеты и печем пироги. Она берет на завтра «отгул». Она понимает — одной мне уже невмоготу. Назавтра приезжаем к четырем. Окошко. Паспорт. И ответ: «Ждите». Боже, неужели свершится?! Я неотрывно смотрю на дверь. Она железная и зеленая. Дверь открывается. Я вздрагиваю. Выходит человек в военной форме. Направляется ко мне: «Вы дочь Лейкиной Марии Львовны». Не спрашивает, а утверждает. «Пройдемте со мной, вас хочет видеть начальник тюрьмы». Ноги подкосились. Что еще?
Идем. Он впереди, я за ним. Поднимаемся по лестнице. Коридор. Окна. На окнах цветочки. Видно, начальник любит уют. Или цветы — это тоже по инструкции? Входим в кабинет. Высокий, мощный человек в военной форме посреди комнаты. Здороваемся. Он: «Садитесь». Я: «Спасибо. Я постою». Он делает несколько шагов вперед: «Я хочу, чтобы вы знали — мы не виноваты в состоянии вашей мамы». Кажется, что кричу, но слышу свой спокойный голос: «С ней что-нибудь случилось?» Он удивлен: «Никаких особых перемен». Меня не интересует сейчас ничего, кроме одного: «Я смогу ее сейчас забрать?» Он кивает полуутвердительно: «Чуть-чуть попозже. Она оформляет вещи».
Я села. Ноги не держали меня. Он тоже сел. Поднял телефонную трубку. Набрал три цифры. Произнес одну фразу: «Она здесь». Протянул трубку мне: «С вами хотят поговорить». Так вот для чего меня привели. Со мной хотят поговорить. Кто?! Беру трубку. Слышу знакомый до отвращения голос Новикова: «Вас можно поздравить, Елена Марковна?» Господи, ну не ради же поздравления он меня сюда вызвал. Отвечаю сдержанно: «Пока не с чем. Я еще маму не видела». Он — нарочито ободряюще: «Ну, осталось совсем недолго». Я молчу. Он тоже выдержал паузу: «Кстати, Елена Марковна, вы уже взяли билеты на поезд?» Отвечаю утвердительно. Он — голосом, привыкшим задавать вопросы: «Надеюсь, у вас двухместное купе?» Нет, купе у меня не двухместное. И он прекрасно знает, что такие билеты достать практически невозможно. Он сожалеет: «В двухместном было бы значительно удобнее». Я начинаю раздражаться. В каждом вопросе я жду подвоха. Отвечаю: «В следующий раз я обращусь к вам за протекцией». Он уловил мое раздражение. Он хороший психолог. Его не зря учили. Тон его меняется. Он переходит к делу: «Между прочим, Елена Марковна, я вам советую ни с кем на вокзале не встречаться». Как всегда мне казалось, что я готова ко всему. Но он застает меня врасплох. Я делаю вдох и отвечаю: «А я ни с кем и не собираюсь встречаться». А про себя: «Они следят за Гарри Лобби». Он: «Елена Марковна. Не надо играть со мной в прятки. Я советую вам ни с кем не встречаться». Нарочитый акцент на слове «советую». Это уже звучало как предупреждение. И строгое. Я выдавливаю улыбку и отвечаю: «Сергей Валентинович, зачем вы со мной говорите загадками? Я вас не понимаю». Голос его стал железным. На секунду мне показалось, что я снова на допросе и в его власти не подписать мне пропуск на выход. Страх к этому голосу я, наверное, передам по наследству. Он вошел в мои гены. «Елена Марковна, я вас предупредил». Все. В трубке гудки.
Начальник тюрьмы нажал кнопку. Вошел тот же военный. Ему приказано меня проводить. Как и куда мы шли — не помню. Вдруг сердце провалилось. Вижу стоит мама у какого-то прилавка и собирает вещи в узелок. Я — к ней: «Ма-а-ма!!!» Она взглянула, и на лице ее появился ужас: «Что ты здесь делаешь?» Господи, она ничего не знала. Они не предупредили ее! Она подумала, что меня посадили. «Мамочка, — обнимаю ее, плачу, — я пришла за тобой!» Она не поняла. Тихо сказала: «Меня куда-то переводят». Я хватаю узелок, хватаю маму и тащу к выходу: «Тебя никуда не переводят. Мы едем домой!» Она держит меня за руку и покорно идет. Покорно идет на свободу.
Лиля бежит за такси. Мы с мамой выходим на улицу. Она озирается. Вдруг ко мне: «Папа сидит?» Я в отчаянии. Я обо всем писала, посылала фотографии. Но даже после всех этих доказательств, даже после того, что она уже однажды видела папу, ее не покидает навязчивая идея об его аресте. Как же упорно и настойчиво они внушали ей эту мысль во время следствия! Говорю, как ребенку: «С папой все в порядке. Он у Анечки в Израиле». Я не знаю, верит она или нет. Подъезжает такси. Мы едем.
Мама в дороге молчит и неотрывно смотрит в окно. Я понимаю. Три года она не видела ничего, кроме глухих стен. Я стараюсь об этом не думать. Приехали. У нас уже накрыт стол. «Я ничего не буду», — говорит мама и запихивает котлету в рот. Мы с Лилькой смотрим ей в рот, как будто она фокусник. Я счастлива. Мама со мной. Она свободна. Она ест!
На следующий день мы уезжаем. На вокзале я нервничаю. Не за себя. За Гарри. После разговора с Новиковым я Гарри не звонила. Зачем звонить, если телефон прослушивается. Мама в купе. Я хожу по платформе. Вижу — идет. И рядом с ним какой-то мужчина. Они идут и оживленно беседуют. Я мельком взглядываю на мужчину. Он мне незнаком. Подбегаю к Гарри и быстро тараторю: «Меня предупредили из КГБ, чтобы я с вами не встречалась. За вами следят». Он на секунду, на одну секунду меняется в лице, потом лицо его принимает обычное, спокойное выражение и он говорит: «Раз уж я здесь, я повидаюсь с вашей мамой». И пошел в купе. Посидел минуты три. С мамой особо не разговоришься. И ушел.
Уже много-много лет спустя я встретила его в Лондоне. Говорили, вспоминали. Вдруг он хитро улыбнулся и спросил: «Ну, а мужчину, с которым я был на вокзале, вы тогда узнали?» Я удивленно посмотрела на него: «Насколько я помню, он был мне не знаком». Гарри засмеялся: «Это же был Андрей Дмитриевич Сахаров!» Вот это сюрприз. Ну, конечно же, я не могла узнать его. Портретов его не печатали и потихоньку предавали забвению.
Вот тогда-то, в Лондоне, мне стало понятно, почему я «получала» маму с такими осложнениями. Ведь сразу после суда я позвонила Гарри! А Гарри был связан с Сахаровым. Я оказалась «пристегнутой» к ним, сама об этом не подозревая.
Глава 3
В 1978 году, в апреле месяце, поезд увозил нас с мамой в Ленинград. Мы ехали в обычном четырехместном купе, мама спала, а я прислушивалась к ее дыханию. Приехали. На вокзале нас встречала Галя, мамина сестра. Сели в такси, заехали на минутку к бабушке. Бабушка уже не вставала. Горе подкосило ее окончательно. Мама была усталая и безучастная. Бабушка плакала, а мама смотрела на нее молча. Минут через десять мы поехали на Таврическую.
Первые дни мама в основном лежала. Но мне удавалось вывести ее на несколько минут на улицу. Примерно через неделю от прогулок она категорически отказалась. Кушала мало. Когда Андрюша приходил со школы, он садился в бабушкиной комнате и делал уроки. Я слышала, как они вместе решают задачи по арифметике. Я написала папе и Анечке восторженное письмо. Ночью я спала в одной комнате с мамой и, глядя на нее, думала, что все наши несчастья позади.
О своем заключении мама не говорила, а я не спрашивала. Но однажды она вдруг спросила меня: «Почему ты не прислала мне варежки?» «Какие варежки?» обалдела я. «Я ж тебе писала из Казани. Там была женщина. Она выходила гулять. Было холодно. Я сказала — моя дочь пришлет варежки. Я написала тебе», — мама говорила медленно, с трудом подбирая слова и как-то несинхронно со звуком шевеля губами. Я вспомнила, как адвокат прочел мне выдержку из медицинского обследования, проведенного над моей мамой в институте судебно-медицинской экспертизы им. Сербского в Москве. Еще во время следствия. Там, на какой-то заданный ей вопрос, она ответила: «Мне тяжело думать. Мысли ходят в голове очень медленно». По тому напряжению, которое появлялось на ее лице во время разговора, я начала понимать, что это значит.
«Мамочка, я не получала от тебя писем. Ни одного». И я подумала, с каким нетерпением я ждала от мамы хоть какой-нибудь весточки. Мама продолжала спокойно: «Значит они не отослали письмо». Пауза. «А я тогда на тебя обиделась». Господи, помоги мне это вынести! Господи! Сколько еще раз моя мама была обижена на меня? На меня?! «Мамочка, — как можно спокойнее сказала я, — ну как ты могла подумать, что я не пришлю тебе варежки, если ты просишь об этом?» Мама секунду помолчала и сказала: «Да». Я так и не поняла, что она хотела сказать, но переспрашивать не стала.
В другой раз, разбирая ее немудреный узелок, я нашла фотографию, что посылала в Казань маме — папа вместе с Анечкой в Израиле. «Ты видишь, как папа хорошо выглядит?» — сказала я, протягивая ей фотографию. «Где папа?» спросила мама. «Вот же, вот — с Анечкой!» И мама вдруг: «Я думала, он сидит». Мне стало нехорошо. «Ты что, не верила мне, когда я тебе сказала, что с папой все в порядке?!» — я схватила ее за плечи и заглянула в глаза. Мама спокойно, монотонно ответила: «Не верила. Думала — сидит». Я затрясла ее за плечи: «Но теперь-то, теперь ты веришь мне?!» «Да», — снова ответила мама.
После таких разговоров я чувствовала себя разбитой, как будто меня били палками. Но и таких разговоров было очень мало. В основном, мама молчала. Помню еще, что сидели мы вместе с ней на кровати, и я показывала фотографии из Израиля, полученные за эти три года. Вдруг мама своим отрешенным голосом произнесла: «Меня нянька била ключами в Казани». «За что?!» — воскликнула я, как будто существовала на свете причина, по которой дозволено бить человека ключами! «Я пролила суп. У меня руки дрожали», — сказала мама и погрузилась в глубокое, какое-то далекое от меня молчание. У меня отпала охота показывать фотографии. Пальмы и арбузы были так же далеки от нее, как далек и непонятен был для меня мир, в котором она жила эти три года и воспоминания о котором медленно проплывали в ее памяти. Ее сознание продолжало жить за той, второй, дверью.
Резкое ухудшение наступило внезапно. Ночью я проснулась от громкого шепота. Мама бредила. Но бред этот был жутким. Она отвечала на вопросы. Для нее продолжалось следствие. «Нет, я не знаю этого человека», — донеслось до меня. «Не помню… Да, квартира у меня очень хорошая… Его зовут Гриша… Не помню… Не была… Нет… Да, я люблю его… Андрей… Не знаю…» Все ответы были четкими с длинными паузами, как будто в это время она слушала вопрос. Я покрылась холодным потом. Накрылась одеялом, чтобы ничего не слышать. Не помогает. Не выдержала — ушла в другую комнату.
Наутро зашла к маме и не узнала ее. Она сидела на кровати, обхватив голову руками, локти на коленях. И медленно раскачивалась из стороны в сторону. Взглянула на меня безумными глазами и сказала мучительно: «Мне осталось жить одну миллионную долю секунды». Я замерла. Потом подошла, села рядом и как можно убедительнее сказала: «Ну, что за глупости. Одна миллионная доля секунды давно прошла. И ты жива и будешь жить еще долго». Вдруг мама оторвала руки от головы, посмотрела на меня и закричала тонким пронзительным голосом: «Ты что, не веришь мне?! Мне осталось жить одну миллионную долю секунды! Андрей не вернется из школы! Володя не придет с работы! Все кончено! Жизни больше нет! Я не сумасшедшая! Неужели ты мне не веришь?! Вот принеси часы и увидишь, что время остановилось!»
Крик оглушил меня. Я отпрянула. Я испугалась. Но пыталась еще что-то внушить: «Но если Андрей вернется из школы, ты поймешь, что была не права?» Ох, я глупая, глупая! Я пыталась логикой убедить ее. «Ты не веришь мне! Не веришь!» — и начала рвать на себе волосы. Я выбежала из комнаты и судорожно начала звонить знакомому врачу — мне срочно надо было найти психиатра. Из маминой комнаты доносились крики. Потом все стихло. Я заглянула в щелку. Мама снова сидела на кровати, обхватив голову руками, и монотонно раскачивалась.
Вечером пришел профессор Авербух. Старый опытный врач-психиатр. Сказал мне: «Если будет очень бушевать, давайте вот эти таблетки». Потом узнала сильное снотворное. Состояние мамы не улучшалось. Я запретила Андрею заходить к бабушке. Я стояла за дверью и слушала безумные крики. Почти ничего нового мама не выкрикивала. «Мне осталось жить одну миллионую долю секунды», — кричала мама по сто раз подряд. Когда становилось совершенно невыносимо (для кого? для меня? или для мамы?), я заходила и давала снотворное. Она поспешно закладывала таблетку в рот и запивала водой. Видно, таблетки ее там принимать научили. Как? Ключами? Или у них были и другие способы? Приняв таблетку, она через пять минут затихала и проваливалась в тяжелый сон. В доме часа на четыре наступала тишина.
Я сидела и ничего не могла делать. А делать надо было. Ведь у меня ребенок, муж. Автоматически варила, убирала, стирала, отвечала на Андрюшины вопросы и все время прислушивалась. Ждала крика, знала, что вот-вот услышу его и безумно боялась этого. Крик всегда раздавался неожиданно. Я входила в комнату и пыталась хоть чем-то помочь. Мама смотрела на меня, как на пустое место, и продолжала рвать на себе волосы.
Через две недели я не выдержала. Еще во время своего визита профессор Авербух сказал: «Поймите, вашей маме нужно стационарное лечение. Вряд ли она сама выйдет из этого состояния. Ваша мама тяжело больна». Но я надеялась, что мои любовь и терпение вылечат ее. Через две недели я поняла, что мама погибает. Она почти ничего не ела — только несколько глотков супа в перерыве между таблеткой и сном. На улучшение рассчитывать не приходилось. Мои любовь и терпение были ей не нужны. Во время очередного приступа я побежала к телефону и вызвала скорую помощь.
Повесив трубку, у меня появилось ощущение, что я маму предала. Я сидела в кухне и боялась к ней заглянуть — мне казалось, что она тут же поймет, что ее увезут. Звонок в дверь прозвучал, как выстрел. Я открыла. В дверях стояли два санитара, огромные, как борцы-тяжеловесы. Я не смогла произнести ни одного слова, у меня как-будто язык прилип к небу. Они вошли и привычно и уверенно пошли на крик. Увидев их, мама на секунду замолкла, а потом вдруг в ее крике, еще более громком и пронзительном, появились испуганные и панические всхлипы: «Нет, нет, я никуда не поеду. Мне осталось жить одну миллионную долю секунды». И ко мне умоляюще и протестующе: «Доченька, не отправляй меня никуда! Я не могу! Они хотят меня убить! А я и так умираю. Мне осталось жить одну миллионную долю секунды!».
А санитары уже вели ее к машине. Я разрыдалась. Я плакала громко, навзрыд, но мамин крик был намного громче, и весь мир для меня превратился в один длинный, пронзительный, болезненный крик моей несчастной мамы. Я села вместе с ней в машину и, рыдая, захлебываясь, быстро говорила ей: «Мамочка, любимая, родная! Тебя вылечат. Ты станешь здоровой. Мы будем вместе. Я люблю тебя. Пожалей меня. Не кричи, не кричи, не кричи». А в ответ мне: «Я никуда не поеду. Не отправляй меня. Андрей не придет из школы. Время остановилось. Ну, почему ты мне не веришь?!»
Мама осталась в больнице, я приехала домой. Дома было тихо и пусто. Мамина кровать разобрана, смята. Я села на кровать и уткнула лицо в ее подушку. Наутро поехала в больницу. Хочу пройти на отделение, в котором лежит мама, а меня не пускают. Мне не разрешают навестить маму! Выходит дежурная. Глядя поверх меня, сообщает: «Ваша мать находится под особым надзором. Свидания с ней запрещены». Я думала, что потеряю сознание. «Под каким надзором?! — кричу я. — Я привезла ее к вам сама, сама. О чем вы говорите?!» Она ответила, так же не глядя на меня: «Нам прислали ее историю болезни. Она совершила тяжкое преступление. Свидания с ней запрещены».
Боже, неужто все возвращается на круги своя?! Кто, кто прислал историю болезни? Откуда? Кто запретил свидания? На каком основании? Господи, этот ад закончится когда-нибудь, или я сгорю в нем? Я поняла, что в больнице мне делать нечего. Надо было искать, как развязать эту петлю. Пришла домой. Села за телефон. Стала обзванивать всех подряд. Вдруг кто-нибудь поможет или что-нибудь посоветует. Дошла до буквы М. Мошарская Клара Яковлевна. Хорошая мамина приятельница. Позвонила. Устало спросила, не может ли помочь. А она в ответ: «Леночка, недавно моя сестра познакомилась с одним человеком. Он освободил ее зятя от армии. Он врач-психиатр. Но это не главное. Мы поняли, что он очень много может».
Звоню этому врачу. Прошу встретиться. Встречаемся на Садовой улице в садике Экономического института. Грузный, можно сказать, толстый человек. Высокий. Из него можно сделать четыре таких, как я. Лицо умное, проницательное. Познакомились. Я все рассказала. Он лишних вопросов не задавал. Сказал: «На днях постараюсь выяснить». И не обманул. Выяснил. Оказалось, после маминого освобождения в психдиспансер по месту жительства из Медицинского Управления МВД прислали выписку из истории ее болезни. И статьи Уголовного Кодекса, по которым она обвинялась в процессе следствия. Зачем прислали, я так и не поняла. Видно, порядок у них такой. А главврач больницы, куда я маму отвезла, ни в чем разбираться не захотела. Раз есть выписка — значит надо взять больную под надзор. На всякий случай. И изолировала ее от всех. Потребовалась неделя со всеми связями Э.Д. (я, к сожалению, не могу назвать полного имени этого человека, так как в момент написания книги у меня нет с ним связи, и я не могу спросить его согласия), чтобы убедить главврача, что мама свободный человек.
Мне разрешили свидание. Я увидела психиатрическую больницу изнутри. Огромное здание с зарешеченными окнами. Длинная лестница с железными дверями на лестничных площадках. На дверях — номер отделения. У каждой двери звонок. При входе надо предъявить пропуск. Вошла. Длинный коридор. Справа столовая — столы, стулья, раздаточное окно. И по обе стороны коридора комнаты без дверей. В коридоре ходят больные, занятые своими мыслями. Что-то бормочут, жестикулируют, разговаривают сами с собой. За все время, что мама была в больнице, я ни разу не видела, чтобы больные общались друг с другом. Не успела я войти, как кто-то подбежал ко мне и начал просить денег. Другая, хватая меня за рукав и пуская слюну, начала требовать сигареты. Я достала сигарету и дала. В ту же секунду ко мне подбежало человек десять и, отталкивая друг друга, начали вырывать у меня сигареты и открывать сумку. Подбежала медсестра. Всех растолкала. Меня предупредила — никогда ничего никому не давать. Иначе проходу не дадут и увечья нанести могут. Вот так.
Мама лежала в самой дальней палате слева. Палата была для тяжело больных. Значит, те, что встретили меня в коридоре, — больные не тяжелые. Около маминой палаты — круглосуточный медицинский пост. Я вошла. Руки-ноги дрожат. Палата огромная, человек на пятнадцать. Мама лежала в углу, у стенки, глаза закрыты. Я подошла, поцеловала. Она открыла глаза и посмотрела на меня затуманенным взором. Видно, ее накачали лекарствами. Взглянула на меня и снова закрыла глаза. Я села у нее в ногах. Огляделась. Рядом с ней лежала абсолютно голая молодая женщина с идиотским выражением лица, привязанная к кровати ремнями. Потом я узнала, что она всю жизнь находилась в интернате для слабоумных. Была тихой и безобидной. Пока однажды не взбесилась и не откусила палец своей соседке. И с тех пор была буйной и агрессивной. Я несколько раз была свидетелем ее приступов, когда она крушила все на своем пути и четыре санитара не могли с ней справиться. В дни свиданий она была привязана всегда, но когда посетителей не было, ее иногда отпускали с кровати.
Другая больная сидела на кровати, по-турецки поджав под себя ноги. Лицо ее было сосредоточено, и она беспрерывно что-то стряхивала с себя. Мне объяснили, что ей кажется, что по ней ползают муравьи. Третья лежала, уставившись в одну точку и мычала. Она находилась здесь, на этой самой койке, уже больше двадцати лет. Каждую неделю ее навещала старенькая мама, приносила передачу. А эта, мычащая, прекращала мычать и начинала ругаться матом, кидая в свою мать, что попадется под руку. Была она угловатая, жилистая и уродливая. Именно она, не узнающая свою родную мать, закричала, перемежая свою речь ругательствами, когда мою маму ввели в палату: «Смотрите, смотрите, грязная жидовка пришла!» Вот в таком окружении лежала моя мама, прошедшая все круги ада. Но со всеми этими больными и со многими другими мне довелось познакомиться потом, когда я добилась постоянного пропуска и приходила к маме дважды в день. Я кормила ее завтраками, обедами и ужинами. Моя жизнь превратилась в круговорот. Я пекла блинчики, сырники, котлеты, готовила супы, натирала на терке фрукты, на ходу кормила Андрея и неслась в больницу.
Я уже познакомилась с заведующей отделением, узнала по справочной ее домашний адрес и время от времени делала ей подарки. Медсестрам и нянечкам подарки приносила прямо в больницу. Это считалось в порядке вещей. Больные привыкли ко мне и уже почти не обращали на меня внимания. Я тоже узнала их привычки и старалась не лезть на рожон. Была у мамы в палате одна больная, женщина изумительной красоты. На первый взгляд она казалась абсолютно нормальной. Она спокойно сидела на кровати, здоровалась, улыбалась. Я после первых посещений недоумевала, почему она находится здесь. Но однажды она встретила меня в коридоре по пути в палату. Она радостно подошла ко мне и сказала очень церемонно и удивительно приятным голосом: «Как поживаете, Анна Павловна?» Я улыбнулась в ответ: «Вы ошиблись. Я не Анна Павловна. Вы меня с кем-то перепутали». Боже! Лицо ее исказилось и стало уродливым. Я до сих пор не понимаю, как в одну секунду можно так измениться. И она буквально прошипела мне в лицо: «Вы последнее время избегаете меня, Анна Павловна». Затем лицо ее опять приняло обычный вид, и она капризно сказала: «Я пожалуюсь Александру Сергеевичу». И грациозно отошла. Я не поняла, что произошло. Я чувствовала, что чем-то ее обидела. Потом медсестра объяснила мне, что эта женщина больна шизофренией, и у нее навязчивая идея: она считает себя Натальей Николаевной — женой Пушкина. Все следующие посещения я старалась подыгрывать ей. Она встречала меня в коридоре, мы обменивались «светскими» новостями, и она плавно покидала меня. В дни свиданий к ней приходили муж и дочь.
Маме становилось чуть-чуть лучше. Она лежала тихо и иногда улыбалась, увидев меня. Быстро съедала то, что я ей приносила и через пять минут говорила: «Ну, иди домой. Я отдохну». Поворачивалась к стене и укрывалась с головой одеялом.
Так продолжалось недели три. Однажды я пришла как всегда утром. У входа меня ждала заведующая отделением. «Лена, — сказала она, — сегодня вам не стоит идти к маме. Сегодня ей плохо». «Что с ней?» — спросила я упавшим голосом. «У нее начались галлюцинации». Я посмотрела на врача умоляющими глазами. Она отошла в сторону и сказала мне вслед: «Вы сейчас поймете, что лучше бы было вам уйти домой».
Я вошла в палату. Мама посмотрела на меня безумными глазами. Я приблизилась. Вдруг она приподнялась с подушки и буквально выстрелила мне в лицо: «Дрянь, негодяйка! Как ты посмела придти ко мне?!» Голос ее стал тонким и визгливым. Она вдруг села на кровати и с силой оттолкнула меня. «Уходи вон! Ты не моя дочь! У меня нет дочерей! У меня два сына. Я не хочу видеть тебя! Ты проститутка! Мой папа начальник КГБ!» Потом лицо ее обратилось куда-то к стене, и она прокричала: «Казимир Казимирович! Ты слышишь меня?» Я стояла, окаменев. Вдруг она обратилась ко мне, и лицо ее горело ненавистью: «Ты слышала, что он сказал?» Последние слова она прокричала, схватив меня за плечи. «Мамочка, — прошептала я испуганно. — Я ничего не слышала». Мои слова буквально взбесили ее. «Врешь, негодяйка, не обманывай меня». И начала хлестать меня по щекам. Я наклонилась к ней и, рыдая, в истерике, закричала: «Бей меня! Бей! Ну, что еще я могу для тебя сделать?! Да, я плохая дочь! Бей меня!» А она в исступлении: «Ну, теперь ты слышишь, что он говорит?» И я, рыдая и целуя ее руки, хриплю: «Да, я слышу, слышу». «Так ты еще и врунья, — орет мама, — ты хотела обмануть меня?! Ты и тогда слышала, что он говорил. Какая же ты дрянь!» — и бьет меня, бьет.
Подбежала медсестра, оттащила меня от мамы. Мне стало плохо. В кабинете врача сделали какой-то укол. Я тихо плакала. Я не хотела жить. Я встала и пошла домой. Пешком.
Каждый должен испить свою чашу страданий. Этот скорбный бокал, поднесенный судьбой. Мне вручили его в час моих испытаний, И я пью свое горе, обливаясь слезой. И я пью свое горе но бокал не пустеет. Я хочу быть свободной но бокал предо мной. Жидкость в этом бокале с каждым годом краснеет. Я боюсь захлебнуться кровавой судьбой. Я боюсь захлебнуться упадешь и не встанешь. Я устала бороться слишком чаша полна. Но давно поняла я судьбу не обманешь. Каждый должен испить и до самого дна! Каждый должен испить и я пью в исступленьи. Каждый должен испить в горе я не одна. Только зреет с годами в душе подозренье, Что я пью свое горе из бокала без дна.Утром снова пришла в больницу. Меня не пустили. Я не настаивала. На третий день меня встретила улыбающаяся заведующая. «Маме намного лучше, радостно сказала она. — Галлюцинации прошли. Она вставала и даже выпила с нами в ординаторской чай». Я вбежала в палату. Мама лежала тихая и бледная. Но глаза! Глаза моей прежней здоровой мамы! Она увидела меня и заплакала. Впервые за все эти годы я видела ее слезы. «Доченька, родная, прости», прошептала мама, пытаясь обнять меня. Она была настолько слаба, что еле могла приподнять голову. «Я только теперь поняла, насколько я больна. Я ведь не верила, что больна. Я же все помню, что я делала и говорила». Она уткнулась мне в щеку, и лицо мое стало мокрым от ее слез. Она продолжала: «Но я же слышала, слышала голоса». Это прозвучало удивленно и растерянно. «Знаешь, я же видела, как меня поместили в клетку и сказали, что я должна смотреть на лампочку, не отрываясь, три года. Только тогда меня выпустят из нее, — мама рассказывала и гладила мою руку, — я заплакала и сказала, что я этого не выдержу. И меня пожалели и сократили срок до трех дней».
Я слушала маму молча. Не перебивая. Она давно уже не говорила так долго. «А потом я видела, что врач наливает яд и хочет отравить меня. И я отбивалась. Я же это все видела». Действительно, заведующая сказала мне, что мама никого не подпускала к себе, отталкивала и кричала, что ее хотят убить. «А потом у меня вдруг оказалось много ключей. И я всем раздавала ключи от новых квартир». Мама замолчала и посмотрела на меня с любовью. Я крепко прижала ее к себе. «Мамуля, сейчас все будет хорошо. Главное, ты поняла, что больна. Теперь ты вылечишься, и мы пойдем домой. Андрюша очень скучает по тебе». Мама взглянула на меня просветленными счастливыми глазами. «Боже, как я люблю этого ребенка!» — прошептала она.
Я летела домой, как на крыльях. Внутри все пело. Уже три года я не испытывала такой полноты счастья и надежд. Я тут же обо всем написала папе с Анечкой, позвонила бабушке. «Ты вставила мне новую душу», — сказала она. Лучше бы я этого не делала. Но разве знала я, разве могла предположить, что в тот день я видела мамины разумные глаза в последний раз.
Уже на следующий день мама впала в свое обычно безразличное существование. Я думала о том, что Анечка получит мое письмо только через месяц и будет радоваться тому, что давно исчезло, испарилось и растворилось в новых печалях. Это напомнило мне звезду, которую мы наблюдаем в небе и радуемся ее веселому мерцанию, не подозревая, что сама звезда давно сгорела и исчезла из мироздания. Может быть, и моя надежда, не покидающая меня все эти годы, — только свет такой звезды?
На свете миллиарды звезд В созвездья сплетены. Они, как веточки мимоз, Коварны и нежны. Они, как сказочный ковер, Как бархат в жемчугах. Они плывут, и их узор Стирают облака. Есть среди них одна звезда Моей судьбы окно. Надежда, счастье, боль, беда Все в ней заключено. Ее ищу средь моря звезд, Хочу судьбу прочесть. Но на глазах лишь капли слез, И капель тех не счесть. Догадка, смутная как дым, Вдруг обрела скелет: Я вижу мертвый свет звезды, Ее давно уж нет…Прошел месяц маминого пребывания в больнице. Состояние ее как-то стабилизировалось, но находилось на отметке намного ниже среднего. Анечка в своих письмах рассказывала о чудесах израильской медицины и умоляла сделать все возможное для переправки мамы в Израиль. Вызов уже лежал у меня дома, а мама лежала в больнице, и состояние ее не улучшалось. Я сильно сомневалась, что маму удастся отправить в Израиль. Но я четко поняла, что не хочу, не могу, не имею права заточить маму в четыре стены с зарешеченными окнами. Возможно, маме это было уже безразлично, но мне, мне — ее дочери — было невыносимо видеть это и невозможно принять.
Через месяц я подошла к заведующей отделением и сказала, что я хочу маму забрать. Я объяснила ей, что я поместила маму в больницу отнюдь не для того, чтобы облегчить себе жизнь. Сейчас маме немного лучше. Я в состоянии ухаживать за ней дома. Если состояние ее ухудшится, возможно, я опять воспользуюсь ее опытом. Однако, добавила я, теперь я знаю, что вылечить маму невозможно, и ее дальнейшее пребывание в больнице становится бессмысленным. Я надеялась, продолжала я, что правильное лечение может помочь маме снова стать человеком. Этого не произошло. И не произойдет. Чудес на свете не бывает. Я хотела еще что-то сказать заведующей, но она перебила меня и серьезно, с оттенком настойчивости произнесла: «Лена, это абсолютно невозможно».
В первый момент я просто не поняла ее: «Что невозможно? Что вы имеете в виду?» Она на секунду опустила глаза, потом посмотрела мне прямо в лицо и ответила: «Мы не имеем права выписать больную домой в таком состоянии». Я опешила: «Но ведь я сама, по своей воле поместила маму сюда. Теперь я хочу забрать ее домой. Это же совершенно логично». Заведующая отделением посмотрела на меня с сочувствием здорового к больному и терпеливо разъяснила: «Логика здесь ни при чем. Пока мама была у тебя дома, это была только твоя личная проблема. В тот момент, когда она поступила к нам, мы несем за нее ответственность. Твоя мама находится в состоянии глубокой депрессии. Поведение таких больных непредсказуемо. Она может выброситься из окна, причинить увечье себе или окружающим. Если это произойдет после того, как наша врачебная комиссия поставит свои подписи о ее выписке, мы понесем уголовное наказание».
Она замолчала. Я тоже потеряла дар речи. Смысл сказанного доходил до меня с трудом. Все, что дошло до меня, это то, что мне не отдают маму. За что же я боролась эти три года?! За что билась моя сестра?! Куда, на какую почву падали мои слезы? Ее ответ казался настолько чудовищным и невероятным, что я не могла найти в себе адекватную реакцию. Я не плакала, не грубила, не угрожала. Я просто сказала ей: «Я этого не допущу. Я вызволю ее отсюда любой ценой». И ушла.
Ох, как легко было это сказать! Но куда идти, кого просить, что делать? Я пошла на прием к главврачу больницы. Она приняла меня холодно и надменно. Это была высокая худая женщина с аскетическим лицом и ввалившимися глазами. Мне показалось, что длительное общение с пациентами этого дома скорби стерло в ее глазах все различия между больными и здоровыми. Когда она разговаривала со мной, у меня было такое чувство, что она автоматически оценивает, сколько времени мне осталось, чтобы переместиться из этого кабинета в больничную палату. Разговор не получился. Стоило мне только заикнуться о причине своего визита, как она, не дослушав, сказала, что она перегружена работой, у нее через несколько часов совещание и что она не может изменить порядок выписки больных по прихоти их родственников, не разбирающихся в существе затрагиваемого вопроса. Ее речь была вычурна и безапелляционна. После этого она уткнулась в свои бумаги, показав, что прием окончен.
На прием к главному психиатру района пришлось записываться у секретарши. Мне предстояло два дня ожидания, которые прошли, как в тумане. Я ходила к маме, приносила еду и старалась ни о чем не думать. Главный психиатр района был выдержан и терпелив. Он долго и нудно объяснял мне возможные последствия моего необдуманного желания. В заключение он сказал, что если маме они, то есть врачи, уже помочь бессильны, он обязан думать обо мне и об окружающих людях.
Когда я вышла от него, я поняла, что выбранный мною путь неверен. Я пришла домой и позвонила Э.Д., тому самому Э.Д., который уже однажды помог мне получить пропуск для посещения мамы в больнице. Я говорила с ним спокойно, без эмоций и лишних слов. На решение этого вопроса у него ушло две недели. Под моим заявлением с просьбой выдать мне маму под мою личную ответственность стояла резолюция главного психиатра города. Неисповедимы пути Господни!
Я шла с мамой из больницы, крепко держала ее под руку и давала себе клятву, что никогда, ни при каких обстоятельствах я не отдам маму туда еще раз. «Мамочка, — говорила я ей, убеждая одновременно и ее и себя, — ты должна знать, что ничто не сможет заставить меня вернуть тебя в больницу. Я люблю тебя и что бы ни случилось, буду с тобой». Мама шла молча, сосредоточенно глядя себе под ноги. Она старалась идти ровно и аккуратно.
Две недели все шло нормально. Очевидно, сказывалось действие лекарств, которыми ее напичкали. К этому времени у меня созрело твердое решение сделать все, что в моих силах, чтобы отправить маму в Израиль. Я окончательно разочаровалась в возможностях советской медицины. На следующий день после нашего возвращения домой я вызвала фотографа и сделала маме фото для подачи анкеты на выезд в Израиль. Собрала все нужные документы, вызвала такси и отвезла маму в районный ОВИР подать заявление на выезд. Мама автоматически расписалась, не задала ни одного вопроса и столь же безучастно вернулась домой. Был конец июля 1978 года.
На этот раз ухудшение состояния происходило постепенно, но с пугающими симптомами. Однажды мама сказала мне, что она не может есть, так как у нее в горле перегородка. Я не спорила с ней. Я сказала, что про перегородку я знаю, что врачи мне сказали об этом, но что манная каша через нее проходит. Она с трудом проглотила малюсенькую порцию. Каждый прием пищи стал занимать час. Через несколько дней я заметила, что мама каждую минуту ходит мыть руки. Горячей водой. Она обильно намыливала их и тщательно смывала мыло кипятком. Промокала руки полотенцем и шла к себе в комнату, ни на кого не глядя. Дойдя до кровати, она приседала, но не успев сесть, распрямлялась и снова шла в ванную. Руки ее распухли и покраснели. Я не успевала менять полотенца — через полчаса с них уже капала вода. «Мамочка, — умоляла я ее, ну, перестань. Ты же только что вымыла их. Зачем ты моешь их опять?» «У меня грязные руки», — отвечала мама, подставляя уже разъеденные водой руки под кипяток.
Я помню, как я писала папе письмо и автоматически фиксировала количество маминых походов в ванную. К моменту окончания письма мама шла в ванную сорок восьмой раз. На ночь я смазывала ее руки кремом и слушала, как она ходит из угла в угол. Ходила она быстро, без остановок, потом ложилась, укрывалась одеялом с головой и ненадолго отключалась. Затем наступил момент, когда она окончательно отказалась от еды. Я умоляла, я плакала, мама повторяла, что у нее в горле перегородка, и ее невозможно было переубедить.
Я побежала за советом к заведующей отделением, в котором мама в недавнем прошлом находилась. «Ну, скажите, скажите мне, — умоляла я ее, ну, как вы кормите таких больных?» Она ответила: «Мы кормим их через зонд». «Но что же мне делать?! Ведь мама умрет без еды!» Заведующая посмотрела на меня серьезно: «Ты должна кормить ее насильно. Заткни нос и вливай пищу в рот. Забудь в этот момент про жалость».
Я вернулась домой, сварила кашу, посадила маму в кухне, поставила перед ней тарелку и сказала: «Ты не выйдешь отсюда, пока это все не будет съедено». Мама, не раздумывая, ответила: «Я не могу. У меня в горле перегородка». Я знала, что никакие убеждения не помогут, и все уговоры бесполезны. Боже, прости меня! Я схватила полотенце и начала связывать маму. Мама вырвалась, упала передо мной на колени и умоляюще протянула ко мне руки: «Я не могу, я не могу. Неужели ты мне не веришь?! Я тебе Анечкой клянусь!» Боже, дай мне силы! Я подняла маму, усадила на стул и снова попыталась связать ее руки полотенцем. Я не знаю, откуда появилась в ней сила, но руки ее стали железными, и я не могла с ней справиться. При этом она выкрикивала что-то, а я, не слушая, кричала на нее. В дверях появился испуганный Андрей. Не владея собой, я заорала на него: «Выйди отсюда вон и не смей сюда входить!!!».
Вдруг мама перестала сопротивляться и сказала: «Я хочу в туалет». Что я могла возразить? «Иди», — ответила я. Я стояла у туалета и ждала. Прошло две минуты, потом три. «Мама, — спросила я, — не пора ли тебе выходить?» «Нет», — послышался ответ. Прошло минут пять. «Мама, пора идти кушать», — сказала я твердо. «Я отсюда никуда не выйду», — ответила мама, и я поняла, что она так и сделает. Стало очевидно, что если я сейчас уступлю, мне уже будет не обойтись без помощи врачей. Я вспомнила, как клялась не отправлять маму в больницу ни при каких обстоятельствах, в памяти возникли зарешеченные окна и железные двери, двери, двери, постоянно разлучающие меня с мамой. Я ненавидела эти двери и любые другие! Я схватила молоток, лежавший в ящике стола на кухне, и начала колотить по двери в туалет с такой силой, как будто в ней одной сосредоточились все преграды, стоявшие когда-либо между мной и мамой. «Ты выйдешь отсюда, выйдешь», — рыдала я, ненавидя и себя, и маму, и проклиная все на свете. От двери разлетались щепки. Андрей тихо плакал в углу.
Вдруг дверь открылась изнутри. Мама вышла, обессиленная от такого шума и борьбы. Я притащила ее на кухню, связала, зажала нос и сунула ложку с кашей. Она проглотила. Так, зажимая ей нос и пытаясь попасть в отворачивающийся от меня рот, прошла эта первая насильная кормежка. Я отпустила маму, села на стул и почувствовала, что у меня нет сил шевельнуть рукой. Слез не было. Андрей подошел незаметно и молча прижался ко мне.
Таким образом я кормила маму один раз в день в течение двух недель. Иногда мама покорялась почти без борьбы, а иногда и она, и я после такой кормежки были в синяках. Самое ужасное, что мама не ругала меня, не проклинала, когда я начинала ее кормить, а умоляла оставить ее в покое. К концу второй недели она нашла способ «победить» меня в этой схватке. Она ложилась на пол, и мне не хватало сил даже сдвинуть ее с места. Я поняла, что проиграла.
Я пошла к заведующей отделением домой. Принесла фрукты, цветы и сказала: «Помогите мне. Я теряю маму». Она посадила меня перед собой и тихо, как будто ее может услышать кто-то посторонний, сказала: «Существует одно лекарство, которое может помочь тебе маму накормить. В аптеки оно не поступает. У нас в больнице оно есть. Если ты сможешь договориться со старшей медсестрой, чтобы она приходила к тебе и делала маме укол, ты эту проблему решишь. Но учти, что лекарство это подотчетное, и для нее это большой риск». И она назвала мне лекарство.
Нужно ли говорить, что я договорилась с медсестрой? Я даже не помню, как происходил наш разговор. Просто помню, что она начала приходить к нам два раза в неделю, как на работу. Это была средних лет женщина, всю свою жизнь проработавшая в психиатрической больнице, огрубевшая, но не очерствевшая. Она уже давно не сопереживала ни больным, ни их родственникам, но она понимала, что и те, и другие страдают. Она приходила, делала маме укол в вену, и через минуту мама преображалась. Напряжение спадало с ее лица, она послушно садилась, ела кашу и запивала соком. Я смотрела и думала: «Если это так просто — раскрыть рот и проглотить кашу, то почему же для мамы это так непостижимо сложно?» Я смотрела на маму и старалась понять, что она думает сейчас во время еды? Помнит ли она о своей «перегородке»? Увы, чужие мысли нам читать не дано. Да это и к лучшему.
Действие укола продолжалось часа два, иногда больше. Раз в неделю я с помощью медсестры купала маму в ванне, потом она какое-то время лежала спокойно и расслабленно. Не бегала мыть руки, не ходила из угла в угол. Иногда она засыпала, но чаще просто отдыхала. Через некоторое время у нее появлялось беспокойство, и все начиналось сначала.
Я регулярно писала письма в Израиль, но старалась не описывать в подробностях наши с мамой будни. Жалко было мучить и папу, и Анечку. Пока они ничем помочь не могли. Андрюша привык, что бабушка серьезно больна. Мой муж с утра до вечера работал. А я была с мамой. Наступил декабрь месяц. Однажды раздался телефонный звонок, и женский голос попросил маму к телефону. Я поняла, что звонок из ОВИРа. «Она неважно себя чувствует, что ей передать?» — спросила я. «По ее заявлению о выезде в Израиль принято решение. Она должна явиться в ОВИР послезавтра к двенадцати часам».
К тому времени я уже хорошо знала практику работы этой организации. За эти три года некоторые мои знакомые уехали в Израиль, а многие «сидели в отказе». Я знала, что ни один человек не получил разрешения на выезд с предприятия, на котором я когда-то работала и с которого меня уволили только за то, что моя сестра уехала в Израиль. Армия «отказников» росла с каждым днем, и я еще не знала, что я сама туда уже зачислена. Причины отказов были самые фантастические. Детей не отпускали, если их родители или близкие родственники работали на режимном предприятии. Разведенных не отпускали, если супруг или супруга не давали разрешения на выезд. А чаще всего причин вовсе не сообщали. Но всегда нужно было явиться лично и выслушать «приговор».
Я вернулась к маме и сказала, что послезавтра нам надо поехать в ОВИР. «Посмотрим», — ответила мама и отвернулась к стене. Назавтра я снова напомнила ей, что мы поедем узнать, какое принято решение по ее заявлению. И опять услышала: «Посмотрим». Наступил назначенный день. Одна моя приятельница с десяти часов сидела в ОВИРе, чтобы заранее занять очередь и чтобы маме не пришлось ждать. Другая к одиннадцати приехала на своей машине, чтобы отвезти нас в ОВИР. «Мамуля, — сказала я, — нам надо ехать». «Посмотрим», — ответила мама и отвернулась к стене. «Уже нет времени никуда смотреть», — сказала я, пытаясь сдернуть с мамы одеяло. Мама вцепилась в него, и руки ее опять стали железными. Не помогли ни уговоры, ни объяснения, ни требования. В результате я стащила одеяло на пол вместе с мамой. На этом мои попытки воздействовать на нее закончились. Я вышла из комнаты, мама осталась на полу.
Вечером я пошла в ОВИР. Приема не было. Я вызвала инспектора нашего района и извинилась, что мама не смогла придти. «У нее был сердечный приступ», — соврала я, глядя на нее честным и открытым взглядом. Она посмотрела на меня и откровенно ухмыльнулась. Она прекрасно знала, что с моей мамой. Если уж в больницу была прислана выписка из ее «дела», то я могла себе представить, какими документами располагали в ОВИРе. «Пусть ваша мать придет в следующий приемный день», — отрезала инспектор и направилась в свой кабинет. Была она плоская, мужеподобная, крашеные волосы ровно подстрижены до середины ушей. Мне пришлось еще много лет потом общаться с ней, и всегда она ассоциировалась у меня с женщиной-полицаем. «Постойте, быстро затараторила я, — вы знаете, что мама у меня очень больна». Я сделала паузу, и она обернулась. «У нее больное сердце, и я не могу рисковать ее здоровьем. Если принято отрицательное решение по ее заявлению, то я ей об этом вообще не скажу. Она очень хочет уехать, и это убьет ее». Лицо инспектора стало жестким. «Вы что, Лейкина Мария Львовна?» — сухо спросила она. «Нет, но я…» «Мы сообщаем решения только лично». И пошла. «У вас тоже, наверное, есть мама», — тихо сказала я ей вслед. Она продолжала идти к кабинету, не замедляя шаг. Уже у двери, не оборачиваясь, она громко сказала: «Положительное решение, положительное». И дверь захлопнулась.
Я узнала то, зачем приходила в ОВИР. Надо было придумать, как доставить туда маму. В очередной приход медсестры я попросила ее помочь. Она согласилась. Согласилась так же угрюмо, как она обычно делала уколы и кормила маму. Без всяких сантиментов, просто привычно отрабатывая свой огромный запас горя и страданий, накопленных и утрамбованных в ее сердце за годы многолетней работы. Опять была занята очередь в ОВИРе, и опять за нами приехала машина. Только на этот раз с нами была медсестра. Она сделала маме укол, и мама стала послушной, как дрессированная собачка. Покорность ее была удручающей. Она села на кровати и, как заведенная кукла, начала одеваться. И так же автоматически села в машину. Медсестра поехала с нами — на случай непредвиденных обстоятельств.
Все прошло без каких-либо осложнений. Только однажды, когда инспектор вдруг сказала, посмотрев на визу, что там не хватает одной подписи и надо приехать еще раз, из меня вырвалось нечто, похожее на вой. При этом мама спокойно ответила: «Ничего страшного. Мы приедем еще раз». «Нет, ни в коем случае, — простонала я в страхе и отчаянии, — сделайте что-нибудь сейчас». Инспектор посмотрела на маму, потом на меня, вышла и минут через десять отдала готовую визу. Мы управились за полтора часа. Дополнительный укол не потребовался.
Много раз потом моя сестричка спрашивала меня, почему я не подала свои документы на выезд одновременно с мамой. Ну, как было объяснить ей, не пережившей всего этого четырехлетнего кошмара, что я сделала это или вернее не сделала этого только из страха потянуть маму за собой в «отказ». Документы в ОВИРе рассматривались как единое целое для всей семьи. Отказ одному из членов семьи являлся причиной для автоматического отказа всем. Исключений из этого правила не было. Могла ли я рисковать здоровьем, а может быть и жизнью мамы? Ну, а кроме того, погружаясь опять в эти дни постоянного напряжения и кошмара, я спрашиваю себя, нашлись бы у кого-нибудь силы и энергия, чтобы думать (хотя бы только думать!) о совместном отъезде? Нет, вопрос этот для меня в тот момент не стоял.
Начались сборы, оформление новых документов (в том числе разрешение от бабушки на мамин отъезд!), заказ билетов на самолет. Я носилась из одного учреждения в другое, как загнанная лошадь. Оставлять маму с Андреем вдвоем надолго мне очень не хотелось. Андрюшина няня уже давно перестала к нам ходить. Конечно, все мои друзья и мой муж старались мне помочь. Но, к сожалению, почти везде требовалось мое присутствие, так как только у меня была доверенность на ведение маминых дел. Даже доверенность пришлось получить с трудом. По закону мама не могла подписывать такой документ, ибо считалась недееспособной из-за психического расстройства. Пришлось разыграть целый спектакль перед нотариусом, вызвав его на дом. Но это на самом деле по сравнению со всеми другими трудностями были просто мелочи.
Прямого рейса Ленинград — Вена тогда не существовало. Промежуточная пересадка в Берлине меня очень пугала. Вдруг мама просто откажется пересесть на другой самолет и все поймут, что она больна и отправят ее в больницу? Я пыталась организовать ее отъезд через «Красный Крест», но из этого ничего не получилось. Случайно в одной из очередей при оформлении билетов на самолет я разговорилась с одной молодой женщиной. Она летела тем же рейсом. Я умолила ее присмотреть за моей мамой, сказав, что у мамы старческий склероз, и она иногда забывает где она и что надо делать. «Если мама вдруг откажется пересаживаться в другой самолет — запихните ее туда силой», — настойчиво убеждала я ее. «В Вене моя сестра будет маму встречать и отблагодарит вас за эту помощь». Она согласилась и поверила, что у мамы ничего серьезного нет. Да простится мне эта ложь во спасение!
А пока на очереди был не Берлин. До Берлина еще надо было долететь. И путь этот лежал через ленинградский аэропорт «Пулково». Больше всего меня пугало, что рейс нельзя отложить или перенести, как посещение ОВИРа. Попытка может быть только одна. Проигравшие выбывают. По крайней мере надолго.
Я стояла за дверью маминой комнаты, с ужасом прислушиваясь к ее шагам. Наступила последняя ночь перед отлетом. Я чувствовала, что мама нервничает. Каждый раз, когда я напоминала, что завтра ей надо будет ехать в аэропорт, она отвечала своим кратким: «Посмотрим». Я до сих пор не люблю, когда кто-нибудь отвечает мне таким образом. Ночью мама ходила из угла в угол мелкими быстрыми шагами, как будто меряла свою камеру или как будто кто-то гнался за ней. Потом она вдруг присела и написала на пол, в углу. Это был очень опасный признак. Возможно, она «слышала» голоса, запрещающие ей выходить из комнаты. Я тряслась мелкой дрожью. Я слишком хорошо помнила, что такое галлюцинации. А мама продолжала мерить комнату, шлепая босыми ногами. Мысли и образы, теснившиеся в ее измученном мозгу, руководили и владели ее воспаленным разумом.
В пять утра пришла медсестра. Обычно сдержанная и даже чуть флегматичная, она заметно волновалась. Раннее утро было самым тяжелым временем для мамы. Я побежала варить кашу, а медсестра — делать маме укол. У меня дрожали руки и подкашивались ноги. Ложка дрожала в руках и стучала по стенкам кастрюли. Я вошла в комнату. Мама лежала и смотрела перед собой. Ни радости, ни горя, ни ожидания не было в ее глазах. Она находилась далеко отсюда, и это было неестественно, и казалось, что под этими глазами есть другие, живые, выразительные, которые она нарочно прячет. Она без удовольствия, но и без отвращения съела кашу. Я принесла одежду: теплое пальто, платок, новое платье, новые туфли. На улице было холодно и шел снег. Мама посмотрела на этот ворох одежды, на лице появилась жалобная гримаса, и она отвернулась к стене. Медсестра профессиональным движением посадила маму и начала ее одевать. Мамины глаза обратились ко мне за помощью. Я отвела взгляд. Через пять минут мама стояла в полном облачении. Выглядела она немножко нелепо, как будто все, что было надето на ней, было с чужого плеча. Я взяла ее за руку, дала ей маленькую сумочку с баночкой икры и ее обручальным кольцом, и мы двинулись.
Внизу нас ждало такси. Медсестра поехала с нами. Володя, мой муж, уже сидел в машине. Сначала я планировала заехать попрощаться к бабушке. Но в последний момент не рискнула. Медсестра же с самого начала не советовала мне делать это. Реакция мамы могла быть непредсказуемой, тем более утром, когда ей было хуже всего. Я позвонила бабушке и сказала, что мы не заедем. Бабушка заплакала, я тоже. Через полгода после этого бабушка умерла. Простила ли ты меня, бабуля? Поняла ли?
Мы приехали в аэропорт. Народу полно. Плач, смех, крики — все слилось в один предотъездный гул. Я подошла с мамой к стойке для заполнения декларации. На все вопросы написала «нет». Нет золота, нет валюты, нет драгоценностей — нет ничего. Подошли к таможеннику. Подала декларацию, и вдруг кровь прилила к моему лицу. «Постойте, постойте, — поспешно обратилась я к нему. — Я забыла вписать сюда золотое обручальное кольцо». Таможенник посмотрел на меня с большим подозрением. Уже потом, провожая своих друзей, я поняла, что они на всех так смотрят, особым таможенным взглядом. А тогда, с мамой, я подумала, что мне только не хватало, чтобы маму обвинили в контрабандном провозе обручального кольца!
Формальности были закончены. Мы отошли в сторону, и медсестра сделала еще один укол. «Счастливой дороги», — пожелала она маме и впервые за все время улыбнулась. Мы подошли к барьеру. По ту сторону — граница. Или уже заграница! За всю дорогу в аэропорт и в самом аэропорту мама не проронила ни слова. Я молчала тоже, и комок стоял у меня в горле. Мама пересекла барьер. Я смотрела ей вслед. Вдруг она обернулась, посмотрела на меня внимательно и сказала: «Давай же попрощаемся, девочка моя. Ведь неизвестно, когда я теперь тебя увижу». Я подбежала к ней, прижалась и поцеловала сморщенную щеку. Мама скрылась за барьером. Комок выкатился из моего горла. Я разрыдалась.
Я прошла с тобой этот путь, мамочка. Мне еще предстояло пройти свой…
Глава 4
Мама уехала, и дом опустел. Я все время думала, что с отъездом мамы мне станет легче. Но не стало. На каждом шагу я натыкалась на ее вещи. Я и не подозревала, что у нее их так много. Мне казалось, что у нее их нет вообще. Анечка позвонила из Вены, сказала, что мама долетела прекрасно и чувствует себя хорошо. На следующий день позвонила снова и растерянно спросила, какое лекарство нужно колоть маме, чтобы она согласилась выйти из дома и сесть в самолет. Я назвала. Мне все стало ясно. Чуда не произошло. Еще через неделю позвонил папа. Он тоже был растерян. Они, видно, все-таки ожидали чего-то другого. Очевидно, я очень щадила их в письмах. «Маму пришлось тут же отправить в больницу», — сказал он, как-будто извиняясь. Я ответила, что это самое правильное решение. Почувствовала, что он успокоился.
Надо признать, что и мне после этого стало чуть легче. Я понимала, что больница в Ленинграде и больница в Израиле совсем не одно и то же. Прошла еще неделя, и я как-то заторможенно начала возвращаться к нормальной жизни. Я вдруг снова осознала, что у меня есть муж. О чем он думал все это время? Да, мне, собственно, это было неважно. Я была уверена, что можно начать все сначала. Вернее, соединить все, что было когда-то, с тем, что есть сейчас.
С Андрюшей было проще: он худо-бедно все время был в поле моего зрения. Потом я заметила, что Володя очень поздно приходит с работы. Наверное, он уже давно так приходил, но я как-видно не обращала внимания. Я хотела с ним поговорить, но все не получалось. Однажды при случае я сказала: «Я очень устала за это время, и меня уже ничего не держит здесь. Давай уедем в Израиль». Реакция его была ошеломляющей. «При чем здесь Израиль, — сказал он раздраженно. — Ты прекрасно знаешь, что я никуда не поеду. И Андрей останется здесь».
Это был не просто удар и даже не просто ниже пояса. Это была позиция. Мне грубо, но ясно давали понять, что выбора у меня нет. Но я не могла еще поверить, что он говорит серьезно. Я обвиняла себя: «Ну, зачем я с места в карьер заговорила об Израиле? Еще мамино постельное белье не получено из стирки, а я со своим Израилем лезу ему в душу». Я проглотила его слова и не подавилась. И решила начать с другого конца. «Все-таки я женщина или нет?» спрашивала я себя. И этот риторический вопрос придал мне уверенность.
Прошел месяц. Мне казалось, что жизнь у нас налаживается. И как раз через месяц Володя вернулся домой абсолютно пьяным. Через пару дней повторилось то же самое. У меня возникло подозрение, что он начал пить давно, но я просто была занята мамой, и ничто другое меня тогда не интересовало. А когда я начала находить пустые бутылки из-под спиртного на книжных полках, на дне корзины с грязным бельем и даже в своем бельевом шкафу, я пришла в недоумение. Прежде всего я не могла вспомнить, когда же я делала уборку в доме последний раз? Когда заглядывала в книжный шкаф или перебирала свои вещи? И вспомнить не могла, а, следовательно, и не могла определить с каких пор вся эта стеклянная тара нашла там свое убежище. Мне захотелось зарычать и разбить все эти бутылки о Володину бошку. Но рядом был Андрей, и при нем затевать скандал в доме я просто не имела права. Тем более, что прекрасно понимала, что и моя вина во всей этой ситуации не малая.
Но однажды я не выдержала. Когда Володя ночью в пьяном виде начал приставать ко мне, я сказала ему с отвращением: «Я с пьяными мужиками не сплю». Он как будто только этого и ждал. Встал, схватил в охапку свою подушку и со словами: «Ты об этом еще пожалеешь», — ушел, шатаясь, в другую комнату. Я была уверена, что на следующий день он извинится передо мной. Однако ничего подобного не произошло. Он пришел трезвый, поел и улегся спать в отдельной комнате. Так продолжалось две недели. Я судорожно искала выход. Я знала, что Володя всегда очень любил меня. Мы прожили вместе четырнадцать лет, и я не верила, что не смогу наладить семейную жизнь. Просто надо было полностью посвятить себя этому.
Я забрала Андрея со школы на месяц раньше окончания учебного года и поехала с ним в Челябинск к Володиным родителям. «Все это чепуха, рассуждала я. — Оставлю Андрюшу в Челябинске, вернусь домой, и у нас начнется медовый месяц». Я так была убеждена в этом, что по приезде в Челябинск находилась в прекрасном настроении. Естественно, я ничего не сказала Володиным родителям о нашем разладе. И даже не потому, что решила от них это скрыть, а потому, что была уверена, что у нас через пару дней все будет в порядке. В моем воображении мы уже ходили с ним в театр, на концерт, к друзьям и нежно любили друг друга.
Я так вбила это себе в голову, что пригласила жену Володиного брата Милу приехать к нам. У нее как раз был отпуск, я прекрасно к ней относилась и красочно описывала, как мы все вместе чудесно проведем время. Мила согласилась и даже хотела лететь со мной тем же рейсом, но достала билет только на день позже.
Я прилетела в Ленинград рано утром и с трепетом открыла дверь. Я ожидала увидеть до блеска вылизанную квартиру, во всех комнатах цветы и улыбающегося Володю в дверях. Так было когда-то. Я была уверена, что так будет и сейчас. Я вошла и остолбенела. В квартире царило полнейшее запустение. Пыль, грязь, затхлый воздух, немытая посуда. Я прошла на кухню, села за стол и закурила сигарету. Через час из спальни вышел заспанный Володя. «Явилась?» — с какой-то усмешкой, граничащей с пренебрежением, спросил он. Я промолчала. Начала мыть посуду. Зазвонил телефон. Это был сосед по лестничной площадке из дома на Новочеркасском, где была наша с Володей однокомнатная квартира. В ней уже давно никто не жил. «Леночка, прозвучал доброжелательный бас, — сегодня утром кто-то стучался в вашу квартиру, сказал, что вы заказывали какую-то мебель. Подозрительно это. Вы бы как-нибудь появились здесь, проверили что к чему». Я поблагодарила его и рассказала о нашем разговоре Володе. «Послушай, — вдруг предложил он мне, не отрывая жужжащую электробритву от лица, — может мне вообще туда переехать?» «Переезжай», — ответила я автоматически, занятая своими мыслями. И, уже ответив, почувствовала, что сердце мое сжалось от боли. «Ну, так я прямо с работы туда и отправлюсь, — продолжал Володя тоном, как будто речь шла о рынке, на который он заскочит купить картошку. — Ты собери мне быстренько постельное белье». «Хорошая идея, — подхватила я в том же тоне, а у самой что-то непоправимо сломалось внутри. — Побудешь один, отдохнешь, соберешься с мыслями.»
И он ушел на работу с постельным бельем в маленьком чемоданчике, со сменой нижнего белья и кое-какими продуктами, аккуратно упакованными мною.
На следующее утро прилетела Мила. Уже по тому, что ее никто не встретил, она поняла, что что-то случилось. Она вошла и увидела меня, растрепанную, бледную, с дрожащими руками и блуждающим взглядом. В двух словах я рассказала ей, что произошло.
Несколько дней после этого я была как в трансе. Потом не выдержала и позвонила Володе. Он был дома. Голос у него был бодрый, и он сказал, что все в порядке. «Господи, — подумала я, — что в порядке? Что может быть в порядке?!» На следующий день вечером он позвонил мне сам. «Может ты подъедешь ко мне?» — проговорил он чуть развязно. «Я подумаю», — ответила я, бросила трубку и лихорадочно начала собираться. Ванна, чистое белье, прическа, макияж — все на ходу, суетясь, натыкаясь на Милку и объясняя ей впопыхах: «Он одумался, он понял, что без меня не может, но не хочет вернуться сам, ему гордость не позволяет, мы вернемся вместе, ты чуточку прибери, в холодильнике есть мясо, сделай котлеты, пожелай мне удачи, лук в столе, как я выгляжу? Ну, пока». И убежала. Как на первое свидание.
Вбежала в нашу квартиру, в которой мне когда-то было так хорошо. Андрюшкины игрушки на полу. Книги, которые мы вместе покупали. Вазочки. Занавески на окнах. Я давно не заходила сюда. И пришла как гостья. Володя был не пьян, но и не трезв. Я вошла, и он начал целовать меня. Не нежно и ласково, а исступленно, молча и властно. Потащил к кровати и овладел мною грубо и жестко, с чувством уверенности и превосходства, не думая обо мне и не обращая внимания на мое состояние. Без вопросов, клятв и обещаний. Он взял меня, как самец самку, своей силой и разгоряченным желанием. Взял, повернулся на другой бок и заснул.
Я лежала и тихо плакала. Было три часа ночи. Я встала, оделась, прошлась по квартире, прощаясь со своей молодостью, надеждами и любовью. И ушла. Я шла пешком по ночному городу, пытаясь осмыслить случившееся, погружаясь в себя и выплывая снова, чтобы еще раз погрузиться, но глубже и безнадежней.
Вернулась домой с воспаленными глазами и уснула тяжелым сном. Наутро, болезненно возбужденная, я умолила Милу поехать в Челябинск и привезти Андрея. «Ты должна понять, — горячо убеждала я ее, — я не могу, чтобы Андрей был у Володиных родителей после всего, что произошло». Мила поняла, что меня не переубедишь. Она уехала. Я осталась одна.
Я лежала, и кошмары мучили меня. Я не ела, не вставала с кровати, и только одна идиотская мысль сидела у меня в голове: «Кто же будет менять лампочки в люстре, когда они перегорят? Ведь это так высоко. Я одна не смогу». Когда через неделю Мила привезла Андрея, она меня не узнала. Я похудела, почернела и была близка к помешательству. На Андрея я даже не взглянула, на Милу тоже. Я лежала, повернувшись к стене, и молчала. Мила попыталась меня накормить — меня вырвало. Володя не звонил. Андрей притих и ко мне не подходил.
«Я хочу поговорить с папой, — сказал он Миле. — Как ты думаешь, мне можно?» «Ты его сын и уже взрослый мальчик, — ответила Мила. — Я думаю, что ты должен это решить сам».
К этому времени я уже знала, что у Володи есть другая женщина. Ко мне приходил Володин друг и пытался объяснить ситуацию. Ситуацию я не уяснила, а про женщину поняла. Как я уже потом узнала, Андрей встретился с Володей и спросил его в лоб: «Папа, почему ты ушел от нас?» На что Володя ответил: «Вот уж этот вопрос позволь мне с тобой не обсуждать».
Милин отпуск подходил к концу. Я лежала в полной прострации. Однажды она подошла ко мне и сказала: «Вот что. Андрея я тебе не оставлю. Да и ты одна здесь рехнешься. Я звонила в Челябинск и сказала, что мы приезжаем все вместе. Собирайся». Я вспомнила, как мама лежала лицом к стене, и мне стало страшно.
Мы уехали в Челябинск. Меня там лечили и выхаживали, а я не могла поверить, что мой муж оставил меня. Володина мама, разрываясь между любовью к сыну и внуку, спросила однажды моего сынулю: «Андрюшенька, мальчик мой, ну почему ты не хочешь с папой поговорить по телефону? Ведь он же любит тебя!» И мой маленький, преданный, девятилетний ребенок ответил: «Если для моего папы какая-то чужая женщина дороже, чем я и мама вместе взятые, то мне такой папа не нужен».
Я написала Анечке отчаянное письмо, что не хочу никакого Израиля, что жизнь моя кончена и сил у меня нет ни на что. Анечка ответила испуганным и разгромным посланием. Она писала, что Володя не стоит того, чтобы о нем так убиваться, что если мне наплевать на себя, то я должна помнить о сыне, что я должна взять себя в руки, немедленно подавать документы и приезжать. «Сестричка моя! — писала она, пытаясь вернуть меня в нормальное состояние. В течение четырех с половиной лет я регулярно писала тебе о моей жизни всю правду. Я старалась отвечать на все твои вопросы. Мне казалось, что ты веришь мне, как верила всегда. Так откуда эти возмутительные и дебильные мысли в твоей голове?! Побойся Б-га! Оглянись! Что ты там делаешь?! Моя рука и моя жизнь — вот они, рядом с тобой!»
Но в тот момент я только чувствовала, что рядом со мной нет моего мужа, и слова моей сестры были обращены в пустоту. Однажды мне стало в Челябинске совсем плохо, и встал вопрос о моей госпитализации. Андрей услышал об этом, подбежал ко мне, обнял и, плача, захлебываясь слезами, проговорил: «Мамочка, только не уходи в больницу. Я все буду делать — ходить в магазин, варить обед, ухаживать за тобой. Только не уходи!» Этот плач напомнил мне, как совсем не так давно я говорила Андрею, что возможно мне придется лечь в больницу, а следователи в это время нетерпеливо ждали меня, чтобы увезти на допрос. Что я делаю?!
И я помню, что именно мой сын, с глазами, наполненными слезами, и беспредельным отчаянием в голосе пробудил меня к жизни. «Господи, — подумала я, — как я себе позволила забыть о нем? После всего, что он перенес с бабушкой, я вынуждаю его страдать опять! Я, его мама, являюсь причиной его горя! Сама, своими руками! Боже, дай мне силы! Дай!!!»
Через две недели после этого мы с Андреем вернулись в Ленинград. Я сделала последнюю попытку. Вызвала Володю и спросила: «Если я никуда не уеду, забуду Израиль, ты вернешься?» Он посмотрел на меня взглядом победителя, с презрением стоящего к лежащему. Ни капли жалости, ни сострадания, ни сочувствия, ни понимания не прозвучало в его голосе, когда он, поднимаясь со стула и надменно глядя на меня, ответил: «Надо было думать раньше. Сейчас уже поздно».
Пятнадцать лет не выбросишь за борт, И мыслям не прикажешь испариться. И как бы ни был ты сегодня горд, В душе твоей сидит моя частица. Сейчас ты на коне — и ты жесток. И смотришь лишь вперед, забыв былое. И высекаешь искры из-под ног, Сжигая все живое и святое. Придет похмелье — кончится угар. И вот тогда ты с ужасом поймешь, Какой ты сам себе нанес удар. Но будет поздно — время не вернешь. Я не могу себе представить, как ты мог, Познав все мое горе и страданье, Со мною быть до мерзости жесток И не найти в себе ни капли состраданья. Я знаю — ты любил пятнадцать лет, Ты вырастил и обожал Андрея. Но ты любовь за месяц свел на нет, Забыв про совесть, даже сына не жалея. О, Боже, если бы ты только знал, Как сын твой плакал, ожидая встречи. И как потом, щадя меня, молчал, Взвалив твой грех на свои маленькие плечи. В твоих глазах светилась лишь досада, Что мы, как пчелы, жалим твой покой. Ты видел в нас ненужную преграду, И ты спокойно наступил на нас ногой. И я признаюсь: было, было время, Когда казалось, мне уже не встать. Мне не под силу будет это бремя За месяц веру в человека потерять. Не просто в человека — в мужа, Который был в моих глазах почти святым! А муж-то мой любил ходить по лужам, Но выходить любил всегда сухим. Но память — ядовитая змея. И лишь с годами ты познаешь боль утраты. И там где ты, там всюду буду я, С той разницей, что нет ко мне возврата.Я потом долго думала, почему такая в общем-то распространенная и тривиальная ситуация, как разлад в семье, вывела меня до такой степени из равновесия? Казалось, что вся моя предыдущая жизнь должна была закалить меня и подготовить к любым сюрпризам. И поняла. После отъезда мамы, после дикого напряжения последних лет я позволила себе расслабиться. Я не ожидала никакого удара и была безоружна. Предательство произошло дома, в моей крепости, где я чувствовала себя защищенной. А, возможно, я бы отреагировала точно так же и на значительно меньшее потрясение. Короче, это была та последняя капля, которая переполнила чашу.
После разговора с Володей все точки над i были поставлены. Я начала выходить из душевного кризиса. С помощью лекарств, сына и друзей. В сентябре 1979 года я оформила наш с Володей развод, уплатив соответствующую пошлину. Развод, который был придуман моей мамой для покупки кооперативной квартиры, над которым мы смеялись и который казался таким же абстрактным, как и возможность каких-либо несчастий в нашем будущем, материализовался штампом в паспорте и выглядел абсолютно реально. Когда мне ставили печать в паспорт, я почему-то подумала, что вот, мол, мне официально удостоверяют, что все, что я пережила, произошло действительно со мной.
На следующий день я встретилась с Володей, рассказала о разводе и попросила заверить разрешение на выезд Андрея в Израиль. Я была абсолютно спокойна и так же спокойно предупредила: «Если ты мне не дашь разрешение, я убью тебя, Андрея и себя. Мне терять нечего». Конечно, у меня и в помине не было таких намерений, но он понял, что у меня сейчас тоже есть позиция и решил не вставать у меня на дороге. И за это — за сына — я ему благодарна.
Получив от Володи необходимую бумагу, я пришла в ОВИР подавать документы на выезд. Инспектор — та самая, что выдавала маме визу, встретила меня так, будто видит в первый раз. Глядя в анкету, она спросила меня голосом, который бывает только у инспекторов ОВИРа: «Подавали ли вы документы на выезд ранее и было ли вам в этом отказано?» «В неполном объеме», — ответила я, понимая, что отвечаю как-то невпопад, то есть то ли документы не в полном объеме, то ли отказано наполовину. «Значит, подавали», — сказала она почему-то удовлетворенно, по-своему истолковывая мой ответ. «У меня не было вызова», — уточнила я, пытаясь внести ясность. «Ваша просьба удовлетворена не была», — продолжала она, снова что-то помечая у себя в бумагах. И обратилась ко мне в полном недоумении от моей тупости: «Ну так что же вы не пишите в анкете, что вам было отказано? Так и пишите — в просьбе на выезд в государство Израиль на постоянное жительство было отказано». «Но мне не было отказано», — попыталась я сопротивляться. «Вы хотите сказать, что вам было разрешено?» «И чего я завелась?» — подумала я. Написала «Было отказано» и сдала анкету. Так я стала сразу «отказником» с четырехлетним стажем, еще за минуту до этого не подозревая о своем новом статусе.
Через несколько месяцев я узнала, что Володя женился. Чуть-чуть приукрашивая, могу сказать, что пережила это известие тяжело, но с достоинством. Анечка и папа писали мне чудные письма об Израиле и о переменных успехах в мамином состоянии. Собственно, успехом считалось, что она нормально ест и нормально спит. Андрей занимался музыкой и английским, отлично учился в школе, а я готовилась к отъезду.
Стоило мне хоть немного окунуться в эти проблемы, как я уже знала, что надо покупать, и бегала, высунув язык, собирая свой «джентельменский» набор: хохлома, самовар, льняные простыни и янтарные бусы.
Я мечтала уехать в Израиль, потому что там была моя семья, и я чувствовала себя затерянным и недостающим осколком в разбитой вазе. Если бы папа с мамой и Анечкой жили на Тайване, я бы с таким же рвением стремилась туда. Анечка и папа описывали Израиль, как сказочную страну, и я считала, что мне к тому же еще и повезло, что они живут именно там. Никаких сентиментов к Израилю у меня не было, и я с удовольствием выполняла просьбы моих знакомых, нуждающихся в «Вызове», но уезжающих в Америку. К Анечке авиапочтой шли их координаты с просьбой сделать срочно, обязательно, не откладывая. Я была поражена и, признаюсь, меня даже покоробило, когда Анечка написала мне: «Я прошу тебя не давать мне адреса людей, уезжающих не в Израиль. Высылать им „Вызов“ мне неприятно». «Ну не все ли ей равно, куда они едут, — думала я с легким раздражением. — Может, у них мама в Америке». Но скоро выкинула это из головы, хотя Анечкину просьбу выполнила.
В мае 1980 года, когда я уже совсем потеряла терпение, меня вызвали в ОВИР. Я вышла из троллейбуса на одну остановку раньше и прошлась пешком, снисходительно оглядывая прохожих и заходя в близлежащие магазины, прицениваясь к предстоящим покупкам. У меня была прекрасная «отъездная» биография — все мои близкие родственники жили в Израиле, и никто из моих знакомых (включая меня) не сомневался в положительном решении.
В ОВИРе была очередь. На стенах — антиизраильская пропаганда. В дверях — милиционер. Меня вызвали. Инспектор очень по деловому достала какую-то бумажку и сказала обыденным тоном: «Распишитесь, что вы поставлены в известность, что в выезде на постоянное жительство в Израиль вам отказано». У меня защемило сердце. «Но почему?» — спросила я, искренне не понимая. «Здесь все написано. Отказ — в интересах Советского государства». «Но что это значит?» — спросила я, тупо уставившись в бумажку и надеясь найти там кокое-нибудь объяснение. «Вы что, русский язык не понимаете? Более ясно, чем здесь сказано, сказать уже невозможно. Что вам может быть не понятно?!» инспектор повысила голос, но не до крика, а до выведения меня из шока. У нее, видно, был огромный опыт. Я расписалась. Вышла. Приехала домой. Дома заплакала. Господи! Сколько же есть слез у человека? Раз я еще могу плакать, значит такое количество кем-то предусмотрено, рассчитано и выдано?! Но за что? За что?!
Скажите мне, зачем нужны страданья? Где, как и кто их может отменить? Быть может, это — Ты, Создатель мирозданья, Решил за что-то людям отомстить? За их грехи, за подлость и доносы, Неверие, жестокость, суету, А, может, горе — это наши взносы За жизнь, за свет, любовь и красоту? Смирилась я и много лет исправно Оплачиваю своей жизни счет. Но даже в этом я опять бесправна Плачу, плачу, а счет, увы, растет. К Тебе взываю я, Властитель мира: В чем провинилась я перед Тобой?! И почему судьбы жестокой лира Играет мне всегда заупокой?Я написала обо всем письмо в Израиль и чуть полегчало, как будто вместе с этим письмом я отправила полагающуюся им часть моего бремени. А потом стала собирать информацию. Вернее, информация стала сама поступать ко мне. Оказалось, что у всех моих знакомых или, на крайний случай, у знакомых их знакомых, кто-нибудь да сидит в отказе. Они так и говорили: «Месяц назад мой знакомый Хейфец тоже сел в отказ». Мне это выражение напоминало «сесть в тюрьму» и потому не очень вдохновляло и обнадеживало. Почти никому причину отказа не говорили, а уж тем более срок его истечения. Это было очень похоже на мамин приговор «до выздоровления». Окружающая нас система не утруждала себя разнообразием.
Я мучительно пыталась понять, почему «не в интересах» Советского государства, такого большого и сильного, мой отъезд из страны или точнее почему им так заманчиво интересно быть вместе со мной? Одна мамина приятельница, довольно влиятельная и, как мне казалось, информированная, убедительным тоном сказала мне: «Глупенькая, у тебя же в квартире еще полно вещей, которые ты по суду обязана вернуть. Кто ж тебя выпустит, пока ты с судом не рассчитаешься?»
«Ну, конечно, — подумала я с облегчением, — как я сама раньше об этом не догадалась?» И я побежала к судебному исполнителю с требованием срочно, безотлагательно забрать у меня уже не принадлежащие мне вещи. Заставить забрать вещи было, наверное, столь же трудно, как и получить их обратно, если бы мне пришло это в голову. Судебные исполнители не хотели работать, смотрели на меня как на сумасшедшую, так как, вполне возможно, в первый раз в их практике кто-то подгонял их исполнить решение суда в таком вопросе.
Наконец, все было оформлено, и я с удовольствием наблюдала, как люстра, картины и пианино исчезают в ненасытном чреве грузовика. «Теперь уж я чиста перед Советским государством, — думала я удовлетворенно, — и у меня с ним нет никаких общих интересов».
Чтобы как-то скоротать положенные шесть месяцев до следующей подачи документов, я решила заняться ивритом. Перед этим я случайно встретила одного знакомого с учебником иврита в руках. Я с интересом повертела его, открыла — конечно не с той стороны — и уставилась в изумлении на ряд закорючек, точек и черточек. У меня запестрело в глазах, и первая мысль, которая промелькнула в голове: «Это невозможно выучить!» И еще: «Если когда-нибудь я смогу отличить один значок от другого, то я поверю, что в силах человеческих еще заложено много нераскрытых способностей». Поговорив с ним на ходу и записав на клочке бумажки адрес и телефон преподавателя иврита, я считала, что совершила огромный подвиг. К тому времени я уже знала, что открыто заниматься ивритом категорически запрещено.
Был конец лета. Занятия начинались осенью. У меня не было сил находиться в Ленинграде, да и Андрюше надо было развеяться. Поэтому, закончив печатать очередной заказ (я все время печатала, чтобы заработать на жизнь), мы уехали с Андреем в Москву, к Лиле. В тот же день к Лиле зашел их друг Исай, и мы проболтали с ним до рассвета. У него была абсурдная на мой взгляд, но очень в то же время притягательная для меня теория о полном развале Советского Союза в течение ближайших десяти лет. Свои взгляды он как экономист и математик подтверждал расчетами, и все выглядело вполне убедительно, хотя и абсолютно не принималось всерьез моим сознанием.
Наутро я увидела, что Андрей чем-то расстроен. Он не хотел со мной разговаривать и избегал моего взгляда. К вечеру он не выдержал и сказал: «Не понимаю, что ты нашла в этом Исае?» Мой бедный мальчик, травмированный моим разводом и потерей отца, ревностно оберегал меня от нежелательных для него случайных знакомых! Я посадила его рядом и сказала серьезно и откровенно: «Ты можешь быть абсолютно спокоен. Я никогда, я обещаю тебе — никогда — не выйду ни за кого замуж без твоего согласия». Инцидент был исчерпан.
Занятия ивритом начались как раз после того, как истек мой шестимесячный срок, установленный ОВИРом, и я снова подала документы на выезд. Я была уверена, что у меня есть всего несколько месяцев для занятий. Впереди меня ждала встреча с родными, и я часто описывала Андрею, как это все произойдет и читала ему Анечкины письма.
«Эта страна, — писала она нам, — гимн солнцу, гимн морю, зыбучим пескам и смелым сильным людям; цветам, синему небу, загорелым ребятишкам. Здесь есть место всему — и огромной радости и черному отчаянию. И надежде. Без надежды, без веры — нет Израиля. Мы тоже надеемся и ждем». Я была уверена, что ждать осталось совсем недолго.
Занятия ивритом проходили в квартире Абы Таратута. Он же был нашим преподавателем. Срок его отказа к тому времени достиг восьми лет. Я смотрела на него и не могла понять, как он, находясь в отказе столько времени, может еще шутить и улыбаться. И хотя я сама уже считалась формально в отказе с 1975 года, но я ведь даже не знала об этом! С моего осознанного отказа прошел всего год, а я не находила себе места и ни о чем другом думать не могла.
У Абы собралось человек десять. Некоторые из них уже хорошо знали друг друга, увлеченно обменивались последними новостями и обсуждали сложившуюся ситуацию. Почти все были в отказе. Я попыталась выяснить, по какой причине их не выпускают. Они посмотрели на меня с интересом, но удивленно. А Аба прищурил глаза, чуть наклонился ко мне и сказал серьезным голосом: «Ну, если еще остались отдельные личности, пытающиеся найти причину своего отказа, значит советская власть может заслуженно гордиться своими успехами».
Я в то время еще не знала Абу достаточно хорошо и не была готова к его манере иронизировать с серьезным видом, да и опыта отказа у меня не было. Поэтому я не удовлетворилась его отговоркой, а настойчиво продолжала искать ответ на поставленный мною вопрос. «Но ведь не могут же всем отказывать без всякой причины?» — спросила я недоверчиво, пытаясь найти в его глазах подтверждение. Аба посмотрел на меня, и в глазах его забегали веселые «чертики». «Конечно, не могут», — ответил он. И добавил после небольшой паузы: «Но отказывают».
Были в нашей группе несколько человек, ни разу еще не подававших, но мечтающих уехать в Израиль. В ОВИРе у них не принимали документы из-за отсутствия в Израиле близких родственников. Я выяснила таким образом, что правила приема документов ужесточены. Но не это меня почему-то поразило, а то, что существуют люди, которые хотят уехать именно в Израиль, даже оставив своих близких родственников здесь! Какая сила тянет их туда? До этого момента Израиль, как таковой, меня почти не интересовал. Я, конечно, знала, когда он был образован, гордилась его победами в Шестидневной войне и в войне Судного дня. Но гордость, как и интерес, были неосознанными и не имели для меня никаких конкретных последствий.
Моя принадлежность к еврейству была скорее непреложным фактом, зафиксированным в паспорте, чем соучастием в некоей национальной общности. Да и общности-то я никогда не ощущала. Бабушка, которая свято соблюдала все еврейские обычаи и регулярно посещала синагогу, была для меня живым анахронизмом религиозных предрассудков, хотя я с удовольствием ходила к ней на пасху и обожала фаршированную рыбу. Короче, в то время Израиль был для меня не страной еврейского народа, а местом, где бы я жила со своими родными в безопасном отдалении от Советской власти.
Мои посещения ульпана на квартире у Абы заставили меня задуматься о моем месте в этом мире. Я увидела людей твердых убеждений с восторгом в сердце. В еврейском сердце. Я почувствовала, что обделена чем-то важным, пока мне недоступным, но подспудно желанным и глубоко сидящим в моем подсознании. Уроки иврита стали для меня уроками жизни моих предков, неожиданно ворвавшихся в мою жизнь, в мое спящее еврейское сознание и открывших для меня новую, незнакомую и поучительную, веселую и печальную, долгую и добрую, мудрую и трагическую историю моего народа. Познание и принятие проходило не просто и не быстро.
В нашей группе была уже немолодая пара, муж и жена, дочь которых была в Израиле, а сын сидел в тюрьме за отказ служить в Советской Армии. Они объяснили мне, что служба в Советской Армии является причиной отказа в выезде на многие годы. И поэтому их сын предпочел пойти в тюрьму, но не дать возможность властям «навесить» на него секретность. Мне казалось это совершенно абсурдным. Как можно было позволить своему сыну пойти в тюрьму добровольно?!! С тюрьмой и ее последствиями мне в моей жизни хоть и косвенно, но пришлось столкнуться. Я смотрела на этих родителей, разлученных со своими детьми, и думала, что дает им силу выдержать эту великую боль? Уже потом, включившись в их борьбу, которая стала моим глотком свободы, моей второй кожей, моей истинной сутью и судьбой на многие годы, я поняла, что только вера в необходимость и единственность принятого решения позволяет выжить в условиях постоянного, ежеминутного стресса.
А тем временем я регулярно посещала уроки иврита и читала литературу об Израиле и еврейской истории. Закорючки, точечки и черточки приобретали свое осмысленное значение и уже не расплывались в глазах. Пришло время, когда Аба задал нам составить наш первый рассказ на иврите. Конечно, рассказ — это не совсем то, на что мы были в то время способны. Два десятка слов, неуверенно засевших в голове, не давали фантазии разыграться. Рассказы всех присутствующих в принципе были похожи друг на друга. Я сказала, как меня зовут, что у меня есть сын, что мама, папа и сестра в Израиле. Вот и все, собственно, что я смогла с трудом выдавить из себя.
Наступила очередь одного молодого человека. Я знала, что он хочет уехать в Израиль, но в ОВИРе у него не принимают документы, так как в Израиле у него никого нет, и все его родственники живут в Союзе. Я всегда смотрела на него с любопытством. Он был молодой, красивый, всегда подтянутый, но с постоянной печалью в огромных черных глазах. Так вот, он на секунду задумался и с каким-то горьким недоумением спросил: «Лама ани по?», что в переводе означало: «Почему я здесь?» И все замолкли. И вместе с ним подумали, ну, действительно, ну почему мы здесь, если хотим быть там?
А потом так получилось, что он предложил мне заниматься ивритом вместе, то есть вместе готовиться к урокам. Я с готовностью согласилась. Он начал заходить ко мне, и начались у нас бесконечные разговоры об Израиле. Он знал Израиль так, как будто он в нем родился. Не только историю, политику, демографию и обычаи. Он знал, как выглядят города, улицы и площади! Рассматривая открытки, присланные Анечкой, он безошибочно называл, что на этих открытках изображено. Однажды я ему даже не поверила. Держа в руках одну из открыток, он с удивлением произнес: «Надо же, на площади Дизенгоф новый фонтан появился!» «Ну уж это ты мне заливаешь», — подумала я. И не поленилась. Написала Анечке. Она ответила, что, мол, да, действительно построили великолепный фонтан, и вся площадь преобразилась. Вот такой был Гера Куна, влюбленный в Израиль и мечтающий там жить. А для этого был у него только один вариант — жениться на «выездной». И я начала усердно вспоминать всех своих незамужних знакомых с родственниками в Израиле. На первый взгляд такое простое дело оказалось неразрешимой задачей: или мои знакомые были уже замужем или собирались ехать в Америку. Но дорогу осилит идущий, и я была уверена, что рано или поздно мы этот вопрос решим.
Шло время. Иврит мой потихоньку продвигался, а Израиль становился ближе и роднее. Круг отказников, окружавших меня, расширялся. Однажды Гера позвонил мне по телефону и, как обычно, спросил разрешения приехать позаниматься. Я согласилась. После этого он вдруг спросил: «Кстати, твой муж ничего не имеет против того, что я приезжаю к тебе?» Я довольно грубо отрезала: «Вообще-то это тебя не касается, но я с мужем в разводе». «Так это же прекрасно», — воскликнул он и повесил трубку. «Ты просто идиот», прокричала я в раздающиеся из трубки гудки и со злостью швырнула ее на рычаг. Через полчаса Гера был у меня с огромным букетом тюльпанов. Он был в прекрасном настроении, сунул мне цветы и как ни в чем не бывало пошел поболтать с Андреем. Он всегда перед занятиями, а иногда и после них разговаривал с ним. Иногда они бывали настолько увлечены разговором, что оба с удивлением смотрели на меня, когда я вдруг прерывала их. Поэтому я наблюдала за ними издали, исподтишка, чтобы не мешать. Я чувствовала, что Андрею интересно с ним, впрочем, как и мне самой.
Никогда до Геры не было в моей жизни настолько интересного собеседника. Он был таким начитанным и эрудированным, что иногда я просто кивала головой, боясь признаться, что я даже не слышала о таком художнике, о котором он вскользь мог упомянуть в полной уверенности, что все должны знать предмет разговора. Но кроме всего — и это я думаю главное — у нас была общая цель, положившая основу нашей дружбе. Гера был убежденным сионистом, и его идеи находили понимание и отзыв в моей душе.
Однако никаких других чувств у меня к нему не было да и быть не могло. Прежде всего он был на десять лет младше меня, и было бы смешно с моей стороны даже на секунду подумать о нем серьезно. Кроме того, развод с Володей потряс меня настолько, что я просто никого вокруг не замечала. Ну и конечно я считала, что вот-вот уеду. Несмотря на скептицизм Абы я была убеждена, что получу разрешение, и все мои мысли и планы были далеко.
Начиная с нашего последнего телефонного разговора, Гера всегда приходил ко мне с цветами. Давно уже у меня дома не было столько цветов. Поначалу я чувствовала себя неловко, а потом привыкла, тем более, что никаких других изменений в его отношении ко мне не было. А какая женщина может отказаться от цветов?!
В апреле 1981 года я получила следующий отказ. По той же причине. Вернее, без всякой причины. Сказала я о нем только Андрюше и Гере. А в нашей группе — никому. К тому времени мне уже было ясно, что отказы для них — дело обычное. Они уже давно перестали подсчитывать их. Я поняла, что мне тоже необходимо выработать к ним иммунитет.
На лето я уехала с Андреем в Челябинск. У меня остались прекрасные отношения как с родителями Володи, так и с семьей его брата, особенно с Милой. В конце августа мы вернулись в Ленинград, и сразу же раздался телефонный звонок Геры. «Я хочу тебя срочно видеть», — сказал он как-то необычно серьезно. «Приезжай», — ответила я и подумала, что у него какие-то неприятности. Гера приехал очень быстро и практически без всякой подготовки сказал: «Я хочу, чтобы мы поженились». «Это невозможно», — ответила я, не раздумывая. Он настаивал. Наконец я сказала: «Послушай, я знаю, что ты хочешь уехать в Израиль и не можешь подать документы. Давай говорить начистоту. Я согласна заключить с тобой фиктивный брак, чтобы помочь тебе выехать. Но здесь в наших отношениях ничего не должно измениться, а в Израиле мы распрощаемся в аэропорту». Потом я улыбнулась и добавила, чтобы хоть немного разрядить обстановку: «Но все это при одном условии — таскать чемоданы будешь ты».
Гера мою шутливую концовку не оценил и ответил тут же: «На фиктивный брак я не согласен. Я делаю тебе предложение и хочу, чтобы ты стала моей женой». Я почувствовала, что разговор затягивается. «Ты о своей маме подумал? — воскликнула я. — Ты что, хочешь, чтобы у нее был инфаркт?! Как иначе она может отреагировать на женитьбу своего сына на женщине старше его на десять лет и с десятилетним ребенком на руках? Я бы не хотела увидеть своего сына в такой ситуации». Гера как будто только и ждал такого аргумента. «Хорошо, — сказал он. — Не давай мне ответа, пока не встретишься с моей мамой». И ушел.
Я осталась одна в разорванных чувствах. Ко мне тихо подошел Андрей, обнял и прошептал: «Мамочка, как бы я хотел иметь такого папу, как Гера». Я вздрогнула. И впервые после его слов мысль о замужестве не стала казаться мне абсурдной.
Встреча с Гериной мамой превзошла все мои ожидания. Она оказалась милой, очаровательной женщиной, мягкой, утонченной в чувствах и с удивительным тактом. Но больше всего меня поразило, что она отнеслась ко мне так, будто всю жизнь ждала именно такую невестку. В ее отношении ко мне я не почувствовала никакой фальши. Я могу с полной ответственностью сказать, что именно знакомство с ней сыграло главную роль в моем решении. Я никогда бы не осмелилась выйти замуж за Геру, сделав при этом его маму несчастной.
После ее ухода я еще пыталась образумить Геру: «Представляешь ли ты, что такое десять лет разницы?» Гера поцеловал меня и ответил: «Глупенькая, это же огромное достоинство. Женщины живут дольше мужчин на десять лет. Мы проживем долгую, счастливую жизнь и умрем в один день!» Я рассмеялась. Я была счастлива. Я думаю, что именно в тот момент я полюбила его. И люблю до сих пор.
Когда Гера ушел, ко мне подбежал Андрей и счастливым голосом сказал: «Мамочка, как я тебя люблю за это!!!» «За что?» — спросила я, занятая своими мыслями. «За то, что ты согласилась выйти замуж за Геру!» — и он обнял меня и крепко расцеловал. В декабре наш брак был зарегистрирован.
Новый вызов из Израиля вместе с Анечкиными и папиными поздравлениями был получен, и документы сданы в ОВИР. Оставалось ждать. Мы не думали тогда, что ждать придется настолько долго. Забегая вперед скажу, что с тех пор прошло пятнадцать лет, и я ни разу не пожалела, что вышла замуж за Геру. Я надеюсь, что Гера тоже. С его родителями у меня самые теплые отношения, о которых можно только мечтать. И добавлю, что Гере пришлось-таки таскать чемоданы, но случилось это гораздо позже, чем мы тогда предполагали.
В 1982 году ко мне вдруг позвонил Э.Д. Тот самый Э.Д., который помогал мне, когда моя мама была в психиатрической больнице. Мы встретились, и он сказал: «Леночка, я знаю, что ты хочешь уехать в Израиль. Я могу тебе в этом помочь. У меня огромные связи. Но я хочу, чтобы мы заранее обменялись квартирами. У меня тоже неплохая квартира. Но твоя безусловно лучше. После получения тобой разрешения обмен будет уже невозможен. Подумай и дай ответ». Я рассказала об этом предложении Гере, объяснила, как Э.Д. помогал мне выйти из казалось бы безвыходных положений, описала его, как человека, который «все может», и сказала, что лично я такой шанс упускать не хочу. Гере оставалось только верить мне на слово.
Все формальности по обмену Э.Д. взял на себя, и через полгода мы переехали в квартиру на Плеханова, которую даже не удосужились как следует посмотреть. Безусловно, квартира эта ни в какое сравнение не шла с маминой, но мы были уверены, что проживем в ней максимум год. А еще через полгода Э.Д. зашел к нам и с сожалением сказал: «Леночка, ну кто же мог предположить, что Брежнев умрет? Все мои люди полетели со своих постов. Я ничем не могу помочь тебе».
Иллюзии о быстром отъезде исчезли. Все мои знакомые говорили и говорят, что Э.Д. обвел меня вокруг пальца, как глупого, доверчивого ребенка. Я для себя этот вопрос до сих пор держу открытым. По той простой причине, что не обменяй я тогда квартиру, я бы всю жизнь корила себя, что не использовала свой шанс. Такова жизнь. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Мы с Герой и Андреем вступили в пору зрелого отказа. Тот, кто решается описать «отказ», заранее обречен на провал. И я это хорошо понимаю. Кто был в длительном отказе, тому это объяснять не надо. Кто не был — тот все равно не поймет. Невозможно рассказать о бесконечных днях и ночах полной безысходности и исчезающих надежд. Отказ — это тысячи исковерканных судеб и запланированное, сознательное подавление воли. Это бесправие, возведенное в закон, при отсутствии малейших возможностей защиты. Отказ — это преступление государства перед каждым отдельным человеком, открыто выразившим свое желание выйти из-под контроля и власти этого всепожирающего монстра под названием Советский Союз; это превращение людей в предмет спекуляции и торговли, старательное и планомерное низведение человека до рабского состояния под прикрытием заботы о благе и независимости государства.
Есть много способов расправы… Сначала был костер и кнут, Ломали ребра и суставы, Был всем известный тайный суд. Как страшно вспоминать былое. Но были рвы и лагеря И были печи для убоя. Нет, пухом не была земля. С годами изменились нравы. И кто-то, видно, с головой Придумал новый вид расправы Жестокой, действенной, простой. И как всегда все шло по плану, И безусловно был приказ Чтоб расправляться без обмана. Так был изобретен «отказ». Коварство, ложь, пустые фразы, Негласный и другой надзор. Растут и множатся отказы. Нам всем объявлен приговор. Ну, черт с ним даже с приговором. Но где же судьи, адвокат? Кто выступает прокурором? Увы, кругом молчат, молчат… Так мы живем — не осужденные, Свободные — с клеймом раба. На сколько лет приговоренные? И что готовит нам судьба?!Цинизм и издевательства доходили до своего апогея. Я помню, как после бесконечных жалоб, в составлении которых мы, отказники, стали корифеями и знатоками, изучившими гражданский и уголовный кодексы, меня вызвали на прием к начальнику МВД г. Ленинграда генералу Бахвалову. Я снова вошла в «Большой дом» на Литейном проспекте, где некогда проходили мои бесчисленные допросы. Но сейчас я вошла туда не с боковых, незаметно прячущихся в переулках входов, а с главного, центрального. Я, кстати, не могла поверить, что мне нужно входить в этот, имперский вход, и поначалу заглянула в рядом расположенную парадную. Мысленно я перебирала все возможные варианты моего разговора с начальником МВД, но не успела я сделать и шага, как дуло автомата было направлено на меня, и грубый окрик «руки за голову» вернул меня к действительности. Я хотела что-то сказать, но затвор щелкнул и приказ, перешедший в крик, дошел до моего изумленного сознания. Я медленно положила руки на голову и робко объяснила причину своего присутствия в здании КГБ. «Главный вход», — услышала я в ответ. И уже при выходе до меня донеслось с грубым смешком: «По своей воле сюда лучше не заходить». Да, разные, очень разные входы были в Главном управлении КГБ и МВД.
Встреча с генералом Бахваловым проходила при полном внешнем ко мне уважении. Он извинился за трехминутное опоздание, сказал, что пришел сегодня исключительно ради встречи со мной и пригласил в огромный кабинет. Я села напротив него. Я знала — от этого человека много зависит. Он стоял на той вершине, с которой он мог столкнуть нас, простых и неугодных ему смертных, в еще более глубокую пропасть отчаяния и страданий или, в случае изменения направления ветра нашей судьбы, мог с таким же успехом вышвырнуть нас, ставших ненужными и потерявшими цену, в ненавидимый и надоевший ему Израиль. Я хотела стать ненужной, бесполезной и потерявшей всякую для него цену.
«Елена Марковна, — сказал он мне, развалившись в кресле, но умудряясь при этом сохранять военную выправку, — ваши жалобы и заявления кое-кому уже очень надоели». Он сделал акцент на «кое-кому», давая мне понять, что и говорит он со мной от имени этого безликого, неназванного, но могущественного «кое-кого». «Слава Б-гу, — подумала я, — этого я своими заявлениями и добивалась». А он продолжал: «И вот сейчас здесь, у меня в столе, находится ваше заявление о выезде, — при этом он резко выдвинул ящик стола, как будто бы я могла заглянуть в него и убедиться, что там действительно лежит мое заявление, — и я честно скажу, что хочу подписать его». И он уставился на меня своими бесцветными, ничего не выражающими глазами.
«Ну так сделай это, сделай, — стучало у меня в мозгу, — и ты избавишься от меня, от моих заявлений, от моего преподавания иврита, от моих бесконечных встреч с иностранцами и еще от многого другого, что я буду предпринимать в дальнейшем, чтобы добиться выезда. Ну же, ну, подпиши!» Но он так же резко задвинул ящик стола, запер его на ключ, чтобы у меня не оставалось никаких иллюзий насчет его намерений, и произнес: «Но сделать этого не имею права». Он сказал это таким тоном, будто речь шла, по крайней мере, о благополучии всего человечества, которое при подписании моего заявления будет ввергнуто в пучину бедствий.
«Но если я уже здесь, — сказала я как можно более спокойно, — назовите мне, по крайней мере, хоть причину моего отказа. Я тогда буду знать с кем бороться и не стану надоедать вам своими заявлениями». Ответ, который я услышала, был настолько же абсурдным, насколько издевательским: «Это ваше счастье, что вы не знаете причину. Именно причина и является секретной. Так что для вашего же блага я советую вам даже не пытаться узнать ее». Аудиенция была окончена. Уходя, мне показалось, что он остался собой вполне доволен.
Само по себе сообщество, именуемое «отказниками», могло бы послужить интереснейшим исследованием для психологов и историков. Ведь в «отказ» попадали люди, объединенные только национальной принадлежностью и одним желанием — покинуть пределы СССР. Да и сообществом-то их нельзя было назвать. Я думаю, что абсолютное большинство всех отказников сидели тихо, предпочитая не раздражать власти своей назойливостью. Были такие, которые боролись в одиночку, изучая ситуацию и используя любой козырь в своих интересах. И была немногочисленная группа борцов, объединенных общим желанием не дать забыть о себе ни на минуту, не позволить совершать беззакония и издевательства под прикрытием «железного занавеса» и привлечь внимание мировой общественности к нарушениям прав человека в Советском Союзе. Безусловно и для «борцов» конечной целью было получение разрешения на выезд, однако методы достижения этой цели были абсолютно иными. Такая борьба изначально была сопряжена с риском, который для некоторых заканчивался тюремным заключением.
Сказать с полной ответственностью, что борцы были смелее остальных отказников, я бы не решилась. Просто каждый в этой ситуации выбирал для себя тот путь, который по его мнению приведет к цели, согласуясь при этом с внутренними убеждениями, характером и системой ценностей каждого отдельного человека. Смелость вырабатывалась уже в процессе борьбы. И в убеждении, что выбранный путь приведет в конечном итоге к отъезду. То есть я хочу подчеркнуть, что знала среди отказников, сидящих тихо, людей с очень сильным характером. И встречала среди борцов людей, с трудом преодолевающих свой страх. И все-таки я счастлива и горжусь, что была среди тех, кто борется открыто, преодолев гипноз коммунистической системы.
Я думаю, что несмотря на наш отказ, мы, борцы, почувствовали себя свободными раньше других и сумели внушить уважение к себе даже со стороны властей. И тут я не могу не подчеркнуть ту огромную поддержку, которую оказали нам еврейские общины всего мира. То, чему я стала свидетелем и участником, до сих пор поражает мое воображение. Даже сейчас я не могу понять до конца, что двигало людьми, посвятившими много лет своей жизни нашему освобождению. Их сплоченности можно позавидовать, а их подвижничеству — поклоняться. Сила их была настолько велика, что с ней уже не могли не считаться правительства как западных стран, так и Советского Союза. Именно из-за их неустанного, организованного давления на все возможные и невозможные рычаги власти, мы чувствовали себя в определенной безопасности. Я могу смело утверждать, что победу мы одержали сообща.
Отказ, как удар гильотины, Как смертный приговор, Как подлый выстрел в спину И как расстрел в упор. Нет, это не мне отказали. Все глубже и страшней: Еврейство мое растоптали, А с ним и тебя, иудей! Я верю в такую идею (Такая уж наша доля) Нет, не свободны евреи, Пока хоть один в неволе. К тебе мой призыв, соплеменник! Не стой в стороне, не робей. Есть брат у тебя — и он пленник. Спаси его, еврей!Мой первый прямой контакт с кагебешниками в период отказа произошел в 1987 году. К этому времени я уже честно могла причислить себя к группе активистов. Уже шесть лет я была преподавателем иврита, участвовала в голодовках протеста, в нелегальных семинарах по различным аспектам отказа и нашего права на репатриацию, была членом организации «Женщины против отказа», принимала участие в демонстрации протеста в приемной Верховного Совета СССР. Я уж не говорю о всевозможных коллективных и личных письмах и заявлениях в адрес различных советских и партийных органов, начиная с газет и журналов и кончая Генеральным прокурором СССР и Генеральным секретарем ЦК КПСС. К этому времени у меня уже было бессчетное число контактов с еврейскими организациями Запада и с сотрудниками Американского посольства в СССР. И однако КГБ меня ни разу не беспокоил. То есть телефон наш был на прослушивании, машину нашу дважды обыскивали после того, как мы подвозили на ней иностранных граждан, но ни угроз, ни попыток «завербовать» меня, короче никаких прямых контактов у меня с КГБ не было.
Мне бы только радоваться этому. Но сказать по правде я испытывала разочарование и даже беспокойство. «Неужели я еще недостаточно им надоела, что они игнорируют мою деятельность?» — спрашивала я себя и думала, что же еще предпринять, чтобы вывести их из терпения. Словом, связались они со мной весной 1987 года. Гера позвонил мне с работы и сказал, что его «навестил один товарищ из КГБ» и что он желает со мной встретиться. Но он, мол, (этот товарищ) не уверен, согласна ли я его принять. «С каких это пор они стали такими стеснительными и щепетильными?» — задала я Гере риторический вопрос, адресованный, естественно, не ему, а тем другим «товарищам», которые прослушивают (или подслушивают) наш разговор по телефону. Что такое телефон я очень хорошо помнила еще со времен маминого ареста.
Как потом выяснилось, этот кагебешник, представившийся Гере по всей форме, сказал ему, что он бы хотел встретиться со мной у нас дома, но он боится, что «Елена Марковна тут же вызовет прокурора по надзору в связи с таким несанкционированным визитом, а нам бы не хотелось никаких осложнений». Короче, явился молодой, вежливый, интеллигентный, как две капли воды похожий на «добрых» следователей. С характерным лицом, знакомыми интонациями и вышколенными манерами. Все это пугающе напоминало мне встречи со следователем, но в другой обстановке и при других обстоятельствах. Напоминало, но не пугало. Я поняла, что стала человеком внутренне свободным и категорически убежденным в своей правоте.
Я предложила чашечку кофе. Он сначала отказался. Сказал, что не положено. Я такую реакцию ожидала. Поэтому, улыбнувшись, парировала: «Ну, не очень-то положено, допустим, приходить к кому-либо в гости без приглашения. Поэтому пусть это будет еще одно маленькое нарушение в вашем послужном списке. Зато когда вы меня вызовите к себе на допрос, вы возвратите мне ее, что будет гораздо приятнее, чем стакан воды, который вы обычно предлагаете у себя в кабинете». Он сделал вид, что обиделся. Сказал, что если бы они хотели меня вызвать, они бы так и сделали. Он, мол, пришел поговорить не формально, а я сразу на что-то намекаю. «Ну, если не формально, — ответила я, — то чашечка кофе не помешает». Он согласился. Отлично. Я выиграла инициативу. Мне стало весело. Я угощаю кофе кагебешника!
Таким образом, полудопрос проходил, можно сказать, в полудомашней обстановке. «Елена Марковна, нам известно, что вы занимаетесь преподаванием иврита». «Ну, я не держу это в большом секрете, иначе бы у меня просто-напросто не было учеников, — ответила я, — но если вы мне покажете закон, запрещающий заниматься преподаванием, я в ту же секунду прекращу эту деятельность. В отличие от некоторых организаций и отдельных должностных лиц я свято чту букву закона». Он намек безусловно понял, но виду не подал. Более того, преподавать иврит милостиво разрешил. Обалдеть можно! Однако при этом добавил, что часто такие группы занимаются не ивритом, а сионистской пропагандой. «Вы иврит знаете?» — спросила я его. Он отрицательно покачал головой. «Жаль, — продолжила я, — а то я бы вас пригласила в качестве экзаменатора для своих учеников. И вы бы лично смогли оценить их успехи. Не уверена, правда, что ученики пришли бы в восторг от такой проверки». И я с вызовом посмотрела ему в глаза.
Вдруг он совершенно переменил тему. Сказал, что им известно, что два дня назад меня посетила супружеская пара из Америки. Назвал фамилию. Я отрицать не стала. Более того, заметила, что я вполне доверяю их информации. Он спросил, о чем мы говорили. Я ответила, что со всеми иностранцами я говорю о том же, о чем пишу в своих бесконечных заявлениях — о незаконном отказе в выезде в Израиль. Вот тогда он как бы невзначай попросил меня сообщать им о предстоящих визитах иностранцев. Я рассмеялась. «Вы же получаете зарплату и, думаю, неплохую, — сказала я. — А работать не хотите. Моя работа — встречаться, ваша — следить. Мы стоим по разные стороны баррикад».
Разговор перешел на международные темы, а оттуда, естественно, на Израиль. Он спросил меня, как я отношусь к Моссаду — израильской разведке. Ну, тут уж я включила все свое красноречие. И получила неописуемое наслаждение, рассказывая о чудесах израильской разведки. Он слушал с интересом. По крайней мере, скуки не выказывал. Только потом спросил, почему же я так уважительно отношусь к израильской разведке и при этом так нетерпима к КГБ. Ведь в сущности это одно и то же, только страны разные. «При этом КГБ, — добавил он, — это пока что разведка страны, в которой вы живете и которая в том числе занимается и вашей безопасностью».
Я сказала, что придумал он это здорово и звучит красиво. Но, к сожалению, он все перепутал, кроме того факта, что и тут и там действительно разведка. Только Моссад старается защитить своих граждан, а КГБ, по моему невольному опыту, занимается как раз обратным. А насчет уважения — это он уж совсем не прав. Я уважаю и Моссад и КГБ. Каждая из этих разведок отлично справляется с поставленными ей задачами. Но задачи, увы, разные абсолютно, отсюда и вытекает мое к ним личное чувство. А именно Моссад я люблю, а КГБ — не обессудьте — ненавижу.
В общем, поговорили откровенно. То есть именно я откровенно — в смысле моего к ним отношения. Но ни разу он не вышел из себя, даже неудовольствия никакого не выразил. На том на первый раз и расстались. Он ушел, а я попыталась проанализировать, зачем же он приходил. Ну ведь не о Моссаде в самом-то деле поговорить! И ни к какому заключению не пришла. Кроме неуклюжей попытки «стучать» на иностранцев, никаких других предложений от него не последовало.
Через пару дней он вдруг снова позвонил мне по телефону. «Елена Марковна, — прозвучал его голос, — а вы, оказывается, занимаетесь незаконной переправкой кассет заграницу». Тут следует заметить, что примерно за неделю до этого я передала кассету с призывом о помощи через английских друзей, навестивших меня. Анечка, которая делала все возможное и невозможное, чтобы привлечь внимание ко мне людей на Западе, использовала эту кассету в одном из своих концертов. Вот на эту запись он мне и намекал.
Естественно, я продолжала свою игру. «Вы обвиняете меня в контрабанде, — ответила я возмущенно, — и я могу подать на вас жалобу. Я прекрасно знаю, на что вы намекаете, и утверждаю, что все свои заявления на Запад я передаю по телефону. И если мой абонент записывает мою речь на кассету, то это его личное дело и моим интересам не противоречит».
Он тут же перевел все в шутку, сказал, чтобы я не нервничала и предложил компенсировать нанесенную мне обиду. «Уж не хотите ли вы заплатить мне за моральный ущерб?» — спросила я с сарказмом. Оказалось, нет. Заплатить не хочет. А хочет пригласить меня на выставку в Манеж. А надо сказать, что в Манеже в то время проходила выставка картин из частных собраний. Попасть на нее было практически невозможно. Люди с ночи занимали очередь, чтобы купить входной билет. Мне было предложено посетить выставку в выходной день, то есть при полном отсутствии там народа. Не согласиться было просто обидно, согласиться — опасно. Мое согласие безусловно означало определенное погружение в их планы. Вопрос стоял четко — суметь вовремя вынырнуть и не захлебнуться.
К тому времени я знала позицию очень многих отказников, в том числе и Абы Таратута, — с кагебешниками ни на какой контакт не идти вообще. Такая позиция была выработана по двум соображениям. Во-первых, показать, что нам с ними просто не о чем говорить, а, во-вторых, любое общение с сотрудниками КГБ часто просто парализовало волю, и их вежливое, но профессиональное запугивание и балансирование «кнутом и пряником» могло привести к той цели, которой они добивались.
Ко мне самой однажды пришел мой хороший знакомый-отказник, напуганный и растерянный после разговора с сотрудником КГБ. И хотя, по моему мнению, кагебешник вел себя примитивно до предела, то есть сказал моему приятелю, что шансы на выезд у него равны нулю и единственно, кто может ему помочь это КГБ. Однако их благодарность нужно заслужить. Ничего особенного делать не надо, только сообщать о кружках иврита: кто посещает, о чем говорят. Вот и все. Ничего сложного. Сразу ответ давать не обязательно. Надумает — вот номер телефона.
Казалось бы такая беседа, «шитая белыми нитками», предполагает однозначную реакцию. Нужно или не нужно показывать ее кагебешнику — это особый вопрос. Но решить для себя, что сотрудничество с этой организацией неприемлемо ни при каких обстоятельствах — это не должно подлежать сомнению.
Однако мой приятель был страшно напуган. И не только угрозой бессрочного отказа. Ему уже мерещилась «месть» за отказ в сотрудничестве, инспирирование какого-нибудь «дела», судебный процесс и тюрьма. И такие случаи бывали, конечно. Но, как правило, это надо было очень «заслужить», очень им надоесть. Такие процессы обычно имели целью запугать других активистов. Мой же знакомый принадлежал к так называемым «тихим» отказникам и, чтобы выполнить условия, поставленные КГБ, ему пришлось бы изучать иврит, чем он до того даже не занимался.
Я не знаю, воспользовался ли он моим советом выбросить бумажку с номером телефона и выкинуть из головы разговор с сотрудником КГБ. Это в общем-то его личное дело. Я это к тому рассказываю, что прежде чем подать кагебешнику чашечку кофе, надо быть очень уверенным в своих позициях. И если хоть капля страха или сомнения сидит в мозгу и точит его, то лучше просто избегать всяческих контактов.
Ни страх, ни сомнения меня не мучили. И если своему рождению я была обязана Сталину, то своему становлению как личности — КГБ. Вот уж воистину я могла сказать: «Стране Советов я обязана всем!» Но если отбросить шутки в сторону и вернуться к тому заманчивому предложению, которое я получила посетить выставку в Манеже — то я согласилась. «Если вы заботитесь о моем эстетическом воспитании, то это вполне похвально», — ответила я ему на следующий день, когда он перезвонил, чтобы узнать мое решение.
Короче, мы договорились встретиться у входа в два часа дня. Он попросил меня не опаздывать. Я сказала, что обещать не могу, так как у меня есть дурная привычка на свидания приходить с опозданием. Он подчеркнул, что очень просит придти вовремя. Боже, те же интонации, что у Новикова, когда он настойчиво-вежливо приказывал мне явиться на допрос к определенному часу. Все знакомо, все пройдено. Даже не интересно. Когда-то я хотела войти с ними в контакт после приезда Гизелы. Мой адвокат отговорил меня, сказав, что мне их не переиграть. Я это усвоила и не обольщалась на этот счет, и четко установила для себя ту грань, дальше которой я не пойду. Именно поэтому, я думаю, преимущество было на моей стороне. В то же время, соглашаясь на встречу в Манеже, я давала выход своему любопытству и авантюризму. В монотонной безрадостной жизни в отказе это было хоть каким-то разнообразием.
Пришла я на место встречи во время. И случайно произошло там событие, само по себе очень незначительное, но засевшее в моей памяти. Я стояла у входа в Манеж. Вдруг ко мне подошел какой-то молодой человек и спросил, где здесь касса, чтобы купить входной билет. Я ответила, что сегодня выходной день и касса не работает. Пока мы так беседовали, из Манежа вышел мой кагебешник. Оказывается он уже был внутри. Увидев его, я распрощалась с молодым человеком и пошла навстречу кагебешнику. Он был неузнаваемо официален и раздражен. Я недоумевала. Так молча мы дошли до кабинета директора Манежа. Директор ждал нас и подобострастно просил быть в его кабинете как дома. До меня дошло — директор понятия не имеет, кто я, и уверен, что я тоже сотрудник КГБ. Или кто-нибудь в этом роде. Меня устраивала такая игра. Хотелось лишь выяснить следующий ход.
Вдруг кагебешник пронзительно взглянул на меня и раздраженно спросил: «Елена Марковна, кому это вы меня сейчас „засветили“?» Я обалдела. Так он, оказывается, заподозрил, что молодой человек, с которым я разговаривала у входа, был приглашен мной специально, чтобы «показать» с кем я встречаюсь. Господи, какая болезненная мнительность, смешанная с самомнением! И почему-то заявление его меня страшно разозлило. Я не давала ему никаких обещаний держать наше знакомство в секрете. Я, слава Б-гу, не нахожусь у них на службе и не должна давать ему отчет в своих действиях. А, кроме того, меня как-то по-детски обидело, что у него настолько невысокое мнение обо мне, что он считает, что я могу действовать такими примитивными методами.
«Если вы меня держите за идиотку, которой нужно вас „засвечивать“ таким примитивно-глупым способом, то зачем вы вообще время зря теряете? Уверяю вас, что если бы у меня было намерение вас показать кому-нибудь, то я давно уже сделала бы это. Но показывать вас ничуть не интересно, так как таких, как вы, вокруг слишком много и всех не перекажешь, да и смысла особого нету». А еще я посоветовала ему сменить работу, так как она расшатала его нервную систему.
После такого монолога я взяла сигарету из его пачки и с удовольствием затянулась. Моя злость почему-то его успокоила, что еще раз подтвердило мои наблюдения, что у них все-таки мозги по другому устроены, чем у нормальных людей. Но это его проблема.
Ну, а потом для нас действительно провели экскурсию. Мы вдвоем ходили по огромным залам, и милая молодая женщина-экскурсовод заученно, но очень интересно объясняла нам особенности и достоинства той или иной картины. И именно оттого, что я получила удовольствие от этой экскурсии, я поняла, что я достаточно хорошо контролирую себя и внутренне абсолютно спокойна.
Потом мы возвратились в кабинет, и я понимала, что именно сейчас он должен выложить карты или, по крайней мере, сделать первый ход. А он вдруг сказал: «Елена Марковна, а вы знаете, что вашему сыну в Израиле в армию придется идти, а обстановка там очень неспокойная». Я ответила, что пока из-за их неусыпного внимания ко мне моему сыну грозит пойти в Советскую армию. И высказала все, что я думаю по этому поводу. Тут он впервые вышел из себя и сказал, что я веду себя некорректно, так как он на службе и не имеет права ответить мне то, что он думает и чувствует, а я пользуюсь этим и поливаю грязью все, что ему дорого. «Послушайте, — перебила я его, — я на это свидание не напрашивалась. Удовольствия оно мне не доставляет. И единственный смысл для меня в этой встрече с вами — это высказать все, что я думаю по затрагиваемым вами вопросам. Ну, а если это начало вас раздражать, то мы можем в заключение поговорить о погоде».
На его лице вновь появилось доброжелательное выражение. Ни тени раздражения. Профессионал. «Елена Марковна, — обратился он ко мне, и в голосе его послышались заботливые отеческие нотки, — я хотел вас предупредить, что за последнее время вы очень сблизились с людьми, которые только уменьшают ваши — и без того незначительные — шансы на отъезд». Наконец-то что-то конкретное. «Вы меня заинтриговали, — ответила я. — И я не могу отказать себе в любопытстве уточнить кого же вы имеете в виду?» «Я говорю о Иосифе Радомысльском», — ответил он, выжидающе глядя на меня.
Я рассмеялась ему в лицо. Надеюсь, что это получилось естественно. А про себя подумала, как же скрупулезно они следят за каждым нашим шагом. Иосиф был одним из самых активных отказников, преподавателем иврита, человеком, пользующимся огромным уважением среди нас и очень известным на Западе. Именно в последние несколько недель его жена Нина стала посещать мои занятия ивритом. И хотя я знала иврит несравненно хуже Иосифа, он, улыбаясь, объяснил мне, что быть учителем собственной жены у него не получается. После занятий Иосиф заходил за ней, чтобы проводить домой. Вот по поводу этих участившихся контактов мне и было высказано недвусмысленное предупреждение.
Итак, я рассмеялась и ответила: «Одна из немногочисленных положительных сторон отказа — это приобретение единомышленников и надежных друзей. Друзья не могут помешать мне получить разрешение на выезд. А Иосиф — это такой человек, что даже знакомство с ним — это огромная честь. А быть его другом это для меня привилегия и гордость». И я ощутила, что мне стало разговаривать с ним тошно и скучно. Я встала и стала надевать пальто, показывая, что наш разговор окончен. А он, видя, что я ухожу, скороговоркой произнес: «Елена Марковна, меня просили вам передать, что с вами хотел бы встретиться мой начальник». Его последнее предложение меня страшно оскорбило. Уж не возомнили ли они, что я согласна контактировать с ними? «Послушайте, — сказала я зло, — неужели вы не понимаете, что у меня нет никакого желания поддерживать знакомство с вашей организацией? Наша сегодняшняя беседа удовлетворила меня, я думаю, навсегда. Надеюсь, что и вы расстаетесь со мной с таким же ощущением». И ушла. Но встреча эта оказалась не последней. Однако об этом чуть позже.
Писать об отказе, соблюдая хронологическую последовательность, оказалось для меня просто невозможным. События и люди перемешались во времени и возникают в памяти беспорядочно, как разрозненные, не связанные между собой картины. Так выскакивают шарики из автомата при розыгрыше «Лото». Вот сейчас вдруг возникла перед глазами наша первая демонстрация протеста, которая в то же время явилась первой антиправительственной демонстрацией в Ленинграде за семьдесят лет Советской власти.
Было это в 1987 году. Шел второй год «гласности и перестройки». Мы, отказники, никаких перемен в нашей судьбе не наблюдали. Более того, незначительные изменения в окружающей нас жизни ввергали нас в еще большее отчаяние, так как отсутствие каких-либо сдвигов в нашем положении являлось доказательством того, что именно нас эти перемены как раз не касаются. Поэтому когда в 1987 году в газете появилось робкое упоминание о свободе собраний, мы решили эту возможность не упустить.
Нам казалось логичным, что лучше выходить на демонстрацию не всей семьей, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств оставались родные для связи в Союзе и заграницей. К участию в демонстрации мы решили привлечь только тех отказников, которые наверняка собирались ехать именно в Израиль. Девиз «Отпусти народ мой» должен был прозвучать недвусмысленно и определенно. На нашем собрании было решено, что предпочтительней участие в демонстрации женщин, так как в случае ареста к женщинам возможно некоторое снисхождение.
Группа сформировалась быстро, но была она очень немногочисленной: Миша Бейзер и Боря Локшин (у них не было жен), Инна Рожанская, Лиля Шапиро, Ида и Аба Таратута (они решили выйти вместе) и я. За два дня до намеченной даты мы послали фототелеграмму с нашими подписями в адрес Ленинградского обкома КПСС о нашем решении с объяснением причин демонстрации. Написали плакаты. Демонстрацию решили провести у здания обкома КПСС и там же, неподалеку, встретиться утром. Обком КПСС располагался в известном всему миру здании Смольного, в котором во время революции 1917 года располагался революционный штаб под руководством Ленина. Именно поэтому в здании этом располагался музей-комната Ленина, открытый для посетителей.
Я помню последнюю ночь перед демонстрацией и страх глубоко внутри, такой противный и, казалось, давно забытый. Я не знаю было ли мне легче, чем другим, от того, что ранее я уже переживала нечто подобное, готовясь к допросам. Однако, как показал мой личный опыт, к страху невозможно привыкнуть. Можно только научиться скрывать его. Да и страх-то может быть очень разным. К примеру, страх за ребенка — это чувство всепоглощающее, неуправляемое, логике не подверженное и, с моей точки зрения, это как бы вершина страха, его квинтэссенция. Это чувство усугубляется от сознания того доверия, которое испытывает ребенок к родителям, и вы уже не думаете о себе, своей жизни, безопасности, боли — перед вами только глаза вашего малыша, и весь мир сосредоточен в его взгляде, обращенном к вам, и страх за него становится сильнее разума и анализу не подвластен.
К страху за родителей примешивается чувство беспомощности и отчаяния. Все время присутствует ощущение, что если бы они были на вашем месте, они бы нашли выход из положения, и это заставляет вас мучаться, метаться, делать ошибки и проклинать себя за них.
Страх за себя — нечто совсем другое. В зависимости от причины, источника страха, в нем преобладает либо стыд за свое малодушие, либо жалость к себе, когда ты, потеряв самообладание, безутешно, испытывая чувство совершенной над тобой несправедливости или глумления, автоматически повторяешь: «За что? За что? Ну, почему именно я?!» И ты боишься не выдержать испытаний, не дай Б-г подвести близких, и эти два страха накладываются друг на друга, перемешиваются, усиливаются один другим и держат твое сердце в жестоких тисках завоевателя.
И все же со страхом за себя можно пытаться бороться. Со страхом за ребенка и родителей — ты заранее обречен на неудачу.
Но вернемся в утро нашей демонстрации. Мы решили с Герой разделиться: я пойду впереди, а он метрах в двадцати сзади. Мы почему-то были уверены, что нас начнут «брать» еще на подходе к демонстрации, и Гера должен был, с одной стороны — не попасться сам, а с другой — знать, когда и где это произошло. Так мы и шли. Я, не оглядываясь, впереди. Он, не выпуская меня из виду сзади.
Благополучно добрались до места встречи. Полегчало. Все-таки великое дело — соучастие. Все были немного растеряны, но казались вполне бодрыми. Вдруг Ида Таратута наклонилась к нам и прошептала: «Если бы вы только знали, как я боюсь!» И почему-то от этого ее признания стало намного легче. Исчез стыд за свой страх. Все наперебой начали подбадривать друг друга, страх потихоньку стал уступать место нервному возбуждению. Я оглянулась по сторонам, чтобы найти глазами Геру. Господи! Кругом одни знакомые лица отказников! В нашу сторону стараются не смотреть, делают вид, что заняты какими-то делами, но пришли, пришли поддержать нас!
Стало совсем легко. Чувство страха уступило место здоровому волнению, как будто мы выступали на сцене, а кругом было полно доброжелательной публики. Только оваций не хватает! Пошли по направлению к Смольному. По мере приближения к назначенному месту стало очевидно, что вся ленинградская милиция получила задание дислоцироваться здесь! Как будто они собирались, по крайней мере, отражать штурм Смольного.
Я старалась по сторонам не смотреть. Милиционеры, стоящие группами и в одиночку, не то зрелище в данной ситуации, которое прибавляет мужество. Дойдя до намеченной точки, мы по счету «три» вытащили спрятанные под пальто плакаты и нацепили их на себя. Вот только тогда я нашла в себе силы оглядеться. Милиционеры пришли в движение. Они отгоняли любопытных прохожих, заинтересованных столь необычным сборищем людей с плакатами на груди. Я заметила как другая группа милиционеров срочно загородила путь экскурсантам, приехавшим посетить комнату-музей. А прямо перед нами какая-то учительница, оглушенная криками милиционеров, поспешно уводила от нашей «опасной» компании своих учеников, напоминая напуганную наседку с выводком цыплят.
Напротив нас, по другую сторону дороги, я увидела отказников, друзей, родных. Потом мне рассказали, что милиционер подошел к этой, надо признаться, достаточно многочисленной группе и сказал: «Граждане! Здесь стоять запрещено. Сейчас же уходите отсюда». И вдруг реплика одного из отказников: «Если вы не разрешаете нам стоять здесь, не значит ли это, что вы призываете нас перейти на другую сторону дороги?» — и указал в нашу сторону. Милиционер ретировался.
Несколько раз к нам подходил милиционер в большом чине и предупреждал, что если мы не разойдемся в течение пяти минут, к нам будут применены соответствующие меры. Однако надо сказать, что было у этого милиционера «характерное» лицо, которое может быть только у людей одной-единственной организации.
И все же несмотря на строгие предупреждения чувствовалось в поведении наших стражей какая-то растерянность и неуверенность. Эта неопределенность начисто исчезла во время второй нашей демонстрации, значительно более многочисленной. Видно, инструкции, полученные ими к тому времени, были четки и однозначны. Во второй раз нас попросту сгоняли с места мусороуборочными машинами, растаскивали в сторону, волочили по земле, швыряли в милицейские машины, окружили антисемитски-настроенными людьми в «штатском», выкрикивающими лозунги типа: «Гитлер не успел покончить с вами, так мы доведем его дело до конца».
Но это было во второй раз. А сейчас, без четких инструкций, по-видимому, не успевших дойти до них, они нашли не менее действенный, но значительно более остроумный метод изолировать нас и свести до минимума наш публичный протест, и я не могу не воздать должное их профессионализму и выдумке. Они еще раз доказали, что обыграть их не легко. Решение, которое они приняли, было простым до гениальности.
Минут через пять после начала нашей демонстрации к нам подошли человек пятнадцать-двадцать молодых мужчин простецкого вида, представившихся туристами из Новгорода. С интересом рассматривая наши плакаты и обмениваясь между собой сочувственными репликами в наш адрес, типа «Надо же, с родными не дают воссоединиться», они окружили нас плотным кольцом. Некоторые заговаривали с нами и интересовались нашими проблемами. Кое-кто из нас, и я в том числе, пытались разъяснить им ситуацию с отказниками, донести до них боль разлуки и глубину отчаяния. Господи, воистину надеждой жив человек. Надеждой в человека. А получилось нечто вроде «пожаловался ягненок волку, что волчица его маму съела!» Вобщем искренне я пыталась втолковать «провинциальным туристам» сколько несправедливостей окружают нас, включая в это «нас» и их тоже и пытаясь при этом обстрагироваться от своих сугубо личных проблем.
И вдруг, случайно взглянув на одного из них более внимательно, я увидела это характерное лицо, до боли знакомое и до смерти незабываемое. Видно, и до Абы Таратута дошло это своим, ему ведомым путем. И тихо скомандовал он нам (пока я пребывала в растерянности и недоумении от своего открытия): «Два шага назад». И мы отступили на два шага, и «туристы» без всякой команды, а заученно четко тоже отступили вслед за нами, прикрывая нас своими мощными торсами от окружащего мира. Со стороны они выглядели просто группой мужчин, собравшихся в кружок и обсуждающих что-то свое, только им интересное. А то, что они «поглотили» нас — этого уже никто не знал и не видел. Понятно, что всяческие разговоры между нами прекратились. Так мы и стояли молча, друг против друга, защищающие каждый свою сторону баррикад.
Мы встали по разные стороны баррикад. Мы открыто сказали им: «Ненавидим ваш ад». Нельзя замедлить Истории ход. Мы — евреи, и мы совершим свой Исход. Десять казней тебе, Фараон, предстоит. Может, даже в итоге ты будешь убит. Но нельзя замедлить Истории ход. Мы — евреи, и мы совершим свои Исход. Есть еще среди нас по природе рабы, Не хотят они видеть ударов судьбы. Но нельзя замедлить Истории ход. Мы — евреи, и мы совершим свой Исход. Мы не будем в пустыне брести сорок лет, Мы готовы исполнить Пророков завет. Мы по трапу на древнюю землю сойдем И услышим, как Тикву, родное Шалом. Мы получим еще раз священный Танах, Чтобы сгинул навеки галутный наш страх. Мы с тобою, израильский гордый народ. Мы — евреи, и мы совершим свой Исход.Отстояли мы в таком «почетном» окружении запланированный нами час. Потом, правда, пригласили нас для беседы в Обком, и начальника ОВИРа к этому времени вызвали (к которому на прием очень не просто попасть было). Во время беседы вежливо, я бы даже сказала, нарочито вежливо объясняли нам невозможность с точки зрения интересов Советского Союза удовлетворить наши требования. И поразило меня тогда их умение часами вести беседу практически ни о чем, умело уходя от ответов на поставленные вопросы. Правда, не знаю, можно ли было назвать это совпадением или это все же был результат нашей демонстрации, однако спустя несколько дней Миша Бейзер получил разрешение на выезд.
В моем сознании сейчас, по прошествии многих лет, годы, проведенные в отказе, вспоминаются как годы мужества и отчаяния, личного внутреннего раскрепощения в условиях неприкрытого рабства. Годы разлук, потерь, утраченных иллюзий и несбывшихся надежд. Я вспоминаю их с содроганием и ужасом. Именно во время отказа я испытывала постоянный, не покидающий меня ни на минуту страх — страх остаться жить в Советском Союзе навсегда. И этот страх парализовывал меня, он как бы окутывал меня, как кокон, и невозможно было его перебороть.
Шли годы, и таяла мечта на встречу с папой. Папа старел, болел и угасал без меня. И хотя письма его были такими же бодрыми, как и вначале, и старался он меня обнадежить и поддержать, но рука его уже теряла твердость, дрожала и взывала ко мне сама по себе, отдельно от написанных в письме слов, а скорее даже подчеркивая несуразность их оптимизма.
Все чаще в письмах стали мелькать выражения: «Надежда на встречу с тобой дает мне силы бороться с болезнями», «Ты — единственное, что поддерживает меня» и, наконец, «Б-г не допустит, чтобы мы не увиделись».
Но Б-г допустил! Допустил! И эта несостоявшаяся наша встреча, которую я рисовала в своем воображении длинными, бессонными ночами, приукрашивая ее каждый раз новыми деталями, эта несостоявшаяся встреча — моя непроходящая боль, мой неотданный последний долг моему любимому отцу. Эта несостоявшаяся встреча — цена моего отказа, моя неосуществленная надежда, моя вечная скорбная память.
Когда папа написал, что руки его так дрожат, что он не в состоянии больше держать скрипку, я поняла, что это конец. И хотя письма, написанные дрожащим, с трудом разбираемым почерком продолжали утешать меня, и я хотела им верить — вопреки всем здравым смыслам на свете — верить становилось все труднее.
Папуля, постарайся жить! Мне без тебя не победить. Ответь, где правда, а где ложь, Что во спасение мне шлешь? Вопросы — бесконечный рой Как пчелы жалят мой покой. Укусов свежие следы: Ну, что с тобой, ну как же ты? И вдруг вопросов нету вмиг. А вместо них безмолвный крик. Тоскливый крик, как свет луны, Как звук вдруг лопнувшей струны. О, этот крик больной души, Его ничем не заглушить. Он громче грома в небесах, Он весь в моих сухих глазах. Скажи, ты слышишь этот крик?!Папа слышал мой крик, а потому молчал. О своей болезни молчал. И лег в больницу на операцию, и мне ничего об этом не написал, не позвонил. Не хотел тревожить. Он впрочем всегда так делал. Писал о болезни только после выздоровления, добавляя в конце: «Ну, это уже, слава Б-гу, позади. Так что волноваться не о чем». Так было и в тот, последний, раз в феврале 1986 года. Он ушел в больницу с мыслями обо мне, а меня не было рядом, и я ничего не знала. И даже голоса его напоследок не услышала. И не услышу. Никогда.
Анечка позвонила мне, когда папе стало совсем плохо. Начался отек легких. И мой, уже не безмолвный, а дикий, животный крик вырвался из моей груди, как зверь, долго сидевший в клетке и выпущенный на свободу. Но папа тогда еще был жив, жив. И я молилась нашему еврейскому Б-гу, взывая к Нему о помощи и о чуде. Но чуда не произошло. И через два дня Анечка позвонила и сказала: «Соберись с силами, сестричка. Все кончено. Но я хочу, чтобы ты знала — папа не мучался перед смертью. Может хоть это облегчит твою боль».
Передо мной Анечкино письмо из того далекого далека. «Дорогая моя, любимая сестричка! Родные мои! Как мне передать вам, что вы все время у меня перед глазами, все время у меня в душе?! Я надеюсь, что вы это понимаете и чувствуете… Теперь мы с папой вздыхаем в два голоса о том, что жаль, что на этом солнце, у этого моря нет Андрюшки… Папе здесь хорошо. Я хочу, чтобы Леночка это твердо знала и знала, что она сделала совершенно правильно, единственно правильно, что настояла на его отъезде. Климат для него волшебный. Дышется ему легко. Ему все нравится…» Ему все нравится…
Есть вещи, перед которыми мы бессильны. Но есть люди, конкретные люди, с именами и фамилиями, которые не дали мне возможность увидеть моего отца даже на смертном одре. Я не простила им. И до сих пор прошу, молю нашего немилосердного Б-га отомстить за меня, за мою несостоявшуюся встречу, за мою бесконечную разлуку, за мои слезы и боль. За моего папу. Господи, услышь меня!
Мне казалось, что мне этого не перенести. Но я всегда вспоминаю слова моей бабушки: «Б-г дает человеку несчастье и одновременно дает силы, чтобы его перенести». Я перенесла. Жила. Живу. Но что-то безвозвратно умерло во мне вместе с папиной смертью. А что-то появилось во мне новое, необъяснимое и неощутимое, что приблизило меня к нему и уменьшило расстояние между ним Там и мной еще Здесь.
И все это называлось одним словом — отказ.
В начале 1988 года, когда Андрею было почти восемнадцать лет, и угроза быть призванным в армию уже стучалась к нам в дверь вполне реально в виде предупредительных повесток с адресом призывного пункта, я решилась на еще одну разлуку — разлуку с сыном и мужем. Посоветовавшись с Герой, получив поддержку от Анечки и вызов из Израиля на имя Геры и Андрея, я написала нотариально заверенное заявление, что я не возражаю против отъезда моего сына и мужа в Израиль и не имею к ним никаких материальных претензий. Такая казуистика была необходимым шагом для их подачи документов в ОВИР.
Документы были приняты, а через несколько месяцев им был объявлен отказ без каких-либо объяснений. Земля уходила у меня из-под ног. После моего первого, почти случайного захода в ОВИР до отказа Андрею с Герой прошло двенадцать лет! Андрей из маленького несмышленого ребенка превратился во взрослого человека, детство которого прошло в отказе. Могла ли я думать даже в 1980 году, уже после отъезда мамы, что передо мной встанет вопрос о службе Андрея в армии?! И чувствовала я огромную вину перед своим сыном за его такое странное детство, с самых малых лет омраченное маминым заключением, моей занятостью, разводом с Володей и бесконечным, беспросветным отказом.
Нет, он, мой сыночек, никогда не упрекал меня. Наоборот, он принял свой путь как естественное продолжение моего и, становясь взрослее, старался идти по этой дороге в ногу со мной. Но мне почему-то было от этого не легче, а тяжелее. Как я тогда поняла маму, которая хотела и взяла, и взвалила на себя всю ношу! А я не могла. Обстоятельства оказались сильнее. И пыталась я эти обстоятельства победить, смести со своего пути. И согласилась на разлуку с сыном. Но даже боль разлуки с ним мне была не позволена. Они сами выбирали как и от чего мне страдать. Я чувствовала себя под постоянным прицелом и жила в стране, в которой великое беззаконие было возведено в ранг неукоснительного закона.
Я живу в стране беззакония. Я не знаю, что можно, что нет. Может, это у них агония, Но агонии — семьдесят лет. Я хочу убежать отсюда. Я мечтаю забыть этот ад. Только нет, не свершается чудо, Здесь чудес уж давно не творят. Небо, воздух, земля — все в клетку, Все в тюремный окрашено цвет. Здесь со мною играют в рулетку, Но у них в руках пистолет. Ах, как страшно жить под прицелом, Влево-вправо шагнешь — расстрел. Я люблю голубое с белым… Жаль, что красное — мой удел.После отказа, полученного Андреем и Герой, я начала подумывать о голодовке. И скажу честно, объявлять побаивалась, так как не была уверена, что выдержу. Но, видно, вылетело это слово из меня во время моей очередной встречи с иностранными туристами, вернее сказать, не с туристами, а с друзьями, соратниками по борьбе.
А примерно через неделю сидим мы на кухне у нас на улице Плеханова, в ненавистной уже квартире, и как всегда обсуждаем, что же делать и как жить дальше. И вдруг звонок из Америки. Молодой мужской голос встревоженно говорит: «Здравствуйте, я звоню от имени ассоциации американских студентов. Мы слышали, что вы объявили голодовку. Как вы себя чувствуете?» Я обалдела и на секунду онемела. И промямлила, что, мол, нет, не объявила, но такая возможность не исключена. И с чистой совестью села пить чай с бутербродом.
Но только откусила первый кусок, как раздался второй звонок из Америки. И теперь уже женский голос не менее встревоженно спросил о моем самочувствии в связи с объявленной мною голодовкой. Кусок бутерброда застрял у меня в горле. И решение о голодовке было принято практически с непрожеванным бутербродом в рту. И я честно ответила: «Чувствую себя хорошо, так как голодаю совсем недолго и особых изменений пока не ощутила. Спасибо вам за внимание». Мне пожелали удачи, и я отложила недоеденный бутерброд в сторону.
До этого я никогда больше трех дней не голодала, но воспоминания об этих трех днях были очень удручающими. Опыта длительных голодовок у меня не было. Итак, я с сожалением и страхом отложила бутерброд, и мы с Герой начали взволнованно обсуждать неожиданную ситуацию. Прежде всего надо было срочно написать письма в соответствующие советские инстанции о принятом мною решении. Затем сообщить об этом друзьям по отказу и позвонить Анечке. Так что весь вечер и часть следующего дня прошли в хлопотах.
Уже назавтра начались звонки от друзей. Да, связь у нас была налажена отлично. Я получила кучу полезных советов, из которых убедилась, что в смысле голодовок я человек абсолютно невежественный и неподготовленный. Прежде всего оказалось, что в голодовку надо было входить постепенно, уменьшая количество потребляемой пищи чуть ли не по определенному графику. Понятно, что этим советом я уже воспользоваться не могла. А вот всяческие сведения об ежедневной очистке организма и прочей гигиене души и тела помогли мне очень. Я даже не знаю, чем бы это все закончилось, если бы мои друзья не просветили меня в этом вопросе. Все-таки очень я, наверное, легкомысленный человек.
Первые два дня прошли сносно, хотя кушать хотелось постоянно. Все меня успокаивали, что чувство голода исчезнет дня через три-четыре. Я ждала. А мои друзья бомбардировали коллективными письмами всевозможные советские инстанции. И Боря Локшин, отказник с многолетним стажем, потратил не один час на их составление и отправку. Так приятно сейчас поблагодарить его еще раз. И пусть простят меня все мои многочисленные друзья, что не упоминаю я их имена здесь. Список получился бы огромный и все равно не полный. Ибо имя им — легион!
Так прошло четыре дня, а мне становилось не легче, а тяжелее. Никакой реакции на наши письма от властей не последовало. Гера с Андреем умудрялись кушать, не попадаясь мне на глаза. Андрей, каждый раз возвращаясь из института, заглядывал ко мне в комнату, и глаза его были полны страха. Уж не знаю, что он ожидал увидеть и что видел на самом деле, но чувствовала я себя неважно.
Кризис произошел на седьмой день. Я лежала в комнате одна, в квартире стояла необычная тишина. Вода для питья у меня кончилась, и я пошла на кухню налить ее. Открыв дверь в кухню и увидев представшую передо мной картину, у меня потемнело в глазах. Гера и Андрей в полной тишине, молча и сосредоточенно опустошали тарелки с дымящейся пищей. Я не знаю, что произошло в моем сознании, но волна злобы и ненависти захлестнула меня. У меня было ощущение, что они подстроили это нарочно, чтобы вывести меня из себя. «Они меня предали, предали», — стучало в моем мозгу. И мне хотелось броситься на них, опрокинуть всю эту еду и топтать ее, и кричать, и схватить сковородку и стукнуть их по голове.
Очевидно, выражение лица у меня было страшное, так как Гера отодвинул тарелку и встревоженно спросил: «Что с тобой? Тебе плохо?». «Я хочу пить», ответила я после небольшой паузы. «Иди ложись, я принесу», — сказал Гера. Я ушла, бросилась на кровать, уткнулась в подушку и тихо заплакала. Я ненавидела себя. Я боялась зверя, сидевшего во мне. И еще мне стало себя очень жалко. А ведь это был только седьмой день голодовки.
Телефонные звонки из-за границы не прекращались. И если вначале я ждала их, гордилась ими, то где-то на десятый день мне стало все безразлично. Чувства апатии и бессилия брали верх. Я страшно похудела, голова кружилась, вставать не хотелось. На тринадцатый день на лице у меня появились круглые четко обозначенные чуть шелушащиеся красные пятна величиной с копеечную монету. И именно эти «вещественные» доказательства моей голодовки испугали Геру страшно. Он побежал в ОВИР на прием к начальнику и возмущенно крикнул ему: «Моя жена умирает от голода, а вы, бездушные истуканы, сидите спокойно в своих кабинетах и делаете вид, что ничего не происходит». И в ответ услышал равнодушное: «Мы живем в демократическом государстве. И каждый волен делать то, что считает нужным. Если вашей жене хочется умереть — это ее право». Вот уж воистину право на смерть в Советском Союзе не ограничивалось никаким законом.
Между тем друзья-врачи, сидевшие в отказе, сказали мне, что пятна на лице — признак того, что организм начал поедать собственную печень. Мне тогда это представилось очень натуралистично. Это, наверное, от голода уже всякие жуткие видения в мозгу появлялись. И Андрей с Герой как-то по-особенному смотрели на меня. И Анечке кто-то передал об этих пятнах. Наверное, действительно неприятное было зрелище. И Анечка в трубку кричала и требовала, чтобы я тут же прекратила голодать, если я хоть чуточку еще люблю ее и не хочу, чтоб она там сошла с ума от переживаний. «Завтра тебе позвонит главный раввин Израиля и запретит голодать», — кричала мне в трубку моя любимая сестричка. И сердце мое разрывалось от жалости к ней, к себе, к Андрею с Герой, и я, рыдая, без сил, проклиная все на свете, перебивала ее взволнованный голос: «Ты должна понять меня! Второй раз я уже не смогу голодать. Я должна добиться разрешения для Геры с Андреем. Ты пойми меня, сестричка моя!»
На пятнадцатый день утром раздался звонок из ОВИРа и инспектор будничным, чуть сонным голосом сказала Гере: «Передайте Елене Марковне, что она может прекратить голодовку. Ее вызывают в Центральный ОВИР в Москву. По ее делу принято решение». Когда Гера повесил трубку, я поняла, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Глаза его сияли, и от волнения он не мог произнести ни слова. Наконец он пересказал мне телефонный разговор, стараясь говорить с теми же интонациями, что и инспектор ОВИРа. А я заставляла его пересказывать еще и еще раз, выясняя какой длины была пауза между предложениями и в каком месте инспектор повысила голос. Сомнений, что мы, наконец, победили не было абсолютно. Во-первых, одного из наших друзей-отказников недавно так же вызвали в Центральный ОВИР, и он получил разрешение. Во-вторых, она же ясно сказала, что я могу прекратить голодовку. А ведь в своем заявлении в ОВИР я писала, что объявляю бессрочную голодовку до получения разрешения. Значит ей уже доложили, что мне разрешено, а она невольно сказала, что уже нет смысла голодать. В общем мы «обсасывали» ее три предложения со всех сторон и никаких изъянов в наших рассуждениях не находили. Наконец, чтобы как-то успокоиться и окончательно принять новую ситуацию как нечто реальное, ощутимое и необратимое, Герка принес яблоко и терку и, целуя меня, изрек: «До Москвы ты должна доехать живой!» Я, как завороженная, смотрела на скудную кучку яблочного пюре на тарелке. Ничего вкуснее я в жизни ни до ни после не ела.
Через два дня мы были в Москве. По моему делу действительно было принято решение: Верховный Совет рассмотрел мою просьбу о выезде и постановил, что до 1992 года мне в моей просьбе отказано. В 1992 году я имею право вновь ходатайствовать о выезде в Израиль. Игра в кошки-мышки продолжалась.
Израиль, который становился для меня все роднее и желаннее, оставался далеким и недосягаемым. Я открывала его для себя глазами своей сестры, и ее письма согревали меня. Вместе с ней я любовалась необыкновенными цветами и кудрявыми ребятишками, слушала израильские песни и, забывая на время свои заботы, переживала инфляцию, повышение цен на нефть и падение курса доллара. Мысленно я бывала вместе с ней в Кейсарии «на самом-самом берегу Средиземного моря, где на песчаном пустынном пляже выстроены два здания необычной архитектуры: первое — в виде старинного замка и корабля (да, да, это именно так!), а второе — гармошкообразное, уступами и складками спускается прямо к морю». Вместе с ней сидела около костра, кушала десятикилограммовый арбуз и слушала, улыбаясь, Ларискины изречения, вроде: «Если я когда-нибудь поженюсь, то только на Андрюше!» Но и Лариска росла без меня, училась, влюблялась, служила в Армии… А я просиживала над Анечкиными письмами и, читая ее горькие слова: «Сестричка моя! Боже, как мне тебя жаль, какая у тебя нелепая и странная судьба», — вспоминала, как бабушка часто повторяла, что «если бы на Земле все было бы хорошо, люди бы забыли, что есть Б-г на Небе». Увы, мой Б-г не давал мне забыть о Нем ни на секунду.
И все это — вся моя «нелепая и странная» жизнь — накладывалось на основной фон — мамино состояние. О выздоровлении мамы мы уже перестали даже мечтать, и любое незначительное улучшение ее состояния воспринималось как подарок судьбы. Помню, когда папа был еще жив, произошла с мамой жуткая история, напомнившая мне всю тяжесть и безысходность маминой болезни.
Как я уже писала, мама практически с первого дня жила в больнице для душевнобольных. Однако, как следовало из Анечкиных и папиных писем, больница эта в корне отличалась от соответствующего заведения в Советском Союзе. Родные и знакомые могли навещать больных практически в любое время, продолжительность свиданий никем не ограничивалась и, более того, при желании можно было больного забрать на день-другой домой, окружив его своей заботой и любовью. И папа, у которого уже была своя маленькая квартирка, время от времени привозил туда маму, давая ей возможность хоть ненадолго сменить обстановку и побыть с ним в домашнем уюте, покое и тишине.
В одно из таких посещений папу вызвали к телефону. Своего телефона у него еще не было, и соседи по площадке любезно разрешали пользоваться при необходимости их аппаратом. Вернувшись минут через десять от соседей, папа с ужасом обнаружил, что дверь в его квартиру раскрыта настежь, а квартира пуста. Мама исчезла. Не помня себя от страха, папа выбежал на улицу. Мамы не было. В панике бросаясь с одной улицы на другую, охрипнув от крика, обессилев от беготни и волнения, папа позвонил Анечке. Бросив все свои дела, Анечка примчалась к папе, но и совместные поиски не привели ни к какому результату. Обнаружить маму неудалось. Двое суток папа и Анечка, сбившись с ног, ходили по городу. Мамина фотография и история ее исчезновения были переданы полиции. Весь Израиль включился в поиски старой, больной, не отдающей отчета в своих действиях, но единственной для нас, нашей несчастной мамы. На исходе третьих суток им позвонили, что маму нашли. Обнаружили ее дети, лежащую на земле, потерявшую сознание, с разбитым от удара о землю лицом. Трое суток мама провела без пищи и воды, бродила по улицам, не зная языка и не понимая, где она находится. Папа прибежал в больницу и сидел около мамы сутки, пока она не пришла в себя. «Мусенька, родная, — с болью и горечью спросил папа, — для чего ты ушла от меня?!» «Я пошла погулять», как всегда равнодушно ответила мама. И невозможно было понять, понимает ли она, что с ней произошло и сколько здоровья это стоило папе и Анечке.
Я узнавала обо всем этом с огромным опозданием и жила, таким образом, в двух временных измерениях, сдвинутых один от другого на разницу в датах отправки и получения писем. Как сказал известный герой Шекспира: «Порвалась связь времен»…
Дни шли за днями, складываясь в годы. Каждый новый день был заполнен ожиданием, борьбой, надеждой, а уходящий — зачеркивал всю эту каждодневную суету, открывая счет следующему. И чем больше я освобождалась внутренне, тем больнее становилось осознавать свое бесправие.
Отказ — это не ожидание И даже не борьба. Отказ — это «состояние», Это — моя судьба. Отказ — это сгусток воли, Это проверка идей. Отказ — это жизнь в неволе По воле других людей. Отказ — это гимн свободы, И ты его поешь. Отказ — это лучшие годы, Которых не вернешь. Отказ — это горечь разлуки И даже, увы, потерь. Отказ — это жуткие муки. Поверь мне, родная, поверь. Отказ — это ночь без просвета, Это — костер без огня. Отказ — моя планета… Отказ — моя западня…Но как ни парадоксально это, может быть, прозвучит, однако я с полной ответственностью могу сейчас сказать, что отказ оказал огромное положительное влияние на меня в смысле моего еврейского самосознания и переоценки ценностей. Он дал мне возможность найти единственное, мне принадлежащее и мною отвоеванное место в жизни. Отказ — это как вынужденная остановка, когда некуда больше спешить и есть время задуматься и честно решить: что важнее — уехать или приехать. И если в начале моего пути самым важным для меня казалось вырваться из Советского Союза и увидеть своих родных, то потом, после многих лет раздумий я поняла, что хочу увидеть их именно в Израиле, в маленькой гордой стране моего народа. Израиль стал для меня символом моей свободы, и его боль стала моей болью, а его успехи — моей победой. Я поняла, что не будет мне покоя ни в каком другом месте на земле.
Я помню, что все эти неосознанные и еще не сформулированные мысли ярко высветились в моем мозгу, когда стояла я на краю крутого обрыва у Бабьего Яра в Киеве. Приехала я туда вместе с отказницами из группы «Женщины против отказа», членом которой я в то время была, а, может быть, лучше сказать, имела честь быть. Мы приехали туда поездом, и поначалу напоминало это просто интересную экскурсию с приятными людьми в новый, незнакомый город. И на время забыла я про отказ, про разлуку, про все свои мучения. Огромный город растворил нас в себе, и мы слились с толпой, вливаясь в ее течение. А потом пути наши разошлись, и толпа осталась в стороне, а мы стояли на краю обрыва, и казалось мне, что мы дошли до края Земли. Трава шелестела под ногами, овраг был усеян цветами, а я смотрела вниз, в глубь, в толщу земли, и было ощущение, что земля шевелится подо мной.
Я стою на краю обрыва, Хоть обрыва давно уж нету. Я смотрю в глубину надрывно На родных, что канули в Лету. На отцов, матерей, погибших Не на фронте, а за оградой, И на их детей, не доживших, Чтоб стоять здесь со мною рядом. Не нашлось здесь для них надгробья, Лишь цветы расцветают летом На земле, что замешана кровью Всех родных, что канули в Лету. Есть еще у меня Ха-тиква, Но в тиши обманчивой этой На устах моих крик молитвы Всех родных, что канули в Лету.И там, на скорбном месте десятков тысяч погребенных моих братьев и сестер, ощутила я свою причастность к истории моего гонимого народа и свою принадлежность к еврейскому государству.
Сейчас, уже много лет спустя, каждодневные волнения отказа притупились, а некоторые события, которые казались в то время существенными и важными, потеряли свою значимость. И, несмотря на это, абсолютно не забылось и не притупилось гнетущее чувство бессилия перед машиной подавления, начисто лишенной какой-либо логики и лишающей нас, отказников, надежды на хотя бы призрачную справедливость в решении нашей судьбы.
Крупные ученые и опытные программисты, в которых, увы, не было недостатка среди отказников, пытались отыскать хоть какую-нибудь закономерность в действиях «компетентных органов». Длиннющие списки людей, попавших в отказ, наряду со скромным списком, получивших разрешение, заполняли электронные мозги компьютеров. Привыкшие к порядку и логике, компьютеры после короткого размышления выдавали очевидный для них и убийственный для нас ответ: «По всей вероятности, в исходных данных допущена ошибка». В полемику с машинами вступать было бессмысленно. В полемику с властями — бесполезно.
И все же в отсутствие логики поверить было невероятно трудно. Это противоречило основным жизненным принципам, нарушало устои существования, наконец, подрывало веру в разумность бытия. Хотелось думать, что в «исходные данные» действительно заложена ошибка. Однако несколько месяцев назад я наткнулась на воспоминания Евгении Гинзбург о сталинских лагерях, где она провела десять лет «от звонка до звонка», то есть ровно столько, сколько было записано в приговоре. Она оказалась в числе «счастливчиков», которые не попали в группу так называемых «пересидчиков», оставленных в лагере после истечения срока приговора с устрашающей формулировкой «до особого распоряжения».
Евгения Гинзбург пишет: «Никто не мог понять по какому принципу попадают в пересидчики, почему одних (меньшую часть), все же выпускают из лагеря, хоть и со скрипом, как бы через силу, а других, наоборот, загоняют в эту страшную категорию людей, оставляемых в лагере „до особого распоряжения“. В бараках спорили на эти темы до хрипоты, но установить закономерность так и не удалось. Только что кто-то доказал: до особого оставляют тех, у кого есть в деле буква Т — троцкизм. Но тут вдруг освобождается заключенная с этой самой роковой буквой. А другая — без этой буквы — расписалась „до особого“. Ага, значит не выпускают тех, кто бывал за границей! Но назавтра игра начальственных умов разрушает и это предположение. Я внутренне давно поняла, что в нашем мире обычные связи причин и следствий разорваны. Ни Кафку, ни Орвелла я тогда еще не читала, поэтому логики этих алогизмов еще не угадывала…»
События, которые описывала Е.Гинзбург, происходили в 1947 году. К 1987 году, через сорок лет, ничего не изменилось в Стране Советов. Стоит лишь заменить «пересидчики» на «отказники», «бараки» — на «квартиры», а пункты обвинения — троцкизм, поездки за границу — на места наших бывших работ электронная, кораблестроительная промышленность — и я могу подписаться под каждым написанным ею словом. Эта страшная аналогия событий, разделенных по времени целым поколением, поразила меня и еще раз (в который уже раз!) заставила содрогнуться от возможной ожидавшей нас участи.
Надо признаться, что Евгения Гинзбург обнаружила-таки логику в «игре начальственных умов», но уже несколько позже, ожидая вторичного ареста после своего освобождения. Тогда судьба зависела просто (ох, как просто!) от порядка начальной буквы фамилии в алфавите. «А и Б сидели на трубе, А упало, Б — пропало…» Уж не тогда ли родилась эта веселенькая песенка?!
Нам, к нашему стыду, до логики добраться не удалось. Наверное потому, что к этому времени мы уже прочитали и Кафку, и Орвелла.
Жизнь в отказе приобретала какую-то закономерность. Женщины-отказницы в течение многих лет проводили трехдневную голодовку, приуроченную к международному женскому дню. Встречи с иностранцами мы буквально начали распределять между собой, иначе пришлось бы не выходить из гостиниц. У нас появились «должности» для связи с заграницей, для помощи больным и пожилым отказникам, свой «пункт» медицинской помощи, куда поступали все лекарства, присланные нам из-за рубежа. Конечно же, нашлись свои знатоки уголовного права, Декларации прав человека и всяких прочих законов и подзаконов, включая Советскую Конституцию как эталон того перевернутого мира, в котором нам, по несчастью, приходилось жить. Были люди, ответственные за размножение учебников иврита, и, естественно, сами преподаватели.
Преподаванием иврита я занималась два раза в неделю и получала от этого огромное удовлетворение. Самое забавное, что начала я его преподавать еще в 1981 году, после одного года изучения в группе Абы Таратута. После окончания этого моего первого и последнего учебного года в качестве ученицы Аба выдал нам самодельные дипломы (я до сих пор его храню и горжусь им не меньше, чем дипломом инженера) и сказал: «Учителей иврита не хватает. Набирайте свои группы — и вперед!»
Следует учесть, что преподавание иврита проходило нелегально. И хотя мы прекрасно понимали, что это невозможно сохранить в секрете — да мы и не ставили себе такую цель, поскольку преподавание, да и изучение было частью нашей борьбы, нашего протеста — однако, на доске объявлений о формировании такой группы не напишешь. Была разработана система, позволяющая «не засвечивать» напрямую преподавателей иврита. Каждый год на праздник «Симхат-Тора» внутри синагоги находился кто-нибудь из «наших» с объявлением в руках: «Желающие изучать иврит звоните по телефону такому-то». Телефон этот принадлежал координатору, у которого была информация обо всех учителях. Он распределял желающих в зависимости от возраста, места жительства и личных пожеланий.
В начале восьмидесятых преподавать было трудно. Я уж не говорю об элементарном страхе, который хочешь-не хочешь, а закрадывался иногда в душу. Но, кроме всего, не хватало учебников ни для учителей, ни для учеников. Их размножение было делом трудным и действительно опасным. В этом вопросе соблюдалась строжайшая конспирация. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, кто из нас был к этому причастен.
А что касается лично меня, то мне еще ко всему вышесказанному катастрофически не хватало знаний. На подготовку к занятиям уходила масса времени, при этом я успевала изучить материал лишь на один урок вперед по сравнению с моими учениками. Конечно, во время урока я ни в коем случае не должна была показывать это своим ученикам, чтобы не снизить свой авторитет как преподавателя. Дело доходило до абсурда. Мне задавали вопрос — а я просто понятия не имела, как на него отвечать. Стараясь сохранить самообладание, я с умным видом отвечала, что затронутый вопрос как раз является темой нашего следующего занятия, и мы, мол, подробно остановимся на нем через несколько дней. А потом, после занятия, я лихорадочно пыталась найти ответ, роясь в скудных пособиях и названивая более опытным учителям.
Надо сказать, что такая уловка меня ни разу не подвела. Ученики у меня были замечательные, и со многими из них я сохранила дружеские отношения до сих пор. И все же здесь я упомяну только об одной своей ученице, судьба которой сложилась очень необычно. Звали ее Света, и была она русской по национальности. Окончив школу, она поступила в Университет на филологическое отделение, вышла замуж тоже за русского человека и родила двоих детей. А потом заинтересовалась религиями народов мира. Ознакомилась с христианством, буддизмом, исламом. Дошла очередь до иудаизма. И вдруг оказалось, что иудаизм согласуется с ее понятиями о морали и отвечает на многие до того не понятные и волнующие ее вопросы. И чем больше она погружалась в него, тем ближе он ей становился. Ее семейная жизнь сложилась неудачно. С мужем она развелась. А иудаизмом продолжала увлекаться. Познакомилась с религиозным евреем, они поженились, и она решила пройти гиюр, то есть принять иудаизм. Чтобы читать Библию в подлиннике, надо было знать иврит. Так она оказалась у меня в группе.
Мы с ней очень подружились, и я радовалась каждой ее удаче. Хорошо помню, как она начала соблюдать кашрут. Перед этим она скрупулезно изучила все еврейские правила приготовления пищи, разделила посуду на «молочную» и «мясную» и, наконец, с радостью объявила мне, что дома у нее с этим вопросом полный порядок. А примерно через две недели пришла она на занятия с огромной коробкой. «Что ты купила?» — спросила я с любопытством, зная, что лишних денег у них нет, и покупка явно вызвана крайней необходимостью. «Понимаешь, Леночка, — как-то виновато проговорила она, — я вчера забылась и в „мясной“ кастрюле скипятила молоко. Вот купила новую».
Будучи человеком нерелигиозным и потому не очень понимающим степень ее «проступка», я из самых добрых к ней побуждений спросила: «А кто-нибудь еще видел, что ты так сделала?» Явно не улавливая, куда я клоню, она ответила: «Нет, я на кухне была одна». И тогда, не выдержав уже, я воскликнула: «Так зачем же ты купила новую кастрюлю?! Ведь никто не знает, что ты вскипятила молоко не там, где надо». Света взглянула на меня в недоумении и ответила: «Но, Леночка, ведь я-то знаю». Ее ответ остался в моей памяти навсегда. И если иногда появлялось у меня желание сделать что-нибудь наперекор своей совести, пусть совсем незначительное, и никто бы об этом не узнал, в ушах моих звучало: «Но я-то знаю». И не было для меня судьи строже.
Ну, а Света продолжала изучать иудаизм, соблюдать кашрут, отмечать субботу и воспитывать детей в еврейских традициях. Наконец, наступил день, когда она поехала в Москву, в синагогу, к главному раввину с просьбой о гиюре. Надо сказать, что в Советском Союзе в тех немногочисленных синагогах, которые в то время действовали, придерживались ортодоксаального направления в религии. Раввин долго выспрашивал Свету о причинах, побудивших ее пройти гиюр, экзаменовал по вопросам иудаизма, отговаривал, опять задавал вопросы и, наконец, сказал: «Прежде, чем будет решен вопрос с гиюром, вы должны по крайней мере три месяца жить со своим гражданским мужем раздельно и встречаться только при свидетелях. Лишь после этого я приму решение, и если оно будет положительным, вы сможете совершить религиозный обряд бракосочетания».
Я не буду вдаваться сейчас в тонкости еврейской религии и объяснять, чем было вызвано требование раввина, однако замечу, что выполнить это для Светы было нелегко по причине совершенно прозаической: на это нужны были деньги. В то время у Светы с мужем была одна комната в коммунальной квартире, и снимать еще одну комнату было для них непомерно дорого, да и найти что-либо на съем было не так-то просто. Поэтому, выслушав наказ раввина, Света в полном отчаянии воскликнула: «Но это так трудно осуществить. Вот если бы у меня не было детей, я бы, на крайний случай, могла жить у подруги». И раввин сказал ей: «Вы еще не готовы для гиюра. Еврейская мать никогда, ни при каких обстоятельствах не могла бы пожелать, чтобы у нее не было детей».
Все это Света поведала мне, сидя у меня на кухне, с опухшими от слез глазами. И, видя ее переживания, я всердцах воскликнула: «Ну что ты обращаешь внимание на слова какого-то выжившего из ума раввина?! Не один он на свете — найдем другого!» И опять Света посмотрела на меня своими чистыми голубыми глазами и ответила: «Но, Леночка, вы не понимаете. Я ведь не потому так расстроена, что он мне отказал в гиюре, а потому, что он был прав. Как я могла сказать такое о своих детях?!» И еще раз был преподан мне урок, что нельзя давать волю своим эмоциям в оценке людей. И что есть высшая справедливость — справедливость твоей совести, и высшая правда — правда твоего сердца.
Чтобы закончить эту историю, замечу, что Света прошла гиюр, поменяла свое имя на имя Лея, приехала в Израиль со своей семьей, и у нее уже четверо детей. Живет она под Иерусалимом и преподает иудаизм в религиозной школе. Однажды, когда я тоже уже была в Израиле, она позвонила мне по телефону, и я в разговоре случайно назвала ее Светой. И своим тихим, мелодичным, но твердым голосом она поправила меня: «Леночка, я понимаю, что вам, может быть, все равно, как меня называть. Но мне это очень важно. Пожалуйста, зовите меня Лея».
Вот такая была у меня ученица, прекрасная женщина Лея, гражданка Израиля, дружбой с которой я горжусь.
Если ты еврей, то без сомненья Уже был однажды на Синае. И душа твоя — венец творенья Завершила, наконец, скитанья. Загляни в нее, мой брат по крови. Ты прислушайся к ее рыданьям. Неужели тебе чуждо ее горе? Вспомни, ведь она с Синая. Как бездомно ей в стране холодной. Иссякает, как родник, ее терпенье. Ведь желание ее так скромно Она просто хочет возвращенья.Летом 1988 года президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган приехал в Советский Союз. Группа ленинградских отказников, и я в их числе, решила поехать в Москву и организовать там демонстрацию против отказа, приуроченную к визиту президента. Помню, мы собрались небольшой группой, обсудили детали, определили дату отъезда, время и место встречи в Москве. В это же время я находилась в предвкушении приезда в Ленинград маэстро Зубина Мета с Нью-Йоркским симфоническим оркестром. Анечка обратилась к нему с просьбой помочь мне получить разрешение на выезд, и он любезно согласился использовать свой авторитет и влияние.
В последний вечер перед отъездом в Москву сидели мы с Герой на кухне и обсуждали последние детали. Ехать предстояло мне одной, так как Гера не мог уйти с работы. Вдруг раздался звонок в дверь. Оказалось, что пришел участковый милиционер. Для непосвященных отмечу, что весь огромный Советский Союз был разделен на бесчисленное множество участков. В каждом таком участке имелся свой милиционер, занимающийся разбором пьяных драк, мелких краж и воспитанием трудных подростков. Ну и, естественно, он был всегда на посту, чтобы выполнять «особые» распоряжения по указанию свыше. Вот с таким особым поручением он и заявился к нам. Выразил желание поговорить со мной лично и попросил разрешения войти в квартиру. Сразу скажу, что вид у него был не бравый, так как даже он, привыкший безоговорочно подчиняться приказам, понимал, что миссия, с которой он ко мне пришел, была, мягко говоря, не совсем законной. «Елена Марковна, — начал он, потупив глаза в пол, — мне поручили сообщить вам, что компетентым органам известно о ваших планах поездки в Москву».
Сказать по правде, это его заявление меня здорово ошарашило. Ведь мы старались держать наши намерения в тайне, и о поездке знал только очень ограниченный круг людей. Однако своего удивления я постаралась не показать и ответила чуть с издевкой: «Компетентным органам безусловно надо доверять. Но неужели теперь вы будете всегда приходить ко мне и докладывать об информации, находящейся в распоряжении компетентных органов?» Он, как будто не услышав моего вопроса или согласно полученным инструкциям не имея права всупать со мной в полемику, продолжал: «Я уполномочен вам сообщить, что имеется постановление, запрещающее вам покидать Ленинград». В такой фразе заключалось беспрецедентное нарушение моих гражданских прав. «Вы можете предъявить мне это постановление?» — спросила я. «Оно было зачитано мне по телефону», — ответил он. «Послушайте, — сказала я ему, — я понимаю, что вы здесь ни при чем и что-либо доказывать вам бессмысленно. Но у меня к вам огромная просьба. Передайте вашим компетентным органам и желательно не по телефону, а лично, что если они, используя свою власть и силу, могут не выпускать меня в Израиль, то ограничить мое передвижение в пределах Советского Союза не дано даже им».
Сейчас я думаю, как наивно звучало мое высказывание для участкового. Уж он-то знал, кто именно просил его придти ко мне и не сомневался в их возможности меня задержать.
Поезд мой отходил в четыре часа дня. Гера был на работе и провожать меня пошли Андрей и моя верная подруга Таня. Я вышла из дома первая, без вещей, и направилась в сторону, противоположную вокзалу. Татьяна и Андрей с моей сумкой пошли в заранее условленное место. Встретившись, мы были уверены, что действовали по всем правилам конспирации.
Приблизившись к перрону, мы с Таней одновременно увидели их: одного милиционера, а другого — человека в штатском. «Штатский» что-то быстро сказал милиционеру, указывая на нас почти неуловимым движением, затем повернулся к нам спиной и отошел в сторону. Милиционер приближался ко мне четким уверенным шагом. И хотя вся эта сцена длилась несколько секунд, она запечатлелась в моем сознании до малейших подробностей, как в замедленной съемке.
Милиционер подошел, отдал честь и попросил предъявить паспорт и билет. «Вы меня в чем-то подозреваете?» — спросила я. «Ну, что вы, — ответил он, улыбаясь, — это обычная проверка документов». Сопротивляться было глупо и бессмысленно. Он открыл мой паспорт, сделал вид, что внимательно изучает его, затем положил его себе в карман и предложил пройти в отделение милиции. «Мой поезд отходит через двадцать минут, — заметила я. — Вы уверены, что не превышаете своих полномочий, срывая мою поездку?» Милиционер оставался вежливым и, я бы даже сказала, благодушным. Приказ, который он получил, исходил из такого ведомства, которое снимало с него всякую ответственность. Это понимал он, и это, увы, понимала я. «Отделение милиции прямо на вокзале. Я уверен, что вы не пропустите свой поезд», — сказал он. Я лично была уверена в обратном. Да и он, по всей видимости, тоже. Хотя вряд ли он вообще думал об этом. На его службе самое безопасное было поменьше думать и рассуждать.
Таня с Андрюшей шли чуть поодаль, и я почувствовала своей кожей, как бьется сердце моего сынули. Я вошла в отделение милиции. Таня с Андрюшей остались на улице — внутрь их не пустили. Милиционер «сдал» меня дежурному и с чувством удовлетворения от удачно выполненной задачи по задержанию опасного преступника ушел достаивать на своем посту.
Дежурный взглянул на меня с мимолетным интересом и предложил присесть. Я огляделась. Отделение было небольшое. Маленькие зарешеченные клетушки со скамьями. Все, кроме одной, были пусты. А в одной — занятой — спал какой-то алкоголик. Несколько оборванных пьяных слонялись из угла в угол. Один попросил у меня сигарету. По-свойски попросил, как у сообщника по краже или знакомого собутыльника. Мы прикурили от одной спички, и он заговорщецки подмигнул мне. Дежурный что-то неотрывно писал, заполнял какие-то бланки. И лицо его было такое сосредоточенное, как будто он решал интегральное уравнение. Пьяный начал рассказывать мне свою пьяную жизнь пьяным голосом. Ему хотелось излить свою пьяную душу.
Время шло. Поезд мой ушел. Вдруг откуда-то появился человек в штатском с характерным лицом. Деловой, подтянутый, в отутюженном костюме, гладко выбритый. И с ходу направился ко мне, с улыбкой, как к старой знакомой, с которой его неожиданно свела судьба и встрече с которой он безмерно рад. «Елена Марковна, ну что же вы не слушаетесь наших советов и вынуждаете нас держать вас в таком неподобающем для вас месте, — сказал он, улыбаясь при этом своей характерной улыбкой, — здесь даже и поговорить-то нормально негде». «Ну, место встречи назначили вы, — ответила я. — Хотя я действительно привыкла встречаться с вами в более солидных учреждениях. А насчет того, что поговорить здесь негде — так это вы зря. Вон сколько свободных кабинетов, — и я указала на зарешеченные клетушки. — Для полной интимности можно даже дверь с обратной стороны закрыть на замок». Он очень естественно улыбнулся на мое предложение, жестом отмахнулся от решеток и пригласил меня сесть на скамейку в углу.
А потом долго и нудно объяснял мне, что все демонстрации во время пребывания президента США в Союзе запрещены. И я, мол, должна это понимать. Президент США приехал решать дела огромной государственной важности, и всякие личные интересы и обиды должны быть временно забыты. И все в таком роде. А поезд мой давно ушел. Во мне закипала злость. И я сказала: «А вы знаете, что я была приглашена на прием в американское посольство? Конечно, президент Рейган вряд ли заметит мое отсутствие. Здесь вы рассчитали правильно. Но вот одну маленькую деталь вы не учли. На днях приезжает сюда маэстро Зубин Мета с женой, и я с ними встречаюсь. А его жена и Нэнси Рейган близкие подруги. Вот Нэнси и узнает про ваши порядки и ваши беззакония. Некрасивая история может получиться».
И я заметила, абсолютно точно заметила, что на лице его появилась растерянность. Он, правда, мгновенно взял себя в руки, но он понял по моим глазам, что я засекла в нем эту неуверенность. И он рассердился. Не то, чтобы он начал кричать. А исчез шутливо-покровительственный тон. Как будто он признал во мне противника. И начал вести разговор совсем по-другому. Со скрытой угрозой. Опять про то, что я могу никогда не уехать. И что я сама себе мешаю. И пора, мол, уже подумать о сыне. А я сказала, что только о сыне и думаю. На что он мне вдруг сказал: «Елена Марковна, я вам честно скажу, что помочь вам выехать в Израиль мы не можем. На данном этапе не можем. Но не препятствовать отъезду вашего сына в наших силах. Я предлагаю вам деловое соглашение: вы не пытаетесь ехать в Москву, не встречаетесь с Рейганом, выбрасываете из головы все ваши штучки относительно Нэнси, а мы не препятствуем отъезду вашего сына по достижении им восемнадцатилетнего возраста».
Я сделала вид, что обдумываю его предложение. А в голове у меня вертелось: «Лена, спокойно проанализируй сложившееся положение. Вспомни, когда изменился тон его разговора? Почему вдруг возникло его предложение насчет Андрея? Ведь в Москву они тебя все равно не пустили бы и не пустят. Более того, они знали, что о твоем задержании в любом случае станет известно на западе, так как ты тут же сообщишь об этом Анечке, и все же они пошли на это. Значит все его предложение возникло из-за твоего замечания относительно жены Зубина Меты и Нэнси Рейган. Но ведь все это ты выдумала со злости. Ты ведь даже не имеешь понятия, знают ли они друг друга. И вообще это полный бред. При чем тут Зубин Мета, Нэнси Рейган и ты? Но именно этот треугольник они проверить не могут. Так высоко их осведомленность не распространяется. А значит он и отбросить, отмахнуться от такой вероятности не может. Конечно, очень возможно, что насчет Андрея он блефует. Но ведь и ты занимаешься тем же! Поэтому согласившись на его предложение, ты на самом деле не уступаешь им ни в чем, так как осуществить свою угрозу не имеешь никакой возможности. Так чем ты рискуешь?! Попробуй, используй свой блеф!»
Обдумав все таким образом и, сделав вид, что я совершаю над собой страшное усилие, я медленно, как бы преодолевая себя, отвечаю: «Хорошо. Я вам обещаю, что в Москву не поеду, и Нэнси не узнает, что я отказалась от поездки в Москву в результате заключенного нами соглашения. Я делаю это только ради моего сына, которому вы, как мы и договорились, не будете препятствовать уехать в Израиль».
Он сразу повеселел, а я сказала, что вроде обсуждать нам больше нечего. И тогда он вдруг говорит: «Елена Марковна, вы уж лучше посидите здесь еще полчаса, а то через полчаса еще один поезд на Москву отходит, и я хочу быть уверенным, что под влиянием момента вы не измените свое решение». Все-таки изучили они меня за эти годы! «Ну что ж, — сказала я. — У вас служба такая никому не доверять. Но держать здесь меня вы имеете право еще не полчаса, а только двадцать пять минут. Так как через двадцать пять минут истекает допущенный по закону трехчасовой срок задержания без предъявления обвинения».
Через двадцать пять минут я встала и пошла, а он пошел за мной — якобы проводить. И я увидела, как следующий поезд на Москву ушел. Он тогда попрощался и исчез. Так же незаметно, как появился. Андрей все три часа ждал меня на улице, а Таня уехала — ее дети ждали. Дома уже рассказала все подробно Герке с Андреем. Герка сказал, что я вела себя правильно, но предупредил со свойственным ему скептицизмом, чтобы я не питала особых надежд относительно их обещаний. Я ему сказала, что, естественно, все это глупости. Разве можно верить кагебешникам? Но если честно признаться, то надежда на отъезд Андрея у меня появилась. Ведь если надежды нет, то и выжить невозможно. Вся наша жизнь в отказе — это крах одной надежды и далекий свет другой.
Бело-голубая, Ты — небо в облаках. Страна моя Израиль, Всегда в моих мечтах. Бело-голубая, Ты — море-океан. Страна моя Израиль, Мой верный талисман. Бело-голубая, Как мамины глаза. Страна моя Израиль, Судьбы моей слеза. Бело-голубая Земля моих отцов. Страна моя Израиль Мой странный вечный зов.Конечно, я понимала, что кагебешники ни в грош не ставят мое обещание не ехать в Москву. Но я также понимала, что при моей следующей попытке я буду задержана так же, как при первой. Поэтому, когда на следующий день мы узнали, что помощник госсекретаря по вопросам прав человека господин Шифтер встречается в Москве с отказниками, мы решили, что на эту встречу вместо меня поедет Андрей. Один из моих близких друзей по отказу Эдик Марков тоже собирался ехать туда. Между прочим, замечу, что в тот день, когда задержали меня на перроне, таким же образом задержали и остальных моих друзей, собиравшихся в Москву на демонстрацию. Так вот, на следующий день Андрей должен был встретиться на перроне с Эдиком Марковым. Билеты для них обоих были у Эдика и в назначенный час Андрей пошел на вокзал. Я даже не вышла его провожать, чтобы не привлечь к нему внимание в случае, если за мной следят.
Как потом выяснилось, Андрей издали увидел Эдика и уже направился к нему навстречу, как в этот момент к Эдику подошел милиционер и попросил пройти в отделение. Андрей остался один, без билетов, без поддержки. В первый момент он подумал, что ему ничего не остается, как вернуться домой. «Но я вспомнил, мамочка, — рассказывал он мне впоследствии, — как важна для нас эта встреча и решил — будь, что будет — сяду в поезд без билета. Не выкинут же меня на ходу». В поезде он наплел проводнику байку про больную бабушку в Москве и про отсутствие билетов в кассе, и так он был возбужден и взволнован (по причинам, естественно, проводнику не известным), что проводник взял у него деньги и уступил свое место в служебном помещении. В Москве поначалу Андрею казалось, что все милиционеры слишком пристально смотрят на него и уже готовы его задержать. Но в конце-концов на встречу с Шифтером он попал, и я очень гордилась им. Вообще жизнь наших детей в отказе — это тема для отдельного разговора. Скажу только, что в семьях всех моих друзей-отказников дети были нашими соратниками и самыми ценными заложниками КГБ.
С Зубиным Мета, согласно Анечкиным указаниям, мы с Герой должны были встретиться в гостинице «Москва» в день его приезда с Нью-Йоркским симфоническим оркестром. Естественно, что никогда до этого мы его не видели, если не считать нескольких фотографий, присланных Анечкой. На этих фотографиях Зубин Мета дирижировал оркестром и, кроме общего облика, из них ничего нельзя было понять. Мы пришли в тот момент, когда огромная толпа оркестрантов с инструментами в руках стояла длинной очередью перед окошком регистратора. Не знаю, как Гера, но я чувствовала себя инопланетянином. Вокруг меня были усталые, веселые, свободные люди, для которых поездка заграницу была интересной, но утомительной работой. Получение визы для них было столь же обыденно, как покупка билета, и означало лишь дополнительные незначительные хлопоты.
Я помню, как однажды попросила у кого-то из навещавших меня иностранцев показать мне визу. Я смотрела на этот маленький невзрачный кусочек бумажки, и мне казалось, что ничего желаннее и ценнее не может быть у человека. Виза оставалась для нас недосягаемой. Много раз мы всерьез обсуждали между собой различные возможности нелегального перехода через границу. Как-то один из наших приятелей из Сухуми упомянул о своем знакомом, который по каким-то своим контрабандным делам время от времени переходит границу из Армении в Турцию. Следующим же летом мы решили поехать в Армению и осмотреться на месте.
В Ереване у меня жили родственники, и мы решили их навестить. Никто, кроме нас, истинной цели нашей поездки, естественно, не знал. Поехали мы на своей машине, и хорошо запомнилось мне, как неуютно мы себя чувствовали, проезжая мусульманский Азербайджан, и какое прямо-таки физическое облегчение испытали, въехав на территорию Армении. Приехали мы в Ереван и попросили наших родственников показать нам границу с Турцией. Вернее, мы сказали им, что хотим увидеть гору Арарат. Подъехали и обалдели: шестикилометровая закрытая зона, через каждые двести метров наблюдательная вышка и даже к этой зоне и то подходить было запрещено. Только Гера приготовился сфотографировать гору Арарат, как тут же появился человек в штатском и попросил аппарат зачехлить. Поняли мы, что тут и мышь незаметно не проскочит. Добавлю, что нашли мы потом возможность связаться с этим контрабандистом. Не лично, а через наших приятелей в качестве связных — сам он по понятным причинам с нами встретиться не захотел. Так вот, через границу провести он нас отказался, так как у него якобы была какая-то договоренность с пограничниками о том, что ходит он исключительно один. А своим «бизнесом» он из-за нас рисковать не стал.
Наиболее серьезный вариант был разработан нами совместно с Мариком Грункиным, нашим приятелем и многолетним отказником. Об этом плане, кроме наших двух семей, не знал никто, и я впервые сейчас упоминаю о нем открыто. В Ленинграде мы даже не обсуждали его в своих собственных квартирах, боясь прослушивающих аппаратов. А план вкратце заключался вследующем. На берегу Финского залива мы собирались снять дачу и построить там лодку. Весной, во время ледохода, две наши семьи с запасом воды и сухарей должны были сесть в эту лодку, которая сверху прикрывалась бы огромным куском белого пенопласта, облитого предварительно водой с тем, чтобы на нем появилась тонкая пленка льда. Собственно предполагалось, что мы не сядем в нее, а ляжем конструкция должна была быть достаточно плоской. Среди белых льдов кусок белого пенопласта, покрытый льдом, должен был по нашим предположениям затеряться и не вызвать подозрения у пограничников. Так, своим ходом, чуть корректируя путь рулем с ножным управлением, вместе со льдами мы надеялись добраться до Финляндии. Конечно, с одной стороны нас бы подстерегала опасность быть затертыми льдами, а с другой — нас могла обнаружить локационная служба береговой охраны. Именно по этой причине основную часть пути мы намеревались пройти днем, пока пограничники еще не пользуются приборами ночного видения. Марик Грункин был специалистом по навигации и ориентации по звездам, так что заблудиться мы не боялись. Самое трудное для нас было решиться подвергнуть опасности детей. У Марика была маленькая дочка лет пяти, так что колебания наши были вполне оправданы. Не знаю, чем бы закончились все наши проекты, если бы в начале 1988 года семья Грункина не получила бы разрешение на выезд. Без него, как специалиста по навигации, мы на такой шаг решиться не могли. Кроме того, их отъезд вновь вселил в нас надежду на законный выезд, надежду, которая к середине 1988 года, после отказа Гере и Андрею начала опять заметно иссякать.
Но вспомнила я это сейчас потому, что вид свободных оркестрантов с визами на руках так резко контрастировал с нашим состоянием, что наше присутствие там казалось неуместным и нарушало всеобщую гармонию. Вдруг кто-то окликнул меня по имени и тем самым вывел из оцепенения. Я оглянулась и увидела Нюсю с Моней, тех самых, что когда(то жили в нашем дворе и к которым мы с моей Таней ходили ночью, чтобы забрать папины скрипки. Тут же все в моем сознании встало на место. То есть они были на своем месте — в Нью-Йоркском оркестре, а я на своем — в отказе в Ленинграде. После первых бурных минут встречи я поняла, что заботы у нас настолько разные, и они настолько уже далеки от происходящих у нас событий, что говорить фактически оказалось не о чем. Вернее, говорить надо было о стольком многом, чтобы начать понимать друг друга, что ни у них, ни у меня не было для этого времени. Это была первая моя встреча после долгой разлуки с людьми из «другого» мира. К сожалению, то же ощущение непонимания у меня потом возникало не раз при встречах, даже долгожданных, с людьми, с которыми меня невольно развела судьба.
Но, по крайней мере, я спросила у Мони с Нюсей как мне найти Зубина Мета, и они хором ответили, что вот же, вот он стоит в центре зала и оглядывается по сторонам. И я мгновенно поняла, почему я его до этого не заметила. Совершенно подсознательно я ожидала увидеть человека во фраке, дирижера, маэстро. А Зубин Мета стоял в домашнем халате, роскошном халате, но отнюдь не во фраке! А я, дура, искала не человека, а его костюм. Нюся с Моней были мгновенно забыты, и все мои философские мысли и рассуждения вылетели из головы. Я схватила Герку за руку и бегом, расталкивая толпящихся музыкантов, которые тут же потеряли свой ореол и превратились просто в мешающих мне людей, бросилась к Зубину Мета.
И он увидел меня, и обнял, и улыбнулся, и такая уверенность исходила от него, что я прижалась к нему, и мне казалось, что в меня вливаются силы. А потом мы поднялись к нему в номер и говорили как старые знакомые. И я спросила: «Я не знаю, как вас называть. Анечка во всех письмах строго настрого наказывала мне обращаться к вам „маэстро“». А он засмеялся и сказал: «Ну зачем „маэстро“. Зови меня просто Зубин». А потом он пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы нам помочь. И что я должна быть все время рядом с ним, приходить за кулисы после всех его концертов и присутствовать на всех приемах, которые будут даваться в честь его приезда. «Все должны видеть, что ты всегда рядом со мной», — сказал он. Он дал нам с Геркой билеты на все концерты Нью-Йоркского оркестра, что уже само по себе являлось предметом зависти всех моих знакомых.
Скажу, что я действительно всегда находилась рядом с Зубиным Мета, и на официальных приемах вся музыкальная элита города сначала недоумевала, строив всяческие догадки в мой адрес, пока Зубин Мета не объяснял всем и каждому, кто я и почему нахожусь рядом с ним. Дело доходило до курьезов. Когда мы вместе после концерта выходили из филармонии, восторженные поклонники его таланта, пробирались через строй милиционеров и пытались сфотографировать своего кумира, принимая меня за его жену. Надо сказать, что все интервью, которые давал Зубин Мета, он начинал с моего имени и моей истории. И хотя в печать это не попадало, огромное число официальных лиц были вынуждены выслушивать злоключения моего отказа.
Чувство огромной благодарности, восхищения, граничащего с благоговением, которое я испытала к Зубину Мета, не только не уменьшилось с годами, а приобрело, пожалуй, восторженный оттенок мистического поклонения.
Девятого сентября 1988 года Андрюше исполнилось восемнадцать лет. На следющий день он получил повестку из военкомата, а еще через день подал документы в ОВИР на выезд в Израиль. Начался отсчет дней, и я находилась в совершенно абсурдном, аномальном для любой матери состоянии: я мечтала расстаться со своим сыном. По ночам я молила Б-га совершить это чудо освободить моего сына от проклятия моей судьбы. Я смутно представляла себе, что я буду делать, если он, мой единственный сын, окажется удушенным пуповиной моего отказа. Призрак Советской Армии уже стоял за дверью.
С момента моего первого посещения ОВИРа прошло тринадцать лет. Жизнь не баловала меня эти годы. И однако то, что могло ожидать меня впереди, было выше моих сил. Мы давно уже решили на семейном совете, что в армию Андрей не пойдет ни при каких обстоятельствах. Армия для него означала бы получение уже лично им формальной секретности, а значит и повода для его собственного отказа, отсчет которого начнется только в 1988 году. Единственной альтернативой армии была тюрьма. И весь последний год я морально подготавливала своего сына к этому шагу. Я не знаю, был ли он готов выдержать заключение. Я знала, что я этого не выдержу. И хотя я старалась никогда не показывать ему свою слабость, я знала, что его тюрьма — это мой смертный приговор.
Поскольку повестки по почте Андрей игнорировал и в военкомат не являлся, повестки стали приносить на дом с требованием расписки в ее получении. И я, и Андрей перестали открывать дверь, если заранее не знали кто пришел. Гера расписываться на повестках отказывался, мотивируя это тем, что он, якобы, гость, посторонний человек. Но всем нам было ясно, что долго такая игра в прятки продолжаться не может. Нервы были напряжены до предела. Любой телефонный звонок разрывал душу, и я боялась снимать телефонную трубку, как будто она находилась под высоким напряжением.
А в начале октября позвонила Анечка и сказала, что в Израиле состоится концерт, посвященный сороковой годовщине образования государства. И что мне в этот день позвонят, и я по телефону смогу обратиться к присутствующим с поздравлениями и вообще сказать то, что мне подсказывает сердце. Честно говоря, я в то время не очень понимала, какая честь мне оказана и в каком грандиозном зрелище я участвую. За много лет отказа я говорила по телефону с бесчисленным количеством людей на Западе, в том числе с людьми очень известными и влиятельными.
Помню, когда я голодала, беспрерывные телефонные звонки превратились в настоящий бич. И даже когда мне позвонил кандидат в президенты Соединенных Штатов господин Майкл Дукакис, меня это не очень-то поразило. Я восприняла этот звонок почти как само собой разумеющееся. Уже потом, приехав в Соединенные Штаты из Израиля по приглашению Аарона Рубингера, раввина из Орландо, который в течение многих лет боролся за мое освобождение, я поняла, какую неимоверную работу нужно было проделать, чтобы убедить кандидата в президенты (!) позвонить по телефону какой-то отказнице во время его предвыборной кампании. Там же, в Соединенных Штатах, у меня произошла встреча с Майклом Дукакисом, которую мне также «устроил» Аарон Рубингер. И только на этой встрече, на которую мы с Аароном ехали в сопровождении полицейских машин с включенными сиренами, я осознала, насколько я недооценивала порой оказываемые мне знаки внимания, заботы и поддержки.
Вот и в тот день, сидя у себя в квартире на Плеханова, поглощенная одной навязчивой мыслью об Андрюшином отъезде (о своем я уж и мечтать устала), я ожидала звонка из Израиля без особого волнения и трепета, сердце не подсказало мне, что это будет самый важный, завершающий разговор, подводящий итог моему многолетнему ожиданию и открывающий для меня новую жизнь. Я ждала звонка и не знала, что приближается мой звездный час. А это был в самом буквальном смысле целый час ожидания с поднятой и поднесенной к уху трубке.
Когда раздался звонок и я, собравшись с мыслями, подняла трубку, я услышала величественную музыку в исполнении симфонического оркестра. А затем женский голос на чистом русском языке шепотом спросил: «Лена, ты здесь?» И я почему-то тоже ответила шепотом: «Да, я здесь». И меня попросили подождать у телефона и трубку не вешать. И я ждала и слушала музыку, и рисовала в своем воображении сцену, и Зубина Мета и мою сестричку.
Но как же убого оказалось мое воображение, когда по приезде в Израиль я смогла увидеть запись этого концерта. Ничего более впечатляющего я не видела в своей жизни. Господи, какой это был фантастический концерт! Древние стены Моссады, освещенные цветными огнями, черное звездное небо, выросшая как из-под земли сцена, белые фраки музыкантов и возвышающийся над ними, как сказочная птица, Зубин Мета — гипнотизирующий, приковывающий внимание — и музыка, разливающаяся в воздухе, который от этих звуков кажется весомым и окутывает тебя и не дает шелохнуться. И кажется, что на всей земле нет ничего, кроме этой музыки, древних стен и черного купола Вселенной.
Нет, в моей квартире на Плеханова я ничего этого, увы, не представляла. Через каждые пять-десять минут женский голос все так же шепотом спрашивал меня: «Лена, ты здесь?» И услышав мой утвердительный ответ, исчезал до следующего вопроса. А потом, минут через сорок, музыка смолкла и наступила звенящая тишина, разорванная шквалом аплодисментов. И вдруг я явственно, как из соседней комнаты, услышала: «Лена, это Зубин». И я страшно разволновалась, и когда раздался голос моей сестрички, у меня в горле появился комок, и я ничего не могла сказать. И ей пришлось повторить два раза, слышу ли я ее. И кроме короткого «да» я ничего не сумела вымолвить. А потом я поняла, что все ждут моих слов. И я начала говорить. О своей любви к Израилю, и о нашей борьбе, и что мы обязательно приедем и встретимся.
Говорила я всего минуты три, но мне казалось, что целую вечность. Потому что за каждым моим словом стояла моя жизнь и жизнь моих друзей. И каждое слово было выстрадано и значимо. И низкий поклон моей сестричке, что она сделала все возможное и невозможное, чтобы именно я могла эти слова сказать и быть участником этого незабываемого, потрясающего действия. И когда уже в Израиле, просматривая запись, я видела членов правительства, почетных гостей и многотысячную публику, слушающих мой далекий голос, я снова ощутила ком в горле, и слезы воспоминаний застилали мне глаза.
Я верю, что когда-нибудь проснусь, Увижу море, небо голубое. Я ущипнуть себя не побоюсь Все наяву и все кругом родное. Скажу, что в многолетних снах Я видела тебя — оттуда. Ты даже лучше, чем в моих мечтах, Моя Земля, Земля свершившегося Чуда. Увижу, как сильна ты и добра, И я тобой, как матерью, горжусь. Я верю, что придет эта пора… О, Боже, но когда же я проснусь?!А через несколько дней после концерта Андрей получил отказ. И казалось, что жизнь кончилась. Сама не знаю зачем, я пошла в ОВИР. Приняла меня заместитель начальника ОВИРа, на вид женщина совершенно обычная, но с колючим и холодным взглядом. Стоило ей только посмотреть на меня, как между нами сразу же возникла стена непонимания. А, собственно, разве могла я ожидать чего-то другого? Как принято, в кабинете она была не одна. В углу, в кресле, сидела мой районный инспектор Марина Владимировна — тощая, длинная, с копной волос на голове, странно не гармонирующих со всем ее обликом. Я прозвала ее «швабра», и между собой мы ее так всегда и называли.
Замначальника быстро взглянула на меня, и возникло ощущение физической боли, как будто меня полоснули бритвой. «Вы хотели знать причину отказа вашему сыну? Я уполномочена сообщить, что наша комиссия решила, что он еще слишком молод, чтобы принимать самостоятельные решения». Господи, нет предела их издевательствам. Люди, говорящие на разных языках, и то лучше понимают друг друга, чем я ее (или она меня?), а ведь вроде все слова, вылетающие из ее уст, вполне складно образуют законченные фразы.
«Послушайте, — чуть раздраженно ответила я, — если завтра мой сын изнасилует Марину Владимировну, — и я кивнула головой в сторону „швабры“, то суд накажет его по всей строгости закона, как абсолютно взрослого человека. Мне бы хотелось знать фамилии членов вашей комиссии, которые сумели признать моего сына в его восемнадцать лет недостаточно зрелым для совершения юридического действия, законного для лиц, достигших восемнадцатилетия».
Надо сказать, что я давно уже заметила, что именно требование «выдачи» определенных лиц, принимавших то или иное незаконное решение, почему-то всегда выводило из себя моего «официального» оппонента. Мне никогда не довелось услышать или узнать фамилии конкретных лиц, поставивших свою подпись при разборе моих заявлений или делавших заключение по вопросу моего выезда из страны. Думаю, такая же ситуация была и у остальных отказников. Нам всегда говорилось, что «решение принято коллегиально», или что «комиссия пришла к выводу», или, что совсем уж было абсурдно, что якобы существует некое «разъяснение к существующим законам», но оно (это разъяснение) рассылается только в определенные организации и является документом «для служебного пользования», то есть иначе говоря были секретными. Однако ни разу мне не удалось добиться, кто же именно рассылал эти документы или был членом комиссии. Ни разу за многие годы отказа. И однако вопрос этот неизменно выводил из себя моего собеседника, независимо от того, на каком уровне иерархической лестницы он стоял. Я часто задавала этот вопрос специально, чтобы изменить ровный, надменный и профессионально-равнодушный тон разговора.
Так случилось и на этот раз. Замначальника ОВИРа, на вид женщина уравновешенная и, как говорится, без особых примет, вдруг покраснела, стукнула кулаком по столу и прокричала мне в лицо: «Вы хотите обжаловать решение нашей комиссии? Жалуйтесь куда угодно. Вам это не поможет. Так же, как не помогло бы знание членов комиссии. И возраст вашего сына вам не поможет тоже. Запомните, запомните раз и навсегда — ваш сын никогда не получит разрешения один, даже в сорок лет. Он будет сидеть в отказе до тех пор, пока не будет принято положительное решение по вашему вопросу. А как вам известно, до 1992 года вы можете об этом забыть».
Она встала, показав мне, что разговор окончен. Как ни странно, но после ее тирады мне стало легче, как будто я поймала вора, когда он залезал ко мне в карман. Мы как бы поменялись ролями. В ней кипело раздражение, а я была абсолютно спокойна. «Спасибо за откровенность, — сказала я. Действительность — даже самая абсурдная — лучше подслащенной под законность лжи». И я вышла из кабинета.
Дома со мной началась истерика. Мне повезло, что Андрея не было дома и я смогла дать волю своим чувствам. Я рыдала в голос, открыто, как уже много лет не позволяла себе рыдать. Мне казалась, что вся моя жизнь прожита напрасно. Более того, у меня было чувство, что я, мать, встала на дороге своего сына и мешаю ему своим существованием. Гера пытался меня успокоить, но я видела, что и он подавлен и сломлен.
И вдруг совершенно неожиданно и против всякой логики он сказал: «Мы уедем с тобой отдыхать, на юг. Ты должна сменить обстановку». И я, рыдая, захлебываясь слезами, но хватаясь за эту идею, как за соломинку, заикаясь, поспешно ответила: «Да, уедем скорее. Я не могу видеть эту квартиру. Я ненавижу все вокруг. Я не хочу подходить к телефону. Я не хочу бороться. Я устала, мой милый. Увези меня отсюда».
Я не знаю, что подумал и почувствовал мой бедный сыночек, когда мы сообщили ему, что уезжаем отдыхать. Он только удивленно посмотрел на нас и ничего не сказал. Ничего. На душе у меня было муторно, как будто я совершаю предательство. «Куда вы поедете?» — спросил он. «Не знаю, — ответила я. Может быть, в Тбилиси, может, в Гагры или Сухуми». Мы действительно не решили, куда поедем. Я просто старалась убежать от себя, хотя прекрасно знала, что мне это не удастся.
Назавтра мы взяли билеты на самолет, благо время летних отпусков давно закончилось и билеты можно было купить без труда. Сначала мы полетели в Тбилиси к нашим хорошим знакомым. Прекрасный город, незнакомая речь, чудная погода — все, казалось, способствовало моему желанию убежать от привычной и ненавистной обстановки Ленинграда. Но выяснилось, что мне не стало легче. Я страдала бессоницей, и искусственно созданное спокойствие стало раздражать меня. Я думаю, что Гера чувствовал то же самое, потому что на четвертый день мы, проходя мимо вокзала, почти в один голос предложили друг другу покинуть Тбилиси. На следующий день мы были в Сухуми. За это время мы ни разу не звонили в Ленинград, как будто незнанием или, вернее, боязнью узнать, что там происходит, мы могли изменить объективную реальность происходящих там событий. «Не хочу ничего знать», — твердила я, как заведенная, когда мы проходили мимо почты. Собственно, разговаривала я сама с собой, так как Гера терпеливо молчал и не предлагал мне никуда звонить. Он честно выполнял условие — во время отдыха звонить в Ленинград не будем.
Через три дня, проведенных в Сухуми, я не выдержала. «Боже, — подумала я, — кого я хочу обмануть? Себя? А если с Андреем там что-нибудь произошло?» И, казалось бы совершенно невпопад, прерывая какой-то разговор за общим столом, я попросила разрешения у наших знакомых, в доме которых мы жили, позвонить в Ленинград. И услышала звенящий, кричащий, обиженный, но ликующий голос моего сына: «Мама! Ну что же вы не звоните?! Мне позвонили из ОВИРа и сказали, что с тебя снята секретность. Они просили тебя срочно к ним зайти!» Господи, Господи! Сколько раз за последние десять лет я рисовала в своем воображении этот миг! Остановись мгновение! Дай мне ощутить, впитать, раскусить тебя, насладиться тобой и опьянеть от тебя! «Мамочка, — прокричал Андрей. Ну, где ты? Почему ты молчишь?!» «Сынуля, — ответила я и почувствовала, что голос у меня сломался. — Спасибо, родной. Я все поняла. Но я не могу сейчас говорить».
Я повесила трубку и оглянулась. За столом воцарилось молчание. Но Герины глаза сказали мне, что он все понял. «Налейте мне стакан вина и выпьем за наше будущее. Я надеюсь, что наше настоящее уже закончилось». И тут Гера, как обухом по голове: «Ты веришь звонкам из ОВИРа? Вспомни свою голодовку? Да они просто хотят испортить нам отдых. Мы вернемся, а они скажут, что произошла ошибка».
Мой дорогой Герка! Он подготавливал меня на случай их очередной провокации. Ведь за время нашего отказа каких только случаев не было с нашими друзьями. Все было — от аналогичных звонков о разрешении с последующим издевательским извинением за ошибку до снятия с самолета с визами при уже отправленном багаже в Израиль. Но я выпила стакан вина и закружилась в бешеном танце, хватая всех за руки и втягивая в круг, и смеялась, и пела, и одновременно отвечала Герке: «Ну, конечно же, мы не изменим наших планов. Мы планировали отдыхать еще неделю, и мы ни на один день раньше не уедем. Мы ждали столько лет, пусть они теперь подождут нас! Мы не пойдем у них на поводу». И при этом все кружились и все пели, и пили, и целовались, а на улице шел проливной дождь, а мне казалось, что эта лучшая погода на свете.
А назавтра, чуть свет, мы были в аэропорту, пытаясь срочно купить обратный билет. Даже Гера не выдержал и только изредка автоматически повторял: «Леночка, давай не обольщаться. Давай будем готовыми ко всему». И я соглашалась, и мы, как оглушенные, неслись к следующей кассе в надежде достать билет на еще более ранний рейс.
По приезде в Ленинград я тут же побежала в ОВИР. Меня встретила будничная серая обстановка этого заведения. Инспектор — все та же «швабра» с непроницаемым лицом — своим надоевшим мне за много лет голосом сказала: «Если вы не изменили свое намерение о выезде в Израиль, напишите нам заявление о вашей просьбе». Я не стала говорить ей, что у них есть десятки моих заявлений по этому поводу. Не стала вступать в дискуссию. Я не хотела терять время. «Поставьте число и распишитесь», — сказала она, прочитав три лаконичные строчки, написанные сухим, канцелярским языком. Она взяла мое заявление, вышла и через десять минут вернулась. На моем заявлении стояла резолюция: «Решено положительно». И подпись, как всегда, неразборчива.
Как все просто! Я написала заявление и через десять минут получила разрешение. Десять минут длиною в десять лет! Я вспомнила, как папа писал мне когда-то: «Доченька, жизнь всегда в полосочку — и после черной полосы, моя родная, наступает белая. Ты дождешься своей белой полосы». Я дождалась, папочка, но ты об этом уже не узнал.
Начались сборы, оформление документов и багажа, покупка билетов, звонки в Израиль, поздравления друзей со всего света. Отвальная. Аэропорт. Самолет. И слова Герки: «Пока мы не приземлимся в Израиле, давайте не впадать в эйфорию». И огни ночного Тель-Авива, как маленькие золотые обручальные кольца, рассыпанные на земле. И сестричка на аэродроме. И наши первые объятия. И слезы облегчения и счастья. И мои слова к ней: «Родная моя, как я хочу тебе все рассказать. Все, что мне пришлось пережить». И ее холодный отрезвляющий голос: «Я не хочу ничего знать. Ты должна это все забыть».
Возможно ль, сестричка?!
2002








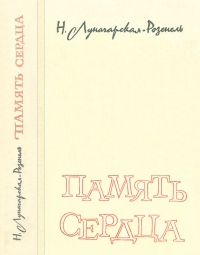
Комментарии к книге ««Ты должна это все забыть…»», Елена Марковна Кейс
Всего 0 комментариев