Павел Фокин Чехов без глянца
Памяти Тамары Львовны Вульфович с благодарностью
Собиратель осколков
Любимое мое занятие — собирать то, что не нужно (листки, солому и проч.), и делать бесполезное.
А. П. Чехов. Из письма Я. С. МизиновойЖизнь Чехова соткана из противоречий.
Великий жизнелюб, он был обречен угасать годами в изнурительной болезни, сведшей его в преждевременную могилу.
Автор искрометных юмористических рассказов и водевилей общественным мнением оказался зачислен в разряд пессимистов.
Его популярность среди читателей была исключительной, критика же долгое время не хотела признавать в нем серьезного таланта.
Мечтал написать роман — и всю жизнь сочинял рассказы и повести.
К театру относился с нескрываемым скепсисом, но стал выдающимся драматургом.
Трудоголик, он более всего на свете любил праздность.
Вокруг него непрестанно клубились компании, заводить которые он был большой охотник, впрочем, держался в них особняком, постоянно покидая общество и уединяясь в кабинете.
Говорил «живо, хотя бесстрастно, без какого бы то ни было лирического волнения, но все же не сухо» (Ф. Ф. Филлер «Из дневника»).
Смеялся до слез.
Смешил с серьезным видом.
На его розыгрыши и прозвища никто не обижался.
Зарабатывал много, однако так никогда и не обрел материальной стабильности.
Совершил путешествие вокруг света, одолел Сибирь, Дальний Восток, Тихий и Индийский океаны, поднялся на Везувий и исследовал парижское дно, чтобы через год на несколько лет осесть в деревне, «где всё в миниатюре».
Рассчитывал обрести в ней покой для уединенного творчества, но очень скоро превратился в уездного доктора, к тому же еще случилась эпидемия холеры, которая потребовала ежедневных разъездов и неустанных хлопот.
Лечил неохотно, но эффективно.
Прекрасно зная все последствия своей болезни, за врачебной помощью обращался только по принуждению.
Проницательные глаза поразила близорукость.
Понимал толк в еде, здоровье же требовало диеты. Даже от любимых сигар пришлось отказаться.
Увлечение рыбной ловлей не отменяло интереса к рулетке.
Жаждал высокой любви, не протекая в то же время мимо ни одной милой дамочки, да и платными услугами не брезговал.
С женой предполагал жить раздельно, а когда наконец связал себя узами брака, тяготился постоянными разлуками.
Парадоксы чеховской судьбы и личности можно продолжать и множить.
Он родился в Таганроге, на самой окраине России — в городе, который мог стать столицей империи.
Он вырос между морем и степью.
Смышленый и любознательный, с замечательной памятью и вниманием, в гимназии особыми успехами не отличался.
Выходец из низкого сословия, поражал всех благородством и подлинным аристократизмом.
«Происходя из крестьян, Чехов не слишком уважал народ, он видел насквозь и достоинства его и грехи» (М. О. Меньшиков).
Демократ по духу и образу жизни — революционеров не поддерживал, более того, сотрудничал с консервативным «Новым временем», а «марксистом» называл себя только в шутку, в честь книгоиздателя Маркса, от которого получил капитал за права на собрание сочинений.
Прекрасно знал церковную службу, жития святых, быт и нравы клира, уважал священников, посещал монастыри — колокольный звон пробуждал в нем радость и умиление, — тем не менее склонен был к атеизму и материализму.
Его интересовали кладбища и цирк с «клоунами, в которых он видел настоящих комиков» (А. С. Суворин).
Его притягивала кипучая жизнь Петербурга и Москвы, а он томился в захолустной Ялте.
Любил Россию и восхищался Европой.
Иностранным языкам обучен был плохо: читал, но говорил с трудом, тем не менее предсмертные слова произнес по-немецки.
Вот уж поистине в ком, говоря словами Достоевского, «Противоречия вместе живут»!
Однако главный парадокс личности Чехова в том, что, вопреки всему сказанному, в нем не было ничего героев Достоевского — никакой двойственности, разделенности, никакого надрыва и излома. В эпоху «Братьев Карамазовых» он жил размеренной, деятельной и трезвой жизнью. Не спорил, не умствовал, не изливал душу. Лечил крестьян, строил для их детей школы, организовывал библиотеки, сажал сады, выращивал цветы и баклажаны.
Ткань бытия Чехова была столь плотной и прочной, что противоречия, свойственные каждому человеку, не могли не то чтобы порвать, но и просто надорвать ее. Края, и даже крайности, не конфликтовали между собой, связанные многочисленными нитями с основой — практичной и надежной.
Зинаида Гиппиус не без уважительности писала о феномене личности Чехова: «Слово же «нормальный» — точно для Чехова придумано. У него и наружность «нормальная»… Нормальный провинциальный доктор, с нормальной степенью образования и культурности, он соответственно жил, соответственно любил, соответственно прекрасному дару своему — писал. Имел тонкую наблюдательность в своем пределе — и грубоватые манеры, что тоже было нормально.
Даже болезнь его была какая-то «нормальная», и никто себе не представит, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке «священной» эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или — как Гоголь, постился бы десять дней, сжег «Чайку», «Вишневый сад», «Трех сестер», и лишь потом — умер».
Своей «нормальностью» он поражал и притягивал. Удивлял и озадачивал. «В Чехове было что-то новое, как будто совсем из другой жизни, из другой атмосферы», — писал Суворин. Он словно бы выпадал из специфической русской жизни. «Глядя на Чехова, я часто думал: вот какими будут русские, когда они окончательно сделаются европейцами», — признавался Меньшиков.
И хотя внешне Чехов напоминал «русского миловидного парня, какие повсюду встречаются в зажиточных крестьянских семьях» (П. А. Сергеенко), по характеру и типу поведения он ближе к «немцу». Семейное предание гласило, что Чеховы — обрусевшие выходцы из Богемии. Пусть всерьез эту версию никто не принимал, она удивительным образом сказалась в судьбе писателя. Во всяком случае знаменитая чеховская скрытность, его неизменное спокойствие и самообладание, деликатность, точность и аккуратность, склонность к систематизации и каталогизации, пристрастие к словарям и справочникам, неустанный практический интерес к жизни, ирония и скепсис, материализм, хозяйская жилка и расчет, наконец, его жизнерадостность, горячая любовь к России, русской водке и пирогам — все это скорее свойственно русским инородцам, чем коренным русакам.
Вот и собрание своих сочинений он доверил питерскому немцу Марксу, а не Суворину, с которым дружил много лет, у которого постоянно печатался и которого искренне любил, потому что «Маркс издает великолепно. Это будет солидное издание, а не мизерабельное» (письмо М. П. Чеховой 27 января 1899).
Даже в том, что он умер в Германии есть какая-то «фрейдовская» проговорка судьбы.
Чехов — единственный русский классик, не написавший ни одного романа. А ведь одно время так хотел! С самого начала писательской карьеры мечтал об этом. Только об этом. Примечательно, что первая появившаяся в печати юмореска (подписанная еще даже не «Чехонте», а просто «Антоша») называлась «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. д.». Многоопытный читатель, он уже тогда знал «формулу романа».
Впрочем, в первое время было не до того. Обстоятельства жизни побуждали писать много и коротко. Приходилось сочинять чуть ли не каждый день — шутки, анекдоты, сценки, разную юмористическую мелочь, обслуживая ради денег десятки непритязательных еженедельников и газет вроде «Стрекозы», «Будильника», «Зрителя», «Осколков»… Чехов рассказывал Суворину, что «один из своих рассказов написал в купальне, лежа на полу, карандашом, положил в конверт и бросил в почтовый ящик». Нет сомнений, что таких «творческих историй» за плечами «Антоши Чехонте» были сотни.
В 1886 году появилась первая значимая книга Чехова — сборник «Пестрые рассказы»: 87 текстов самого разного содержания. Это всё были литературные опусы «Антоши Чехонте» (его имя значилось на обложке), смешные и забавные, но сама книга выглядела весьма внушительно. Озадаченный рецензент писал: ««Пестрые рассказы» появились в виде тяжеловесного тома в восьмую долю листа большого формата, точь-в-точь исторические монографии или какая-нибудь академическая работа. Просто страшно в руки взять такой томище, а пробежавши два-три рассказца, не знаешь, куда деваться с огромною книжищей, — в карман не лезет, в дорожную сумку не впихаешь…» Какая ирония судьбы! Впрочем, как и повод для удовлетворения авторского самолюбия будущего романиста — не без гордости подписал сам себе один из экземпляров: «Уважаемому Антону Павловичу Чехову от автора».
В 1888 году Чехов получил Пушкинскую премию, но все равно не чувствовал себя полноценным писателем. Без романа-то! С задором писал Суворину: «Если опять говорить по совести, то я еще не начинал своей литерат<урной> деятельности, хотя и получил премию. У меня в голове томятся сюжеты для пяти повестей и двух романов. Один из романов задуман уже давно, так что некоторые из действующих лиц уже устарели, не успев быть написаны. В голове у меня целая армия людей, просящихся наружу и ждущих команды. Все, что я писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать и что писал бы с восторгом».
Почти полтора года Чехов пытается писать роман, то с энтузиазмом, то остывая и отступаясь. В марте 1889-го Чехов отчитывается Суворину: «Я пишу роман!! Пишу, пишу, и конца не видать моему писанию. Начал его, т. е. роман, сначала, сильно исправив и сократив то, что уже было написано. Очертил уже ясно девять физиономий. Какая интрига! Назвал я его так: «Рассказы из жизни моих друзей», и нишу его в форме отдельных законченных рассказов, тесно связанных между собою общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие. Не думайте, что роман будет состоять из клочьев. Нет, он будет настоящий роман, целое тело, где каждое лицо будет органически необходимо».
По весне даже показалось, что финал близок. «В ноябре привезу в Питер продавать свой роман», — пишет он 14 мая А. Н. Плещееву и добавляет: «Продам и уеду за границу, где, а la Худеков, задам банкет Лиге патриотов и угощу завтраком дон Карлоса, о чем, конечно, будет в газетах специальная телеграмма». Но уже летом энтузиазм Чехова сникает, а потом и вовсе сходит на нет. Более серьезных попыток писать роман Чехов уже не предпринимал.
«Широкая рама как будто ему не давалась, и он бросал начатые главы, — вспоминал Суворин. — Одно время он все хотел взять форму «Мертвых душ», то есть поставить своего героя в положение Чичикова, который разъезжает по России и знакомится с ее представителями. Несколько раз он развивал предо мною широкую тему романа с полуфантастическим героем, который живет целый век и участвует во всех событиях XIX столетия». Но замыслы так и остались втуне.
Не состоялась и диссертация, которая тоже была задумана с размахом: «Врачебное дело в России».
В поисках эпоса Чехов предпринял кругосветное путешествие через Сахалин и Цейлон — земные воплощения ада и рая. Он преодолел тысячи верст, повидал тысячи лиц, вобрал в свою душу тысячи людских судеб. Покидая Сахалин, Чехов писал Суворину: «…Я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной». Он совершил самый настоящий подвиг и сам стал героем эпоса. А роман не давался.
По итогам поездки написал пространный очерк «Остров Сахалин». Вложил в него всю душу. Трудился несколько лет. Тщательно, терпеливо, с бережной ответственностью. Хотел создать нечто, подобное той картине, которая поразила его воображение в Венеции, куда он поехал вскоре после возвращения из далекого странствия. Там, среди непрерывного карнавала красок, света и музыки, в одном из музейных залов, он вдруг оказался перед грандиозным и мучительным творением выдающегося венецианского живописца эпохи Возрождения Витторе Карпаччо — картиной «Распятие и умерщвление десяти тысяч душ на горе Арарат» (1515). В основе ее сюжета — история из первых времен христианства. Многофигурная композиция представляет собой энциклопедию человеческих страданий и мук. Несмотря на обилие персонажей, на картине отсутствует «массовка», все эпизоды индивидуализированы, каждый мученик предстает в полноте своей личной трагедии. Карпаччо, мастер живописного рассказа, на исходе творческой карьеры создал произведение, в котором нашел выразительную форму эпического обобщения. Точно сам Бог послал Чехову эту встречу с великим мастером — в помощь и наставление. Но, когда «Остров Сахалин» вышел из печати, один из друзей Чехова, движимый самыми добрыми и искренними намерениями, очень серьезно, без каких либо шуток, предложил представить ее в ученый совет университета в качестве диссертации!
Вряд ли причина неуспеха Чехова-романиста кроется только в особенностях его писательского дара, как считают некоторые исследователи. Чуткий и честный художник, сделавший все мыслимое и немыслимое для реализации своего предназначения, он явился в тот исторический час России, когда плоть ее социального мира стремительно дробилась на осколки частных дел и индивидуальных поступков, когда у ее граждан, утративших регламент прежних практик рабовладельческого строя, с тал формироваться новый опыт личной жизни, когда масштаб гражданской ответственности стал измеряться не былинными мерками, а пунктами судебного кодекса. Устав сменял устои — нормы корректировали традицию. Роман русской жизни распадался на отдельные эпизоды. Чтобы жить дальше, расти и развиваться, нужно было внимательно вглядеться в происходящее, уловить суть событий, рассмотреть все детали и подробности, найти нужные слова. Этот труд и принял на себя Чехов.
Отрекшись от заветной участи романиста, он писал небольшие истории, брал сюжеты порой совсем незначительные, изображал людей отнюдь не выдающихся, в пьесах выводил на подмостки персонажей драматургически недееспособных, точно по ошибке переступивших рампу и расположившихся по рассеянности на сцене, а не в зрительном зале или даже за стойкой буфета. С тихой, добродушной, но и слегка отстраненной улыбкой, писал о дворниках, становых, профессорах, дачниках, дамах с собачками и без, «попрыгуньях», «душечках», уездных лекарях и учителях, талантах и поклонниках — о жизни заурядной, банальной, скучной. Перебирал мелочи русской повседневности, описывая, фиксируя, наблюдая, словно заполняя одну «историю болезни» за другой — по-врачебному профессионально и кратко[1].
Работая как бы «скрытой камерой», заставая своих современников в самых неожиданных местах, заделами обыденными и не предназначенными для посторонних глаз, со словами и мыслями, лишенными гражданского величия и даже простой общественной значимости, без маски приличия и грима социальности, Чехов создал масштабную панораму русского мира в период «смены вех» и внутреннего переустройства. «Бесчисленные рассказы его только кажутся отдельными; вместе взятые, они сливаются в широкую и живую картину, в самодвижение русской жизни, как она есть», — писал в некрологе Меньшиков.
Целостность личности Чехова связала воедино и весь созданный им мир его «пестрых рассказов». В этих непритязательных на первый взгляд произведениях он более чем в каком-либо романе запечатлел российскую действительность конца XIX века во всей ее полноте и многообразии, в деталях точных и конкретных, в ситуациях характерных и жизненных, в обстоятельствах реального исторического времени. Его «собранье пестрых глав» стало новой редакцией «энциклопедии русской жизни». Без глянца.
В тридцати, как оказалось, томах[2].
Павел Фокин
Личность
Облик
Иван Алексеевич Бунин (1870–1953), поэт, прозаик, мемуарист, лауреат Нобелевской премии по литературе:
У Чехова каждый год менялось лицо.
Петр Алексеевич Сергеенко (1854–1930), беллетрист и публицист, одноклассник Чехова по таганрогской гимназии:
Семидесятые годы. Таганрогская гимназия. Большая, до ослепительности выбеленная классная комната. В классе точно пчелиный рой. Ожидают грозу 1-го класса — учителя арифметики, известного под кличкой «китайского мандарина». У полуоткрытой двери с круглым окошечком стоит небольшого роста плотный, хорошо упитанный мальчик с низко-остриженной головой и бледным лунообразным, пухлым, как булка, лицом. Он стоит с следами мела на синем мундире и флегматически ухмыляется. Кругом него проносятся бури и страсти. А он стоит около двери, несколько выпятив свое откормленное брюшко с отстегнувшейся пуговицей, и ухмыляется. На черной классной доске появляется вольнодумная фраза по адресу «китайского мандарина». Рыхлый мальчик вялой походкой подходит к доске, флегматически смахивает влажной губкой вольнодумную фразу с доски. Но ухмыляющаяся улыбка все-таки остается на губах. Точно она вцепилась в его белое пухлое лицо, а ему недосуг отцепить ее.
Александр Леонидович Вишневский (наст. фам. Вишневецкий; 1861–1943), артист Московского Художественного театра с 1898 года. В пьесах Чехова исполнял роли: Дорна в — Чайке», Войницкого в «Дяде Ване», Кулыгина в «Трех сестрах». Соученик Чехова по таганрогской гимназии:
Помню тогдашний внешний облик Чехова: не сходившийся по бортам гимназический мундир и какого-нибудь неожиданного цвета брюки.
Михаил Михайлович Андреев-Туркин (1868-?), краевед, биограф Чехова:
В старших классах гимназии, по описаниям товарищей одноклассников Чехова, А.П. был несколько выше среднего роста, шатен, с широким лицом, с вдумчивыми, глубоко сидящими глазами, широким, прекрасной формы белым лбом, с волосами, причесанными в скобку, «он напоминал своей скромностью девушку, постоянно о чем-то размышляющую и недовольную, когда прерывали это размышление».
Петр Алексеевич Сергеенко:
В 1884-м г… будучи осенью проездом в Москве, <…> едем с товарищем к Антоше Чехонте. <…> Антон Чехов был неузнаваем. <…> Передо мною стоял высокий, стройный юноша с веселым, открытым и необыкновенно симпатичным лицом. Легкий пушок темнел на его верхней губе. Целая волна шелковистых волос, поднявшись у лба, закругленным изгибом уходила назад с слегка раздвинутым пробором почти на середине головы, что придавало Чехову характер русского миловидного парня, какие повсюду встречаются в зажиточных крестьянских семьях.
Константин Алексеевич Коровин (1861–1939), художник, писатель, мемуарист:
Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие, — от него как бы исходили флюиды сердечности и защиты… Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе, и поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души.
Иван Леонтьевич Щеглов (наст. фам. Леонтьев; 1856–1911), писатель, близкий знакомый Чехова, многолетний корреспондент Чехова:
(1887) Передо мной стоял высокий стройный юноша, одетый очень невзыскательно, по-провинциальному, с лицом открытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку.
Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858–1943) — драматург, прозаик, режиссер, один из создателей Московского Художественного театра:
Его можно было назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно вьющиеся, заброшенные назад каштановые волосы, небольшая бородка и усы.
Держался он скромно, но без излишней застенчивости; жест сдержанный.
Николай Михайлович Ежов (1862–1941), писатель, журналист, фельетонист газеты «Новое время», товарищ и корреспондент А. П. Чехова:
Это было как будто вчера: в 1888 году, приехав в Москву из далекой провинции, <…> я познакомился с А. П. Чеховым, молодым человеком с широкими плечами, высоким и стройным. Большие, волнистые темно-русые волосы красиво выделяли его задумчивое лицо с небольшой бородкой и усами. Когда Чехов смеялся, его губы улыбались как-то особенно, ласково и юмористически. Светло-карие глаза его, прекрасные и мечтательные, освещали все лицо. Это были глаза, похожие на копейки, как у героини его первого рассказа в «Новом времени» — «Панихида». И когда Чехов шутил, высмеивал кого-нибудь, карикатурно изображал, его глаза кротко глядели на вас, и этот добрый взгляд говорил, что в словах юмориста нет и тени злобы и желчи.
Максим Горький (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков. 1868–1936), прозаик, драматург, поэт, литературный критик, общественный деятель. Один из учредителей книгоиздательского Товарищества «Знание»:
Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы мог еще смеяться так — скажу — «духовно».
Петр Алексеевич Сергеенко:
Припоминая теперь наиболее типическое в Чехове, память моя постоянно останавливается на его улыбке, на его милой, юмористической улыбке — этом развевающемся флаге над живою душою человека. Почти постоянно скользящая улыбка на губах Чехова была наиболее яркой приметой его личности. И кто хотел бы написать хороший портрет Чехова, минуя его характерную улыбку, тот не написал бы хорошего портрета Чехова.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Его же улыбка <…> была совсем особенная. Она сразу, быстро появлялась и так же быстро исчезала. Широкая, открытая, всем лицом, искренняя, но всегда накоротке. Точно человек спохватывался, что, пожалуй, по этому поводу дольше улыбаться и не следует.
Это у Чехова было на всю жизнь. И было это фамильное. Такая же манера улыбаться была у его матери, у сестры и, в особенности, у брага Ивана.
Лидия Алексеевна Авилова (урожд. Страхова, 1864–1943), писательница, знакомая и корреспондентка А. П. Чехова:
Я заметила, что глаза у Чехова с внешней стороны точно с прищипочкой, а крахмальный воротник хомутом и галстук некрасивый.
Александр Иванович Куприн (1870–1938), прозаик, журналист:
Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А.П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков — словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А.П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот — удивительно, — каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.
Обращал внимание в наружности А.П. его лоб — широкий, белый и чистый, прекрасной формы; лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека — у Толстого.
Исаак Наумович Альтшуллер (1870–1943), врач, специалист по туберкулезу. Один из основателей Международной лиги для борьбы с туберкулезом. В течение многих лет жил в Ялте; лечил Чехова и Л. Н. Толстого:
Он тогда еще имел довольно бодрый вид и выглядел, пожалуй, не старше своих тридцати восьми лет, был худ и, несмотря на то, что ходил несколько сгорбившись, в общем представлял стройную фигуру. Только намечавшиеся уже складки у глаз и углов рта, порой утомленные глаза, а главное, на наш врачебный глаз, заметная одышка, особенно при подъемах, обусловленная этой одышкой степенная, медленная походка и предательский кашель говорили о наличности недуга.
Федор Дмитриевич Батюшков (1857–1920), филолог, литературный критик, соредактор журнала «Мир Божий»:
(1901) Наружность его много раз описывали. Я помню, меня поразила только одна черта — высокий рост, более высокий, чем я представлял себе. Затем покоряли глаза и удивительно приятный тембр голоса. Болезнь чувствовалась в морщинах, в землистом цвете лица, в чем-то потухающем за первым оживлением.
Виктор Петрович Тройнов (1876–1948), инженер-экономист, служивший у С. Т. Морозова, и литератор:
Зиму 1903–1904 годов Чехов провел в Москве. Он неохотно и как бы мимоходом говорил о своей болезни. Но то, что он скрывал в разговоре, предательски выдавал его внешний вид. Лицо осунулось, поблекло, на лбу залегли резкие морщинки. Заметно тронула и седина.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник (1874–1952), драматург, прозаик, переводчик, актриса, мемуаристка. В 1892–1893 годах выступала на сцене театра Корша в Москве. Публикации в газетах и журналах «Артист», «Русские ведомости», «Русская мысль», «Северный Курьер» и др. Близкая знакомая Чехова:
Я изумилась происшедшей с ним перемене. Бледный, землистый, с ввалившимися щеками — он совсем не похож был на прежнего А.П. Как-то стал точно ниже ростом и меньше. Трудно было поверить, что он живет в Ялте: ведь Это должно было поддержать его здоровье: все говорили, что в его возрасте болезнь эта уже не так опасна — «после сорока лет от чахотки не умирают», — утешали окружающие его близких. Но никакой поправки в нем не чувствовалось. Он горбился, зябко кутался в какой-то плед и то и дело подносил к губам баночку для сплевывания мокроты.
Сергеи Терентьевич Семенов (1868–1922), писатель:
Последний раз я видел А.П. зимой, в год его смерти, в Москве. <…> У Антона Павловича недуг был в полном развитии. Внешний вид его был вид страдальца. Глядя на него, как-то не верилось, что это тот прежний Чехов, которого я раньше встречал. Прежде всего поражала его худоба. У него совсем не было груди. Костюм висел на нем, как на вешалке.
Зинаида Григорьевна Морозова (1867–1947), вторая жена С. Т. Морозова:
Антон Павлович сидел на краешке тахты <…>. Я как раз проходила мимо. Мне бросилась в глаза унылая фигура Антона Павловича. Ноги были беспомощно сложены, они были так худы и с такими острыми коленями, что но ним одним можно было судить о болезни Антона Павловича.
Исаак Наумович Альтшуллер:
В этом сыне мелкого торговца, выросшем в нужде, было много природного аристократизма не только душевного, но и внешнего, и от всей его фигуры веяло благородством и изяществом.
Иван Алексеевич Бунин:
Руки у него были большие, сухие, приятные.
Характер
Игнатий Николаевич Потапенко (1856–1929), прозаик, драматург; товарищ Чехова:
Душа его была соткана из какого-то отборного материала, стойкого и не поддающегося разложению от влияния среды. Она умела вбирать в себя все, что было в ней характерного, и из этого создавать свой мир — чеховский.
Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912), издатель и книгопродавец, журналисту драматург, публицист, театральный деятель, библиофил. Редактор-издатель газеты «Новое время». Автор издательских проектов «Дешевая библиотека» (издания классики), «Вся Москва» и «Весь Петербург» (ежегодные справочные издания). В 1895 году открыл в Петербурге Малый драматический театр. Многолетний конфидент А. П. Чехова:
Когда болезнь его еще не обнаруживалась, он отличался необыкновенной жизнерадостностью, жаждою жить и радоваться. Хотя первая книжка его «Сумерки» и вторая «Хмурые» уже показывали, какой строй получают его произведения, но он не обнаруживал никакой меланхолии, ни малейшей склонности к пессимизму. Все живое, волнующее и волнующееся, все яркое, веселое, поэтическое он любил и в природе, и в жизни.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Душа эта была какая-то необыкновенно правильная. Бывают счастливцы с изумительно симметрическим сложением тела. Все у них в идеальной пропорции. Такое тело производит впечатление чарующей красоты.
У Чехова же была такая душа. Все было в ней — и достоинства, и слабости. Если бы ей были свойственны только одни положительные качества, она была бы так же одностороння, как душа, состоящая из одних только пороков.
В действительности же в ней наряду с великодушием и скромностью жили и гордость, и тщеславие, рядом с справедливостью — пристрастие. Но он умел, как истинный мудрец, управлять своими слабостями, и оттого они у него приобретали характер достоинств.
Зинаида Николаевна Гиппиус (в замуж. Мережковская; 1869–1945), поэтесса, литературный критик, прозаик, драматург, публицист, мемуарист. В 1899–1901 годах сотрудник журнала «Мир искусства». Организатор и член Религиозно-философских собраний в Петербурге (1901 1904), фактический соредактор журнала «Новый путь» (1903–1904):
Чехов, — мне, по крайней мере, — казался природно без лет.
Мы часто встречались с ним в течение всех последующих годов, и при каждой встрече — он был тот же, не старше и не моложе <…>. Впечатление упорное, яркое, — оно потом очень помогло мне разобраться в Чехове как человеке и художнике. В нем много черт любопытных, исключительно своеобразных. Но они так тонки, так незаметно уходят в глубину его существа, что схватить и понять их нет возможности, если не понять основы его существа. А эта основа — статичность.
В Чехове был гений неподвижности. Не мертвого окостенения: нет, он был живой человек, и даже редко одаренный. Только все дары ему были отпущены сразу. И один (если и это дар) был дар не двигаться во времени.
Всякая личность (в философском понятии) — ограниченность. Но у личности в движении — границы волнующиеся, зыбкие, упругие и растяжимые. У Чехова они тверды, раз навсегда определены. Что внутри есть — то есть; чего нет — того и не будет. Ко всякому движению он относится как к чему-то внешнему и лишь как внешнее его понимает. Для иного понимания надо иметь движение внутри. Да и все внешнее надо уметь впускать в свой круг и связывать с внутренним в узлы. Чехов не знал узлов. И был такой, каким был, — сразу. Не возрастая — естественно был он чужд и «возрасту». Родился сорокалетним — и умер сорокалетним, как бы в собственном зените.
«Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента», — сказал про него однажды С. Андреевский. Да, именно — момента. Времени у Чехова нет, а момент очень есть. Слово же «нормальный» — точно для Чехова придумано. У него и наружность «нормальная», по нем, по моменту. Нормальный провинциальный доктор, с нормальной степенью образования и культурности, он соответственно жил, соответственно любил, соответственно прекрасному дару своему — писал. Имел тонкую наблюдательность в своем пределе — и грубоватые манеры, что тоже было нормально. Даже болезнь его была какая-то «нормальная», и никто себе не представит, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке «священной» эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или — как Гоголь, постился бы десять дней, сжег «Чайку», «Вишневый сад», «Трех сестер», и лишь потом — умер.
<…> Чехов, уже по одной цельности своей, — человек замечательный.
Петр Алексеевич Сергеенко:
Прежде всего в Чехове никогда не было тех динамитных элементов, которые называются страстями и, захватывая человека, как налетевший ураган, разрушают иногда в нем драгоценную работу многих годов.
Чехов никогда не был ни честолюбцем, ни игроком, ни рабом спорта, ни игралищем женской любви. В его природе было нечто каратаевское, если не вполне круглое, то и без острых выступов, за которые могла бы уцепиться какая-нибудь страсть.
Александр (Авраам) Рафаилович Кугель (псевд. Homo Novus; 1864–1928). театральный и литературный критик, публицист, драматург, режиссер:
Он был, т. е., вернее, казался, веселым человеком и даже компанейским. Болтал вздор, говорил комплименты женщинам, умел слушать. В глазах у него, до того как его сватал недуг, были острые, живые, веселые огоньки. Собственно говоря, в нем всегда жили две души: Антоша Чехонте и Антон Чехов, и, как у Фауста, «die eine von der Andern will nicht sich trennen»… Чувство юмора всегда холодновато и но существу объективно. Для того, чтобы чувствовать юмористическое настроение, надо отдалить от себя объект на некоторое расстояние, смотреть на него косым взглядом. Чувствительность, а, особенно, страстность убивает юмористическое отношение. Не следует ни очень любить, ни сильно ненавидеть, а надо, скажем смело, оставаться в глубине глубин равнодушным к предмету юмористического наблюдения. <…> В Чехове я не примечал страстного отношения к какому-либо предмету. Он трунил, подсмеивался в жизни, как трунит и подсмеивается в своих письмах.
Максим Горький:
В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Ему была свойственна какая-то особенная гордость совести: все делать как следует. И он никогда не брался за то, чего не мог сделать наилучшим образом. Ведь вот, например, он всегда мечтал о том, чтобы иметь публицистические статьи. Об этом он упоминает и в своих письмах. Но он не писал их, потому что они ему не удавались. То есть они были бы не хуже всего того, что пишется, но это его не удовлетворяло.
Антон Павлович Чехов. В передаче В. А. Фаусека:
Я страшно ревнив к своей литературной работе и никого к сотрудничеству с собою и близко не подпущу. Я дорожу каждым написанным мною словом и не намерен ни с кем делить ни труда, ни славы. Я люблю успех. Люблю видеть успех других. Люблю пользоваться им сам.
Алексей Сергеевич Суворин:
К успеху своих произведений он был очень чувствителен и при своей искренности и прямоте не мог этого скрывать.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Чехов был необыкновенно аккуратен, и у него всегда царил образцовый порядок. Все раз навсегда на определенном месте, все годы и в том же порядке на письменном столе стояли и оригинальные подсвечники, и чернильницы, и слоны, и «Вся Москва» Суворина, и коробочка с мятными лепешками, и всякие другие мелочи. Этот застывший порядок в очень приятной и уютной комнате с специально написанным для камина этюдом Левитана и с другой картиной этого художника в глубокой нише за письменным столом шел даже в ущерб уюту, внося некоторый холодок.
Иван Алексеевич Бунип:
Никогда не видал его в халате, всегда он был одет аккуратно и чисто. У него была педантическая любовь к порядку — наследственная, как настойчивость, такая же наследственная, как и наставительность.
Илья Ефимович Репин (1844–1930), живописец, педагог, мемуарист:
Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выспренних увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества.
Мне он казался несокрушимым силачом по складу тела и души.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Воля чеховская была большая сила, он берег ее и редко прибегал к ее содействию, и иногда ему доставляло удовольствие обходиться без нее, переживать колебания, быть даже слабым. <…> Но когда он находил, что необходимо призвать волю, — она являлась и никогда не обманывала его. Решить у него значило — сделать.
Иван Леонтьевич Щеглов:
Чехов удивительно умел владеть собой.
Петр Алексеевич Сергеенко:
Здесь, может быть, уместным будет сказать, что Чехов никогда, ни в детстве, ни в зрелом возрасте, не отличался ни теми восторженно-нежными родственными чувствами, ни теми сердечными излияниями, которые он изображал в своих произведениях с такой трогательной прелестью. Чехов почти всегда был «человеком в футляре».
Федор Федорович Фидлер (1859–1917), педагог, переводчик (на нем. язык) произведений Кольцова, Никитина, Надета, Фета, Л. К. Толстого и др.), энтузиаст-коллекционер, создатель частного литературного музея. Составитель книги «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей» (М., 1911). Из дневника:
12 октября 1908. «А Чехова ты хорошо знал?» — спросил я (Д. Н. Мамина-Сибиряка. — Сост.). «Хорошо? Нет. Его никто не знал хорошо. Все, писавшие о нем воспоминания, — лгут. Это был хитрый, лукавый человек. Если он говорил, что пойдет направо, то шел налево».
Лидия Карловна Федорова (1866–1937), жена писателя А. М. Федорова:
Я вспоминаю, как много позже, когда отношения между А.П. и мужем более определились, он неоднократно мне рассказывал, что никто даже из близких ему людей не видел Чехова, так сказать, «при открытых дверях».
Иван Алексеевич Бунин:
Я спрашивал Евгению Яковлевну (мать Чехова) и Марью Павловну:
— Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?
— Никогда в жизни. — твердо отвечали обе.
Мировоззрение
Александр Рафаилович Кугель:
Чехов не принадлежал ни к какому литературному кружку. Чехов был в «Нов. Времени», но он был там случайным гостем; он был в «Русск. Мысли», но появлялся и в «Нов. Времени»; он завсегдатайствовал у Суворина, а пьесу ставил в Александринке; Михайловский сурово упрекал его за отсутствие «мировоззрения», понимая под этим неуклюжим термином, переведенным с немецкого Weltanschauung, весьма определенный паспорт политической партии. Но его миросозерцание — и в этом была оригинальность и прелесть Чехова и его право на гораздо большее внимание, было в том, что он не имел никакого интеллигентского «миросозерцания», а жил, творил, порою увлекал и очаровывал.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Сумы, 18 мая 1889 г.:
И анатомия, и изящная словесность имеют одинаково знатное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага — черта, и воевать им положительно не из-за чего. Борьбы за существование у них нет. Если человек знает учение о кровообращении, то он богат; если к тому же выучивает еще историю религии и романс «Я помню чудное мгновение», то становится не беднее, а богаче. — стало быть, мы имеем дело только с плюсами. Потому-то гении никогда не воевали, и в Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естественник.
Максим Максимович Ковалевский (1851–1916), юрист, историк и социолог:
Нелегко было вызвать Чехова на сколько-нибудь продолжительный разговор, который позволил бы составить себе понятие об его отношении к русской действительности. Но по временам это мне все же удавалось. Я вынес из этих бесед убеждение, что Чехов считал и неизбежным и желательным исчезновение из деревни как дворянина-помещика, так и скупившего его землю по дешевой цене разночинца. <…> Он желал одного: чтобы земля досталась крестьянам, и не в мирскую, а в личную собственность, чтобы крестьяне жили привольно, в трезвости и материальном довольстве, чтобы в их среде было много школ и правильно поставлена была медицинская помощь.
Чехова мало интересовали вопросы о преимуществе республики или монархии, федеративного устройства и парламентаризма. Но он желал видеть Россию свободной, чуждой всякой национальной вражды, а крестьянство — уравненным в правах с прочими сословиями, призванным к земской деятельности и к представительству в законодательном собрании. Широкая терпимость к различным религиозным толкам, возможность для печати, ничем и никем не стесняемой, оценивать свободно текущие события, свобода сходок, ассоциаций, митингов при полном равенстве всех перед законом и судом — таковы были необходимые условия того лучшего будущего, к которому он сознательно стремился и близкого наступления которого он ждал.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Ялта, 24 марта 1894 г.:
Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует, расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч.
Борис Александрович Лазаревский (1871–1936). писатель, мемуарист:
К сознательному злу Чехов относился с брезгливостью. Чистый душою, он не понимал психологии развратников, и нет в его произведениях ни одного такого типа. Но всякое искреннее, пылкое чувство он оправдывал.
Александр Иванович Куприн:
Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, — надо было видеть, как сурово и печально с двигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.
Максим Горький:
Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А.П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:
— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!
Александр Иванович Куприн:
Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления вроде убийства, воровства и прелюбодеяния становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.
Творчество
Игнатий Николаевич Потапенко:
Мне кажется, что он весь был — творчество. Каждое мгновение, с той минуты, как он, проснувшись утром, открыты глаза, и до того момента, как ночью смыкались его веки, он творил непрестанно. Может быть, это была подсознательная творческая работа, но она была, и он это чувствовал.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Сумы, 1 апреля 1890 г.:
Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам.
Максим Максимович Ковалевский:
Он любил работу писателя и относился к ней с величайшей серьезностью, изучая разносторонне подымаемые им темы, знакомясь с жизнью не из книг, а из непосредственного сношения с людьми.
Николай Михайлович Ежов:
Раз, придя к нему, я увидел Чехова сквозь окно: он сидел и что-то с увлечением писал. Его голова качалась, губы шевелились, рука быстро бегала, чертя пером по бумаге, и легкая краска выступила на по обыкновению бледных щеках.
Александр Семенович Лазарев (псевд. А. Грузинский; 1861–1927). писатель, сотрудничал в журналах и газетах «Осколки», «Будильник «Петербургская газета», «Новое время», «Нива» и др.:
Кроме первых лет юмористического скорописания, все остальные годы Чехов творил очень медленно, вдумчиво, чеканя каждую фразу. Но, работая медленно и вдумчиво. Чехов никогда не делал из своей работы ни таинства, ни священнодействия, никогда его творчество не требовало уединения в кабинете, опущенных штор, закрытых дверей. У Чехова слишком много было внутренней творческой силы и той мудрости, о которой говорит тот же Потапенко, — да и не один он, — чтобы обставлять работу свою такими побрякушками.
Не думаю, чтобы я представлял исключение из общего правила, но при мне Чеховым были написаны многие рассказы в «Пет. газету» (между прочим, «Сирена»), некоторые «субботники» в «Новое время», многие страницы «Степи». <…> Не делал секрета Чехов ни из своих тем, ни даже из своих записных книжек.
Однажды, летним вечером, по дороге с вокзала в Бабкино и Новый Иерусалим, он рассказал мне сюжет задуманного им романа, который, увы, никогда не был написан. А в другой раз, сидя в кабинете корнеевского дома, я спросил у Чехова о тонкой тетрадке.
— Что это?
Чехов ответил:
— Записная книжка. Заведите себе такую же. Если интересно, можете просмотреть.
Это был прообраз записных книжек Чехова, позже появившихся в печати; книжечка была крайне миниатюрных размеров, помнится самодельная, из писчей бумаги; в ней очень мелким почерком были записаны темы, остроумные мысли, афоризмы, приходившие Чехову в голову. Одну заметку об особенном лае рыжих собак — «все рыжие собаки лают тенором» — я вскоре встретил на последних страницах «Степи».
Родион Абрамович Менделевич (1867–1927), поэт, сотрудник журналов «Осколки», «Будильник», газеты «Новости дня» и др.:
Писал он («Степь». — Сост.) на больших листах писчей бумаги, писал очень медленно, отрывался часто от работы, меряя большими шагами кабинет. Помню такой характерный эпизод. Прихожу как-то вечером к А.П., смотрю, на письменном столе лист исписан только наполовину, а сам А.П., засунув руки в карманы, шагает по кабинету.
— Вот никак не могу схватить картину грозы. Застрял на этом месте.
Через неделю я опять был у него, и опять тот же наполовину исписанный лист на столе.
— Что же, написали грозу? — спрашиваю у А.П.
— Как видите, нет еще. Никак еще подходящих красок не найду.
И все, кто читал «Степь», знают теперь, какие «подходящие краски» нашел Антон Павлович для описания грозы в степи.
Михаил Осипович Меньшиков (1859–1918), публицист, литературный критик, постоянный сотрудник газеты «Новое время», знакомый и корреспондент А. П. Чехова:
Работал он с тщательностью ювелира. Его черновик я принял однажды за нотный лист — до такой степени часты были зачеркнутые жирно места. Он кропотливо отделывал свой чудный слог и любил, чтобы было «густо» написано: немного, но многое. <…> «Будь я миллионер. — говаривал он, — я бы писал вещи с ладонь величиной».
Александр Семенович Лазарев:
«Искусство писать. — говорил он мне, — состоит, собственно, не в искусстве писать, а в искусстве… вычеркивать плохо написанное». <…> В одном письме ко мне Чехов писал: «Стройте фразу, делайте ее сочней, жирней… Надо рассказ писать 5–6 дней и думать о нем все время, пока пишешь, иначе фразы никогда себе не выработаете. Надо, чтобы каждая фраза прежде, чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу дня два и обмаслилась. Само собой разумеется, что сам я по лености не придерживаюсь сего правила, но вам, молодым, рекомендую его тем более охотно, что испытал не раз на себе самом его целебные свойства и знаю, что рукописи всех настоящих мастеров испачканы, перечеркнуты вдоль и поперек, потерты и покрыты латками».
Иван Алексеевич Бунин:
И, помолчав, без видимой связи прибавил: — По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем… И короче, как можно короче надо писать.
Сергей Николаевич Щукин (1872–1931), учитель ялтинской церковной школы:
Он встал с моей тетрадью в руках и перегнул ее пополам.
— Начинающие писатели часто должны делать так: перегните пополам и разорвите первую половину.
Я посмотрел на него с недоумением.
— Я говорю серьезно, — сказал Чехов. — Обыкновенно начинающие стараются, как говорят, «вводить в рассказ» и половину напишут лишнего. А надо писать, чтобы читатель без пояснений автора, из хода рассказа, из разговоров действующих лиц, из их поступков понял, в чем дело. Попробуйте оторвать первую половину вашего рассказа, вам придется только немного изменить начало второй, и рассказ будет совершенно понятен. И вообще не надо ничего лишнего. Все, что не имеет прямого отношения к рассказу, все надо беспощадно выбрасывать. Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, не должно и висеть. Потом, — говорил он, — надо делать рассказ живее, разговоры прерывать действиями. У вас Иван Иванович любит говорить. Это ничего, но он не должен говорить сплошь по целой странице. Немного поговорил, а потом пишите: «Иван Иванович встал, прошелся по комнате, закурил, постоял у окна».
— Вообще следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Я не люблю слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их.
Григорий Иванович Россолимо (1860–1928), профессор-невропатолог, товарищ Чехова по Московскому университету:
А.П. делился со мной наблюдениями над своим творческим процессом. Меня особенно поразило то, что он подчас, заканчивая абзац или главу, особенно старательно подбирал последние слова по их звучанию, ища как бы музыкального завершения предложения.
Алексей Иванович Яковлев (1878–1951), студент-историк, впоследствии (после революции) профессор Московского университета, член-корреспондент Академии наук:
— А.П., как вы пишете? Так же по многу раз переписываете, как Толстой, или нет?
А.П. улыбнулся.
— Обыкновенно пишу начерно и переписываю набело один раз. Но я подолгу готовлю и обдумываю каждый рассказ, стараюсь представить себе все подробности заранее. Прямо, с действительности, кажется, не списываю, но иногда невольно выходит так, что можно угадать пейзаж или местность, нечаянно описанные…
Василий Иванович Немирович-Данченко (1844/1845 по новому стилю-1936), прозаик, поэт, журналист, военный корреспондент: Я раз его видел за работой.
В Ницце, в русском пансионе, наши комнаты были рядом.
Вечером я вернулся и вспомнил, что он просил меня заглянуть к нему. У него все тонуло во мраке. Только и было свету, что под зеленым абажуром небольшой лампы посредине. Начатый лист бумаги. Всматриваюсь: в потемках, в углу, едва мерещится Антон Павлович.
— Сейчас…
Встал, подошел к столу, вычеркнул строчку и опять в свой угол.
Я хотел уйти.
— Погодите.
Две-три минуты, опять Чехов у стола, наскоро набросал что-то…
— Сегодня трудно пишется… Вообще, писать не легко… Ужасно легко думать, что именно напишешь. Кажется всего и остается переписать на бумагу готовое. А тут-то и пойдет московская мостовая. О каждый булыжник спотыкаешься. А иногда вдруг, как по рельсам, целые страницы!.. По-старому, пожалуй, в вдохновение бы поверил. Только такие страницы не очень удачны выходят.
Александр Иванович Куприн:
В последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по нескольку лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали крутом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ, — говорил он как-то, — то уже не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».
Борис Александрович Лазаревский:
Я облокотился на его письменный стол, на котором лежала какая-то рукопись.
— Меня интересует, много ли вы перечеркиваете, когда пишете. Можно посмотреть? — спросил я.
— Можно.
Я подошел к столу с другого конца. Обыкновенный лист писчей бумаги был унизан ровными, мелкими, широко стоящими одна от другой строчками. Слов десять было зачеркнуто очень твердыми, правильными линиями, так что под ними уже ничего нельзя было прочесть.
Александр Иванович Куприн:
Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда — небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.
Михаил Осипович Меньшиков:
Художественная память его была невероятна. Чувствовалось, что он наблюдает постоянно и ненасытно: как фотографические аппараты, его органы чувств мгновенно закрепляли в памяти редкие сцены, выражения, факты, разговоры, краски, звуки, запахи. Нередко в разговоре он вынимал маленькую записную книжку и что-то отмечал: «это нужно запомнить».
Александр Иванович Куприн:
Я не хочу сказать, что он искал, подобно другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть часто против желания, в силу давно изощренной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.
Вячеслав Андреевич Фаусек (1862-?), журналист:
Как-то затеялся разговор о художественном творчестве, и я спросил Антона Павловича, какой психологии творчества подчиняется он сам? Пишет ли людей с натуры, или персонажи его рассказов являются результатом более сложных обобщений творческой мысли?
— Я никогда не пишу прямо с натуры! — ответил Антон Павлович.
— Впрочем, это не спасает меня как писателя от некоторых неожиданностей! — прибавил он. — Случается, что мои знакомые совершенно неосновательно узнают себя в героях моих рассказов и обижаются на меня!
Петр Алексеевич Сергеенко:
В памяти у меня осталось одно замечание Чехова. Когда я сказал ему, что, вероятно, Ялта даст ему новые краски для его работы, Чехов возразил:
— Я не могу описывать переживаемого мною. Я должен отойти от впечатления, чтобы изобразить его.
Александр Семенович Лазарев:
Среди писательских заветов Чехова восьмидесятых годов неизменным было предостережение против тенденциозности писаний. В те годы Чехов был страшным врагом тенденциозности и возвращался к этому вопросу с каким-то постоянным и странным упорством <…>. Каждый раз наш разговор на эту тему заканчивался фразой Чехова:
— И что бы там ни болтали, а ведь вечно лишь то, что художественно!
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Сумы, 30 мая 1888 г.:
Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм и т. п. Дело беллетриста изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о Боге или пессимизме. Художник должен быт», не судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен передать это» разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, т. е. читатели. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от не важных, уметь освещать фигуры и говорить их языком.
Щеглов-Леонтьев ставит мне в вину, что я кончил рассказ фразой: «Ничего не разберешь на этом свете!» По его мнению, художник-психолог должен разобрать, на то он психолог. Но я с ним не согласен. Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает; и чем она глупее, тем кажется шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва, 27 октября 1888 г.:
Что в его сфере нет вопросов, а всплошную одни только ответы, может говорить только тот, кто никогда не писал и не имел дела с образами. Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует — уж одни эти действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать. <…>
Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В «Анне Карениной» и в «Онегине» не решен ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, решают пусть присяжные, каждый на свой вкус.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Как-то, помню, по поводу одной моей повести он сказал мне:
— Все хорошо, художественно. Но вот, например, у вас сказано: «и она готова была благодарить судьбу, бедная девочка, за испытание, посланное ей». А надо, чтобы читатель, прочитав, что она за испытание благодарит судьбу, сам сказал бы: «бедная девочка»… или у вас: «трогательно было видеть эту картину» (как швея ухаживает за больной девушкой). А надо, чтобы читатель сам сказал бы: «какая трогательная картина…» Вообще: любите своих героев, но никогда не говорите об этом вслух!
Особенно советовал мне А.П. отделываться от «готовых слов» и штампов, вроде: «ночь тихо спускалась на землю», «причудливые очертания гор», «ледяные объятия тоски» и пр.
Владимир Николаевич Ладыженский (1859–1932), поэт, прозаик, журналист. Сотрудник журналов «Русская мысль», «Вестник Европы» и др. Земский деятель:
Писал и работал Чехов много. По этому поводу у него сложилось определенное убеждение, которое он мне не раз высказывал.
— Художник, — говорил он, — должен всегда работать, всегда обдумывать, потому что иначе он не может жить. Куда же денешься от мысли, от самого себя. Посмотри хоть на Некрасова: он написал огромную массу, если сосчитать позабытые теперь романы и журнальную работу, а у нас еще упрекают в многописании.
Владимир Александрович Поссе (1864–1940), журналист, редактор журнала «Жизнь».
Чехов говорил мне, что страдает от наплыва сюжетов, порождаемых впечатлениями зрительными и слуховыми. Сюжеты и фабулы слагались в его голове необычайно быстро.
Иван Алексеевич Бунин:
Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным. Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:
— Ровно сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работник! Хотите, парочку продам?
Алексей Сергеевич Суворин:
Фантазия его была прямо поразительная, если собрать все те мотивы и подробности быта, которые разбросаны в его произведениях. Одним он мучился — ему не давался роман, а он мечтал о нем и много раз за него принимался. Широкая рама как будто ему не давалась, и он бросал начатые главы. Одно время он все хотел взять форму «Мертвых душ», то есть поставить своего героя в положение Чичикова, который разъезжает по России и знакомится с ее представителями. Несколько раз он развивал передо мною широкую тему романа с полуфантастическим героем, который живет целый век и участвует во всех событиях XIX столетия.
Собеседник
Иван Алексеевич Бунин:
Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно — всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
17 января 1893. <…> Чехов говорил все время — живо, хотя бесстрастно, без какого бы то ни было лирического волнения, но все же не сухо.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Низкий бас с густым металлом; дикция настоящая русская, с оттенком чисто великорусского наречия; интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, уж конечно, без тени искусственности.
Михаил Егорович Плотов, учитель в селе Щеглятьеве, вблизи Мелихова:
Нельзя было не удивляться необыкновенной силе и образности, с какими он выражал свои мысли. Слушатель всецело находился под впечатлением как его мысли, так и красоты формы, в которую данная мысль выливалась. Экспромтом он говорил также легко, плавно, свободно и красиво, как и писал, в совершенстве владея искусством сказать многое в немногих словах.
Александр Семенович Лазарев:
В разговоре Чехова, как драгоценные камни, сверкали оригинальные сравнения, но, в общем, он говорил превосходным, правильным языком.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Длинных объяснений, долгих споров не любил. Это была какая-то особенная черта. Слушал внимательно, часто из любезности, но часто и с интересом. Сам же молчал, молчал до тех пор, пока не находил определения своей мысли, короткого, меткого и исчерпывающего. Скажет, улыбнется своей широкой летучей улыбкой и опять замолчит.
Владимир Николаевич Ладыженский:
Говорил он охотно, но больше отвечал, не произнося, так сказать, монологов. В его ответах проскальзывала иногда ирония, к которой я жадно прислушивался, и я подметил при этом одну особенность, так хорошо памятную знавшим А. П. Чехова: перед тем, как сказать что-нибудь значительно-остроумное, его глаза вспыхивали мгновенной веселостью, но только мгновенной. Эта веселость потухала так внезапно, как и появлялась, и острое замечание произносилось серьезным тоном, тем сильнее действовавшим на слушателя.
Александр Рафаилович Кугель:
Он всегда наблюдал, когда говорил, т. е. большую часть фраз в обыкновенной приятельской беседе произносил, как бы испытывая, какое они вызывают впечатление, и верно ли, что именно такое впечатление впоследствии они вызовут. Может быть, это выходило у него иначе при интимной беседе. При таких беседах мне с ним не приходилось присутствовать. У него, как известно, была большая записная книжка, куда он заносил все, что бросалось ему в глаза или внезапно приходило на ум, без всякого порядка и системы — как материал. И мне постоянно казалось, что когда он слушает, когда улыбается и бросает фразы, на которые ждет реплик, то все время заполняет свою книжку.
Александр Иванович Куприн:
Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Он терпеть не мог длинных теоретических бесед об искусстве <…>. Недолюбливал приятельские пересуды друг о друге, чем зачастую наполняются все беседы между литераторами. Но если и не находилось тем для разговоров, то он испытывал приятное ощущение даже в простой болтовне с людьми, принадлежащими к искусству.
Иван Алексеевич Бунин:
Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.
Борис Александрович Лазаревский:
Чуждый всякой полемики, он спорил очень мягко. Бывало, только и слышишь его ровный, чуть надтреснутый басок:
— Что вы, что вы, как можно! Полноте…
Иван Алексеевич Бунин:
Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался.
Петр Алексеевич Сергеенко:
Басовый тембр голоса, слегка только потускневший в последние годы, и студенческое словцо «понимаешь» остались у Чехова до последних дней.
Александр Семенович Лазарев:
Чехов любил обращение «батенька», любил слово «знаете».
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
8 февраля 1895. Вместо «ничуть», «ни следа» и т. п. Чехов употребляет выражение «ни хера».
Особенности поведения
Александр Иванович Куприн:
Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, — пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то.
Владимир Николаевич Ладыженский:
С Чеховым легко было и знакомиться и дружиться: до такой степени влекла к нему его простота, искренность и впечатление (я не умею иначе выразиться) чего-то светлого, что охватывало его собеседника.
Константин Алексеевич Коровин:
Антон Павлович был прост и естественен, он ничего из себя не делал, в нем не было ни тени рисовки или любования самим собою. Прирожденная скромность, особая мера, даже застенчивость — всегда были в Антоне Павловиче.
Александр Иванович Куприн:
Стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо сделается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление.
Владимир Александрович Поссе:
Был он тихий и ласковый. Ни капли рисовки. Умные глаза смотрели внимательно, но не назойливо. Грусть сменялась усмешкой.
Максим Горький:
Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
В общении был любезен, без малейшей слащавости, прост, я сказал бы: внутренне изящен. Но и с холодком. Например, встречаясь и пожимая вам руку, произносил «как поживаете» мимоходом, не дожидаясь ответа.
Иван Алексеевич Бунин:
Со всеми он был одинаков, какого бы ранга человек ни был.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Может быть, болезнь выработала в нем привычку, что он долго не сидел на одном месте. Во время обеда несколько раз вставал — или ходил по столовой. <…>
Он вспоминается у себя дома всегда так: ходит по комнате крупными шагами, медленно, немного поддавшись вперед. Молчал без стеснения, вовсе не находя нужным наполнять молчание ненужными словами. Часто улыбался, яркой, но быстрой улыбкой. Чтобы он громко и долго смеялся, я не слыхал. Всегда так: быстро и приветливо улыбнется и через мгновение опять серьезен.
Иван Алексеевич Бунин:
<…> Со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним. И всех неизменно держал на известном расстоянии от себя.
Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико.
Петр Алексеевич Сергеенко:
У него было много друзей. Но он не был ничьим другом. Его в сущности ни к кому не притягивало до забвения своего я.
Александр Семенович Лазарев:
При всей деликатности и мягкости Чехов умел спокойно, добродушно, но вместе с тем твердо ставить на свое место зарывавшихся лиц.
Александр Рафанлович Кутель:
Чехов был чрезвычайно самолюбив, и при этом самолюбив скрытно. Он прибегал к шуточкам, потому что боялся излияний. Как будут приняты излияния? А вдруг вызовут холод и отказ? Он был крайне мягок, деликатен и уступчив — мало того, ласков, когда чувствовал, что одаряет людей, что может одарить их бесспорным превосходством своего интеллекта.
Борис Александрович Лазаревский:
На умственное убожество Антон Павлович никогда не сердился, а скорее был склонен над ним подтрунить.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Чехов положительно любил, чтобы около него всегда было разговорно и весело. Но все-таки чтобы он мог бросить всех и уйти к себе в кабинет записать новую мысль, новый образ.
Александр Семенович Лазарев:
Чехов не терпел одиночества и уединялся только от несимпатичных ему людей, от людей назойливых и не представлявших для него интереса.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Сумы, 15 мая 1889 г.:
Я положительно не могу жить без гостей. Когда я один, мне почему-то становится страшно, точно я среди великого океана солистом плыву на утлой ладье.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Это была очень отметная черта в характере Антона Павловича: он любил, чтобы у него бывали. Даже если приходили к нему днем, когда он занимался, хотя и трудно ему было откладывать работу, часто спешную, он все-таки делал это охотно. Любил принимать людей, принадлежащих литературе, живописи, театру, безразлично — больших или маленьких. С нескрываемой холодностью встречал только чванных бездарностей, мнящих о себе тупиц, лиц подозрительных в политическом отношении, в смысле сыска.
Михаил Егорович Плотов:
Я уверен, что Антон Павлович никогда не волновался, не возмущался и не жалел о своих личных неудачах, как волновался и возмущался по поводу неудач маленьких людей, своих знакомых, особенно в тех случаях, когда к неудачам материального порядка присоединялись попытки умаления человеческого достоинства этих людей.
Александра Александровна Хотяинцева (1865–1942), художница, знакомая Чехова:
Писем Антон Павлович получал много, и сам писал их много, но уверял, что не любит писать писем.
— Некогда, видите, какой большой писательский бугор у меня на пальце? Кончаю один рассказ, сейчас же надо писать следующий… Трудно только заглавие придумать, и первые строки тоже трудно, а потом все само пишется… и зачем заглавия? Просто бы № 1, 2 и т. д.
Однажды, взглянув на адрес, написанный мной на конверте, он накинулся на меня:
— Вам не стыдно так неразборчиво писать адрес? Ведь вы затрудняете работу почтальона!
Я устыдилась и запомнила.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Когда Чехов был не в саду, когда не было посетителей, его всегда можно было застать в кабинете, и если не за письменным столом, то в глубоком кресле, сбоку от него. Он много времени проводил за чтением. Он получал и просматривал громадные количества газет, столичных и провинциальных. По прочтении часть газет он рассылал разным лицам, строго индивидуализируя. Ярославскую газету — очень им уважаемому священнику, северному уроженцу; а «Гражданин» отправлялся нераскрытым будущей ялтинской знаменитости, частному приставу Гвоздевичу. Ему приходилось много времени тратить на прочтение присылаемых ему рукописей. Кроме других толстых журналов, читал и «Исторический вестник», и «Вестник иностранной литературы», и орган религиозно-философского общества «Новый путь». Часто читал и классиков, следил внимательно за вновь появляющейся беллетристикой.
Александр Иванович Куприн:
Читал он удивительно много и всегда все помнил, и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнения, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому, что знал, так жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая критика и какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ. Чудесно написано», — говорил он в таких случаях грубоватым и задушевным голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее.
Но он мог часами просиживать в кресле, без газет и без книг, заложив нога на ногу, закинув назад голову, часто с закрытыми глазами. И кто знает, каким думам он предавался в уединенной тишине своего кабинета, никем и ничем не отвлекаемый. Я уверен, что не всегда и не только о литературе и о житейском.
Антон Павлович Чехов. Из письма Л. С. Мизиновой. Ялта, 24 марта 1894 г.:
Я того мнения, что истинное счастье невозможно без праздности. Мой идеал: быть праздным и любить полную девушку. Для меня высшее наслаждение — ходить или сидеть и ничего не делать; любимое мое занятие — собирать то, что не нужно (листки, солому и проч.), и делать бесполезное.
Антон Павлович Чехов. Из письма Л. С. Суворину. Москва, 7 апреля 1897 г:
Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений. Говорил я Вам не о лени, а о праздности, говорил притом, что праздность есть не идеал, а лишь одно из необходимых условий личного счастья.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Во всяком случае, у него было много свободного времени, которое он проводил как-то впустую, скучал.
Шутки, розыгрыши, импровизации
Петр Алексеевич Сергеенко:
Юмор был душою Чехова.
Алексей Алексеевич Долженко (1864–1942), двоюродный брат А. П. Чехова по материнской линии:
Антон учился в четвертом или в пятом классе гимназии. Каким-то образом ему удалось выпросить на время у гимназического служителя при кабинете наглядных пособий череп и две берцовых кости. Эти экспонаты он принес с собою домой, для того чтобы показать нам. Сестры Марии в это время не было дома. После всестороннего осмотра этих интересных вещей кто-то из нас придумал испугать ими Машу. Желая достичь максимального эффекта, кости с черепом мы положили к ней на кровать и накрыли одеялом. Чтобы получилось впечатление лежащего человека, мы положили также башмаки, палки и прочие вещи. Сестра не заставила себя долго ждать. Она вернулась домой в особенно хорошем настроении. Мы стали ее интриговать, говоря, что к ней приехала из Москвы ее подруга, а на вопрос, кто она и где находится, сказали, что она с дороги легла отдохнуть на ее постели. Маша быстро вошла в свою комнату, откинула одеяло и тотчас упала в обморок. Видя ее тяжелое состояние, мы испугались не на шутку. Поднялись шум и суматоха. В комнату прибежала мать Чеховых, Евгения Яковлевна. Антон побежал за одеколоном, Иван стал мочить носовые платки в холодной воде. Пока мы возились с сестрой, выслушивая брань старших, мы совершенно забыли о черепе и костях. В это время моя мать Федосия Яковлевна, будучи женщиной очень религиозной, усмотрела в игре человеческими костями святотатство. Пользуясь общим замешательством, она унесла кости и похоронила их на дворе. Когда все кончилось, сестра Мария пришла в себя, старшие исчерпали весь свой словесный запас, Антон вспомнил о костях. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы выяснить, куда они девались, вырыть их из земли и отнести гимназическому служителю, который уже начал беспокоиться, как бы не вышло крупной неприятности.
Михаил Павлович Чехов (1865–1936), младший брат Чехова, юрист, писатель, журналист, мемуарист, первый биограф Чехова:
У Гавриила Парфентьевича (соседа Чеховых в Таганроге. — Сост.) жила его племянница Саша, учившаяся в местной женской гимназии. <…> Впоследствии, через пятнадцать лет, когда мы жили в Москве в доме Корнеева на Кудринской-Садовой, она приезжала к нам уже взрослой, веселой, жизнерадостной девицей и пела украинские песни. Она остановилась у нас, прожила с нами около месяца, и мои братья, Антон и Иван Павловичи, заметно «приударяли» за ней <…>. Ее дразнили, что на юге у нее остался вздыхатель, который очень скучает по ней, и Антон Павлович подшутил над ней следующим образом: на бывшей уже в употреблении телеграмме были стерты резинкой карандашные строки и вновь было написано следующее: «Ангел, душка, соскучился ужасно, приезжай скорее, жду ненаглядную. Твой любовник».
Нарочно позвонили в передней, будто это пришел почтальон, и горничная подала Саше телеграмму. Она распечатала ее, прочитала и на другой же день, несмотря на то, что все мы умоляли ее остаться, уехала домой к себе на юг. Мы уверяли ее, что телеграмма фальшивая, но она не поверила.
Алексей Алексеевич Долженко:
29 июня был день именин Павла Егоровича. <…> Накануне этого дня мы с ним выехали в Бабкино, находящееся около города Воскресенска, где проживала в это время семья Чеховых на даче. Я ехал туда в первый раз. Приехали мы поздно вечером, накануне 29 июня. Нас встретили очень сердечно: накормили сытным ужином, напоили чаем с вареньем и печеньем. За столом беседа затянулась за полночь, а потом мы легли спать. <…>
В эту ночь Антон расклеил по всему парку афиши о том, что приехал Алеша и привез Ване брюки с лампасами. Я таковые действительно привез по поручению брата Ивана.
Мария Павловна Чехова (1863–1957), сестра, педагог, мемуарист, биограф и публикатор Чехова, создательница музея Чехова в Ялте:
Первое время Левитан жил в деревне Максимовке, а затем по настоянию Антона Павловича переехал в небольшой флигелек к нам в Бабкино. На этом домике Антон Павлович повесил шутливую вывеску «Ссудная касса купца Левитана». Никто без смеха не мог пройти мимо.
Михаил Павлович Чехов:
Бывало, в летние вечера он надевал с Левитаном бухарские халаты, мазал себе лицо сажей и в чалме, с ружьем выходил в поле по ту сторону реки. Левитан выезжал туда же на осле, слезал на землю, расстилал ковер и, как мусульманин, начинал молиться на восток. Вдруг из-за кустов к нему подкрадывался бедуин Антон и палил в него из ружья холостым зарядом. Левитан падал навзничь. Получалась совсем восточная картина.
Сергей Рафаиловнч Минцлов (1870–1933), прозаик, поэт, драматург; детский писатель, мемуарист, библиофил, библиограф, археолог:
Однажды они устроили носилки; раскрасили их и уложили на них завернутого в простыню и с белой чалмой на голове Левитана, торжественно понесли его по деревне. Процессию остановили крестьяне и спросили, кого они хоронят. Ответ был: «Бедуина»! Неподвижно лежавший Левитан вдруг вскочил и пустился бежать, за ним в погоню бросились все Чеховы, и после этого бабы долго потом шарахались при встрече с Левитаном.
Александр Семенович Лазарев:
Он брал что-нибудь вроде рекламного прейскуранта аптекарского магазина, становился в позу и начинал нам читать этот прейскурант, выразительно, с пафосом, делая скользкие, а иногда и совсем нецензурные примечания к названию и свойствам медикаментов. Остроумие искрилось в этих примечаниях, и даже люди, искусившиеся в юморе, не могли не смеяться.
Евгения Михайловна Чехова (1898–1984), племянница Чехова, дочь его младшего брата Михаила:
В конце 1896 года родители мои приехали на Рождество погостить в Мелихово. Время проводили весело, катались на коньках, гуляли, ездили ряжеными к соседям. Ольга Германовна нарядилась однажды парнем хулиганской внешности — в старые брюки, пиджак и картуз. Антон Павлович сам нарисовал ей усики и написал известную записку: «Ваше высокоблагородие! Будучи преследуем в жизни многочисленными врагами, и пострадал за правду, потерял место, а также жена моя больна чревовещанием, а на детях сыпь, потому покорнейше прошу пожаловать мне от щедрот ваших келькшос[3] благородному человеку. Василий Спиридонов Сволачев». С этой запиской моя будущая мама обходила хозяев и гостей большого васькинского дома и собирала в картуз шуточное «подаяние».
Мария Тимофеевна Дроздова (1871–1960), художница, приятельница М. П. Чеховой, гостья Мелихова:
После усиленной работы Антон Павлович любил устраивать разные шутки. Однажды к вечеру — было уже почти совсем темно — я сидела у террасы (в Мелихово. — Сост.), стараясь дочитать, несмотря на сумерки, что-то интересное и страшное. Вдруг в аллее, ведущей от флигеля к дому, показался какой-то темный силуэт. На фоне белых, в цвету, вишен и яблонь, в какой-то странной позе, со скрюченными руками и ужасной гримасой, человек шел прямо на меня. Эта было так неожиданно и страшно, что я не сразу сообразила, кто это, пока Антон Павлович не рассмеялся.
Как-то днем я писала красками в саду кусты сирени. Вдруг я услышала за спиной шаги, и передо мною прошелся, заслоняя мою натуру, Антон Павлович такой походкой ферта-парижанина, в прекрасно сшитом костюме, синем берете, как носят французы, и с тростью в руке. Он прошелся несколько раз, мешая мне писать. Это было сделано с таким юмором, что я невольно рассмеялась. Костюм этот был вывезен из Парижа и надевался только ради шутки.
Антон Павлович всегда выдумывал что-нибудь неожиданное. Как-то раз после сытного обеда с гостями он, как всегда, ушел к себе отдохнуть, а мы расположились на террасе в плетеных креслах. Жара стояла адова, когда одолевает такая лень, что невольно впадаешь в дремоту. И вдруг с шумом распахнулась стеклянная дверь из гостиной, и гордо, спокойной походкой, виляя хвостиком, показался «Бром Исаевич». Его черная мордочка была расписана белилами в необычайно веселую смешную улыбку, что совершенно не соответствовало его важной походке. За ним сонно, вяло, только что пообедав, плелась, переваливаясь, его супруга, «Хина Марковна», такса темно-коричневой масти, с такой же накрашенной, необычайно веселой и игривой гримасой. Это было так неожиданно и смешно, что мы хохотали до слез. Не успели мы от смеха прийти в себя и сообразить, кто мог быть автором этой проделки, как, к нашему общему удовольствию и удивлению, так же неожиданно показался в дверях весело смеющийся Антон Павлович. Он был очень доволен, что его шутка удалась и вызвала у нас такой дружный и продолжительный смех. <…> Теперь я только поняла, почему он еще с вечера попросил у меня красок, будто бы для того, чтобы выкрасить у себя в комнате подоконник.
Александра Александровна Хотяинцева:
Раз я рисовала флигелек Антона Павловича с красным флажком на крыше, означавшим, что хозяин — дома и соседи-крестьяне могут приходить за советом. Хозяин, разговаривая со мной, прохаживался по дорожке за моей спиной, и неизменные его спутники таксы: «царский вагон», или Бром, и «рыжая корова», или Хина, сопровождали его. Кончаю рисовать, поднимаюсь, стоять не могу! Моя туфля-лодочка держалась только на носке, а в пятку Антон Павлович успел всунуть луковицу!
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Один из любимых его рассказов был такой: как он, А.П., будет «директором императорских театров» и будет сидеть, развалясь в креслах «не хуже вашего превосходительства». И вот курьер доложит ему: «Ваше превосходительство, там бабы с пьесами пришли! (вот как у нас бабы с грибами к Маше ходят)». — Ну, пусти! И вдруг — входите вы, кума. И прямо мне в пояс. — Кто такая? — «Татьяна Е-ва-с!» — А! Татьяна Е-ва! Старая знакомая! Ну так уж и быть: по старому знакомству приму вашу пьесу.
Петр Алексеевич Сергеенко:
<…> Во время нашей беседы с Чеховым, которую он вел с серьезным сосредоточенным лицом, в комнату вошло лицо, близкое Чехову, и, выждав паузу, заявило, что одна госпожа обращается к Чехову с предложением познакомиться с ее произведением, и что ей ответить? <…> Чехов, не спуская ласкового взгляда с милого лица и продолжая нашу беседу, тихо выдвинул из-под стола руку, сделал, что называется, комбинацию из трех пальцев и опять тихо спрятал руку. И опять невозможно передать словами весь комизм этой школьнической выходки.
Владимир Алексеевич Гиляровский (1853, по другим сведениям 1855–1935), журналист, писатель:
Как-то в часу седьмом вечера, Великим постом, мы ехали с Антоном Павловичем с Миусской площади из городского училища, где брат его Иван был учителем, ко мне чай пить. Извозчик попался отчаянный: кто казался старше, он ли или его кляча, — определить было трудно, но обоим вместе сто лет насчитывалось наверное; сани убогие, без полости. <…> На углу Тверской и Страстной <…> мы остановились как раз против освещенной овощной лавки Авдеева, славившейся на всю Москву огурцами в тыквах и солеными арбузами. Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз, завязанный в толстую серую бумагу, которая сейчас же стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мы поползли по Страстной площади, визжа полозьями но рельсам конки и скрежеща по камням. Чехов ругался — мокрые руки замерзли. Я взял у него арбуз. Действительно, держать его в руках было невозможно, а положить некуда.
Наконец я не выдержал и сказал, что брошу арбуз.
— Зачем бросать? Вот городовой стоит, отдай ему, он съест.
— Пусть ест. Городовой! — поманил я его к себе. Он, увидав мою форменную фуражку, вытянулся во фронт.
— На, держи, только остор…
Я не успел договорить: «осторожнее, он течет», как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городовому, продолжая мою речь:
— Осторожнее, это бомба… неси ее в участок…
Я сообразил и приказываю:
— Мы там тебя подождем. Да не урони, гляди.
— Понимаю, вашевскродие. А у самого зубы стучат.
Оставив на углу Тверской и площади городового с «бомбой», мы поехали ко мне в Столешников чай пить.
Виктор Андреевич Симов (1858–1935), художник, декоратор Московского Художественного театра со дня его основания:
Бывало, слушаешь его низковатый голос, великолепно передающий всевозможные интонации, и буквально помираешь со смеху, а сам рассказчик спокоен, серьезен и с едва заметной улыбкой в уголках рта посматривает на своих дружно, заливисто смеющихся собеседников.
Обыкновенно Антон Павлович потешал нас художественными миниатюрами (так ему свойственными в ту пору творчества), взятыми из жизни крестьян, духовенства и уездной полиции. Вот его любимый рассказ, к которому он иногда присоединял звуковые вариации. Утро в поле, сыроватое от утреннего тумана. Врезавшись в полосу овса, стоит телега. Деревенская лошаденка, лениво пощипывающая колосья, вытертым хвостом отмахивается от назойливых оводов. Вожжи-веревки давно уже свесились и запутались в колесах.
На телеге в соломе спят три фигуры: худенький попик с козлиной бородкой, в ряске, стянутой шитым широким поясом.
Лежит он в цепких объятиях дьячка с косичкой, в длинном синем полукафтанье. Ноги обоих сильно прижаты грузным туловищем отца дьякона с всклокоченной копной рыжей гривы, которая обильно утыкана соломенной кострикой. В селе (если память не изменяет) Пыряеве, у старосты, справляли храмовой праздник; что же удивительного, что после усиленного возлияния и хороших проводов с посошками вся компания полегла мертвецки, в надежде на сивку, которая — не впервые — довезла бы их до дому, если бы не встретилось по дороге соблазнительное угощение — спелый овес. Солнышко давно уже вышло из-за леса; припекая, первым разбудило батюшку, носившего одно из редко встречающихся имен. Рука его хотела сотворить крестное знамение, но неудержимо одолела икота, чередуясь с привычным возгласом — «во имя Отца и…». Дьячок, спавший с открытым беззубым ртом, несколько раз старался высвободить свою руку из-под батюшки (жест А. П-ча); пробудившись окончательно, старик кое-как, с трудом, получил некоторую свободу действий. «Пре… пресв… богородица…» — бормотал он, так и не докончив начатой молитвы, пока не заворочался отец дьякон да спросонья так хватил: «Яко до царя всех подымем!» — что испуганная лошаденка шарахнулась в сторону, свалив телегу набок. Все трое очутились на земле, среди помятых колосьев; с недоумением озирались некоторое время, потом медленно стали оправляться.
Рассказ кончен как бы многоточием. По всей вероятности, это сценка с натуры, из наблюдений его в период летнего пребывания в окрестностях Москвы.
Антон Павлович приправлял свое повествование такими звукоподражаниями, паузами, мимикой, насыщал черточками такой острой наблюдательности, что все мы надрывались от смеха, хохотали до колик, а Левитан (наиболее экспансивный) катался на животе и дрыгал ногами. Конечно, здесь главную роль играло мастерство передачи автора, не скупившегося на такие подробности, которые с трудом можно восстановить.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (1868–1959), артистка Московского Художественного театра с 1898 года. Жена Чехова:
Вообще Антон Павлович необычайно любил все смешное, все, в чем чувствовался юмор, любил слушать рассказы смешные и, сидя в уголке, подперев рукой голову, пощипывая бородку, заливался таким заразительным смехом, что я часто, бывало, переставала слушать рассказчика, воспринимая рассказ через Антона Павловича.
Николай Дмитриевич Телешов (1867–1957), писатель, мемуарист, организатор литературного кружка «Среда»:
Чехов любил всякие шутки, пустячки, приятельские прозвища и вообще охотник был посмеяться.
Федор Федорович Фндлер. Из дневника:
27 марта 1913. Когда он (Потапенко) находился вместе с Антоном Чеховым в южной России, где звук «и» произносится как «ы» («мыло» вместо «мило», Чехов имел обыкновение шутить: «C'est tres savon» («это очень мыло», т. е. «мило»).
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Любил Антон Павлович выдумывать — легко, изящно и очень смешно, это вообще характерная черта чеховской семьи. Так, в начале нашего знакомства большую роль у нас играла «Наденька», якобы жена или невеста Антона Павловича, и эта «Наденька» фигурировала везде и всюду, ничто в наших отношениях не обходилось без «Наденьки», — она нашла себе место и в письмах.
Александр Иванович Куприн:
Он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:
— Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедем к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?
Юлия Ивановна Лядова (в замуж. Терентьева; 1861 — около 1930), дальняя родственница Чеховых:
Как-то мы разговаривали с Антоном Павловичем про мою хорошую знакомую — подругу моей сестры, Марию Николаевну Рыжикову, и он стал просить меня: «поедемте к ней, изобразимте перед ней жениха и невесту; скажите, что привезли познакомить с ней своего жениха, только, чур, вести себя серьезно…». Рыжикова меня очень любила и была рада моему посещению, тем более, что я привезла своего жениха. Радовалась за меня, что я нашла свое счастье, расспрашивала его, любит ли он меня, где мы познакомились, и была к нам ласкова и внимательна. Он сказал, что очень любит свою невесту и страшно боится, как бы не расстроился наш брак, так как он просит за мной тридцать тысяч, а дают только двадцать пять. Это так поразило Марию Николаевну, что она обратилась ко мне и говорит: «Юлинька, что же это такое? Он, значит, женится не на тебе, а на твоих деньгах? Я бы на твоем месте вернула свое слово назад».
Долго спорила она с ним по поводу этой свадьбы. Так мы и уехали от нее женихом и невестой…
Петр Алексеевич Сергеенко:
Летом 1894 г. довольно большая компания разгуливала в подмосковном дачном парке около Мазиловки. Если не ошибаюсь, компанию составляли А. П. Чехов, В. А. Гиляровский, М. А. Саблин. И. Н. Потапенко и др. <…>
Прогуливаясь в Мазиловке, мы попали в местность, где была публика. Встретились знакомые. Компания разбилась на группы. На Чехова набежала «тучка». Он шел молча, меланхолически перебирая усы. Я с кем-то шел впереди Чехова. Вдруг в самой гуще публики слышу сзади окрик Чехова:
— Господин Говоруха-Отрок! Господин Говоруха-Отрок!
Я оглянулся. Чехов с пресерьезным лицом делал мне приветственные знаки. Некоторые из публики остановились и с любопытством оглядывали меня, очевидно принимая за Говоруху-Отрока, тогдашнего критика «Московских ведомостей». Я смутился от устремленных на меня взоров и, вероятно, имел пресмешной вид, потому что, глядя на меня, иные смеялись.
Александр Иванович Куприн:
Придумывал он удивительные — чеховские — фамилии, из которых я теперь — увы! — помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите — Бунин мой сверстник, — уверял он с напускной серьезностью. — Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному, идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник…»
Иван Алексеевич Бунин:
Иногда он разрешал себе вечерние прогулки (в Ялте. — Сост.). Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:
— А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!
Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:
— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина.
Татьяна Львовна Щенкина-Куперник:
Самая его жестокая шутка была такова. В Мелихове бродили «по наивному», как его называл Чехов, двору — голуби кофейного цвета с белым, так называемые египетские, и совершенно такой же расцветки кошка. А.П. уверил меня, что эти голуби произошли от скрещения этой кошки с обыкновенным серым голубем.
В то время в гимназии естественной истории не преподавали, и я в ней была совершенный профан. Хотя это и показалось мне странным, но не поверить такому авторитету, как А.П., я не решилась и, возвратясь в Москву, рассказала кому-то о замечательных чеховских голубях. Легко себе вообразить, какой восторг это вызвало в литературных кругах и как долго я стыдилась своего невежества.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Как-то у Чеховых, когда они жили уже в новой квартире, был устроен большой вечер. Кажется, это был первый званый вечер в новой квартире и, как мне помнится, последний с таким большим собранием гостей. Были артисты Художестве иного театра, несколько литераторов, писатели Бальмонт, Гиляровский, Иван Бунин, Балтрушайтис, Брюсов, Леонид Андреев, люди науки. Все сидели в столовой за чайным столом. Вдруг в кабинете Антона Павловича раздался телефонный звонок. Антон Павлович поднялся, прошел в кабинет и, быстро вернувшись, радостно сообщил, что сейчас придет писатель Горький.
Когда вошел Горький, Антон Павлович подвел его ко мне и, представляя его, сказал: «Это Горький, а это писательница Микулич». После того как Горький раскланялся со всем обществом. Антон Павлович посадил его рядом со мной, а сам с улыбкой встал за моим стулом. Горький начал со мною разговор, принимая меня за Микулич, произведения которой мне не были известны. Он начал говорить, что ему очень нравится мой рассказ «Мимочка». Туг он запнулся — он не помнил, что делала Мимочка. Антон Павлович ему подсказал: «Мимочка на водах травится». Публика, зная, что я не Микулич, насторожилась, предвкушая какую-то выдумку Антона Павловича. Я, со своей стороны, старалась поддержать с Горьким разговор о Мимочке, не выдавая шутки Чехова, но, верно, не очень удачно, и Антон Павлович поспешил сказать: «Да это не Горький, а это не Микулич!» Я, горячась, начала убеждать Чехова, что отлично знаю Горького по его портретам, а Горький, в свою очередь, говорил, что узнает во мне по портретам Микулич и читал ее произведения. В конце наших взаимных уверений я наконец сообщила Горькому, что то, что он Горький, я так же твердо знаю, как и то, что только в шутку Антон Павлович наименовал меня именем Микулич. Эта шутка очень рассмешила всех.
Максим Горький:
Грубые анекдоты никогда не смешили его.
Жизненная позиция
Антон Павлович Чехов. Из письма Л. А. Авиловой. Ницца, 6 (18) октября 1897 г.:
Я человек жизнерадостный; по крайней мере первые 30 лет своей жизни прожил, как говорится, в свое удовольствие.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 9 июля 1894 г.:
Ничего нет скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию.
Антон Павлович Чехов. Из записной книжки:
Когда живешь дома, в покое, то жизнь кажется обыкновенною, но едва вышел на улицу и стал наблюдать, расспрашивать, например, женщин, то жизнь — ужасна. Окрестности Патриарших прудов на вид тихи и мирны, но на самом деле жизнь в них — ад [и так ужасна, что даже не протестует].
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва, 9 декабря 1890 г.:
Хорош Божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Пьяный, истасканный забулдыга муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо груда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира», мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное все приложится.
Александр Николаевич Тихонов (1880–1956), прозаик, мемуарист:
— Вот меня часто упрекают — даже Толстой упрекал, — что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников… А где их взять? Я бы и рад! — Он грустно усмехнулся. Жизнь у нас провинциальная, города немощеные, деревни бедные, народ поношенный… Все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам — уже старики и начинаем думать о смерти… Какие мы герои!
Алексей Сергеевич Суворин:
Я раз спросил его в письме (1894 г.): «Что должен желать теперь русский человек?» — «Вот мой ответ, — писал он, — желать. Ему нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кисляйство». Это кратко и неопределенно, но это выразительно и верно. Сам он всегда желал, желал прогресса русской жизни, желал сильных характеров, дарований, желал и искал весь свой краткий век солнца и так и умер, не увидав его настоящего блеска.
Константин Сергеевич Станиславский (наст. фам. Алексеев; 1863–1938), режиссер, актер, педагог. На сцене с 1877 года. В 1898-м совместно с В. И. Немировичем-Данченко создал Московский Художественный театр:
Я вижу его гораздо чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, несмотря на то, что я знавал его в плохие периоды болезни. Там, где находился больной Чехов, чаще всего царила шутка, острота, смех и даже шалость. Кто лучше его умел смешить или говорить глупости с серьезным лицом? Кто больше его ненавидел невежество, грубость, нытье, сплетню, мещанство и вечное питье чая? Кто больше его жаждал жизни, культуры, в чем бы и как бы они ни проявлялись? Всякое новое полезное начинание — зарождающееся ученое общество или проект нового театра, библиотеки, музея — являлось для него подлинным событием. Даже простое очередное благоустройство жизни необычайно оживляло, волновало его. Например, помню его детскую радость, когда я рассказал ему однажды о большом строящемся доме у Красных ворот в Москве взамен плохенького одноэтажного особняка, который был снесен. Об этом событии Антон Павлович долго после рассказывал с восторгом всем, кто приходил его навещать: так сильно он искал во всем предвестников будущей русской и всечеловеческой культуры не только духовной, но даже и внешней.
Александр Семенович Лазарев:
Ничто так не любил Чехов в человеке, как талант, и людей, обнаруживавших хотя бы небольшие блестки таланта, не стесняясь выделял из среды заурядной толпы.
Благотворитель
Александр Семенович Лазарев:
Чехов был одним из самых отзывчивых людей, которых я встречал в своей жизни. Для него не существовало мудрого присловья «моя хата с краю, я ничего не знаю», которым практические люди освобождаются от излишних хлопот. Услышав о чьем-либо горе, о чьей-либо неудаче, Чехов первым долгом считал нужным спросить:
— А нельзя ли помочь чем-нибудь?
Необычайно трогательна и характерна фраза Чехова, которую вспоминает, кажется, Мария Павловна, на ту тему, что на каждую просьбу нужно отозваться, и если нельзя дать того, что просят, в полной мере, то нужно дать хоть половину, хоть четверть, но дать непременно.
Эту отзывчивость Чехов пронес через всю свою жизнь, как драгоценное вино, не расплескав, не утратив ни капли.
В письменном столе Чехова вечно лежали чужие рассказы, он исправлял их, рассылал в те издания, где сам работал, и даже в те, где сам не работал, в «Московскую иллюстрированную газету» например; давал советы начинающим авторам, если видел в них хотя тень дарования; хлопотал об издании книг тех беллетристов, у которых уже успели накопиться материалы для книг.
— Вам нужно издаться! — говорил он мне и другим беллетристам при мне много раз. — Вас будут знать. Выпущенная книга повысит ваш гонорар.
На робко брошенные мысли, что издаться не легко, что охотников до издания книг начинающих авторов немного, Чехов возражал:
— Пустяки! Подождите, нужно будет придумать что-нибудь.
И, конечно, при своих литературных связях он придумывал кое-что и находил для своего протеже издателя.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Для Чехова составляло величайшее удовольствие помогать другим, и он постоянно для кого-нибудь что-нибудь устраивал. Он рекомендовал учителей в гимназии, хлопотал перед архиереем о месте для священника и, уже тяжко больной, искал через друзей протекции для московского дьякона, которому нужно было сына-студента перевести из Юрьева в Москву. Подыскивал для знакомых и приятелей-москвичей комнаты и квартиры, выписывал для них каталоги растений, помогал начинающим писателям завязать отношения с редакциями, хлопотал о постановке чужих пьес, вечно устраивал каких-нибудь больных учительниц или земских служащих. И уезжая в Москву, он каждый раз спрашивал, не надо ли чего привезти, прислать, особенно из Москвы, где, по его мнению, только и можно было достать все настоящее и хорошее и откуда он сам выписывал для себя и писчую бумагу, и конверты, и колбасу, и резиновые калоши, и многое другое, что можно было получить в любом магазине на набережной и получения чего из Москвы он иногда дожидался неделями. Но переубедить его в этом было невозможно. <…> Расчетливо тративший на себя, он много раздавал, тайно помогал отдельным учащимся.
Александр Иванович Куприн:
Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать, — и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете писать внизу, а я вверху, — говорил он со своей очаровательной улыбкой. — И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».
Сергей Николаевич Щукин:
Антон Павлович спрашивал, давно ли я в Ялте, почему поступил учителем церковной школы; узнав во мне северянина, он еще более оживился и сообщил, что получает газету «Северный край», которая в то время выходила в Ярославле.
А. П-ч встал и принес мне последние номера газеты.
— Возьмите себе, — сказал он, — вам это, наверно, будет интересно. — И потом, когда я уходил, он говорил: — Заходите ко мне вечером, непременно заходите. — Провожая, увидал мое пальто. Шел, кажется, ноябрь, на дворе стоял холод, а пальто было летнее. Чехов удивился. — Слушайте, — сказал он, — так лечиться нельзя, вам надо теплое пальто.
Меня это сконфузило; я как-то случайно не приобрел еще зимней одежды.
— Но с этого и леченье надо начать, — сказал он внушительно, — непременно купите пальто. <…> Через два или три дня мне принесли с почты несколько новых номеров «Северного края»; адрес был написан знакомым — по квитанции — почерком Антона Павловича. Прошло два дня, и опять принесли газету. И это установилось постоянно; каждые два-три дня я получал ее по городской почте с адресом, надписанным рукою Чехова. <…> Через некоторое время захожу в магазин Синани, спрашиваю какую-то книгу. Книги не оказалось. Тогда господин, сидевший в магазине, на которого я не обратил внимания, вдруг проговорил:
— Но если у вас нет книги, почему вы ее не выпишете?
Это был Чехов.
— Ну, что, — сказал он, — получаете газету?
— Да, только мне совестно…
Но он прервал мои слова:
— Есть в ней что-нибудь интересное для вас?
— Есть.
— Вот и хорошо, читайте.
<…> С этого времени, где бы Чехов ни был — в Москве, в Мелихове, в дороге, каждые два — четыре дня он постоянно присылал мне «Северный край». Впоследствии, когда он переселился в Ялту, мне же пришлось оттуда уехать, он присылал газету по моему новому адресу из Ялты. Года три или четыре, пока судьба опять не привела в этот город и меня, А. П-ч каждые два-три дня не уставал и не забывал присылать мне газету.
После его смерти пришлось прочитать, что покойный писатель вообще любил заклеивать и надписывать бандероли. Может быть; но думаю, что по крайней мере в моем случае было больше любви к человеку, чем к бандеролям.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Он с особенной любовью и вниманием относился к почте и почтальонам. Вспоминается случай на Каме, когда мы плыли но трем рекам в Уфимскую губернию, на кумыс, в 1901 году, и случайно застряли в Пьяном Бору. Это была очень глухая пристань на Каме. Селение было в нескольких верстах от берега. Антон Павлович, несмотря на дальнее расстояние, решил обязательно съездить в это селение, отыскать почту и… купить марок — рублей на 5–6…
— Зачем?
— Чтобы дать заработать почтовой конторе, затерявшейся в таком захолустье.
Иван Алексеевич Новиков (1877–1958), писатель: Чехов был пристально внимателен к другому человеку — совсем для него случайному. И это не был интерес специфически писательский, а именно человеческий.
Общественный деятель
Мария Тимофеевна Дроздова:
Где бы ни жил Антон Павлович, везде он старался всеми способами вносить культуру в жизнь. Он построил на свои средства в Серпуховском уезде три школы и убеждал своих знакомых собирать деньги для школ.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Дальше: в 1892 году в России был голод. Многие губернии были объявлены «пострадавшими от неурожая» — официальное название голода. Особенно пострадали губернии Нижегородская и Воронежская. У Чехова был приятель в нижегородском земстве. А.П. организовал широкую подписку и в суровую зиму отправился туда. Там он устраивал столовые, кормил крестьян, делал что только мог. Между прочим: голодавшее население или продавало за бесценок скот, который нечем было кормить, или убивало его, тем самым обрекая себя еще на голодный год. Чехов организовал скупку лошадей на местах и прокорм их на общественный счет с тем, чтобы весной раздать безлошадным крестьянам. Живя в Мелихове, он все время выискивал, что бы сделать для крестьян. Его выбрали в земские гласные серпуховского земства, и он очень серьезно относился к своим обязанностям. Ушел с головой в вопросы народного образования и здравоохранения. Ему обязаны школами Талеж, Новоселки и Мелихово. Он сам наблюдал за стройкой, закупал материалы, делал сметы и чертежи. Принимал деятельное участие в постройке земской больницы, добился проведения шоссе от Лопасни до Мелихова, строил в деревнях пожарные сараи и пр. Но своим уездом он своей деятельности не ограничивал.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 11 января 1897 г.:
У нас перепись. Выдали счетчикам отвратительные чернильницы, отвратительные аляповатые знаки, похожие на ярлыки пивного завода, и портфели, в которые не лезут переписные листы, — и впечатление такое, будто сабля не лезет в ножны. Срам. С утра хожу по избам, с непривычки стукаюсь головой о притолоки, и как нарочно голова трещит адски; и мигрень, и инфлуэнца. В одной избе девочка 9 лет, приемышек из воспитательного дома, горько заплакала от того, что всех девочек в избе называют Михайловнами, а ее, по крестному, Львовной. Я сказал: «Называйся Михайловной». Все очень обрадовались и стали благодарить меня. Это называется приобретать друзей богатством неправедным.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Он, можно сказать, явился основоположником библиотеки в своем родном городе Таганроге. Начал с того, что всю свою большую прекрасную библиотеку, собранную за многие годы, пожертвовал городу, оставив себе только книги для личного пользования. Не удовольствовавшись этим, вошел в контакт с таганрогским городским головою Иордановым и взял на себя постоянное пополнение библиотеки. Скоро она стала одной из лучших в провинции; он отправлял туда целые транспорты книг, как купленных им на свои средства, так и «выпрошенных» у знакомых авторов, издателей и редакторов. По его мысли, стало формироваться при библиотеке нечто вроде справочного бюро, где каждый мог бы найти ответ на все вопросы — начиная от распоряжений правительства и кончая новостями искусства, — широко помогая читателю в любых отраслях знания, истории, медицины и пр. Но тут же он писал Иорданову: «Только никому не говорите о моем участии в делах библиотеки: не люблю, когда треплют мое имя».
Интересовался он и таганрогским музеем, подавал советы относительно «его устройства и пополнения», а будучи в Париже, специально познакомился с знаменитым скульптором Антокольским, чтобы заказать ему статую Петра I для постановки памятника в Таганроге, и сам выбирал место для этого памятника.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 1 марта 1897 г.:
На съезде актеров Вы, вероятно, увидите проект громадного народного театра, который мы затеваем. Мы, т. е. представители московской интеллигенции (интеллигенция идет навстречу капиталу, и капитал не чужд взаимности). Под одной крышей, в красивом, опрятном здании помещаются театр, аудитории, библиотека, читальня, чайные и проч. и проч. План готов, устав пишется, и остановка теперь за пустяком — нужно 1/2 миллиона. Будет акционерное общество, но не благотворительное. Рассчитывают, что правительство разрешит сторублевые акции. Я так вошел во вкус проекта, что уже верю в дело и удивляюсь, отчего Вы не строите театра. Во первых, это нужно, и во-вторых, это весело и займет два года жизни. Театр как здание, если он выстроен не нелепо, не похож на Панаевекий, ни в каком случае не даст убытка.
Недавно я устраивал в Серпухове спектакль в пользу школы. Играли любители из Москвы. Играли солидно, с выдержкой, лучше актеров. Платья из Парижа, бриллианты настоящие, но очистилось всего 101 р.
Сергей Николаевич Щукин:
Одно время А. П-ч как бы взял под свое покровительство ялтинских греков. Греки, «аутские греки», были его соседи. В старое, впрочем не очень давнее, время Аутка была деревней, населенной греками. В Аутке была и греческая церковь. Умирая, многие греки, люди вообще очень привязанные к церкви, оставляли «на помин души» земельные участки. Когда Ялта стала быстро заселяться, Аутка соединилась с Ялтой и вошла в черту города. И мало-помалу греки были вытеснены дальше, на гору, в так называемую Верхнюю Аутку. Греческая церковь, находившаяся в Нижней Аутке, стала считаться русской, священников к ней посвящали русских, и богослужение совершали в ней уже на славянском языке. Греческой же осталась небольшая, невзрачная, даже не каменная, а деревянная церковка св. Феодора Тирона в Верхней Аутке. Она к тому же не была самостоятельна, а приписана к русской церкви. И к тому времени, как Чехов поселился в Аутке, между греками и русскими шли острые споры по случаю назначения новых священников, перестройки церквей, относительно церковного имущества и пр. Представители греков во главе со священником явились к Чехову и просили его взять на себя защиту их дела. А. П-ч согласился на их просьбу, принял в деле большое участие, был с документами, которые они дали ему, у архиерея. Противная партия не понимала, отчего он хлопочет, была раздражена и толковала, что он сам грек, потому и хлопочет за греков.
Михаил Павлович Чехов:
Как местный житель (Ялты. — Сост.), он был избран в члены попечительского совета женской гимназии, и при этом еще приходилось выносить и много душевных волнений из-за чахоточных больных, которые со всех концов России стали обращаться к нему с просьбами устроить их в Ялте. А те, которые приезжали сами по себе, были так бедны, что кончали в Ялте свою жизнь в невозможных условиях и в тоске по родине. Приходилось подумать и о них. Антон Павлович хлопотал за всех, печатал воззвания в газетах, собирал деньги и посильно облегчал их положение. Между прочим, он тогда пожертвовал 500 рублей на постройку школы в Мухолатке.
Антон Павлович Чехов. Из письма П. Ф. Иорданову. Ялта, 11 декабря 1899 г.:
Помнится, Вы хотели сделать меня членом приюта. Пожалуйста, делайте из меня и со мной все, что только для Таганрога из меня можно сделать, отдаю себя в полное Ваше распоряжение.
Врач
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
17 января 1893. Я спросил его, является ли он врачом по убеждению, и он ответил, помедлив: «Да… я почти уверен и знаю по собственному опыту, что медицина в одних случаях может значительно облегчить страдания, а в других — удлинять человеческую жизнь».
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Еще студентом-медиком он уже лечил и практиковал. Покойный В. Я. Зеленин, зять артистки Ермоловой — впоследствии сам видный доктор, — рассказывал мне, как его, тогда еще гимназиста последних классов, жившего с Чеховым в одних и тех же меблированных комнатах, А.П. лечил и вылечил от тяжелого тифа.
Михаил Павлович Чехов:
В 1884 году мой брат Антон окончил курс в университете и явился в чикинскую больницу на практику уже в качестве врача. <…>
В середине лета 1884 года брат Антон, прихватив с собой меня, отправился в Звенигород уже в качестве заведующего тамошней больницей на время отпуска ее врача С. П. Успенского. Вот тут-то ему и пришлось окунуться в самую гущу провинциальной жизни. Он здесь и принимал больных, и в качестве уездного врача, тоже уехавшего в отпуск, должен был исполнять поручения местной администрации, ездить на вскрытия и быть экспертом в суде.
Павел Арсеньевич Архангельский (1852–1913), врач Воскресенской земской больницы Звенигородского уезда. Под его руководством Чехов работал в больнице в студенческие годы и в первый год врачебной практики:
Он часто проводил в лечебнице время с утра и до окончания приема… А.П. производил работу не спеша, иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность: но все он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки. Он всегда терпеливо выслушивал больного, ни при какой усталости не возвышал голоса, хотя бы больной говорил не относящееся к уяснению болезни.
Михаил Павлович Чехов:
В это время Антон Павлович только первый год был врачом и колебался, заняться ли ему медициной или отдаться литературе. У Спенглеров были маленькие дети, и они-то и стали первыми пациентами Антона Павловича. В качестве гонорара за лечение Спенглеры поднесли ему портмоне, в котором оказалась большая золотая турецкая монета, которую мы называли лирой. Часто потом эта лира выручала Антона Павловича в минуты жизни трудные. Он передавал ее мне, я относил ее в ломбард, закладывал там за десять рублей, и на несколько часов у брата Антона бренчали деньги в кармане. За Нелли же стал заметно ухаживать мой брат, художник Николай. Вторыми пациентами Антона Павловича были некие Яновы, и здесь он, как говорится, попал в такую «ореховую отделку», что уже окончательно решил отдаться литературе. Жил в Москве художник А. С. Янов, который учился живописи вместе с моим братом Николаем, — отсюда и это знакомство чеховской семьи с Яновыми. <…> В описываемое мною время он жил очень бедно с матерью и тремя сестрами, добрыми молоденькими существами. Случилось так, что эти три сестры и мать одновременно заболели брюшным тифом. А. С. Янов пригласил к ним брата Антона. Молодой, еще неопытный врач, но готовый отдать свою жизнь для выздоровления больного, Антон Павлович должен был целые часы проводить около своих больных пациенток и положительно сбивался с ног. Болезнь принимала все более и более опасное положение, и, наконец, в один и тот же день мать и одна из дочерей скончались. Умирая, в агонии, дочь схватила Антона Павловича за руку, да так и испустила дух, крепко стиснув ее в своей руке. Чувствуя себя совершенно бессильным и виноватым, долго ощущая на своей руке холодное рукопожатие покойницы, Антон Павлович тогда же решил вовсе не заниматься медициной и окончательно перешел потом на сторону литературы. Две другие сестры выздоровели и затем часто у нас бывали. Одна из них вышила золотом альбом и преподнесла его Антону Павловичу с надписью: «В намять избавления меня от тифа».
Григорий Иванович Россолимо:
По окончании медицинского факультета он не бросил медицину, он работал в качестве земского врача в Воскресенске и Звенигороде Московской губернии и через семь-восемь лет после окончания курса заведовал во время холерной эпидемии мелиховским участком тоже Московской губернии. Работал он с любовью и добросовестно, как об этом гласят предания.
Игнатий Николаевич Потапенко:
У кого-то я прочитал, будто Антон Павлович страстно любил лечить. Вот чего я никогда не находил в нем. Когда к нему обращались за врачебным советом, он отделывался самыми общими местами, и видно было, что он хотел поскорее кончить этот разговор. <…>
Когда в Мелихове приходили к нему мужики и бабы с нарывами и глубокими порезами и ему об этом сообщали, он кривился <…>, но не отказывал, принимал, с величайшим вниманием осматривал, резал, вычищал и перевязывал. <…> По это вытекало скорее из сознания долга, чем из любви к делу.
Исаак Наумович Альтшуллер:
За последние 10–15 лет он научной медициной не занимался. Правда, в Ялту из редакции «Русской мысли» ему аккуратно пересылался медицинский еженедельник «Русский врач», но он в нем прочитывал только хронику и иногда мелкие так называемые «заметки из практики». И, случалось, любил поразить: «Вы читали в последнем номере о новом средстве от геморроя?» — «Нет, не читал». — «Вот, сударь, и растеряете практику. А я вот прочитал и уж Кондакова вылечил. Прекрасное средство». И на письменном столе слева всегда лежал молоточек и трубочка для выслушивания и медицинский календарь Риккера за текущий год. Но он принимал всегда деятельное участие в лечении своих домашних или заболевшей прислуги. Любил давать советы своим приятелям и расспрашивать про их болезни. Но обычно это оканчивалось указанием, что надо серьезно лечиться и обратиться к врачу. Была у него слабость — он любил писать рецепты. И, зная это, я старался не прописывать ему лекарств, а обыкновенно он стоит, бывало, у телефона и под мою диктовку передает заказ в аптеку, особенно при этом как-то отчеканивая латинские названия. Заставлял провизора повторить и прибавлял в конце: (для автора) д-р Чехов.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 2 августа 1893 г.:
Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно. Молодой фабрикант женился, а через неделю зовет меня «непременно сию минуту, пожалуйста»: у него <…>, а у красавицы молодой <…>. Старик фабрикант 75 лет женится и потом жалуется, что у него «ядрышки» болят оттого, что «понатужил себя». Все это противно, должен я Вам сказать. Девочка с червями в ухе, поносы, рвоты, сифилис — тьфу!! Сладкие звуки и поэзия, где вы?
Больной, его болезни и лечение
Игнатий Николаевич Потапенко:
А себя он не лечил вовсе. Странно, непостижимо относился он к своему здоровью. Жизнь любил он каждой каплей своей крови и страстно хотел жить, а о здоровье своем почти не заботился. <…> И это равнодушие к своему здоровью меня поражало. Он и бронхита своего почти не лечил и не остерегался.
Вообще по отношению к болезням он проявлял какое-то ложное мужество. Он как будто стыдился слишком много заниматься ими, считал это малодушием. <…>
Я, например, никогда не слышал от него, чтобы он советовался с каким-нибудь профессором о своем здоровье.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Было два верных способа сделать неприятность Чехову и заставить его съежиться: это — коснуться поподробнее его здоровья или его текущих литературных работ.
Михаил Павлович Чехов:
Первое кровохарканье случилось с ним еще в 1884 году в Московской судебной палате, когда он вел для «Петербургской газеты» записки по известному Рыковскому процессу. <…>
Особенно сильно кашлял брат Антон, когда мы жили на Кудринской-Садовой.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва. 14 октября 1888 г.:
Впервые я заметил его у себя 3 года тому назад в Окружном суде: продолжалось оно дня 3–4 и произвело немалый переполох в моей душе и в моей квартире. Оно было обильно. Кровь текла из правого легкого. После этого я раза два в год замечал у себя кровь, то обильно текущую, т. е. густо красящую каждый плевок, то не обильно… Третьего дня или днем раньше — не помню, я заметил у себя кровь, была она и вчера, сегодня ее уже нет. Каждую зиму, осень и весну и в каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве. Когда же нет крови, я не волнуюсь и не угрожаю русской литературе «еще одной потерей». Дело в том, что чахотка или иное серьезное легочное страдание узнаются только по совокупности признаков, а у меня-то именно и нет этой совокупности. Само по себе кровотечение из легких не серьезно; кровь льется иногда из легких целый день, она хлещет, все домочадцы и больной в ужасе, а кончается тем, что больной не кончается — и это чаще всего. Так и знайте на всякий случай: если у кого-нибудь, заведомо не чахоточного, вдруг пойдет ртом кровь, то ужасаться не нужно. Женщина может потерять безнаказанно половину своей крови, а мужчина немножко менее половины. Если бы то кровотечение, какое у меня случилось в Окружном суде, было симптомом начинающейся чахотки, то я давно уже был бы на том свете: вот моя логика.
Михаил Павлович Чехов:
Усилившийся геморрой не давал ему покоя, мешал ему заниматься, наводил на него хандру и мрачные мысли и делал em раздражительным из-за пустяков. А тут еще стал донимать его и кашель. В особенности он беспокоил его по утрам. Прислушиваясь к этому кашлю из столовой, мать, Евгения Яковлевна, вздыхала и поглядывала на образ.
— Антоша опять пробухал всю ночь, — говорила она с тоской.
Но Антон Павлович даже и вида не подавал, что ему плохо. Он боялся нас смутить, а может быть, и сам не подозревал опасности или же старался себя обмануть. Во всяком случае, он писал Суворину, что будет пить хину и принимать любые порошки, но выслушать себя какому-нибудь врачу не позволит. Я сам однажды видел мокроту писателя, окрашенную кровью. Когда я спросил у него, что с ним, то он смутился, испугался своей оплошности, быстро смыл мокроту и сказал:
— Это так, пустяки… Не надо говорить Маше и матери.
Ко всему этому присоединилась еще мучительная боль в левом виске, от которой происходило надоедливое мелькание в глазу (скотома). Но все эти болезни овладевали им приступами. Пройдут — и нет. И снова наш Антон Павлович весел, работает — и о болезнях нет и помина.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 26 апреля 1893 г.:
Ну, буду писать прежде всего о своей особе. Начну с того, что я болен. Болезнь гнусная, подлая. Не сифилис, но хуже — геморрой <…> боль, зуд, напряжение, ни сидеть, ни ходить, а во всем теле такое раздражение, что хоть в петлю полезай. Мне кажется, что меня не хотят понять, что все глупы и несправедливы, я злюсь, говорю глупости; думаю, что мои домашние легко вздохнут, когда я уеду. Вот какая штука-с! Болезнь мою нельзя объяснить ни сидячею жизнью, ибо я ленив был и есмь, ни моим развратным поведением, ни наследственностью. У меня когда-то было воспаление брюшины; надо думать, что просвет кишки у меня уменьшился от воспаления и где-нибудь перетяжка сдавила сосуд. Резюме: надо делать операцию.
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. А. Лейкину. Мелихово, 29 августа 1895 г.:
Я не совсем здоров. 8 августа я был у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и, вероятно, простудился у него или на обратном пути; 9-го авг<уста> у меня заболели волосы и кора правой половины головы, затем боль шла все crescendo, и 15–16-го у меня начались сильные невралгические боли в правом глазу и в правом виске. Поехал я в Серпухов, вырвал зуб, принял чертову пропасть антипирина, фенацетина, хины и проч. и проч. — и ничего не помогло. Только после 20-го боль стала сдаваться, и вот я уже могу писать и чувствую только боль в коре головы и в волосах, когда до них дотрагиваешься. Такое свинство.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 26 июня 1896 г.:
Был в Москве у глазного врача. Один глаз у меня дальнозоркий, другой близорукий. Правый в прошлом году едва не погиб; была невралгия, осложненная сыпью на роговице, и теперь остался легкий парез аккомодации и боль. Получил приказ лечиться электричеством, мышьяком и морем. Привез кучу очков и лупу для упражнения левого глаза, который не умеет читать. Совсем калека!
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. М. Линтваревой. Мелихово, 2 мая 1897 г.:
У меня гостит в настоящее время глазной врач со своими стеклами. Вот уже два месяца, как он подбирает для меня очки. У меня так называемый астигматизм — благодаря которому у меня часто бывает мигрень, и кроме того, еще правый глаз близорукий, а левый дальнозоркий.
Исаак Наумович Альтшуллер:
В самое первое время нашего знакомства Чехов про болезнь свою не говорил. В конце ноября 1898 года рано утром мне принесли от него записку, в которой он просил зайти, захватив с собой «стетоскопчик и ларингоскопчик», так как у него кровохарканье, — и я действительно застал его с порядочным кровотечением. Ларингоскоп тут был ни при чем, потому что не могло быть никакого сомнения, что это настоящее легочное кровотечение. Когда через несколько дней я мог его детально исследовать, то я был поражен найденным. В этот первый наш медицинский разговор Чехов начал летосчисление с года поездки на Сахалин (1890). когда у него в дороге появилось будто бы первое кровохарканье, но впоследствии выяснилось, что оно было уже в 1884 году и потом довольно нередко повторялось. И с студенческих лет он много кашлял, весною и осенью плохо себя чувствовал и нередко лихорадил, но объяснял это инфлуэнцой, никогда не лечился, не давал себя выслушивать, чтобы «чего-нибудь там не нашли». Объяснял кровохарканье горлом, а кашель — простой простудой, хотя, по его собственным словам, временами превращался в стрекозиные мощи. <…> И даже, несмотря на кровохаркания, единственный симптом, производивший на него впечатление, так как «в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве», и даже после смерти брата Николая от скоротечной чахотки в 1889 году он еще заявляет, что «ни за что выслушивать себя не позволит», и только хлынувшая весной 1897 года в необычно большом количестве кровь и вмешательство друзей заставили его лечь в клинику профессора Остроумова. С того времени, очевидно, процесс неуклонно прогрессировал. И я при первом исследовании уже нашел распространенное поражение в обоих легких, особенно в правом, с несколькими кавернами, следы плевритов, значительно ослабленную, перерожденную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Мои тогдашние попытки убедить Чехова в необходимости серьезно лечиться не привели ни к чему. Он упорно заявлял, что лечиться, заботиться о здоровье — внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать. Поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, монотонно, останавливаясь при чувстве раздражения гортани, чтобы удержать кашель, а если уже приходилось кашлять, то мокрота отплевывалась в маленький, заранее приготовленный бумажный фунтик, тут же где-нибудь лежавший за книгами на столе и отправляемый потом в камин. Только с дипломатическими подходами, как будто невзначай или пользуясь случайными поводами, удавалось его послушать и заставить сделать то или иное. Только с 1901 года он перешел на положение настоящего пациента и сам уж часто предлагал: «Давайте послушаемтесь». Но и тут заставить его лечь, вообще заняться лечением, главным образом и прежде всего, было нельзя. И не только с посторонними он не любил говорить о своей болезни, но и от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался; на вопрос: «как себя чувствуешь?» — отвечал: «сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель», — или «голова болит», или что нибудь в этом роде. К несчастью, процесс уже находился в той стадии, когда на выздоровление не могло быть никакой надежды, а можно было только стремиться к замедлению темпа болезни или к временному улучшению состояния больного. <…> Зимы 1901–1902, 1902–1903 годов он проводит в Ялте и почти все время очень плохо себя чувствует <…>.
К концу этого периода он очень изменился и внешне. Цвет лица приобрел сероватый оттенок, губы стали бескровны, он еще больше похудел и заметно поседел. Деятельность сердца все ухудшалась, процесс в легких все расползался. В соответствии с этим стала все резче проявляться одышка, появились симптомы и туберкулезного поражения кишок.
Александр Николаевич Тихонов:
Чтобы не оставлять Чехова одного в пустом доме, я спал теперь в соседней с ним комнате. В доме было душно, пахло масляной краской, пищали комары. Окна нельзя было открыть — боялись воров. Я беспокоился о Чехове. Сквозь тонкую перегородку мне был явственно слышен его кашель, раздававшийся эхом в пустом темном доме. Так длительно и напряженно он никогда еще не кашлял. Несколько раз он вставал с кровати, — мне было слышно, как гудели пружины матраца, — ходил по комнате, что-то пил из стакана, снова ложился, кашлял и снова вставал… Под конец я все-таки уснул.
Меня разбудило ощущение близкой опасности. Я открыл глаза.
Комната была полна белым ослепительным сиянием, которое мгновенно исчезло, чтобы через секунду вновь появиться. Вокруг дома свирепствовала буря. <…>
И вдруг сквозь грохот разрушавшегося неба я услышал протяжный, мычащий стон… Ухо, приложенное к стене, за которой был Чехов, подтвердило мою догадку… Стон повторился — мучительный, почти нечеловеческий, оборвавшийся не то рвотой, не то рыданьем. Мне показалось, что Чехов умирает и что если он умрет, то это по моей вине. Себя не помня, как был, в одной рубашке и босиком, я бросился через столовую к комнате Чехова. У дверей я еще раз прислушался, стуча зубами.
Как это часто бывает в минуты ее наивысшего напряжения, гроза вдруг на мгновение остановилась. В доме стало тихо и страшно… И в этой тишине явственно были слышны сдавленные стоны, кашель и какое-то бульканье.
Я распахнул дверь и шепотом окликнул Чехова:
— Антон Павлович!
На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча. Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все его тело содрогалось от кашля… И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутылки, выхаркивалась кровь…
За шумом начавшейся опять грозы Чехов меня не заметил. Я еще раз назвал его по имени. Чехов отвалился навзничь, на подушки и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно в темноте нащупывал меня взглядом. И тут я в желтом стеариновом свете огарка впервые увидел его глаза без пенсне. Они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез… Он тихо, с трудом проговорил:
— Я мешаю… вам спать… простите… голубчик.
Ослепительный взмах за окном, и сейчас же за ним страшный удар по железной крыше заглушил его слова.
Я видел только, как под слипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы…
Максим Горький:
Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.
Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:
— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо…
Исаак Наумович Альтшуллер:
Весною 1903 года, с благословения известного московского клинициста проф. Остроумова, принимается решение зиму проводить в Москве. Но осенью 1903 года он не перестает лихорадить, один плеврит следует за другим, трудно поддающиеся лечению расстройства кишечника. Он уже не скрывает своего плохого самочувствия. А Художественный театр, увлеченный своими задачами, связанный планом, торопит скорейшей присылкой «Вишневого сада». Все чаще я заставал Чехова в кресле или на диване, уже без книжек и газет в руках, и он впервые не избегал говорить о своей работе, а жаловался, как трудно ему дописывать и переписывать пьесу, — он мог делать это только урывками. В октябре я в последний раз попытался задержать его, сказал ему почти всю правду, умолял не губить себя, не ездить в Москву, что это безумие. Он об этом написал в Москву, но к декабрю все-таки уехал.
Дальнейшее известно. Повторяю — то, что случилось при сложившихся обстоятельствах, было неизбежно. <…>
Ольга Леонардовна мне потом с возмущением рассказывала, как в Берлине в «Савой-отель» к нему приехал приглашенный известный клиницист проф. Эвальд. Внимательно осмотрев больного, он развел руками и, ничего не сказав, вышел. Это, конечно, было жестоко, но развел он руками, наверное, от недоумения, зачем и куда такого больного везут.
Вера
Исаак Наумович Альтшуллер:
Был ли Чехов верующим?
Он сам, если судить по его письмам, считал себя атеистом и говорил о том, что веру потерял и вообще не верит в интеллигентскую веру. Еще недавно человек, хорошо его знавший, рассказывал мне, как раз, во время рыбной ловли, услышав церковный благовест, Чехов обратился к нему со словами: «Вот любовь к этому звону — все, что осталось еще у меня от моей веры».
Я только в самом начале слышал от него замечания в этом роде. Но я помню и такой случай. Как-то пришлось к разговору, я рассказал ему о слышанном много в публичной лекции одного профессора про четвертое измерение и спросил его: верит ли он в четвертое измерение. Он ничего не ответил. Через несколько дней совершенно неожиданно он вдруг говорит: «А знаете, четвертое измерение-то, может, окажется и существует, и какая-нибудь загробная жизнь…» Он носил крестик на шее. Это, конечно, не всегда должно свидетельствовать о вере, но еще меньше ведь об отсутствии ее. Еще в 1897 году он в своем таком скудном, всего с несколькими записями, и то не за каждый год, дневнике отметил: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому он обыкновенно не знает ничего или очень мало». Мне почему-то кажется, что Чехов, особенно последние годы, не переставал с трудом продвигаться по этому полю, и никто не знает, на каком пункте застала его смерть.
Иван Алексеевич Бунин:
Много раз старательно твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:
— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.
Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:
— Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это…
Михаил Осипович Меньшиков:
Религии Чехов не любил касаться. Только один раз в Ялте, на берегу моря, у нас как-то завязался разговор о Боге и быстро оборвался. «Я не знаю, — сказал Чехов, — что такое вечность, бесконечность, я себе об этом ничего не представляю, ровно ничего. Жизнь за гробом для меня что-то застывшее, холодное, немое… Ничего не знаю». Трезвая и честная душа его боялась бреда, боялась внушений, противоречащих опыту, боялась того «раздражения пленной мысли», которые многие принимают за голос свыше. Но той поэзии, которая сопровождает веру, Чехов не был чужд. Он с теплым чувством вспоминал об обычае в их семье, начиная с 1 сентября, читать ежедневно по вечерам «Жития святых», и во многих рассказах эта детская начитанность Чехова очень заметна. Звон монастырского колокола на заре вечерней, искры солнца на далеких крестах, умиление бедной человеческой молитвы, тихие восторги сердца и предание себя Высшей Воле — все это было понятно Чехову и, может быть, не так уж чуждо.
Зинаида Григорьевна Морозова:
Дело было к вечеру, окна выходили на запад, был чудесный закат. В Замоскворечьи зазвонили к вечерне.
— Люблю церковный звон. Это все, что у меня осталось от религии — не могу равнодушно слышать звон. Я вспоминаю свое детство, когда я с нянькой ходил к вечерне и заутрени.
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
28 июня 1904. В другой раз Михайловский и Чехов проезжали зимой мимо Исаакиевского собора; колонны были покрыты инеем, и Чехов сказал, что в таком виде храм особенно прекрасен…
Цветовод и садовник
Мария Тимофеевна Дроздова:
Антон Павлович относился ко всему растущему с радостным любопытством.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
У всех Чеховых есть одно свойство: их, как говорится, «слушаются» растения и цветы — «хоть палку воткни, вырастет», — говорил А.П. Он сам был страстный садовод и говорил, так же как Чайковский, что мечта его жизни, «когда он не сможет больше писать», — заниматься садом.
Александра Александровна Хотяинцева:
Он очень любил цветы. В Мелихове он разводил розы, гордился ими. Гостьям-дачницам из соседнего имения (Васькина) он сам нарезал букеты. Но срезал «спелые» цветы, те, которые нужно было срезать по правилам садоводства, и «чеховские» розы иногда начинали осыпаться дорогой, к большому огорчению дачниц, особенно одной, поклонницы Чехова, которую Антон Павлович прозвал «Аделаидой». <…>
Тут же около роз находился огород с любимыми «красненькими» (помидоры) и «синенькими» (баклажаны)[4] и другими овощами.
— Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Он, между прочим, особенно любил цветущие яблони и вишни, и в своей пьесе «Вишневый сад» больше всего ценил ее название. Цветение фруктовых деревьев вызывало в нем какие-то радостные ассоциации — может быть, сады его детства в южном городке, но когда он смотрел на бело-розовые яблони, у него были ласковые и счастливые глаза.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
С помощью сестры, Марии Павловны, Антон Павлович сам рисует план сада (в Ялте. — Сост.), намечает, где будет какое дерево, где скамеечка, выписывает со всех концов России деревья, кустарники, фруктовые деревья, устраивает груши и яблони шпалерами, и результатом были действительно великолепные персики, абрикосы, черешни, яблоки и груши. С большой любовью растил он березку, напоминавшую ему нашу северную природу, ухаживал за штамбовыми розами и гордился ими, за посаженным эвкалиптом около его любимой скамеечки, который, однако, недолго жил, так же как березка: налетела буря, ветер сломал хрупкое белое деревце, которое, конечно, не могло быть крепким и выносливым в чуждой ему почве. Аллея акаций выросла невероятно быстро, длинные и гибкие, они при малейшем ветре как-то задумчиво колебались, наклонялись, вытягивались, и было что-то фантастическое в этих движениях, беспокойное и тоскливое… На них-то всегда глядел Антон Павлович из большого итальянского окна своего кабинета. Были и японские деревца, развесистая слива с красными листьями, крупнейших размеров смородина, были и виноград, и миндаль, и пирамидальный тополь — все это принималось и росло с удивительной быстротой благодаря любовному глазу Антона Павловича. Одна беда — был вечный недостаток в воде, пока наконец Аутку не присоединили к Ялте и не явилась возможность устроить водопровод.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ялта, 14 марта 1899 г.:
Вчера и сегодня я сажал на участке деревья и буквально блаженствовал, так хорошо, так тепло и поэтично. Просто один восторг. Я посадил 12 черешен, 4 пирамидальных шелковицы, два миндаля и еще кое-что. Деревья хорошие, скоро дадут плоды. И старые деревья начинают распускаться, груша цветет, миндаль тоже цветет розовыми цветами. Птицы, по дороге на север, ночуют здесь в садах и поутру кричат, например дрозды.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Я думаю, что лучшими часами в его жизни были те, когда он в хорошие дни возился в саду, окруженный не отступавшими от него собачками, преемниками славных мелиховских такс Брома Исаевича и Хины Марковны, и танцующим прирученным журавлем. Занимался любимым делом, и никто не мешал думать, как на севере помогала думать удочка.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Вид срезанных или сорванных цветов наводил на него уныние, и когда, случалось, дамы приносили ему цветы, он через несколько минут после их ухода молча выносил их в другую комнату.
Борис Александрович Лазаревский:
Однажды одна ялтинская поклонница Чехова принесла ему много цветов. Антон Павлович залюбовался ими и, обращаясь ко мне, сказал:
— Вот, знаете, кто не любит цветов, детей и собак, тот — или дурак, или злой человек…
С братьями меньшими
Исаак Наумович Альтшуллер:
Чехов любил животных.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Антон Павлович любил наблюдать перелет птиц. В перерыве работы подойдет к окну, улыбнется, увидев какого-нибудь щегла, радостно подзовет всех посмотреть. Деревья, небо, птицы были для него радостью.
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. А. Лейкину. Москва, 10 декабря 1890 г.:
Из Цейлона я привез с собою в Москву зверей, самку и самца <…>. Имя сим зверям — мангус. Это помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Сейчас они сидят в клетке, куда посажены за дурное поведение: они переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские прически, вообще ведут себя, как два маленьких черта, очень любопытных, отважных и нежно любящих человека. Мангусов нет нигде в зоологических садах; они редкость. Брем никогда не видел их и описал со слов других под именем «мунго».
Антон Павлович Чехов. Из письма И. Л. Леонтьеву (Щеглову). Москва, 10 декабря 1890 г.:
Ах, ангел мой, если б Вы знали, каких милых зверей привез я с собою из Индии! Это — мангусы, величиною с средних лет котенка, очень веселые и шустрые звери. Качества их: отвага, любопытство и привязанность к человеку. Они выходят на бой с гремучей змеей и всегда побеждают, никого и ничего не боятся; что же касается любопытства, то в комнате нет ни одного узелка и свертка, которого бы они не развернули; встречаясь с кем-нибудь, они прежде всего лезут посмотреть в карманы: что там? Когда остаются одни в комнате, начинают плакать.
Михаил Павлович Чехов:
Оказалось, что, кроме мангуса, брат Антон вез с собой в клетке еще и мангуса-самку, очень дикое и злобное существо, превратившееся вскоре в пальмовую кошку, так как продавший ее ему на Цейлоне индус попросту надул его и продал ее тоже за мангуса.
Александр Иванович Куприн:
Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелиховских таксах Броме и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, так вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ — собаки!» — говорил он иногда с добродушной улыбкой.
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. А. Лейкину. Мелихово, 16 апреля 1893 г.:
Вчера наконец прибыли таксы, добрейший Николай Александрович. Едучи со станции, они сильно озябли, проголодались и истомились, и радость их по прибытии была необычайна. Они бегали по всем комнатам, ласкались, лаяли на прислугу. Их покормили, и после этого они стали чувствовать себя совсем как дома. Ночью они выгребли из цветочных ящиков землю с посеянными семенами и разнесли из передней калоши по всем комнатам, а утром, когда я прогуливал их по саду, привели в ужас наших собак-дворян, которые отродясь еще не видали таких уродов. Самка симпатичнее кобеля. У кобеля не только задние ноги, но и морда и зад подгуляли. Но у обоих глаза добрые и признательные. Чем и как часто Вы кормили их? Как приучить их отдавать долг природе не в комнатах? и т. д. Таксы очень понравились и составляют злобу дня.
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. А. Лейкину Мелихово, 11 августа 1893 г.:
Таксы Бром и Хина здравствуют. Первый ловок и гибок, вежлив и чувствителен, вторая неуклюжа, толста, ленива и лукава. Первый любит птиц, вторая — тычет нос в землю. Оба любят плакать от избытка чувств. Понимают, за что их наказывают. У Брома часто бывает рвота. Влюблен он в дворняжку. Хина же — все еще невинная девушка. Любят гулять по полю и в лесу, но не иначе, как с нами. Драть их приходится почти каждый день: хватают больных за штаны, ссорятся, когда едят, и т. п. Спят у меня в комнате.
Александр Иванович Куприн:
Во дворе (ялтинского дома Чехова. — Сост.) жили: ручной журавль и две собаки. <…> Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.
Одну собаку звали Тузик, а другую — Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:
— Уйди же, уйди, дурак… Не приставай.
И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:
— Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.
Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:
— Ах ты, глупый, глупый… Ну, как тебя угораздило?.. Да тише ты… легче будет… дурачок…
Исаак Наумович Альтшуллер:
Когда я увидел, с какой заботливостью он ухаживал за раненым Каштаном, как внимательно, по всем правилам хирургического искусства, перевязывал его разодранную лапу и с какими при этом ласковыми словами к нему обращался, я понял, почему такой удивительной вышла у него «Каштанка». И когда он, поведя серьезную войну против мышей, брал из мышеловки осторожно за хвост попавшуюся мышь и спускал ее через низкий забор на кладбищенский участок, то я уверен, что мышь только посмеивалась и, наверное, в ближайшую же ночь перебиралась обратно на дачу к своему врагу.
Александр Иванович Куприн:
Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А.П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А.П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.
Мария Тимофеевна Дроздова:
У меня часто спрашивают: почему в письмах Антона Павловича Чехова упоминается о передаче мне почтовых марок, вложенных в письма Марии Павловне. Это собирание Антоном Павловичем марок для меня началось по следующему случаю. Как-то на каникулы я ездила домой на юг и возвращалась обратно в Москву. Провожая меня на станцию железной дороги, мой одиннадцатилетний братишка, ученик 2-го класса гимназии, прощаясь, сунул мне в карман осеннего пальто что-то аккуратно завернутое в белую бумагу с просьбой передать эту вещь Антону Павловичу. Проезжая мимо станции Лопасня, я поспешила сойти и на несколько дней заехала в Мелихово к Чеховым. Только за ужином я вспомнила о подарке моего брата и передала его Антону Павловичу. Чехов развернул пакетик — там оказался небольшой журнальчик, размером в небольшую детскую книжку. Что там было написано, я уже не помню, но все было очень тщательно, с любовью сделано, подражая настоящему журналу, со всеми его отделами. Видно было, как сильно хотелось маленькому автору сделать приятное Антону Павловичу. Антон Павлович сейчас же послал ему свой рассказ «Каштанка» со своей надписью. Как-то в феврале 1898 года, когда я гостила в Мелихове, пришли от Антона Павловича из Ниццы, где он был в то время, две посылки: одна Марии Павловне и другая на мое имя — посылочка величиной с кубический вершок, тщательно упакованная, зашитая. В посылочке, которая всех нас рассмешила своими игрушечными размерами, оказались почтовые марки со всех концов мира, откуда Антон Павлович получал письма. Все это предназначалось моему братишке.
Борис Александрович Лазаревский:
Чехов относился к детям не как к «маленьким дурачкам» и говорил с ними не как с существами, созданными для забавы взрослых, а как с людьми, у которых на все своя оригинальная точка зрения. Антон Павлович с любовью рассказывал мне об одном мальчике:
— Сидит он за столом, выводит букву за буквой и сопит…
Чехов прошелся взад и вперед по кабинету, посмотрел в окно и добавил:
— И уши у него торчат, — вот так…
Охотник, рыболов, грибник
Алексей Алексеевич Долженко:
На самом краю города (Таганрога. — Сост.) находилось кладбище, за которым начиналась степь. Здесь на земле можно было наблюдать много круглых отверстий. Это норы тарантулов. Для чего это нам было нужно, я теперь припомнить не могу, но тогда ловле тарантулов мы отдавали много энергии. Главным инициатором ловли как всегда был Антон, выдумавший для этой цели специальный способ. Все мы имели при себе аптечные баночки, наполненные деревянным маслом, и специальные удочки, состоящие из небольшой палочки, к которой была привязана довольно длинная нитка, а на конце нитки был прикреплен шарик из воска. Размер шарика был такой, чтобы он мог свободно пройти в нору тарантула.
Самая ловля заключалась в следующем: баночки с маслом ставились около норы. В отверстие опускался шарик из воска. Как только шарик доходил до дна, тарантул, разоренный появлением непрошеного гостя, с яростью цеплялся лапами в воск и тянул шарик на себя, вызывая подергивание, державший в руке удочку тотчас же вынимал шарик с вцепившимся в него тарантулом и сразу опускал его в масло.
В масле, вследствие отсутствия воздуха, тарантул сразу погибал. Большое количество наловленных тарантулов почему-то считалось у нас особенной доблестью.
Владимир Германович Тан-Богораз (1865–1936). писатель, поэт, этнограф, лингвист, соученик А. П. Чехова по таганрогской гимназии:
За Чеховским домом (в Таганроге. — Сост.) прежде находился небольшой пустырь, который в то время назывался «имение куриного царя». На краю этого пустыря ютился старик, разводивший кур. Пустырь зарос бурьяном и дикой коноплей. На этом пустыре Чехов с братьями ловил щеглов силком «на припаду». Ловля щеглов на припаду — это южный степной спорт. Чехов увлекался им, даже будучи студентом.
Алексей Алексеевич Долженко:
Будучи уже гимназистом, Антон Чехов очень любил ловить рыбу. На ужение мы ходили в Таганрогскую гавань. Обычно было нас четверо: Чеховы — Антон. Николай, Иван и я. Ловили мы преимущественно бычков. Антон умел добиваться удачной ловли. Он изобрел специальные поплавки, изображающие человека, у которого руки поднимались и опускались во время ловли рыбы. Это указывало, какого размера рыба попала на крючок. Если человек в воде по пояс, то, значит, попалась небольшая рыбка, если по плечи — то средняя, если с головой и руки подняты вверх, то, значит, крупная рыба, и ее нужно вынимать умеючи. В таком случае Антон не доверял нам и вынимал сам. Поплавки он делал из особого дерева, похожего на пробку, которое брал у местных рыбаков. Отправляясь на рыбную ловлю, мы брали с собой сковородку и все необходимое для стряпни, а иногда Антон захватывал свое любимое сантуринское вино. Такая обстановка рыбной ловли особенно нам нравилась.
Иван Алексеевич Белоусов (1863–1930), поэт, мемуарист, член литературного кружка «Среда»:
Антон Павлович Чехов любил рыбную ловлю не так, как другие, а по-своему: он не был похож на тех рыболовов-охотников, цель которых состояла в том, чтобы как можно больше и крупнее наловить рыбы. — он любил просто на солнышке посидеть с удочкой на берегу, отдохнуть, помечтать, а может быть, в тишине обдумать план какой-нибудь литературной работы, — а какая рыба ему попадется на крючок — ему было все равно; за большим он не гнался, а довольствовался окуньками, голавликами, пескарями; последних он особенно любил, и однажды учил меня, как надо поджаривать пескарей:
— Знаете, если их смазать яйцом да обвалять в сухарях и поджарить так, чтобы корочка хрустела, — это будет великолепная закуска. <…>
Куда бы ни приезжал Антон Павлович, его прежде всего интересовала вода — река, пруды, озера, где бы водилась рыба.
Александр Николаевич Тихонов:
С утра до вечера мы сидели под глинистым откосом, у темного омута, и с увлечением ловили окуней, иногда попадались и щуки. <…>
— Чудесное занятие! — говорил Чехов, поплевывая на червяка. — Вроде тихого помешательства. И самому приятно, и для других не опасно. А главное — думать не надо… Хорошо!
Николай Дмитриевич Телешов:
В Аутке, где он был уже серьезно больным и где среди красот южной природы, среди вечнозеленых кипарисов и цветущих персиков, любил помечтать о московском сентябрьском дождичке, о березах и ветлах, об илистом пруде с карасями, о том, как хорошо обдумывать свои повести и пьесы, глядя на поплавок и держа в руке удочку.
Иван Алексеевич Белоусов:
Он не раз говорил мне: «Я думаю, что многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбной ловлей».
Михаил Павлович Чехов:
Большой любитель собирать грибы, Антон Павлович каждое угро обходил свои собственные места (в Мелихове. — Сост.) и возвращался домой с горстями белых грибов и рыжиков. За ним всегда важно следовали его собаки Хина и Бром.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Вся усадьба замыкалась большой лужайкой, обсаженной старыми плакучими березами, под которыми водились белые грибы, а дальше вместо забора были еще посадки молодых елей, где в изобилии водились рыжики. Антон Павлович очень любил собирать рано по утрам грибы.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, в апреля 1892 г.:
У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежа. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головкой по ложу…» Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить.
А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым, влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. Горькому. Мелихово, 9 мая 1899 г.:
Охоту с ружьем когда-то любил, теперь же равнодушен к ней.
Интересы, увлечения и развлечения
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Читал много, но не запойно, и почти только беллетристику.
Михаил Павлович Чехов:
Антон Павлович питал любовь к книгам. Кропотливо, изо дня в день он собирал всевозможные книги, привозил с собою целые ящики из столицы, и в Мелихове у него составилась большая библиотека. В 1896 году он пожертвовал ее родному городу Таганрогу для общественной библиотеки.
Александр Семенович Лазарев:
Несмотря на наружную сдержанность, в характере Чехова было много азарта, страсти, увлечения тем делом, за которое он брался. С увлечением он ухаживал за своими цветами в Мелихове, с увлечением играл в крокет в Бабкине — помню, иногда партия затягивалась, на землю опускались густые сумерки, но Чехов не хотел бросать игры, и мы с Киселевым кончали партию, подставляя зажженные спички к невидимым шарам.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
В воспоминаниях о Мелихове хранятся очень оживленные дни и вечера, с непрерывными шутками, пением, художественными эскизами и прогулками. А когда такие развлечения исчерпывались, играли в лото. Лото Чехов любил, а в последние годы заменил его пасьянсом. В среде близких есть даже пасьянс, так называемый чеховский. <…> Во время лото, конечно, сыпались непрерывные шутки. В лото играли все: вся семья и гости.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Монте-Карло производило на него удручающее впечатление, но было бы неправдой сказать, что он остался недоступен его отраве. Может быть, отчасти я заразил его своей уверенностью (тогда была у меня такая), что есть в игре этой какой-то простой секрет, который надо только разгадать — и тогда… Ну, тогда, конечно, выступала главная мечта писателя: работать свободно и никогда не думать о гонораре, о заработке, не связывать литературную работу с вопросом о средствах к жизни. Чехов мечтал об этом не меньше, чем я и всякий другой.
И вот он — трезвый, рассудительный, осторожный — поддался искушению. Мы накупили целую гору бюллетеней, даже маленькую рулетку, и по целым часам сидели с карандашами в руках над бумагой, которую исписывали цифрами. Мы разрабатывали систему, мы искали секрет. Однажды мы его нашли и поехали в Монте-Карло с точно определенным планом. Игра была маленькая, осторожная, и тем не менее, окончив ее, мы недосчитались пары сотен франков. Опять бюллетени, снова карандаши и цифры. Подходили к делу с другой стороны, вновь ехали в Монте-Карло и пробовали. Одно время казалось, что мы нащупали верный путь. Выиграли раз, другой. Но на третий — неблагоприятное стечение обстоятельств, — и все полетело вверх дном. В то время я, конечно, не занимался наблюдениями над ним. Я сам гораздо больше, чем он, мог бы быть объектом наблюдения; но когда припоминал все это, то как будто не узнавал обычно спокойного, сдержанного, рассудительного, уравновешенного Антона Павловича.
Кто из знавших его поверит, что в нем жил азарт? А между тем он углублялся в цифры, старался проникнуть в сущность этих странных комбинаций, разгадать их тайну. Мы спорили, каждый предлагал свою систему и защищал ее. У него являлись остроумные мысли в этой области, и главное — что волнение его было чисто спортивное, так как он проигрывал, в сущности, пустяки. Но, однако же, в этом не было ничего трезвого. Поверить даже на минуту, что в случайных комбинациях номеров, цветов и всяких других шансов могут быть отысканы какие-то законы, — для этого, конечно, нужна была известная доля безумия, которое владеет игроками, делает их слепыми и приводит к гибели.
И вот он, как казалось, поставивший своей задачей трезвость, разумное отношение к жизни, человек несомненно сильной воли, в течение десяти дней верил в это, то есть допускал для себя капельку безумия. <…>
Дней десять длилось его увлечение рулеткой. Он перестал принимать во внимание мои мнения и сам разрабатывал какие-то способы. Иногда он на мой зов поехать в Монте-Карло отвечал отказом. Я ехал один, но, смотришь, через час он появлялся, несколько как будто сконфуженный, становился у одного из столов и долго присматривался, наблюдал, видимо проверяя свою мысль, а потом садился и, осторожно вынимая из кармана золотые, ставил их как-то по-новому.
Кажется, что в результате всех этих попыток был у него небольшой выигрыш. Это и есть тот опасный момент, когда игрок слепнет и с головой зарывается в игру. А у него вышло иначе. Однажды он определенно и твердо заявил, что с рулеткой покончено: и действительно, после этого ни разу больше не поехал туда. Взяли силу его обычные качества — благоразумие, осторожность, уравновешенность, а главное — ему стало стыдно увлекаться и отдавать силы таким пустякам.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Чехов сам любил путешествовать и не раз уговаривал меня поехать в те места, которые особенно чем-нибудь его поразили. — например, в Бермамыт на Северном Кавказе — и обязательно с вершины горы увидеть восход солнца. Еще он просил меня съездить на Соловецкие острова по Северной Двине и Белому морю.
Алексей Сергеевич Суворин:
И в Петербурге, и в Москве он любил до странности посещать кладбища, читать надписи на памятниках или молча ходить среди могил. <…> Кладбища за границей его везде интересовали.
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. М. Линтваревой. Генуя, 1 (13) октября 1894 г.: <…> Милан. Здесь я осматривал так называемую крематорию, где сожигают покойников, и собор. Собор так красив, что даже страшно. Было жарко. Пейзажи в Ломбардии изумительные, — пожалуй, как нигде в свете.
Теперь я в Генуе. Тут тьма кораблей и знаменитое кладбище, богатое статуями. Статуй, в самом деле, очень много. Изображены в натуральную величину и во весь рост не только покойники, но даже и их неутешные вдовы, тещи и дети. Есть статуя одной старушки-помещицы, которая держит в руке два сдобных хохлацких бублика.
Алексей Сергеевич Суворин. Из дневника:
15 мая 1900. Ездили на кладбище. В Девичьем монастыре могила его отца. Долго искали. Наконец, я нашел. Потом поехали в Донской, потом в Данилов, где могила Гоголя. Видели, что на камне чьи-то нацарапанные надписи, точно мухи напакостили. Любят люди пакостить своими именами.
Григорий Иванович Россолимо. Из дневника:
16 декабря 1903. Хоронили Алтухова, еще один товарищ-однокурсник доработался. <…> Мы долго ждали у входа на кладбище, так как гроб несли на руках. Сильна, однако, меланхоличная нотка у Чехова. Он любит, как говорит, кладбище, особенно зимой, как сегодня, когда могил почти не видно из-под глубокого пушистого снега.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Нарочитой красоты, красивости он не терпел, не любил ничего пафосного — и свои переживания, и своих героев целомудренно оберегал от красивых выражений, пафоса и художественных поз. В этом он, может быть, даже доходил до крайности, это заставляло его не воспринимать трагедии: между прочим, он никогда не чувствовал М. Н. Ермоловой <…>.
Пафос и романтизм Чехов признавал и отдавался их очарованию только в музыке. Тут границ и запретов не было. Он возил меня к соседям по имению, родственникам поэта Фета, только затем, чтобы послушать Бетховена: хозяйка дома превосходно играла.
И когда он слушал Лунную сонату, лицо его было серьезно и прекрасно. Он любил Чайковского, любил некоторые романсы Глинки, например, «Не искушай меня без нужды», — и очень любил писать, когда за стеной играли или пели. «Серенада» Брага, которую пела Лика под аккомпанемент рояля и скрипки, нашла отражение в его «Черном монахе»…
Александра Александровна Хотяинцева:
Чехов говорил, что «Кармен» самая любимая его опера. Цирк он тоже очень любил.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Он очень любил фокусников, клоунов. Помню, мы с ним как-то в Ялте долго стояли и не могли оторваться от всевозможных фокусов, которые проделывали дрессированные блохи.
Петр Алексеевич Сергеенко:
Из всех городских учреждений Чехов был неизменным почитателем только одного учреждения — русской бани, где любил попариться по-русски и после бани попить чайку и покалякать с приятелем.
Театральная страсть
Иван Павлович Чехов (1861–1922). брат А. П. Чехова, педагог:
Театром Антон Павлович увлекался с самого раннего детства.
Первое, что он видел, была оперетка «Прекрасная Елена». Ходили мы в театр обыкновенно вдвоем. Билеты брали на галерку. Места в Таганрогском театре были не нумерованные, и мы с Антоном Павловичем приходили часа за два до начала представления, чтобы захватить первые места. В коридорах и на лестнице в это время бывало еще темно. Мы пробирались потихоньку наверх. Как сейчас помню последнюю лестницу, узкую, деревянную, какие бывают при входе на чердак, а в конце ее — двери на галерею, у которых мы, сидя на ступеньках, терпеливо ждали, когда нас наконец впустят. Понемногу набиралась публика. Наконец гремел замок, дверь распахивалась, и мы с Антоном Павловичем неслись со всех ног, чтобы захватить места в первом ряду. За нами с криками гналась нетерпеливая толпа, и едва мы успевали занять места, как тотчас же остальная публика наваливалась на нас и самым жестоким образом прижимала к барьеру.
До начала все же еще было далеко. Весь театр был совершенно пуст и неосвещен. На всю громадную черную яму горел только один газовый рожок. И, помню, нестерпимо пахло газом. Задним рядам было трудно стоять без опоры, и они обыкновенно устраивались локтями на наших спинах и плечах. Кроме того, все зрители грызли подсолнухи. Бывало так тесно, что весь вечер так и не удавалось снять шуб.
Но, несмотря на все эти неудобства, в антрактах мы не покидали своих мест, зная, что их тотчас же займут другие.
Андрей Дмитриевич Дросси, гимназический товарищ Чехова:
Посещение театра учащимися тогда строго преследовалось. Допускалось хождение в театр только с родителями и то с особого каждый раз разрешения гимназического начальства. На галерею же вход был безусловно воспрещен, но мы ухищрялись всякими способами проникать туда чуть ли не каждое представление, прекрасно зная, что надзиратель гимназии непременно заглянет на галерею, как это бывало всякий раз.
Чтобы не быть узнанными, мы с Антоном Павловичем прибегали нередко к гримировке. Странно было видеть молодые лица с привязанными бородами или бакенбардами, в синих очках, в отцовских пиджаках, восседающих на скамьях галереи.
Иван Павлович Чехов:
Когда мы шли в театр, мы не знали, что там будут играть. — мы не имели понятия о том, что такое драма, опера или оперетка, — нам все было одинаково интересно. <…>
Идя из театра, мы всю дорогу, не замечая ни погоды, ни неудобной мостовой, шли по улице и оживленно вспоминали, что делалось в театре.
А на следующий день Антон Павлович все это разыгрывал в лицах.
Александр Леонидович Вишневский:
Бывало, он перед спектаклем собирал нас и растолковывал нам содержание пьесы, которую нам предстояло смотреть. А на другой день происходили дебаты в товарищеском кружке по поводу виденного.
Иван Павлович Чехов:
Потом, когда Антон Павлович был постарше, он страшно любил Московский Малый театр. Как-то проездом мы были в Москве и узнали, что в этот день Ленский играл Ричарда III. Мы побежали в кассу, но там остались билеты только в первом ряду. Антон Павлович недолго колебался: мы сложили все, что у нас было, долго шарили по всем карманам и вечером важно сидели в первом ряду; зато денег ни у меня, ни у Антона Павловича не осталось ни копейки, что отразилось на нас жестоко на следующий день.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва. 18 ноября 1888 г.:
Можно не любить театр и ругать его и в то же время с удовольствием ставить пьесы. Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу и раков: закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет? А в Общество за получением гонорара идешь с таким же чувством, с каким идешь глядеть в вершу или в вентерь: много ли за ночь окуней и раков поймалось? Забава приятная.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Он часто говорил об особом авторском психозе, которым заболевает человек, ставящий пьесу.
— Я сам испытал это, когда ставил «Иванова», — говорил он и описывал болезнь: «Человек теряет себя, перестает быть самим собой, и его душевное состояние зависит от таких пустяков, которых он в другое время не заметил бы: от выражения лица помощника режиссера, от походки выходного актера… Актер, исполняющий главную роль, надел клетчатый галстук, а автору кажется, что тут нужен черный. Публика, может быть, совсем не замечает галстука, а ему, автору, кажется, что она не видит ни декорации, ни игры, а только галстук, и что это ужасно, и что галстук этот погубит пьесу.
Бывает и хуже: актриса — ломака, вульгарнейшая из женщин, раньше он не мог выносить ее голоса, у него делались спазмы в горле, когда она с ним кокетничала. Но вот ей аплодируют, она тянет пьесу к успеху, и он, автор, начинает чувствовать к ней нежность, а в антракте подбегает к ней и целует ей ручки…
А вот идет главная сцена, на которую он возложил все надежды. В зале кашляют, сморкаются. Ни малейшего впечатления, ни хлопка… Автор прячется в темной норе, среди старых декораций, и решает никогда отсюда не выйти и уже ощупывает свои подтяжки, пробуя, выдержат ли они, если он на них повесится.
И никто этого не понимает. И те не понимают, что приходят за кулисы «утешать» автора, и даже поздравляют с успехом. Они не подозревают, что перед ними временно-сумасшедший, который может наброситься на них и искусать их. Человек с более или менее здоровой нервной организацией выдерживает это потрясение, понемногу отходит, и дня через три его можно перевести в разряд «выздоравливающих», но иных это потрясает на всю жизнь. Вот это и случилось с Иваном Леонтьевичем.
Нет, вы посмотрите, что ему театр? Да он его даже, в сущности, не любит, почти не бывает в нем и не знает ни актеров, ни актрис, а пишет об актерах и актрисах.
Константин Сергеевич Станиславский:
Антон Павлович любил прийти до начала спектакля, сесть против гримирующегося и наблюдать, как меняется лицо от грима. Смотрел он молча, очень сосредоточенно. А когда какая-нибудь проведенная на лице черта изменит лицо в том направлении, которое нужно для данной роли, он вдруг обрадуется и захохочет своим густым баритоном. И потом опять замолчит и внимательно смотрит.
Табак, напитки и закуски
Антон Павлович Чехов. Из письма Ф. О. Шехтелю. Мелихово, 10 марта 1893 г.:
Дорогой Франц Осипович, можете себе представить, я курю сигары. Бросил в прошлом году табак и папиросы и курю сигары. Нахожу, что это гораздо вкуснее, здоровее и чистоплотнее, хотя и дороже. Вы специалист по сигарной части, а я еще неуч и дилетант. Будьте ласковы, научите меня: какие сигары курить мне и где в Москве я могу покупать их? Теперь я курю сигары петербургского Тен-Кате, называемые «F.I Armado, Londres», внутреннего приготовления из выписанных гаванских табаков, крепкие. <…> К ним я привык. Нет ли чего-нибудь подходящего в Москве? За 6 р. 50 к. хороших сигар не достанешь, правда, но что делать? Ich habe kein Geld[5]. Пожалуй, я не прочь заплатить и десять рублей за сотню, но не дороже. Вообще дайте соответственный совет. Скажу большое спасибо. Тен-Кате обещал высылать наложенным платежом, но ведь это такая возня, такая скука. Лучше уж махорку курить, чем на почту ездить.
Антон Павлович Чехов. Из письма Ф. О. Шехтелю. Мелихово, 26 марта 1893 г.:
Я курю по 3–4 сигары в день, но сейчас не в очередь закурил рижскую. Весьма приятно и весьма похвально, как говорят попы. Вкусно.
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
11 февраля 1895. О своей диете рассказал следующее: «Если я плотно поем или выпью рюмку водки, то уже не могу работать; поэтому за обедом я съедаю лишь несколько ложек супа, но зато как следует ужинаю и затем сразу же ложусь спать».
Елена Михайловна Шаврова-Юст (1874–1937), писательница, корреспондентка Чехова:
Вообще же он был очень воздержан и мало ел.
— Для писания надо прежде всего избегать сытости, — говорил он часто.
Иногда, во время какой-нибудь поглощавшей его литературной работы, он пил утром только кофе, а за обедом — чашку бульона. <…> Это нисколько не мешало ему понимать толк в разных тонкостях гастрономии и любить хорошую кухню. <…> В вопросах кулинарии, как и во многих других жизненных вопросах и вкусах, Чехов был очень разборчив. Ему очень нравилась тонкая французская кухня, и ничего не было так противно ему, как то усиленное питание, на котором, главным образом, основывалось лечение его болезни, особенно в последние годы.
Он любил также настоящие русские блюда, которые так хорошо готовили в Таганроге его почтенные тетушки, любил вкусные пироги, блины, борщи и соусы, любил хороший рассольник с потрохами. Любил выпить водки из серебряного стаканчика и перед ухой закусить скумбрией в томате или свежей икоркой. Любимым вином Антона Павловича было Понте Кане…
Николай Дмитриевич Телешов:
Он любил угощать горячей картошкой, печенной на углях, и старым крымским «губонинским»[6] кляретом.
Петр Алексеевич Сергеенко:
Как-то прогуливаясь с А.П. по Одессе, я сказал, что около. Александровского сада есть небольшая кухмистерская, содержимая некоей хохлушкой, Ольгой Ивановной, и что мне приходилось там превкусно есть малороссийские блюда. Чехов остановился.
— И настоящий малороссийский борщ у нее бывает? — спросил он.
— Почти всегда.
— С бараниной и помидорами?
— Ну, разумеется, со всеми онерами[7].
— Едем к благодетельнице Ольге Ивановне! — воскликнул Чехов с оживлением.
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
28 июня 1904. Филиппов рассказал о своих встречах с Н. К. Михайловским. Однажды вечером они стояли у стойки в ресторане Палкина (в Санкт-Петербурге. — Сост.) и пили водку. Михайловский сказал, что однажды он стоял у этой же стойки с А. П. Чеховым. Не проронивший за целый вечер ни слова, Чехов вдруг заметил, что лучшая закуска к водке — кусочек черного хлеба и ничего больше.
Константин Алексеевич Коровин:
За обедом он говорил мне:
— Отчего вы не пьете вино?.. Если бы я был здоров, я бы пил… Я так люблю вино…
Викентий Викентьевич Вересаев:
Узнал, что я в прошлом году был в Италии.
— Во Флоренции были?
— Был.
— Кианти пили?
— Еще бы!
— Эх, кианти!.. Еще бы раз попасть в Италию, попить бы кианти… Никогда уже этого больше не будет.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Выпить в молодости любил: чем становился старше, тем меньше. Говорил, что пить водку аккуратно за обедом, за ужином не следует, а изредка выпить, хотя бы и много, не плохо. Но я никогда, ни на одном банкете или товарищеском вечере не видел его «распоясавшимся».
Антон Павлович Чехов. Из письма И. Н. Оболонскому. Петербург, 5 ноября 1892 г.:
Я хожу в Милютин ряд и ем там устриц. Мне положительно нечего делать, и я думаю только о том, что бы мне съесть и что выпить, и жалею, что нет такой устрицы, которая меня бы съела в наказание за грехи.
Любитель прекрасного пола
Михаил Павлович Чехов:
Сколько знаю, будучи учеником седьмого и восьмого классов, он очень любил ухаживать за гимназистками, и, когда я был тоже учеником восьмого класса, он рассказывал мне, что его романы были всегда жизнерадостны. Часто, уже будучи студентом, он дергал меня, тогда гимназиста, за фалду и, указывая на какую-нибудь девушку, случайно проходившую мимо, говорил:
— Беги, беги скорей за ней! Ведь это находка для ученика седьмого класса!
Впоследствии, уже после смерти брата Антона, А. С. Суворин рассказывал мне, со слов самого писателя, следующий эпизод из его жизни. Где-то в степи, в чьем-то имении, будучи еще гимназистом, Антон Павлович стоял у одинокого колодца и глядел на свое отражение в воде. Пришла девочка лет пятнадцати за водой. Она так пленила собой будущего писателя, что он тут же стал обнимать ее и целовать. Затем оба они еще долго простояли у колодца и смотрели молча в воду. Ему не хотелось уходить, а она совсем позабыла о своей воде. Об этом Антон Чехов, уже будучи большим писателем, рассказывал А. С. Суворину, когда оба они разговорились на тему о параллельности токов и о любви с первого взгляда.
Исаак Наумович Альтшуллер:
От Чехова, когда он бывал в особенно хорошем настроении, приходилось иногда слышать, как, случалось, он с приятелями в молодости веселился. Но я никогда не слышал ни от него самого, ни от других ни про одно его серьезное увлечение.
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
11 февраля 1895. Еще он сказал: «Я, вероятно, никогда не женюсь, потому что могу жениться только по любви. После постановки «Иванова» я переспал не менее чем с 92 (девяносто двумя) женщинами; я воображал, что люблю их, и выслушивал их любовные клятвы; но проходила ночь, и я понимал, что мы оба глубоко заблуждались». Он имеет дело почти исключительно с замужними, так сказать, приличными женщинами; два года назад он говорил мне, что никогда еще не лишил невинности ни одну девушку.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Успех у женщин, кажется, имел большой. Говорю «кажется», потому что болтать на эту тему не любили ни он, ни я. Сужу по долетевшим слухам. Один раз только он почему-то проявил странную и неожиданную откровенность. Может быть, потому что случай был уж очень исключительный. Мы много времени не виделись, столкнулись на выставке картин и условились встретиться завтра днем, почему-то на бульваре. И чуть не с первых слов он рассказал мне как курьез: он ухаживал за замужней женщиной, и вдруг, в последнюю минуту успеха, обнаружилось, что он покушается на невинность. Он выразился так: «И вдруг — замок».
Открыл ли он его, я не допрашивал, но о ком шла речь, догадывался, и он знал, что я догадываюсь. Русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как талантом. Думаю, что он умел быть пленительным. Крепкой, длительной связи до женитьбы у него не было. Незадолго перед женитьбой он говорил, что больше одного года никакая связь у него не длилась.
Владимир Александрович Поссе:
Интимная жизнь Чехова почти неизвестна. Опубликованные письма не вскрывают ее. Но, несомненно, она была сложная. Несомненно, до позднего брака с Книппер Чехов не раз не только увлекался, но и любил «горестно и трудно». Только любивший человек мог написать «Даму с собачкой» и «О любви», где огнем сердца выжжены слова: «Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».
Кажется, в тот же вечер Чехов сказал мне:
— Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привыкнуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть.
Михаил Осипович Меньшиков:
Как относился Чехов к женщинам? Для романиста знание женской души то же, что знание тела для скульптора. Не время, конечно, говорить об этой стороне жизни Чехова. В своей родной семье он мог наблюдать на редкость милые, прекрасные женские типы. Я был не раз свидетелем самого восторженного восхищения, какое Чехов вызывал у очаровательных девушек. Вероятно, он имел бы ошеломляющий «успех» у дам разного круга, если бы это было не ниже его души. Заметно было, что Чехову любовь — как и Тургеневу — давалась трудно. Вкушая, он здесь «вкусил мало меда»… Лет девять назад он говорил мне: «Вот, что такое любовь: когда вы будете знать, что к вашей возлюбленной пришел другой и что он счастлив; когда вы будете бродить около дома, где они укрылись; когда вас будут гнать как собаку, а вы все-таки станете ходить вокруг и умолять, чтобы она пустила вас на свои глаза — вот это будет любовь». А через пять лет мы как-то поздним вечером ехали из Гурзуфа в Ялту. Стояла чудная ночь. Глубоко внизу под ногами лежало сонное море, но точно горсть брильянтов — горели огоньки Ялты. Чехов сидел крайне грустный и строгий, в глубокой задумчивости. «Что есть любовь?» — спросил наш спутник в разговоре со мной. «Любовь — это когда кажется то, чего нет», — вставил мрачно Чехов и замолк.
Константин Алексеевич Коровин:
— Меня ведь женщины не любят… Меня все считают насмешником, юмористом, а это неверно… — не раз говорил мне Антон Павлович.
Муж
Лилия Алексеевна Авилова:
— Если бы я женился, — задумчиво заговорил Чехов, — я бы предложил жене… Вообразите, я бы предложил ей не жить вместе. Чтобы не было ни халатов, ни этой российской распущенности… и возмутительной бесцеремонности.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 21 марта 1895 г.:
Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, — я не выдержу. Когда каждый день мне говорят все об одном и том же, одинаковым тоном, то я становлюсь лютым. Я, например, лютею в обществе Сергеенко, потому что он очень похож на женщину («умную и отзывчивую») и потому что в его присутствии мне приходит в голову, что моя жена может быть похожа на него. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день. NB: оттого, что я женюсь, писать я не стану лучше.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чехову. Ялта, 26 октября 1898 г.:
Что касается женитьбы, на которой ты настаиваешь, то — как тебе сказать? Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. В семейной жизни самый важный винт — это любовь, половое влечение, едина плоть, все же остальное — не надежно и скучно, как бы умно мы ни рассчитывали. Стало быть, дело не в симпатичной девушке, а в любимой; остановка, как видишь, за малым.
Федор Федорович Фидлер. Со слов А. М. Федорова. Из дневника:
20 октября 1906. По отношению к своей жене он вел себя очень деликатно, хотя можно усомниться, действительно ли он ее любил.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Его жена, прекрасная артистка О. Л. Книппер, не мыслила себя без Художественного театра, да и театр не мыслил себя без нее. Вместе с тем она очень тяготилась вынужденной разлукой, предлагала А.П., что она все бросит и будет жить в Ялте, но он этой жертвы принять не хотел…
<…> А.П. ценил талант О.Л., не допускал и мысли, чтобы она отказалась ради него от сцены, высказывался по этому поводу категорически. Однако скучал без нее в Ялте, чувствовал себя одиноким — особенно в темные осенние вечера, когда на море бушевал шторм, ураган ломал в саду магнолии, и кипарисы гнулись и скрипели точно плача, когда кашель мешал ему выходить, да и никто не отваживался высовывать носа из дому в такую бурю, а он читал письма из Москвы, с описаниями веселой и полной жизни, которая шла там, описанием театра, дышавшего его духом, его пьесами, в то время когда он был отрезан и от жены, и от театра, и от друзей.
Понятно, что он все время рвался в Москву, ездил туда вопреки благоразумию, задерживался там — и эти перерывы фатально влияли на сто здоровье.
Сын
Иван Алексеевич Бунин:
Моим друзьям Елиатьевским Чехов не раз говорил:
— Я не грешен против четвертой заповеди…
Алексей Сергеевич Суворин:
Он начал писать еще студентом; родители его, на руках которых были еще сыновья и дочь, жили бедно, и его ужасно огорчало, что на именины матери не на что сделать пирог. Он написал рассказ и отнес его, кажется, в «Будильник». Рассказ напечатали и на полученные несколько рублей справили именины матери.
Игнатий Николаевич Потапенко:
К матери своей он относился с нежностью, отцу же оказывал лишь сыновнее почтение, — так по крайней мере мне казалось. Предоставляя ему все, что нужно для обстановки спокойной старости, он помнил его былой деспотизм в те времена, когда в Таганроге главой семьи и кормильцем был еще он. В иные минуты, указывая на старика, который теперь стал тихим, мирным и благожелательным, он вспоминал, как, бывало, тот заставлял детей усердно посещать церковные службы и при недостатке усердия не останавливался и перед снятием штанишек и постегиванием по обнаженным местам.
Конечно, это вспоминалось без малейшей злобы, но, видимо, оставило глубокий след в его душе. И он говорил, что отец тогда был жестоким человеком.
И не только того не мог простить А.П. отцу, что он сек его — его, душе которого было невыносимо всякое насилие, — но и того, что своим односторонне-религиозным воспитанием он омрачил его детство и вызвал в душе его протест против деспотического навязывания веры, лишил его этой веры. «Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, — говорит он в одном письме к И. Л. Щеглову, — то оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками». <…>
И мне всегда казалось, что к отцу он относился без той теплоты, которая согревала его отношения к матери, сестре и братьям. Особенно же к матери, которая при таганрогском главенстве Павла Егоровича едва ли имела в семье тот голос, на какой имела право. Теперь, когда главой семьи сделался А.П., она получила этот голос.
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Я не знаю точно, какое отношение было у А.П. к отцу, но вот что раз он сказал мне <…>:
— Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сек.
А к матери у него было самое нежное отношение. Его заботливость доходила до того, что, куда бы он ни уезжал, он писал ей каждый день хоть две строчки. Это не мешало ему подшучивать над ее религиозностью. Он вдруг спросит:
— Мамаша, а что, монахи кальсоны носят?
— Ну, опять! Антоша вечно такое скажет!.. — Она говорила мягким, приятным, низким голосом, очень тихо.
И вся она была тихая, мягкая, необыкновенно приятная.
Федор Федорович Фидлер. Со слов А. М. Федорова. Из дневника:
20 октября 1905. Чехов был очень привязан к своей матери (a его, в свою очередь, обожали все члены семьи). Однако он подтрунивал над ее стремлением вести аскетическую жизнь и убеждал, что надо говорить «леригия», а не «религия». Застав ее однажды за чтением, он сказал: «Оставьте Вы, наконец, Четьи-Минеи и почитайте лучше знамени-итого писателя Антона Чехова!..»
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Очень заботился о том, чтобы после его смерти мать и сестра были обеспечены.
Жилище
Дом в Москве, на Садовой-Кудринской, 6
Александр Семенович Лазарев:
Я познакомился с Чеховым, когда он жил на Кудринской-Садовой в доме д-ра Корнеева, в оригинальном, как рассказы Чехова, флигельке, похожем на маленький замок; хорошо помню полукруглые окна, выходившие на Садовую, в форме башен. Квартира была расположена в двух этажах. Во втором этаже жили мать, отец и сестра Чехова, внизу был большой кабинет писателя и две спальни — его и брата Михаила, студента, кончавшего юридический факультет.
Михаил Павлович Чехов:
В нижнем этаже помещались кабинет и спальня брата, моя комната, парадная лестница, кухня и две комнаты для прислуг. В верхнем — гостиная, комнаты сестры и матери, столовая и еще одна комната с большим фонарем. На моей обязанности лежало зажигать в спальне у Антона на ночь лампаду, так как он часто просыпался и не любил темноты. Нас отделяла друг от друга тонкая перегородка, и мы подолгу разговаривали через нее на разные темы, когда просыпались среди ночи и не спали.
Александр Семенович Лазарев:
Из нижнего в верхний этаж вела красивая чугунная лестница с широкой площадкой на повороте, на которой лежало отличное чучело волка. В большой комнате верхнего этажа, расположенной над кабинетом Чехова, я помню пианино, аквариум, нарядную мебель и большую картину Николая Чехова, талантливо начатую, но заброшенную и не конченную им. <…>
В кабинете Чехова близ входа в его спальню открытые полки с книгами тянулись от пола до потолка. Это была библиотека Чехова, составившаяся по преимуществу с помощью покупок на старой московской Сухаревке, положившей начало библиотекам многих московских писателей и журналистов. <…>
Книг в библиотеке Чехова жалось друг к другу немало, быть может до тысячи и даже значительно больше; все они имели очень зачитанный вид; здесь были старые, разрозненные толстые журналы, отдельные томики разных авторов, имевших некоторое влияние на творчество Чехова; покупалось все это в разное время, понемножку, при получении из редакций более крупного гонорара или аванса; полные собрания сочинений в те времена стоили дорого, и на них у Чехова не хватало денег. Да и помещение ранее не позволяло особенно шириться его библиотеке.
Дом в Мелихове
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Мелихово — это длинный одноэтажный дом на небольшом фундаменте, не очень большой сад, не длинная, но красивая аллея, идущая сбоку от дома к пруду или озеру, и несколько десятков десятин земли. Были и службы, кое-какие из них построены даже Антоном Павловичем. Центральная Россия, Серпуховский уезд, дорога к Мелихову, от станции Лопасня 11 верст, проселочная, лесом, в дождливую погоду осенью и весной, как водится, плохая: в рытвинах и ухабах. <…>
Благодаря озеру и саду, в лунные ночи и закатные вечера Мелихово было красиво и волновало фантазию. Здесь Чехов писал «Чайку», и много подробностей в «Чайке» навеяно обстановкой Мелихова.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Усадьба Чехова лежала на ровном месте, без каких-либо особенно красивых уголков. Небольшой старый одноэтажный дом, выкрашенный желтой, уже потемневшей охрой, с парадным ходом, застекленным цветными стеклами. По другую сторону дома находилась терраса, перед которой была расположена круглая большая клумба с резедой, душистым горошком, табаком. За большой клумбой были посажены полукругом любимые розы Антона Павловича, около самого балкона, по обе стороны крыльца, — две грядки гелиотропов, посаженных тоже по просьбе Антона Павловича (как он сказал — «для темпераментных гостей»). Дальше, за цветником, шла коротенькая со скамеечками липовая аллея и ряд елей и сосен. Между флигелем и домом был разбит небольшой фруктовый сад. <…> За волютами — к выходу в поле — была скамеечка, где по вечерам часто сидел Чехов, если только у него для этого находилось время (что случалось больше, когда кто-нибудь был из гостей). Вдали, где шла дорога на станцию, виднелся перелесок — ольха, березки, кустарник. По левую сторону дороги был небольшой пруд, вроде копанки с глинистыми вязкими берегами, куда пущены были караси. Антон Павлович очень охотно удил рыбу, но и за этим удовольствием его приходилось видеть очень редко. Пруд был еще молодой, некрасивый, недавно посаженные ивы еле давали тень. На берегу скромно стояла обтянутая рогожкой купальня на одного человека.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
В доме было комнат девять-десять, и когда А.П. в первый раз показывал мне его, — то меня обвели кругом дома раза три, и каждый раз он называл комнаты по-иному: то, положим, «проходная», то «пушкинская» — по большому портрету Пушкина, висевшему в ней, — то «для гостей», или «угловая» — она же «диванная», она же — «кабинет». А.П. объяснял, что так в провинциальных театрах, когда не хватает «толпы» или «воинов», одних и тех же статистов проводят через сцену по нескольку раз — то пешком, то бегом, то поодиночке, то группами… чтобы создать впечатление многочисленности. Обстановка была более чем скромная — без всякой мишуры: главное украшение была безукоризненная чистота, много воздуха и цветов. Комнаты как-то походили на своих владельцев: келейка Павла Егоровича, с киотами, лампадкой, запахом лекарственных трав и огромными книгами, в которых он записывал все события дня в одной строке <…>. Комната Евгении Яковлевны, кротчайшей и добрейшей матери А.П., — с ослепительной чистоты занавесками, швейной машинкой, огромным шкафом и сундуком, где хранилось все, что только могло понадобиться в доме, и с удобным креслом, в котором, впрочем, она редко сидела — неутомимая хлопотунья.
Белая девическая комната Марии Павловны, с цветами и узкой белой кроватью, с огромным портретом брата, занимавшим самое главное место как в комнате, так и в ее сердце. Гостиная с пианино и террасой в сад…
Наконец — кабинет А.П. — с этими светлыми, как его взгляд на мир, окнами, с книгами, письменным столом, на котором, кроме исписанных его причудливым, но разборчивым почерком страниц последнего рассказа, лежали планы, чертежи и сметы больниц, школ, построек серпуховского земства, — с этюдами Левитана и покойного Н. П. Чехова — талантливого художника — на стенах.
Алексей Иванович Яковлев:
А.П. позвал нас к себе в кабинет. Это была узкая продолговатая комната с низкими окнами, очень просто обставленная и аккуратно прибранная. На письменном столе, поставленном поодаль от стен, лежал французский медицинский журнал. Из окна позади стола виднелся за деревьями прудок. На стене висел странный рисунок «Волшебный театр», похожий на иллюстрацию к Эдгару По. Одинокие руины и кругом лес, тускло освещаемый сквозь тучи луной.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Кабинет Антона Павловича был очень небольшой. Два окна выходили в сад; в комнате стояли письменный стол, несколько венских стульев, старинный шкаф с книгами, затянутый под стеклом темной материей, шкафчик с медикаментами, часть которых стояла на окне из-за нехватки места в аптечке, небольшая библиотека — собрание классиков.
Михаил Павлович Чехов:
Из-за постоянного многолюдства в доме не стало хватать места. Антон Павлович и раньше помышлял о постройке хутора у выкопанного им пруда или подальше, на другом участке, но это не осуществилось. Вместо хутора начались постройки в самой усадьбе. Одни хозяйственные постройки были сломаны и перенесены на новое место, другие возведены вновь. Появились новый скотный двор, при нем изба с колодцем и плетнем на украинский манер, баня, амбар и, наконец, мечта Антона Павловича — флигель. Это был маленький домик в две крошечные комнатки, в одной из которых с трудом вмещалась кровать, а в другой — письменный стол. Сперва этот флигелек предназначался только для гостей, а затем Антон Павлович переселился в него сам и там впоследствии написал свою «Чайку». Флигелек этот был расположен среди ягодных кустарников, и, чтобы попасть в него, нужно было пройти через яблоневый сад. Весной, когда цвели вишни и яблони, в этом флигельке было приятно пожить, а зимой его так заносило снегом, что к нему прокапывались целые траншеи в рост человека.
Дом в Ялте
Александр Иванович Куприн:
Кабинет в ялтинском доме у А.П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, подышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери — большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему — письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем; в нише — турецкий диван. С правой стороны, посредине стены — коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое не заделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами — это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу — дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, — светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета — в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо — шкаф с книгами. На камине несколько безделушек и между ними прекрасная модель парусной шхуны. Много хорошеньких вещиц из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры стонов. На стенах портреты — Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А.П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полукольцом горы.
Константин Алексеевич Коровин:
В комнате Антона Павловича все было чисто прибрано, светло и просто — немножко, как у больных. Пахло креозотом. На столе стоял календарь и веером вставленные в особую подставку много фотографий — портреты артистов и знакомых. На стенах были тоже развешаны фотографии тоже портреты, и среди них — Толстого, Михайловского, Суворина, Потапенки, Левитана и других.
Сергей Николаевич Щукин:
В кабинете А. П-ча среди карточек писателей, артистов и, может быть, просто знакомых ему людей есть одна довольно необычная. На ней изображен человек в одежде духовного лица и вместе с ним старушка в темном простом платье. История этой карточки такова. Как-то, еще когда жил на даче Иловайской, А. П-ч вернулся из города очень оживленный. Случайно он увидал у фотографа карточку таврического епископа Михаила. Карточка произвела на него впечатление, он купил ее и теперь дома опять рассматривал и показывал ее.
Епископ этот (Михаил Грибановский) незадолго до того умер. Это был один из умнейших архиереев наших, с большим характером. <…> Лично А. П-ч его не знал.
Преосвященный Михаил был еще не старый, но жестоко страдавший от чахотки человек. На карточке он был снят вместе со старушкой матерью, верно какой-нибудь сельской матушкой, вдовой дьякона или дьячка, приехавшей к сыну-архиерею из тамбовской глуши.
Лицо его очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным, страдальческим выражением. Он приник головой к старушке, ее лицо было тоже чрезвычайно своей тяжкой скорбью. Впечатление от карточки было сильное, глядя на них — мать и сына. — чувствуешь, как тяжело бывает человеческое горе, и хочется плакать.
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
5 февраля 1906. [Александр Чехов] рассказал также, что у его брата в Ялте лежало на письменном столе около тридцати ручек и карандашей, коими он пользовался без разбора.
Доходы и расходы
Игнатий Николаевич Потапенко:
Правда, что материальное положение не давало ему возможности свободно располагать своим временем и выбирать место. Обладая огромным талантом изумительной красоты — талантом, равный которому с тех нор не появился, несмотря на богатый прилив в нашей литературе свежих дарований, и не скоро, должно быть, появится, — он не мог и мечтать о таких колоссальных заработках, какие, слава богу, позже выпадали на долю некоторых других писателей. <…>
Подумать только, что Чехов в большой богатой газете, которая справедливо гордилась его сотрудничеством, получал 12 коп. за строчку, то есть 120 руб. за печатный лист!..
Константин Сергеевич Станиславский:
Он прямо подошел ко мне и приветливо обратился со следующими словами:
— Вы же, говорят, чудесно играете мою пьесу «Медведь». Послушайте, сыграйте же. Я приду смотреть, а потом напишу рецензию. Помолчав, он добавил:
— И авторские получу.
Помолчав еще, он заключил:
— 1 р. 25 к.
Родион Абрамович Менделевич:
Помню, однажды, «в минуту жизни трудную», я обратился к А.П. за материальною помощью. Он вскинул на меня добрые, ясные глаза, вынул из ящика письменного стола записную книжку и протянул мне:
— Вот, голубчик, посмотрите, сколько я забрал везде авансов, а сам сижу без сантима… Вот, обещали выслать, — тогда не сомневайтесь, что помогу…
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Первые годы А.П. постоянно нуждался в деньгах, как и все русские писатели, за самыми ничтожными исключениями. Письма А. П-ча, опять-таки как и письма большинства писателей, были в то время полны просьб о высылке денег. Вопрос о гонорарах, кто сколько получает, как платят издатели, занимал много места в наших беседах. Кстати сказать, в денежных расчетах Антон Павлович был до щепетильности аккуратен. Терпеть не мог должать кому-нибудь, был очень расчетлив, не скуп, но никогда не расточителен; относился к деньгам, как к большой необходимости, а с богатыми людьми вел себя так: богатство — это их личное дело, его нисколько не интересует и не может ни в малейшей степени изменять его отношение к ним.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва, 27 октября 1888 г.:
Когда у меня бывают деньги (быть может, это от непривычки, не знаю), я становлюсь крайне беспечен и ленив: мне тогда море по колено…
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Когда он задумал покупать имение, я его спросил, какая ему охота возиться с этим, — он сказал:
— Не надо же будет думать ни о квартирной плате, ни о дровах…
Михаил Павлович Чехов:
Большое цензовое имение (Мелихово. — Сост.) в 213 десятин, с усадьбой, лесами, пашнями и лугами, которые он сам же называл «великим герцогством», досталось ему, в сущности говоря, всего только за 5 тысяч рублей. Условная цена была 13 тысяч рублей, но остальные 8 тысяч рублей были рассрочены продавцом по закладной на 10 лет. Не наступил еще срок и первого платежа, как бывший владелец прислал письмо, в котором умолял оплатить закладную до срока, за что уступал 700 рублей. Тогда я заложил Мелихово в Московском земельном банке, причем оно было им оценено в 21 300 рублей, то есть в 60% его действительной стоимости. Я взял только ту сумму, которая требовалась для ликвидации закладной, выданной продавцу, и таким образом Антон Павлович освободился от долга частному лицу, и ему пришлось иметь дело с банком и выплачивать ему с погашением долга всего только 300 рублей в год. Какую же квартиру можно было нанять в Москве за 300 рублей в год?
Игнатий Николаевич Потапенко:
Щепетильность же его в денежных делах была исключительная. Я, конечно, не имею в виду людей близких и тех, кого он признавал своими товарищами. Но там речь могла идти о самых незначительных суммах, которые никого не могли обременить. Тут и у него брали, и он не стеснялся.
Но в отношении к издателям он всегда старался не быть должником и прибегал к просьбе об авансе в самых исключительных случаях <…>. На аванс он смотрел как на петлю, которую писатель сам набрасывает себе на шею. Случалось, что, взяв аванс и убедившись, что обещанной работы дать к условленному сроку не в состоянии, он делал огромное усилие, чтобы достать денег и поскорее снять с своей шеи петлю и вернуть аванс, чем, конечно, больше всех и несказанно удивлял издателя, который не был приучен к такого рода щепетильности. Чехов нуждался… Как это странно звучит теперь! Но в те годы в этом не находили ничего странного. Напротив, считалось в порядке вещей, чтобы писатель нуждался, и чуть ли не прямо пропорционально его таланту.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово. 16 июня 1892 г.:
Душа моя просится вширь и ввысь, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому не нужной условной добродетелью. Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги центр моей деятельности. Ноющее чувство это вместе со справедливостью делают в моих глазах писательство мое занятием презренным, я не уважаю того, что пишу, я вял и скучен самому себе, и рад, что у меня есть медицина, которою я, как бы то ни было, занимаюсь все-таки не для денег. Надо бы выкупаться в серной кислоте и совлечь с себя кожу и потом обрасти новой шерстью.
Петр Алексеевич Сергеенко:
Чехов не раз делал попытки привести в ясность свои материальные дела, т. е. он ли в долгу у издателей, или издатели ему должны. Но его попытки остались вотще перед твердынями русской халатности. Это часто мутило корректного и обстоятельного Чехова. <…>
И вот однажды, в январе 1899 г., я получил от Чехова письмо, в котором он писал о своих осложнившихся материальных делах и выражал, между прочим, желание продать свои сочинения А. Ф. Марксу, с которым у меня были тогда довольно частые сношения. <…>
Очевидно, он предпочитал иметь дело с А. Ф. Марксом не только как с наиболее тороватым издателем, но и как наиболее предприимчивым человеком, могущим в скором времени выпустить в свет прилично изданное собрание сочинений Чехова.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ялта, 27 января 1899 г.:
Ты пишешь: «не продавай Марксу», а из Петербурга телеграмма: «договор нотариально подписан». Продажа, учиненная мною, может показаться невыгодной и наверное покажется таковою в будущем, но она тем хороша, что развязала мне руки и я до конца дней моих не буду иметь дела с издателями и типографиями. К тому же Маркс издает великолепно. Это будет солидное издание, а не мизерабельное. Мне заплатят 75 тыс. в три срока <…>.
Антон Павлович Чехов. Из письма Ал. П. Чехову. Ялта, 27 января 1899 г.:
С Маркса я получил 75 тыс. за все напечатанное мною доселе; за будущее он будет платить мне так: в первые пять лет по подписании договора — 5 тысяч за 20 листов, во вторые пять лет — 9 тысяч и т. д. с прибавкой по 200 р. на лист через каждые пять лет, так что если я проживу еще 45 лет, то он, душенька, в трубу вылетит. Мы ему покажем!
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ялта. 4 февраля 1899 г.:
Я подписал уже договор с Марксом, это факт совершившийся, и потому Сергеенко может говорить о нем где угодно и сколько угодно. Теперь уже, когда все кончено, нет секрета. 75 тыс. я получу не сразу, а в несколько сроков, на пространстве почти двух лет, так что с уверенностью можно сказать, что деньги эти я не проживу в два года. Расчет мой таков: 25 тысяч на уплату долгов, на постройку и проч., а 50 тыс. отдать в банк, чтобы иметь 2 тысячи в год ренты.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чехову. Ялта, 5 декабря 1899 г.:
Живем мы в Ялте. Построили дом. Дом небольшой, но удобный. Забираем в лавках по книжкам, каждое утро дворник шагает на базар. <…> В финансовом отношении дело обстоит неважно, ибо приходится жаться. Дохода с книг я уже не полу чаю, Маркс по договору выплатит мне еще не скоро, а того, что получено, давно уже нет. Но оттого, что я жмусь, дела мои не лучше, и похоже, будто над моей головой высокая фабричная труба в которую вылетает все мое благосостояние. На себя я трачу немного, дом берет пустяки, но мое литературное представительство, мои литераторские (или не знаю, как их назвать) привычки отхватывают себе из всего, что попадает мне в руки Теперь работаю. Если рабочее настроение будет продолжаться до марта, то заработаю тысячи две три, иначе придется проедать марксовские. Дом не заложен.
Алексей Сергеевич Суворин. Из дневника:
15 мая 1900. 12-го, в пятницу, выехал в Москву. 13-е, суббота, провел с Чеховым в Москве. Он мне телеграфировал в Петербург, что приехал в Москву. Целый день с ним. Встретились хорошо и хорошо, задушевно провели день. Я ему много рассказывал. Он смеялся. Говорили о продаже им сочинений Марксу. У него осталось всего 25 000 руб. — Не мешает ли вам то, что вы продали свои сочинения? — Конечно, мешает. Не хочется писать. — Надо бы выкупить, — говорил я ему. — Года два надо подождать, — говорил он. — Я к своей собственности отношусь довольно равнодушно.
Мечты, планы, проекты
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 31 марта 1892 г.:
Как бы я хотел иметь пасеку! У меня для нее есть отличные места. Можно колодок 200 поставить. А это весьма занимательно.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину Мелихово, 28 июля 1893 г.:
Вам хочется кутнуть. А мне ужасно хочется. Тянет к морю адски. Пожить в Ялте или Феодосии одну неделю доя меня было бы истинным наслаждением. Дома хорошо, но на пароходе, кажется, было бы в 1000 раз лучше. Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино и беседовать о литературе, а вечером дамы.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Душе его тесно было в пределах Москвы, Петербурга и Мелихова, ему хотелось видеть как можно больше, весь свет. Он постоянно мечтал о поездке в какую-нибудь дальнюю страну, и единственная, какая ему удалась, это была поездка на Сахалин — самая ненужная из всех, какие можно было выдумать, и к тому же вредно отразившаяся на его хрупком здоровье. <…>
Мечтал же он совсем о другом — о теплых краях, о жизни пестрой, оригинальной, не похожей на нашу. «Денег, денег, — пишет он своей приятельнице в 1893 году. — Будь деньги, я уехал бы в Южную Африку, о которой читаю теперь очень интересные статьи! Надо иметь цель в жизни, а когда путешествуешь, то имеешь цель». А позже ему хочется «из Москвы уехать на Мадейру. Это от грудей (то есть от грудной болезни) хорошо, и даже попутчик у него есть. И так всю жизнь — то на Мадейру, то в Африку, то в Австралию, то в Америку, то шутя, то очень серьезно, но «денег, денег» — их-то всегда у него не хватало, и приходилось довольствоваться домашними поездками — в Таганрог, в Ялту, в Нижний и т. п.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 24 августа 1893 г.:
Строить себе дом я начну в апреле. Дом двухэтажный. Буду жить в нем одиноко, без женской прислуги. Бабы нечистоплотны и слишком много говорят о своем трудолюбии. Перед домом широкое поле с далью, деревня в двух верстах. Парк десятин в двадцать. Все это, конечно, при условии, если не проживу за зиму тех денег, которые выручу за «Сахалин». А я уже проел 1100 р. Скажите Витте, чтобы он поручил мне сочинить какой-нибудь проект и дал бы мне за это аренду. Несмотря на все свои широкие планы и мечты об одиночестве, двухэтажном доме и проч., я все-таки ясно сознаю, что рано или поздно я кончу банкротством, или, вернее, ликвидацией всех планов и мечтаний.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 26 июня 1894 г.:
А хорошо бы где-нибудь в Швейцарии или Тироле нанять комнатку и прожить на одном месте месяца два, наслаждаясь природой, одиночеством и праздностью, которую я очень люблю. Мне хочется за границу, представьте.
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
11 февраля 1895. Долго говорили о журнале, который следует основать (этим планом Чехов делился со мной еще два года назад): чтобы издатели не обманывали сотрудников, писателям придется взять это дело в свои руки; гонорар не должен быть ниже, чем 450 руб. за лист; Потапенко вызвался раздобыть для начала 10 000 руб., но издателем должен числиться Чехов, тогда, мол, никакие кредиторы не смогут посягнуть на журнал…
Максим Горький:
Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:
— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад: можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!
Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.
— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запутан возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него… унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам лярингит, ревматизм, туберкулез… ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это… какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват… серьезно!
Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:
— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.
Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:
— Видите — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте — чаю дам за то, что вы такой терпеливый…
Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний.
Иван Алексеевич Бунин:
Последнее время часто мечтал вслух:
— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот…
Алексей Сергеевич Суворин:
Он говорил, что хотел бы поехать на войну. «Там интересно».
«Милая Чехия»
Отец Павел Егорович Чехов
Александр Павлович Чехов (псевд. А. Седой; 1855–1913), старший брат Чехова, журналист, прозаик:
Павел Егорович был таганрогским купцом второй гильдии, торговал бакалейным товаром, пользовался общим уважением и нес на себе общественные — почетные, а потому и бесплатные — должности ратмана полиции, а впоследствии — члена торговой депутации. Слыл он среди сограждан за человека состоятельного, но на самом деле едва сводил концы с концами. Таганрог, некогда цветущий в торговом отношении город, понемногу падал. Падала вместе с этим и торговля Павла Егоровича. <…>
Павел Егорович <…> с ранних лет своей жизни был большим любителем церковного благолепия, церковных служб и в особенности церковного пения. В молодости он жил в деревне, посещал усердно сельскую церковь и выучился у местного сельского священника играть на скрипке по нотам и петь тоже по ногам. Во время церковных служб он пел и читал в деревне на клиросе. Впоследствии он был привезен своим отцом — дедом писателя — из деревни в Таганрог и отдай к местному бога тому купцу Кобылину в мальчики-лавочники. Пройдя здесь суровую школу сначала мальчика, затем «молодца»», а потом и приказчика, Павел Егорович к тридцати годам своей жизни открыл в Таганроге собственную бакалейную торговлю и женился. Выйдя из-под ферулы строгого хозяина — Кобылина, Павел Егорович почувствовал себя самостоятельным и свободным. Эта свобода дала ему возможность ходить в церковь, когда ему вздумается, и отдаваться пению сколько душе угодно. Перезнакомившись с духовенством местных церквей, Павел Егорович стал петь и читать на клиросах вместе с дьячками, а потом какими-то судьбами добился и того, что стал регентом соборного хора, которым и управлял несколько лет подряд. Будучи человеком религиозным, он не пропускал ни одной всенощной, ни одной утрени и ни одной обедни. В большие праздники он неукоснительно выстаивал две обедни — раннюю и позднюю — и после обеда уходил еще к вечерне.
Михаил Павлович Чехов:
Он любил церковные службы, простаивал их от начала до конца, но церковь служила для него, так сказать, клубом, где он мог встретиться со знакомыми и увидеть на определенном месте икону именно такого-то святого, а не другого. Он устраивал домашние богомоления, причем мы, его дети, составляли хор, а он разыгрывал роль священника. Но во всем остальном он был таким же маловером, как и мы, грешные, и с головой уходил в мирские дела. Он пел, играл на скрипке, ходил в цилиндре, весь день Пасхи и Рождества делал визиты, страстно любил газеты, выписывал их с первых же дней своей самостоятельности, начиная с «Северной пчелы» и кончая «Сыном отечества». Он бережно хранил каждый номер и в конце года связывал целый комплект веревкой и ставил под прилавок. Газеты он читал всегда вслух и от доски до доски, любил поговорить о политике и о действиях местного градоначальника. Я никогда не видал его не в накрахмаленном белье. Даже во время тяжкой бедности, которая постигла его потом, он всегда был в накрахмаленной сорочке, которую приготовляла для него моя сестра, чистенький и аккуратный, не допускавший ни малейшего пятнышка на своей одежде.
Петь и играть на скрипке, и непременно по нотам, с соблюдением всех адажио и модерато, было его призванием. Дня удовлетворения этой страсти он составлял хоры из нас, своих детей, и из посторонних, выступал и дома и публично. Часто, в угоду музыке, забывал о кормившем его деле и, кажется, благодаря этому потом и разорился. Он был одарен также и художественным талантом; между прочим, одна из его картин, «Иоанн Богослов», находится ныне в Чеховском музее в Ялте. Отец долгое время служил по городским выборам, не пропускал ни одного чествования, ни одного публичного обеда, на котором собирались все местные деятели, и любил пофилософствовать. В то время как дядя Митрофан читал одни только книги высокого содержания, отец вслух перечитывал французские бульварные романы, иногда, впрочем, занятый своими мыслями, так невнимательно, что останавливался среди чтения и обращался к слушавшей его нашей матери:
— Так ты, Евочка, расскажи мне; о чем я сейчас прочитал.
Александр Павлович Чехов:
По природе он был вовсе не злым и даже скорее добрым человеком, но его жизнь сложилась так, что его с самых пеленок драли и в конце концов заставили уверовать в то, что без лозы воспитать человека невозможно. Разубедился он в этом уже в глубокой старости, когда жил на покое у Антона Павловича — тогда уже известного писателя — в Мелихове, под Москвою. В Мелихово часто съезжались из Петербурга и из Москвы все дети Павла Егоровича — уже женатые и семейные люди. Самые интересные беседы в тесном семейном кругу, под председательством Антона Павловича, велись большей частью за столом и особенно за ужином, после дневных трудов и работ. Однажды стали в присутствии Павла Егоровича вспоминать прошлое и, между прочим, вспомнили и лозу. Лицо парика опечалилось.
— Пора бы уж об этом и позабыть, — проговорил он виноватым тоном. — Мало ли что было в прежнее время?! Прежде думали иначе…
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Отец, Павел Егорович, высокий, крупный, благообразный старик, в свое время был крутенек и воспитывал детей по старинке, почти по Домострою — строго и взыскательно. Но ведь в его время широко было распространено понятие «любя наказуй», и строг он был с сыновьями не из-за жестокости характера, а, как он глубоко верил, ради их же пользы. Но в дни, когда я узнала его, он вполне признал главенство А.П. Он чувствовал всей своей крепкой стариковской справедливостью, что, вот, он вел свои дела неудачно, не сумел обеспечить благосостояние своей семьи, а «Антоша» взял все в свои руки, и вот теперь, на старости лет, поддерживает их и угол им доставил — и оба они, и старик и старушка, считали главой дома «Антошу». Павел Егорович всегда подчеркивал, что он в доме не хозяин и не глава, несмотря на трогательно почтительную и шутливую нежность, с которой молодые Чеховы с ним обращались: но в этой самой шутливости, конечно, уже было доказательство полнейшего освобождения от родительской власти, бывшей когда-то довольно суровой. Однако ни малейшего по этому поводу озлобления или раздражения у старика не чувствовалось.
Он жил в своей светелке, похожей на монашескую келью, днем много работал в саду, а потом читал свои любимые «божественные книги» — огромные фолианты жития святых, «Правила веры» и пр. Он был очень богомолен: любил ездить в церковь, курил в доме под праздник ладаном, соблюдал все обряды, а у себя в келье отправлял один вечерню и всенощную, вполголоса читая и напевая псалмы. Помню, часто — когда я проходила зимним вечером мимо его комнаты в отведенную мне, я слышала тихое пение церковных напевов из-за дверей, и какой-то особенный покой это придавало наступлению ночи…
Антон Павлович Чехов. Из письма Ал. П. Чехову. Мелихово, 30 декабря 1894 г.:
Папаша стонал всю ночь. На вопрос, отчего он стонал, он ответил так: «Видел Вельзевула».
Мать Евгения Яковлевна Чехова
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Я никогда не видела, чтобы Е. Я. сидела сложив руки: вечно что-то шила, кроила, варила, пекла… Она была великая мастерица на всякие соленья и варенья, и угощать и кормить было ее любимым занятием. Тут тоже она как бы вознаграждала себя за скудость былой жизни; и прежде, когда у самих не было почти ничего — если случалось наварить довольно картошки, она кого-нибудь уже спешила угостить. А теперь — когда появилась возможность не стесняться и не рассчитывать куска — она попала в свою сферу. Принимала и угощала как настоящая старосветская помещица, с той разницей, что все делала своими искусными руками, ложилась позже всех и вставала раньше всех.
Помню ее уютную фигуру в капотце и чепце, как она на ночь приходила ко мне, когда я уже собиралась заснуть, и ставила на столик у кровати кусок курника или еще чего-нибудь, говоря со своим милым придыханием:
— А вдруг детка проголодается?..
И у нее в ее комнатке я любила сидеть и слушать ее воспоминания. Большей частью они сводились к «Антоше».
С умилением она рассказывала мне о той, для нее незабвенной минуте, когда Антоша — тогда еще совсем молоденький студентик — пришел и сказал ей:
— Ну, мамаша, с этого дня я сам буду платить за Машу в школе!
(До этого за нее платили какие-то благожелатели.)
— С этого времени у нас все и пошло… — говорила старушка. — А он — первым делом. — чтобы все самому платить и добывать на всех… А у самого глаза так и блестят — «сам, говорит, мамаша, буду платить».
И когда она рассказывала мне это — у нее самой блестели глаза, и от улыбки в уголках собирались лучи-морщинки, делавшие чеховскую улыбку такой обаятельной. Она передала эту улыбку и А.П. и М.П.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Казалось, забота о том, чтобы всякое желание А.П. было тотчас же, как по щучьему веленью, исполнено, составляла цель ее жизни. Всякая перемена в его настроении отражалась в ее лице. Его привычки и маленькие капризы были изучены. Ему, например, не нужно было заявлять о том, что он хочет есть и пора подавать обед или ужин, а стоило только остановиться перед стенными часами и взглянуть на них. В ту же минуту она била тревогу, вскакивала, бежала на кухню и торопила все и всех.
Михаил Осипович Меньшиков:
Помню, как под вечер мы с Чеховым ходили искать подберезовики на старую аллею при въезде. Мать Чехова, Евгения Яковлевна, раньше нас обходила те же места, но оставляла грибки «для Антоши».
Александр Иванович Куприн:
Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.
Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:
— Вот горе-то у нас какое… Нет Антоши…
О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними.
Братья Александр, Николай, Иван и Михаил
Александр (А. Седой)
Евгения Михайловна Чехова:
Высокий человек с добрыми глазами, с круглой седой, коротко остриженной головой и седой же, разделенной надвое бородой — таким живет в памяти мой дядя Саша, Александр Павлович Чехов, писатель А. Седой, старший брат Антона Павловича. Помню, как удивилась я однажды, прочитав подпись «А. Седой».
— Папа, а почему тут подпись «А. Седой». Ведь дядя Саша — Чехов? — на что отец резонно ответил:
— Ты же видишь, что дядя Саша седой. Вот он и подписывается: «А. Седой».
<…> Круг его интересов был безграничен. В каталоге Ленинской библиотеки — 18 книг Александра Павловича. Тут и сборники рассказов, и воспоминания о детских годах Антона Павловича, и книги по специальным вопросам, например — «Исторический очерк пожарного дела в России», «Призрение душевнобольных в Санкт-Петербурге», «Химический словарь фотографа» и др.
Михаил Павлович Чехов:
Это был интереснейший и высокообразованный человек, добрый, нежный, сострадательный, изумительный лингвист и своеобразный философ. <…> Благодаря своим всесторонним познаниям он вел в газетах отчеты об ученых заседаниях, и сами лекторы специально обращались перед своими выступлениями к редакторам газет, чтобы в качестве корреспондента они командировали к ним именно моего старшего брата, Александра. Известный А. Ф. Кони и многие профессора и деятели науки часто не начинали своих лекций, дожидаясь его прихода. Но <…> он страдал запоем и сильно и подолгу пил. В такие периоды он очень много писал, и то, что выходило у него во время болезни из-под пера, если попадало в печать, заставляло его потом сильно страдать. <…> Но когда он выздоравливал, когда он опять становился настоящим, милым, увлекательным Александром, то его нельзя было наслушаться: это была одна сплошная энциклопедия, и не могло быть темы, на которую с ним нельзя было бы с интересом поговорить.
Иван Алексеевич Бунин:
Александр был человек редко образованный: окончил два факультета — естественный и математический, много знал и по медицине. Хорошо разбирался в философских системах. Знал много языков. Но ни на чем не мог остановиться. А как он писал письма! Прямо на удивление. Был способен и на ручные работы, сам сделал стенные часы. Одно время был редактором пожарного журнала. Над его кроватью висел пожарный звонок, чтобы он мог всегда знать, где горит. Он был из чудаков, писал только куриными перьями. Любил разводить птиц; и сооружал удивительные курятники, словом, чело век на редкость умный, оригинальный. Хорошо понимал шутку, но последнее время стал тяжел: когда был трезв, то мучился тем, каким он был во хмелю а под хмелем действительно был тяжел.
Михаил Александрович Чехов (1891–1955), драматический актер, артист кино, мемуарист. Сын Александра Павловича Чехова:
С годами запои отца становились все чаще и продолжительнее, и он спился быстро и окончательно после того, как потерял своего единственного друга, которого нежно любил и перед которым преклонялся. Другом этим был брат его Антон Павлович Чехов. Их переписка, полная юмора, взаимной любви и глубоких мыслей, была после смерти отца и А. П. Чехова подобрана мною в хронологическом порядке. Известие о смерти А. П. Чехова не только вызвало приступ болезни отца, но и изменило его характер. Он стал как-то бесцельно метаться, меньше работал, душевно ослаб и стал делать ненужные, ничем не оправданные вещи. Он вдруг ушел из семьи, без причины, стал жить один, но постоянно звал к себе мать и меня. Терпел ненужные, мелкие неудобства, путешествовал тоже бесцельно, тосковал — и скоро вернулся в семью. Но вернулся он больным и приговоренным врачами к смерти. Умер он в тяжких мучениях.
Николай («Художник»)
Михаил Павлович Чехов:
Это также был высокоодаренный человек, превосходный музыкант на скрипке и на рояле, серьезный художник и оригинальный карикатурист. Он выступал на выставках с огромными полотнами («Гулянье первого мая в Сокольниках», «Въезд Мессалины в Рим»), его работы находились в московском храме Христа-спасителя. О том, как легки, изящны и остроумны были его рисунки и карикатуры, могут свидетельствовать кое-какие остатки, собранные в московском Чеховском музее, а также картина и две-три акварели, находящиеся в ялтинском доме писателя A. П. Чехова.
Николай Михайлович Ежов:
У А. П. Чехова был браг, художник Николай Павлович, талантливый жанрист и человек с своеобразным, живым характером. Он был порывист, вспыльчив, правдив, безумно любил музыку и свою профессию. Но вот он простудился, схватил тифозную горячку, потом у него образовалась скоротечная чахотка, и он скончался. Антон Павлович был убит этой утратой. Он говорил, что его брат Николай — самый ему симпатичный человек. В свою очередь Николай Чехов, с которым я много раз подолгу беседовал, называл Антона Чехова «добрым, как Христос».
Михаил Павлович Чехов:
Он умер в самом расцвете лет, тридцати одного года от роду, и теперь мирно почивает на Лучанском кладбище, близ города Сум, Харьковской губернии.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. М. Дюковскому. Сумы, 24 июня 1889 г.:
Николай выехал из Москвы уже с чахоткою. Развязка представлялась ясною, хотя и не столь близкой. С каждым днем здоровье становилось все хуже и хуже, и в последние недели Николай не жил, а страдал: спал сидя, не переставая кашлял, задыхался и проч. Если в прошлом были какие вины, то все они сторицей искупились этими страданиями. Сначала он много сердился, болезненно раздражался, но за месяц до смерти стал кроток, ласков и необыкновенно степенен. Все время мечтал о том, как выздоровеет и начнет писать красками. Часто говорил о Вас и о своих отношениях к Вам. Воспоминания были его чуть ли не единственным удовольствием. За неделю до смерти он приобщился. Умер в полном сознании. Смерти он не ждал; но крайней мере ни разу не заикнулся о ней.
В гробу лежал он с прекраснейшим выражением лица.
Иван
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Из братьев старший. Иван Павлович, был тихий, серьезный человек с головой Христа.
Борис Александрович Лазаревский:
Иван Павлович очень напоминал брата ростом и голосом. Какого мы шли с ним ночью в Москве, по Миусской площади, я остановился, чтобы закурить папиросу, но спички тухли одна за другой, наконец, я достиг своей цели и начал догонять Ивана Павловича. Приблизившись, я боялся подойти совсем, до такой степени его фигура напоминала Антона Павловича…
Имею основания думать и чувствую, что Чехов любил и уважал брата Ивана больше всех братьев.
Михаил
Евгения Михайловна Чехова:
Михаил Павлович был всесторонне одаренным человеком. Он по слуху прекрасно играл на рояле и на виолончели, читал лекции по русской и западноевропейской литературе, делал переводы с английского и французского. В тяжелые времена гражданской войны шил башмаки и кормил этим всю семью. Рисовал акварелью; рисунки его и сейчас экспонируются в Доме-музее А. П. Чехова на Садово-Кудринской в Москве. Он умел перетянуть пружины матраца, разводил розы в ялтинском саду, мог отполировать стол красного дерева, починить часы и даже сконструировал из фанеры отличные часы, которые находятся теперь в чеховском доме в Ялте. А по образованию он был юрист.
Окончив юридический факультет Московского университета, Михаил Павлович поступил на государственную службу, которая, правда, с каждым годом все больше его тяготила. Уже тогда он начал писать небольшие повести, статьи и рассказы для детей, но пренебречь казенной службой, дававшей верный заработок, не решался. Впоследствии он не переставал сожалеть о том, что не воспользовался советом Антона Павловича сразу и целиком посвятить себя литературе. Служебная деятельность его протекала в небольших уездных городках — Алексине, Серпухове, Угличе, среди мелких провинциальных интересов, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы навестить своих, невзирая на то, что его отлучки вызывали порой недовольство начальства.
Мелихово, как известно, было куплено в 1892 году. Михаил Павлович, всегда живший интересами семьи, тотчас же принялся помогать брату и сестре налаживать новое хозяйство. В то время, как Мария Павловна руководила работой в саду, Михаил Павлович взял на себя полевые работы. «Миша превосходно хозяйничает, — писал Антон Павлович. — Без него я бы ничего не сделал». <…>
У Михаила Павловича осталось немалое творческое наследие. Любимым его занятием, как я уже говорила, было — писать. В воспоминаниях моего детства я вижу его в кабинете нашей петербургской квартиры за письменным столом. Раннее утро. Лампа с зеленым абажуром бросает яркий свет на лежащую перед ним рукопись. Левая рука зажата между коленями, правая пишет, пишет, пишет красивым ровным почерком. Растет горка исписанных страниц. Трудно счесть, сколько таких страниц было написано за всю его жизнь — повести, рассказы, журнал «Золотое детство», переводы, доклады. В 1904 году вышла в свет его книга «Очерки и рассказы», которая была удостоена Академией наук почетного отзыва имени А. С. Пушкина. В 1910 году вышел сборник рассказов «Свирель». Под тем же заглавием издан сборник и в 1969 году. И наконец, несколько книг об Антоне Павловиче и первая биография великого писателя, помещенная в шеститомнике писем, изданных Марией Павловной в 1912–1916 годах.
Сестра Мария Павловна Чехова
Владимир Иванович Немирович-Данченко:
Сестра, Марья Павловна, была единственная, это уже одно ставило ее в привилегированное положение в семье. Но ее глубочайшая преданность именно Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи. И чем дальше, тем сильнее. В конце концов она вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. <…>
И Антон Павлович относился к сестре с необычайной преданностью.
Евгения Михайловна Чехова:
«Строитель Сольнес» — так в шутку прозвали в семье Марию Павловну. В начале XX века большим успехом пользовались и ставились во многих театрах пьесы норвежского писателя Генриха Ибсена, в том числе и пьеса «Строитель Сольнес». С той поры и получила Мария Павловна это шутливое прозвище. Оно как нельзя более подходило к ней, ибо ее характеру была присуща любовь к созиданию, к строительству. Еще в Мелихове она была деятельной помощницей Антона Павловича в устройстве вновь приобретенной усадьбы. Вместе с ним она планировала ее, ремонтировала, красила. Когда же Антон Павлович был вынужден перебраться в Ялту, она приняла такое же решение.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
М. П. занималась всем по имению и особенно огородом. Хрупкая, нежная девушка с утра надевала толстые мужские сапоги, повязывалась белым платочком, из-под которого так хорошо сияли ее лучистые глаза, и целые дни пропадала то в поле, то на гумне, стараясь, где возможно, уберечь Антошу от лишней работы.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Мария Павловна, помимо уроков в гимназии, увлекалась живописью и занималась в студии художницы Званцевой и художницы Хотяинцевой под наблюдением известных уже в то время художников К. Коровина и H. Ульянова. Она была очень талантлива. Антон Павлович находил в ее живописи нечто сходное с его творчеством в литературе. По, к сожалению, ей мало времени оставалось для искусства, так как она взяла на себя заботу о хозяйственном устройстве всей семьи и в Москве и в Ялте.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Такой дружбы между братом и сестрой, как между А.П. и М.П., или Ма-Па, как он звал ее, мне видеть не приходилось. Маша не вышла замуж и отказалась от личной жизни, чтобы не нарушать течения жизни А.П. Она имела все права на личное счастье, но отказывала всем, уверенная, что А.П. никогда не женится. Он действительно не хотел жениться, неоднократно уверял, что никогда не женится, и женился поздно — когда уже трудно было предположить, что он на это пойдет по состоянию его здоровья. М. П. так и осталась в девушках.
Евгения Михайловна Чехова:
Стройная, всегда подтянутая, элегантная, она обладала безупречным вкусом. От нее как бы веяло изяществом. Одевалась всегда безукоризненно, преимущественно в серые, коричневые, лиловые тона. Никогда не носила ничего яркого, крикливого. Походка у нее была легкая и вместе с тем спокойная. Голос негромкий. <…>
Она любила и понимала тонкий юмор, любила посмеяться и пошутить, сказать острое словцо, дать меткое сравнение, прозвище.
Постоянно носила на безымянном пальце левой руки кольцо, с круглым зеленым камнем, которое подарил ей однажды художник Константин Коровин. А в торжественных случаях надевала бриллиантовый кулон. Этот кулон в виде цифры «13» преподнес ей когда-то влюбленный в нее писатель И. А Бунин. Мой отец рассказал однажды историю происхождения этого кулона: «Сколько вокруг нас трагедий, которых мы не замечаем! Разве не трагедия — Маше делает предложение Икс; чтобы не бросить Антона и найти благовидный предлог для отказа, она ссылается на то, что предложение сделано 13 числа, а она суеверна и в будущее счастье поэтому не верит. Они расходятся. Но ровно через 13 лет Икс присылает Маше бриллиантовый кулон в виде цифры 13. Так как это «тринадцать» принесло ей несчастье, ибо она так и не вышла замуж, то она несет кулон к ювелиру и велит ему переставить цифры — сделать вместо «тринадцати» — «тридцать один», но и эта трансформация не смогла вернуть ей прошлого. И этот кулон стал походить на красивый надгробный памятник, под которым лежит навеки скончавшаяся любовь». <…> После смерти Антона Павловича ялтинский дом сделался ее родным детищем, которое она, в память брата, берегла и холила.
Путями земными
Таганрог
Александр Павлович Чехов:
Это был город, представлявший собою странную смесь патриархальности с европейской культурою и внешним лоском. Добрую половину его населения составляли иностранцы — греки, итальянцы, немцы и отчасти англичане. Греки преобладали. Расположенный на берегу Азовского моря и обладавший мало-мальски сносною, хотя и мелководною гаванью, построенной еще князем Воронцовым, город считался портовым и в те, не особенно требовательные времена оправдывал это название. <…>
Большие иностранные пароходы и парусные суда останавливались в пятидесяти верстах от гавани, на так называемом рейде, и производили выгрузку и нагрузку с помощью мелких каботажных судов. Каботажем занимались по преимуществу местные греки и более или менее состоятельные мещане из русских.
Василий Васильевич Зеленко (1868–1943), выпускник таганрогской гимназии (1886):
Ранней весной, как только на море взломается и пройдет лед, открывается навигация. Застывший на зиму Таганрог оживает. В гавани закипает жизнь.
Приходят из-за границы первые пароходы и парусные суда; приходят они за зерном, а привозят вина — сантуринское, висант, мальвазию, кагор; орехи и рожки, лимоны и апельсины, коринку, хурму, мидий, прованское масло и пряности.
Александр Павлович Чехов:
Аристократию тогдашнего Таганрога изображали собою крупные торговцы хлебом и иностранными привозными товарами — греки: печальной памяти Вальяно, Скараманга, Кондоянаки, Мусури, Сфаелло и еще несколько иностранных фирм, явившихся Бог весть откуда и сумевших забрать в свои руки всю торговлю юга России. <…> В городском театре шла несколько лет подряд итальянская опера с первоклассными певцами, которых негоцианты выписывали из-за границы за свой собственный счет. Примадонн буквально засыпали цветами и золотом. Щегольские заграничные экипажи, породистые кони, роскошные дамские тысячные туалеты составляли явление обычное. Оркестр в городском саду, составленный из первоклассных музыкантов, исполнял симфонии. Местное кладбище пестрело дорогими мраморными памятниками, выписанными прямо из Италии от лучших скульпторов. В клубе велась крупная игра и бывали случаи, когда за зелеными столами разыгрывались в какой-нибудь час десятки тысяч рублей. Задавались лукулловские обеды и ужины. Это считалось шиком и проявлением европейской культуры. В то же время Таганрог щеголял и патриархальностью. Улицы были немощеные. Весною и осенью на них стояла глубокая, невылазная грязь, а летом они покрывались почти сплошь буйно разраставшимся бурьяном репейником и сорными травами.
Освещение на двух главных улицах было более чем скудное, а на остальных его не было и в помине. Обыватели ходили но ночам с собственными ручными фонарями. Но субботам но городу ходил с большим веником на плече, наподобие солдатского ружья, банщик и выкрикивал: «В баню! В баню! В торговую баню!» Арестанты, запряженные в телегу вместо лошадей, провозили на себе через весь город из склада в тюрьму мешки с мукой и крупой для своего пропитания. Они же всенародно и варварски уничтожали на базаре бродячих собак с помощью дубин и крюков. Лошади пожарной команды неустанно возили «воду и воеводу», а пожарные бочки рассыхались и разваливались от недостатка влаги. Иностранные негоцианты выставляли на вид свое богатство и роскошь, а прочее население с трудом перебивалось, как говорится, с хлеба на квас.
Василий Васильевич Зеленко:
Нельзя обойти молчанием и таганрогский прекрасный, редкостный, можно сказать, городской сад. <…> Несмотря на то, что Таганрог вообще не беден растительностью, — в нем много обширных дворов и садов, — а большая часть улиц по обеим сторонам обсажены в два ряда тенистыми деревьями, настолько разросшимися, что закрывают дома и представляют собой прекрасные аллеи из белой акации и тополей, проходя по которым чувствуешь себя как бы идущим в тенистом саду, — все же городской сад манит к себе, и с ранней весны и до поздней осени мы чуть ли не каждый день посещали его. Он обширен, тенист и привлекателен своей прохладой, своим покоем. <…>
Наряду с городским садом следует отметить и загородные места — прелестные уголки <…> — «Карантин» и «Дубки».
От «Карантина» теперь ничего не осталось, что напоминало бы этот прекрасный, уединенный, поэтический уголок. В те годы обширное поле, ныне застроенное заводами и жилыми домами, было свободно; от берега моря тянулась неоглядная степь, а на крутом берегу росли деревья и цвели весной сады.
Антон Павлович Чехов. Из письма И. А. Лейкину. Таганрог, 7 апреля 1887 г.:
Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю. 60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов — никаких… Куда ни явишься, всюду куличи, яйца, сантуринское, грудные ребята, но нигде ни газет, ни книг… Местоположение города прекрасное во всех отношениях, климат великолепный, плодов земных тьма, но жители инертны до чертиков… Все музыкальны, одарены фантазией и остроумием, нервны, чувствительны, но все это пропадает даром… Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников. <…> Ах, какие здесь женщины!
Детство и отрочество
Михаил Михайлович Андреев-Туркин. По воспоминаниям родных и близких:
В маленьком флигеле из земляного кирпича (самана), обмазанном глиной, состоящем из трех комнаток, площадью всего в двадцать три кв. метра, — 17 января 1860 года родился Антон Павлович Чехов. Домик помещался в глубине двора на немощеной пыльной Полицейской улице. За домом росло несколько акаций, на которых были прикреплены скворечни. Вокруг дома рос бурьян и были протоптаны дорожки к воротам, сараю и другим местам. При доме была кухонька, размером пять с половиной метров, с глиняным полом. Домик не принадлежал Чеховым, а арендовался ими у Гнутова. <…> В большой комнате главный угол был заставлен иконами, с горящей всегда перед ними лампадой. Перед иконами стоял треугольник, на котором лежали молитвенник, книги священного писания и восковая свеча в высоком медном подсвечнике, на котором лежали щипцы для снятия нагара со свечи. Комната эта служила для приема гостей, столовой и кабинетом Павла Егоровича — отца Чехова. Посреди комнаты стоял стол с подъемными крышками, у стен стоячая конторка и несколько стульев.
В двух других маленьких комнатах размещались спальня Чеховых с деревянной двуспальной кроватью и детская, в которой и была помещена деревянная качающаяся колыбелька с новорожденным Антошей. <…>
Говорить А.П. начал рано. Говорил ребенком не спеша и не шепелявя.
Владимир Алексеевич Гиляровский:
Антон Павлович был смирнее всех. У него была очень большая голова, и его звали Бомбой, за что он сердился. Любимым занятием Антона было составление коллекций насекомых и игра в торговлю, причем он еще ребенком мастерски считал на счетах. Все думали, что из него выйдет коммерсант.
Михаил Михайлович Андреев-Туркин. По воспоминаниям родных и близких:
С самого раннего детства дети помогали отцу в его торговле. Помогали и тогда, когда учились в гимназии.
Александр Павлович Чехов:
Это было весьма своеобразное торговое заведение, вызванное к жизни только местными условиями. Здесь можно было приобрести четвертку и даже два золотника чаю, банку помады, дрянной перочинный ножик, пузырек касторового масла, пряжку для жилетки, фитиль для лампы и какую-нибудь лекарственную траву или целебный корень вроде ревеня. «Тут же можно было выпить рюмку водки и напиться сантуринским вином до полного опьянения. Рядом с дорогим прованским маслом и дорогими же духами «Эсс-Букет» продавались маслины, винные ягоды, мраморная бумага для оклейки книг, керосин, макароны, слабительный александрийский лист, рис, аравийский кофе и сальные свечи.
Рядом с настоящим чаем продавался и спитой чай, собранный евреями в трактирах и гостиницах, высушенный и подкрашенный. Конфекты, пряники и мармелад помещались по соседству с ваксою, сардинами, сандалом, селедками и жестянками для керосина или конопляного масла. Мука, мыло, гречневая крупа, табак-махорка, нашатырь, проволочные мышеловки, камфара, лавровый лист, сигары «Лео Виссора в Риге», веники, серные спички, изюм и даже стрихнин (кучелаба) уживались в самом мирном соседстве. Казанское мыло, душистый кардамон, гвоздика и крымская крупная соль лежали в одном углу с лимонами, копченой рыбой и ременными поясами. Словом, это была смесь самых разнообразных товаров, не поддающихся никакой классификации. Лавка Павла Егоровича была в одно и то же время и бакалейной лавкой, и аптекой без разрешения начальства, и местом распивочной торговли, и складом всяческих товаров — до афонских и иерусалимских будто бы святынь включительно, — и клубом для праздных завсегдатаев. И весь этот содом, весь этот хаос ютился на очень небольшом пространстве обыкновенного лавочного помещения с полками по стенам, с страшно грязным полом, с обитым рваною клеенкою прилавком и с небольшими окнами, защищенными с улицы решетками, как в тюрьме. <…>
Антоша, сидя в лавке, должен был знать, где, на какой полке и в каком ящике хранится такой-то товар. Павел Егорович требовал, чтобы все отпускалось покупателю без замедления и моментально.
Михаил Павлович Чехов:
В 1874 году мы переехали в свой собственный дом, выстроенный нашим отцом на глухой Елисаветинской улице, на земле, подаренной ему дедушкой Егором Михайловичем. Отец был плохим дельцом, все больше интересовался пением и общественными делами, и потому его собственные дела пошли на убыль, и самый дом вышел неуклюжим и тесным, с толстыми стенами, в которые подрядчиками было вложено кирпича больше, чем было необходимо, ибо постройка оплачивалась с каждой тысячи кирпича. Подрядчики нажились, оставив отцу невозможный дом и непривычные для него долги по векселям. Вся семья теснилась в четырех комнатках; внизу, в подвальном этаже, поместили овдовевшую тетю Федосью Яковлевну с сыном Алешей, а флигелек, для увеличения ресурсов, сдали вдове Савич, у которой были дочь-гимназистка Ираида и сын Анатолий. Этого Анатолия репетировал мой брат Антон Павлович. <…> Семья нашего отца была обычной патриархальной семьей, каких было много полвека тому назад в провинции, но семьей, стремившейся к просвещению и сознававшей значение духовной культуры. Главным образом по настоянию жены, Павел Егорович хотел дать детям самое широкое образование, но. как человек своего века, не решался, на чем именно остановиться: сливки общества в тогдашнем Таганроге составляли богатые греки, которые сорили деньгами и корчили из себя аристократов, — и у отца составилось твердое убеждение, что детей надо пустить именно по греческой линии и дать им возможность закончить образование даже в Афинском университете. В Таганроге была греческая школа с легендарным преподаванием, и, по наущению местных греков, отец отдал туда учиться трех своих старших сыновей — Александра, Николая и Антона; но преподавание в этой школе даже для нашего отца, слепо верившего грекам, оказалось настолько анекдотическим, что пришлось взять оттуда детей и перевести их в местную классическую гимназию.
Александр Павлович Чехов:
Антон Павлович Чехов никогда не обладал выдающимся слухом; голоса же у него не было вовсе. Грудь тоже была не крепка, что и подтвердилось потом болезнью, которая свела его преждевременно в могилу. Несмотря, однако же, на все это, судьба распорядилась так, что А.П. до третьего и чуть ли, кажется, не до четвертого класса гимназии тянул тяжелую лямку певчего в церковном хоре. <…> Пели главным образом в монастыре и во «Дворце». <…>
Антон Павлович пел в монастыре альтом, и его, как и следовало ожидать, почти не было слышно. Мужские сильные голоса подавляли слабые звуки трех детских грудей. Но Павел Егорович не принимал этого в расчет, и ранние обедни пелись аккуратно и без пропусков, невзирая ни на мороз, ни на дождь, ни на слякоть и глубокую, вязкую грязь немощеных таганрогских улиц. А как тяжело было вставать по утрам для того, чтобы не опоздать к началу службы!.. <…>
Но возвращении от обедни домой пили чай. Затем Павел Егорович собирал всю семью перед киотом с иконами и начинал читать акафист Спасителю или Богородице, причем дети должны были петь после каждого икоса: «Иисусе сладчайший, спаси нас» и после каждого кондака: «Аллилуйя». К концу этой домашней молитвы уже начинали звонить в церквах к поздней обедне. Один из сыновей-гимназистов — по очереди или же по назначению отца — отправлялся вместе с «молодцами» в качестве хозяйского глаза отпирать лавку и начинать торговлю, а прочие дети должны были идти вместе с Павлом Егоровичем к поздней обедне. Воскресные и праздничные дни для детей Павла Егоровича были такими же трудовыми днями, как и будни, и Антон Павлович не без основания не раз говаривал братьям:
— Господи, что мы за несчастный народ! Все товарищи-гимназисты по воскресеньям гуляют, бегают, отдыхают и ходят в гости, а мы должны ходить по церквам!..
Михаил Павлович Чехов:
День начинался и заканчивался трудом. Все в доме вставали рано. Мальчики шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки, как только выпадал свободный час, каждый из них занимался тем, к чему имел способность: старший, Александр, устраивал электрические батареи, Николай рисовал, Иван переплетал книги, а будущий писатель сочинял… Приходил вечером из лавки отец, и начиналось пение хором: отец любил петь по нотам и приучал к этому и детей. Кроме того, вместе с сыном Николаем он разыгрывал дуэты на скрипке, причем маленькая сестра Маша аккомпанировала на фортепьяно. Мать, вечно занятая, суетилась в это время по хозяйству или обшивала на швейной машинке детей. <…>
Несмотря на сравнительную строгость семейного режима и даже на обычные тогда телесные наказания, мы, мальчики, вне сферы своих прямых обязанностей, пользовались довольно большой свободой. Прежде всего, сколько помню, мы уходили из дому не спрашиваясь; мы должны были только не опаздывать к обеду и вообще к этапам домашней жизни, и что касается обязанностей, то все мы были к ним очень чутки. Отец был плохой торговец, вел свои торговые дела без всякого увлечения. Лавку открывали только потому, что ее неловко было не открывать, и детей сажали в нее только потому, что нельзя было без «хозяйского глаза». Отец выплачивал вторую гильдию лишь по настоянию матери, так как это могло избавить нас, сыновей, от рекрутчины, и как только была объявлена в 1874 году всесословная, обязательная для всех воинская повинность, эта гильдия отпала сама собой, и отец превратился в простого мещанина, как мог бы превратиться в регента или стать официальным оперным певцом, если бы к тому его направили с детства.
Андрей Дмитриевич Дросси:
В доме Чеховых мне не приходилось бывать, но зато сколько долгих часов я проводил осенью с Антоном Павловичем на большом пустыре за их двором, притаившись за рогожною «принадою» и поджидая момента, когда стая щеглов или чижей, привлеченная призывными кликами товарищей, заключенных в вывешенную перед «принадою» клетку, опустится с веселым чириканьем на пучки конопли и репейника, растыканные впереди этого сооружения. С затаенным дыханием, с сильно бьющимся сердцем, дрожащею рукою старался кто-нибудь из нас сквозь отверстие, проделанное в рогоже, осторожно навести волосяной силок, прикрепленный к длинной камышине, на головку птички, и если это удавалось, то с каким торжеством тащили мы через отверстие полузадушенную птичку, которую, освободив из петли, заключали в тут же приготовленную клетку.
Мария Дмитриевна Дросси, сестра А. Д. Дросси:
Чехов был близким товарищем моего брата Андрея Дросси. <…> Мальчики увлекались играми во дворе нашего дома — лаптой и воздушными змеями. Чехов играл в лапту отлично. Меня часто мальчишки обижали за неудачный запуск змея, Антоша — никогда и всегда утешал, если я подвергалась обиде.
Часто гуляли мы в городском саду, где была «гимназическая аллея». Играли в бег наперегонки.
Михаил Павлович Чехов:
Каждый день ходили на море купаться. По дороге заходили за знакомыми, и к морю шла всегда большая компания. Купались обыкновенно на Банном съезде, где берег был настолько отлогий, что для того, чтобы оказаться в воде по шею, нужно было пройти от берега по крайней мере полверсты. Вместе с нами ходили и две черные собаки, принадлежавшие А.П. В воде обыкновенно сидели целыми часами, и когда шли обратно, то необыкновенно хотелось пить. По пути, на углу Итальянского переулка и нашей улицы, была палатка, в которой продавали квас, — и было счастьем, когда у кого-нибудь из мальчиков находилась в кармане копейка, так как на копейку продавали целый громадный деревянный ковш, к которому мы припадали одновременно со всех сторон. Кто-нибудь из нас оказывался счастливцем: он возвращался домой с моря с так называемой «болбиркой». Это кусок коры какого-то дерева, из которой местные рыбаки делали обыкновенно на свои сети поплавки. Найти на берегу «болбирку» считалось у нас особым расположением судьбы. Кора эта легко резалась по всем направлениям, и счастливец долго сидел потом отдельно от всех и вырезал из нее кораблик или человека. Таким счастливцем не раз бывал и гимназист Антоша.
Михаил Михайлович Андреев-Туркин. По воспоминаниям родных и близких:
Любимым развлечением Чехова был каток, устраивавшийся в городском саду. Не поднимая воротника пальто, бравируя своей «закаленностью», он часто катался так долго, что отмораживал себе уши и сидел потом дома с распухшими огромными ушами, вымазанными гусиным салом.
Андрей Дмитриевич Дросси:
Изредка, вместе со мною, Антон Павлович навещал товарищей наших К-вых, проживавших невдалеке от меня. Семья К-вых состояла в то время из матери-вдовы, пяти сыновей и замужней дочери, жившей с мужем в смежном флигеле. Старший сын и двое младших занимали с матерью верхний этаж, а в нижнем, полуподвальном, помещались наши товарищи.
<…> Наверху не было дела никому до того, что творилось внизу.
А внизу происходили попойки в складчину, игра в карты на деньги, чтение порнографических произведений и т. п. Приходил туда кто хотел и когда хотел.
Общество там собиралось весьма смешанное и все молодежь от 14 до 17 лет. Квартира эта была убежищем для всех: там скрывались от гнева родительского ученики, срезавшиеся на экзаменах; туда же с утра являлись те, которые по каким-либо причинам не хотели идти в гимназию. Приходили с учебниками и просиживали вплоть до обеда, развлекаясь игрою в карты. К чести Антона Павловича нужно отнести — он никогда не принимал участия в этом милом времяпровождении. Да и бывал он там довольно редко и только понаслышке узнавал о тех озорствах, которые там учинялись. А во флигеле у замужней сестры К-вых, он бывал с удовольствием. Там всегда собиралось большое общество взрослых и молодежи. Разговор обыкновенно вертелся около театра, так как и хозяин и гости были завзятыми театралами. В одно из таких собраний среди некоторых гостей возникла мысль об устройстве любительского спектакля. Мысль была подхвачена всеми с восторгом. Решено приспособить для этой цели большой, пустующий в глубине двора, амбар. Труппа сейчас же составилась, преимущественно из соседей, причем к женскому персоналу ее добровольно причислил себя и Антон Павлович. Мужской персонал образовался из хозяина дома А.П. Я-ва, Александра и Николая Чеховых, меня и еще нескольких лиц.
Уже через два-три дня после решения этого вопроса застучали в амбаре молотки плотников, ставящих подмостки для сцены, приглашенный художник, в сотрудничестве Николая Павловича Чехова, начал писать декорации, а мы приступили к выбору пьесы.
Для открытия остановились на пьесе «Ямщики, или Шалость гусарского офицера», не помню уже какого автора. Роли в этой пьесе были распределены следующим образом: гусарского офицера играл один из товарищей хозяина, станционного смотрителя — Александр Павлович Чехов, сборщика на церковь — А. П. Яковлев, дочь смотрителя — его жена, молодого ямщика — я и, наконец, старуху-старостиху — Антон Павлович Чехов. Репетировали мы эту пьесу не менее десяти раз, и она у нас прошла великолепно. Нет нужды, что у гусарского офицера принадлежность его к военному званию определялась единственно фуражкой с кокардой, что сборщик на церковь разгуливал в турецком халате и что станционный смотритель щеголял в мундире таможенного ведомства с шитым золотом воротником. Все эти шероховатости искупились художественною игрою Антона Павловича. Нельзя себе представить того гомерического хохота, который раздавался в публике при каждом появлении старостихи. И нужно отдать справедливость Антону Павловичу — играл он мастерски, а загримирован был идеально.
С легкой руки Антона Павловича в нашем околотке спектакли эти пользовались громадным успехом и всегда делали полные сборы. Публика на эти спектакли допускалась только избранная, преимущественно обитатели квартала, и за минимальную плату.
Необходимо добавить, что спектакли давались с благотворительною целью и на афишах, писанных рукою Николая Чехова, всегда значилось, что сбор со спектакля предназначается в пользу «одного бедного семейства». Таких спектаклей в то лето дано было шесть.
Михаил Павлович Чехов:
По отъезде двух старших братьев в Москву наш отец стал едва сводить концы с концами. Его дела окончательно упали. Жизнь всей семьи потекла замкнуто, в бедности, хотя и в своем доме, над которым тяготели долги. Целые дни для мальчиков проходили в труде. По вечерам Антоша веселил всех своими импровизациями, или же все слушали рассказы матери, тетки Федосьи Яковлевны или няни, которая жила у нас долго и ушла только в самое последнее время пребывания нашего в Таганроге. <…>
В 1876 году отец окончательно закрыл свою торговлю и, чтобы не сесть в долговую яму, бежал в Москву к двум старшим сыновьям, из которых один был тогда студентом университета, а другой учился в Училище живописи, ваяния и зодчества. За старшего уже официально стал у нас сходить Антон. Я отлично помню это время. Было ужасно жаркое лето; спать в комнатах не было никакой возможности, и потому мы устраивали в садике балаганы, в них и ночевали. Будучи тогда гимназистом пятого класса, Антон спал под кущей посаженного им дикого виноградника и называл себя «Иовом под смоковницей». Вставали в этих шалашах очень рано, и, взяв с собой меня, Антон шел на базар покупать на целый день харчи. Однажды он купил живую утку и, пока шли домой, всю дорогу теребил ее, чтобы она как можно больше кричала. — Пускай все знают, — говорил он, — что и мы тоже кушаем уток.
На базаре Антон присматривался к голубям, с видом знатока рассматривал на них перья и оценивал их достоинства. Были у него и свои собственные голуби, которых он каждое утро выгонял из голубятника, и, по-видимому, очень любил заниматься ими. Затем дела наши стали так туги, что для того, чтобы сократить количество едоков, меня и брата Ивана отправили к дедушке в Княжую. А потом мы испытали семейную катастрофу: у нас отняли наш дом.
<…> Матери ничего более не оставалось, как вовсе покинуть Таганрог. Она захватила с собой меня и сестру Машу и, горько заливаясь слезами, в вагоне повезла нас к отцу и двум старшим сыновьям в Москву, на неизвестность.
Антоша и Ваня были брошены в Таганроге одни на произвол судьбы. Антоша остался в своем бывшем доме, чтобы оберегать его, пока не войдет в него новый хозяин, а Ваню приютила у себя тетя Марфа Ивановна. Впрочем, Ваню тоже скоро выписали в Москву, и Антон остался в Таганроге один как перст. Ему нужно было кончать курс, он был в седьмом классе гимназии.
Андрей Дмитриевич Дросси:
Три года прожил Антон в Таганроге один. Это были годы неотступной бедности. Надо было самому зарабатывать. Он стал репетитором.
Один урок был далеко, за шлагбаумом, на самой окраине города. Ходить туда было особенно неприятно осенью, потому что калош у Антона не было. Садясь заниматься с учеником, он старался спрятать под столом свои ноги в покрытых грязью рваных сапогах.
За этот урок Антон получал три рубля в месяц. Заметив, что его товарищ С-в очень нуждается, Антон предложил ему репетировать ученика за шлагбаумом вместе.
Из трех рублей Антон отдавал теперь полтора рубля С-ву.
Михаил Павлович Чехов:
Антон часто писал нам из Таганрога, и его письма были полны юмора и утешения. <…> Часто в письмах он задавал мне загадки, вроде: «Отчего гусь плавает?» или «Какие камни бывают в море?», сулился привезти мне дрессированного дубоноса (птицу) и прислал однажды посылку, в которой оказались сапоги с набитыми табаком голенищами: это предназначалось для братьев. Он распродавал те немногие вещи, которые оставались еще в Таганроге после отъезда матери, — разные банки и кастрюльки, — высылал за них кое-какие крохи и вел по этому поводу с матерью переписку. Не признававшая никаких знаков препинания, мать писала ему письма, начинавшиеся так: «Антоша в кладовой на полке…» и т. д., и он вышучивал ее, что по розыскам никакого Антоши в кладовой на полке не оказалось.
В таганрогской гимназии
Василий Васильевич Зеленко:
Поступил Чехов в гимназию в 1868 г., кончил в 1879 г. Пробыл в гимназии 11 лет; учился посредственно-средне, скорее ниже среднего; два раза оставался на второй год: в III-м классе и в V-м; в III-м из-за математики, да и по географии дело обстояло плохо, а в V-м — из-за греческого.
М. Д. Кукушкин, одноклассник Чехова по таганрогской гимназии:
Учился Чехов неважно и из 23 учеников выпускного класса занимал одиннадцатое место. За сочинения по русскому дальше тройки не шел, но всегда отличался в латыни и Законе Божием, получая за них пятерки. Знал массу славянских текстов и в товарищеских беседах увлекал нас рассказами, пересыпанными славянскими изречениями, из которых многие я впоследствии встречал в некоторых из его первых литературных произведений.
Василий Васильевич Зеленко:
Во главе гимназии стоял директор Эдмунд Рудольфович Рейтлингер. Он преподавал в 3-м классе латинский язык и в старшем классе читал о французской революции, но все его знание языка заключалось главным образом в нескольких латинских поговорках и пословицах, которыми он и любил щеголять <…>. Он был немец по происхождению, имел барственную осанку, представительную наружность и великолепный голос, которым он тоже не прочь был щегольнуть. <…> Был он человек добродушный, незлобивый, не любил ни о чем беспокоиться, но и не хотел, чтобы его беспокоили. <…>
Истинным героем гимназии был инспектор Александр Федорович Дьяконов. Личность до некоторой степени легендарная. Сколько разговоров, шуток, анекдотов ходило о нем среди гимназистов. Сухарь, человек жесткий, он и внешним своим обликом напоминал высушенную воблу. Говорят, А. П. Чехов писал «Человек в футляре» с Дьяконова, но последний акт его жизненной карьеры показал, что Дьяконов не совсем был «человеком в футляре» и в его груди билось сердце, не чуждое великодушным порывам и способное к проявлению теплых чувств. Дьяконов отличался феноменальной скупостью. У него было две сестры, старые девы. Говорили, что Александр Федорович носил из-за скупости ботинки своих сестер и летний бурнус — разлетайку. Его внешний облик — манеры, жесты, приемы, присловия, выражения не были лишены своеобразия и оригинальности и служили среди гимназистов предметом шуточного подражания. Выражения «как мокрое горит», «нелегкая несет» и другие — я уже забыл их — вошли в обиход гимназической речи. А. Ф. Дьяконов жил крайне замкнуто и уединенно, нигде не бывал и никого у себя не принимал. Он нажил два хороших дома, приносивших изрядный доход. <…>
А. Ф. Дьяконов преподавал в низших классах латинский язык, был строг и требователен, но наушничества, шпионства, доносов не выносил. Он был формалист до кончиков ногтей, и столь сух, что, казалось, никакое человеческое движение души ему не доступно. Поэтому последний этап его жизненной карьеры, как я уже сказал, удивил всех и примирил с ним. Он умер и по духовному завещанию все капиталы — около 70 тыс. и 2 дома — оставил неимущим из учительской корпорации, главным образом, сельской.
Александр Леонидович Вишневский:
От начальства ему постоянно влетало за несоблюдение формы, но он упорствовал в своих вольностях.
— Чехов, будете в карцере! — пригрозил ему как-то директор, увидев его в клетчатых панталонах.
— Да у меня ж брюки украли, — убедительно оправдывался Чехов.
Я потом спросил у него, вправду ли у него украли брюки.
— Да ну его! — отвечал он. — Конечно, выдумал, чтоб только отстал.
Другой раз директор потребовал, чтобы Чехов носил ранец как полагается, на спине, а не под мышкой.
— Я от него удеру в Австралию, — говорил мне по этому поводу Чехов.
Василий Васильевич Зеленко:
Уже одно то, что Павел Иванович Вуков был связан с таганрогской гимназией чуть ли не 50 лет, дает право его выделить. <…>
Человек без всяких претензий, Вуков имел две слабости, которые не укрылись от внимания учеников. Он был франт, заботливо относящийся к своей наружности, верящий в свою неотразимость. Это — первая его слабость, и вторая слабость, о которой еще дедушка Крылов писал:
С приятелем своим гуляя в поле. Расхвастался о том, где он бывал, И к былям небылиц без счета прилагал.Он любил, как говорят у нас на юге, «запускаться», и часто можно было видеть его гуляющим в коридорах гимназии или летом во дворе, окруженным толпою гимназистов, и тут он «к былям небылиц без счета прилагал».
В этой слабости у него был конкурент, имевший перед ним «преимущество» — это другой помощник классного наставника С. К. Монтанруж, который в небылицах перешиб Вукова. Среди гимназистов долго ходили его легендарные рассказы, как он, одетый во фрак, на бочке переплывал Босфор, чтобы попасть к какому-то посланнику на раут.
Михаил Павлович Чехов:
Протоиерей Ф. П. Покровский. Это был своеобразный священник. Красавец собой, светский, любивший щегольнуть и своей ученостью, и своей нарядной рясой, он обладал превосходным сильным баритоном и готовил себя ранее в оперные певцы. Но та обстановка, в которой он жил, помешала развить его дарование, и ему пришлось ограничиться местом настоятеля Таганрогского собора. Но и здесь он держал себя, как артист. Он эффектно служил и пел в алтаре так, что его голос покрывал собой пение хора и отдавался во всех закоулках обширного собора. Слушая его, действительно казалось, что находишься в опере. Он был законоучителем в местной гимназии. <…> Никто из нас никогда не слышал от Покровского вопросов. Он вызывал, углублялся в газету, не слушал, что отвечал ему ученик, и ставил стереотипное «три». <…>
Он любил давать своим ученикам насмешливые имена. Между прочим, это он, Покровский, первым назвал Антона Чехова «Антошей Чехонте».
Михаил Михайлович Андреев-Туркин. По воспоминаниям родных и близких:
Чехов часто посещал городскую библиотеку. Как видно из дел городской библиотеки, читал он вначале путешествия, затем Бичер-Стоу, Сервантеса, Гончарова, Тургенева, потом перешел к Белинскому, Писареву, Добролюбову и др. Как нуждался Антон Павлович в деньгах, видно из того, что он, внося библиотечный залог (два рубля) в начале учебного года, брал его обратно весной и вновь вносил осенью.
С древними классиками в гимназии он знакомился но подстрочникам, — судя по библиотечным записям.
Андрей Дмитриевич Дросси:
Увлечение наше литературой было весьма своеобразно: наряду с Боклем, Шопенгауэром, которых, как мы тогда думали, нам стыдно было не прочитать, мы запоем читали юмористические журналы «Будильник», «Стрекозу» и др. Я помню, в воскресные и праздничные дни мы спозаранку собирались в городской библиотеке… и по несколько часов кряду, забывая об обеде, просиживали там за чтением этих журналов, иногда разражаясь таким гомерическим хохотом, что вызывали недовольное шиканье читающей публики.
Михаил Михайлович Андреев-Туркин. По воспоминаниям родных и близких:
В четвертом классе, по словам М. А. Рабиновича, сидевшего с ним много лет на одной скамье, Чехов принимает участие в рукописном журнале, издававшемся под редакцией ученика старшего класса Грахольского.
Чехов написал для журнала едкое четверостишие на инспектора Дьяконова.
Было выпущено два номера. Начальство пронюхало и «приняло меры».
В. Мессарож (соученик Чехова по гимназии) говорит, что в издаваемом учениками гимназии журнале «Досуг», вышедшем в числе десяти номеров, под редакторством С. П. Борисенко, Чехов поместил очерк «Из семинарской жизни». Другой очерк «Сцена с натуры», помеченный тремя звездочками, Мессарож также считает принадлежащим Чехову, так как «манера писать напоминает Чехова и действие в этом очерке происходит на Новом базаре, в торговой линии», т. е. там, где была лавка отца Чехова.
Василий Васильевич Зеленко:
Гимназическим врачом был Штремпф. Многие биографы Чехова считают его косвенной причиной того, что Чехов избрал себе медицинский факультет и стал врачом. Антон Павлович, будучи гимназистом младших классов, при поездке в степь в жаркий день выкупался в студеной степной речке, простудился и тяжело заболел. Лечил его врач Штремпф. Во время болезни Чехов так полюбил его, что решил поступить на медицинский факультет и именно в Дерпт, где учился Штремпф. <…>
Нельзя обойти молчанием сторожа приготовительного класса Ивана, по прозвищу «Труба». Почему именно «Труба» — это осталось для меня неизвестным. Был Иван своеобразной личностью, не лишенной некоторой колоритности. Высокий, худой, постоянно с трубкой во рту, на которой по моде того времени на ремешке болтались игла для чистки трубки и еще какие-то курительные принадлежности. Шутник, крикун и балагур, он, вместе с тем, был пестуном и нянькой для малышей приготовительного класса. В холодные зимние дни он заботливо укутывал их и отправлял по домам, смотрел за ними и всячески оберегал. <…> «Труба» был вместе с тем знатоком всех тайн гимназии и всей интимной стороны жизни гимназического персонала; от его глаза и нюха ничто не могло укрыться. Все, что обсуждалось на тайных педагогических заседаниях и что волновало учеников, — все это было доподлинно известно «Трубе», и всем этим он осторожно делился с заинтересованными гимназистами. Иван постоянно был окружен толпой, балагурил и кричал: получал письма, газеты и разносил всю корреспонденцию, поступавшую в гимназию.
Петр Алексеевич Сергеенко:
При всем моем желании я не могу припомнить ни одного яркого эпизода из ранней жизни Чехова <…>. Решительно все относились к Чехову хорошо, по-товарищески. Он не был ни задирой, ни плаксой, ни тем, ни сем что называется. И учился Чехов тоже так себе; и держался он не то, чтобы сосредоточенно, «с печатью думы на челе», как подобало бы будущей знаменитости, а скорее полувяло, полузастенчиво, с той осмотрительностью в поступках, которая с годами превратилась у него в драгоценный житейский такт, привлекавший к Чехову людей и ограждавший его от злобствующих недоброхотов.
Выписка из аттестата зрелости гимназиста Антона Чехова:
Дан сей аттестат Антону Чехову, вероисповедания православного, сыну купца, родившемуся в Таганроге 17-го января 1860 г., обучавшемуся в таганрогской гимназии 10 лет, в том, что, во-первых, на основании наблюдения за все время обучения его в таганрогской гимназии, поведение его было вообще отличное, исправность в посещении и приготовлении письменных работ весьма хорошие, прилежание очень хорошее и любознательность по всем предметам одинаковая, во-вторых, он обнаружил нижеследующие познания:
Наименование всех предметов гимназического курса / Отметки, выставленные в педагогическом совете на основании п. 45 прав / На испытании, проходившем 15, 16, 17, 18 и 19 мая, 2, 4, 7 и 11 июня
Закон Божий 5 5
Русский язык и словесность 4 4
Логика 4 -
Латинский язык 3 3
Греческий язык 3 4
Математика 3 3
Физика 3 3
Краткое естествоведение —
История 4 4
География 5 -
Немецкий язык 5 -
Французский язык —
Василий Васильевич Зеленко:
По русскому языку на выпускном экзамене была дана тема: «Нет зла более, как безначалие». <…> Чехов писал сочинение 4 ч. 55 м. и подал его последним из 29 человек.
Московская юность
Михаил Павлович Чехов:
За три года жизни в Москве мы переменили двенадцать квартир и, наконец, в 1879 году наняли себе помещение в подвальном этаже дома церкви святого Николая на Грачевке, в котором пахло сыростью и через окна под потолком виднелись одни только пятки прохожих.
В эту-то квартиру и въехал к нам 8 августа 1879 год; наш брат Антон, только что окончивший курс таганрогской гимназии и приехавший в Москву поступать в университет. Мы не видели его целых три года и с нетерпением ожидали его еще весной, тотчас по окончании экзаменов, но он приехал только в на чале августа, задержавшись чем-то очень серьезным в Таганроге. Это серьезное состояло в том, что он хлопотал о стипендии по двадцати пяти рублей в месяц, которую учредило как раз перед тем Таганрогское городское управление для одного из своих уроженцев, отправляющихся получать высшее образование. Таким образом, он приехал в Москву не с пустыми руками; кроме того, зная стесненное положение нашей семьи, привез с собою еще двух нахлебников, своих товарищей по гимназии — В. И. Зембулатова и Д. Т. Савельева. Он приехал к нам раньше их, один, как раз в тот момент, когда я сидел за воротами и грелся на солнце. Я не узнал его. С извозчика слез высокий молодой человек в штатском, басивший. Увидев меня, он сказал:
— Здравствуйте, Михаил Павлович.
Только тогда я узнал, что это был мой брат Антон, и, взвизгнув от радости, побежал скорее вниз предупредить мать.
К нам вошел веселый молодой человек: все бросились к нему, начались объятия, лобзания, и меня послали тотчас же в Каретный ряд на телеграф, чтобы сообщить отцу в Замоскворечье о приезде Антона. Вскоре явились и Зембулатов с Савельевым, началось устройство помещения для приезжих, и я был точно в чаду. Затем гурьбой отправились смотреть Москву. Я был чичероне, водил гостей в Кремль, все им показывал, и все мы порядочно устали. Вечером пришел отец, мы ужинали в большой компании, и было так весело, как еще никогда. <…>
Прошения о поступлении в университет подавались не позже 20 августа на имя ректора в правлении, в старом здании на Моховой, в отвратительном помещении внизу направо. Антон еще не знал хорошо Москвы, и туда повел его я. Мы вошли в грязную, тесную, с низким потолком комнату, полную табачного дыма, в которой столпилось множество молодых людей. Вероятно, Антон ожидал от университета чего-то грандиозного, потому что та обстановка, в какую он попал, произвела на него не совсем приятное впечатление. Но то, что ему пришлось потом большую часть своего университетского курса проработать в анатомическом театре и в клиниках на Рождественке, и то, что в самом университете на Моховой он бывал очень редко, по-видимому, изгладило в нем это первое впечатление. Впрочем, ему было не до впечатлений: на его долю с первых же шагов его в Москве свалилось столько обязанностей и труда, что некогда было думать о сентиментальностях. С осени того же года мы все оптом переехали на другую квартиру по той же Грачевке, в дом Савицкого, на второй этаж, и разместились так: Зембулатов и Коробов — в одной комнате, Савельев — в другой, Николай, Антон и я — в третьей, мать и сестра — в четвертой, а пятая служила приемной для всех. Так как отец в это время жил у Гаврилова, то волею судеб его место в семье занял брат Антон и стал как бы за хозяина. Личность отца отошла на задний план. Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и так далее. Началась совместная работа по поднятию материального положения семьи. Работали все, кто как мог и умел. <…> С этой квартиры началась литературная деятельность Антона.
Григорий Иванович Россолимо:
1879 год для медицинского факультета Московского университета ознаменовался большим наплывом молодежи, в том числе и из самых отдаленных уголков России; на первый курс поступило около 450 студентов, и в числе их нас, четверо одесситов, и трое из таганрогской гимназии, среди последних был и А. П. Чехов. <…>
Несмотря на рано обнаружившийся у него уклон в сторону писательства, он тем не менее оставался прилежным студентом, хотя и довольно пассивным по отношению к увлечению общественной работой или медицинской специальностью. Он аккуратно посещал лекции и практические занятия, нигде, однако, не выдвигаясь вперед. Если бывал на сходках, то скорее в качестве зрителя, и на втором курсе, в 1880/81 академическом году, в бурные времена, предшествовавшие и последовавшие за событием 1 марта 1881 года (убийством Александра II), он оставался в рядах большинства студентов курса, не индифферентных, хотя и не активных революционеров. <…>
Позднее, когда студенческая жизнь вошла более или менее в свою колею, его было видно и в аудиториях и лабораториях; и экзамены он сдавал добро совестно, переходя аккуратно с курса на курс. О его отношениях к занятиям и студенческим обязанностям свидетельствует образцово составленная на V курсе кураторская (обязательная зачетная) история болезни пациента нервной клиники. <…> Представление о Чехове-студенте у меня составилось частью из данных наблюдений со стороны и личных встреч — особенно во время занятий с товарищами в порученной мне, как старосте V курса, студенческой лаборатории, — частью же из того, что о нем сообщал словоохотливый и прямодушный, наш милый товарищ Вася Зембулатов, которого Чехов часто звал по гимназическому обычаю «Макаром», и другой товарищ по Таганрогу Савельев. Оба товарища А.П. относились к нему, как к самому лучшему другу детства; их соединяли не только узы гимназической скамьи, но и донское происхождение, и весь, хотя и неглубокий, но и обычно интимный круг интересов гимназических одноклассников. Но в то же время было ясно, что спайка трех товарищей произошла и благодаря, с одной стороны, чуткости будущего крупного сердцеведа, с другой — художественной спаянности взаимно друг-друга дополнявших индивидуальностей — толстенького маленького, с ротиком сердечком, маленькими усиками и жидкой эспаньолкой, с подпрыгивающим животиком во время добродушного смеха, степняка-хуторянина Васи Зембулатова и поджарого, высокого, доброго, благородного, по-детски мечтательно-удивленного, молчаливого казака Савельева. У Чехова, уже студентом ушедшего в круг широких литературных интересов и уже вырисовывавшегося как яркая творческая индивидуальность, казалось, ничего не должно было оставаться общего с этими милыми детьми южных степей. А между тем тесная дружба с гимназическими товарищами оставалась неизменно прочной до последних дней каждого, уходившего по очереди с этого света. <…>
К товарищам у него наблюдалось отношение в высокой степени симпатичное, крайняя благожелательность к курсовым товарищам: раз сойдясь и подружившись, он сближался все более и более и был в чувствах своих неизменно прочен, поэтому и отвечали ему друзья тем же.
Константин Алексеевич Коровин:
Это было, если не ошибаюсь, в 1883 году. В Москве, на углу Дьяковской и Садовой, была гостиница, называемая «Восточные номера», — почему «восточные», неизвестно… Это были самые захудалые меблированные комнаты. У «парадного» входа, чтобы плотнее закрывалась входная дверь, к ней приспособлены были висевшие на веревке три кирпича…
В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, а наверху, на втором этаже, — И. И. Левитан, бывший в то время еще учеником Училища живописи, ваяния и зодчества.
Была весна. Мы вместе с Левитаном шли из школы, с Мясницкой, — после третьего, последнего, экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали: я — за рисунок, Левитан — за живопись… Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне:
— Зайдем к Антоше (то есть Чехову)…
В номере Антона Павловича было сильно накурено, на столе стоял самовар. Тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями лекций. — Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете, на врача. Он сидел на краю дивана. На нем была серая куртка, в то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него, в номере были незнакомые нам молодые люди — студенты. Студенты горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечая на обращаемые к нему вопросы. <…>
Был весенний, солнечный день… Левитан и я звали Антона Павловича пойти в Сокольники. Мы сказали о полученных нами медалях. Один из присутствовавших студентов спросил:
— Что же, на шее будете носить? Как швейцары?
Ему ответил Левитан:
— Нет, их не носят… Это просто так… Дается в знак отличия при окончании школы…
— Как на выставках собаки получают… — прибавил другой студент.
Студенты были другие, чем Антон Павлович. Они были большие спорщики и в какой-то своеобразной оппозиции ко всему.
— Если у вас нет убеждений, — говорил один студент, обращаясь к Чехову, — то вы не можете быть писателем…
— Нельзя же говорить, что у меня нет убеждений, — говорил другой, — я даже не понимаю, как это можно не иметь убеждений.
— У меня нет убеждений, — отвечал Антон Павлович.
— Вы говорите, что вы человек без убеждений… Как же можно написать произведение без идеи? У вас нет идей?..
— Нет ни идей, ни убеждений… — ответил Чехов. Странно спорили эти студенты. Они были, очевидно, недовольны Антоном Павловичем. Было видно, что он не отвечал какой-то дидактике их направления, их идейному и поучительному толку. Они хотели управлять, поучать, руководить, влиять. Они знали все — все понимали. А Антону Павловичу все это, видимо, было очень скучно.
— Кому нужны ваши рассказы?.. К чему они ведут? В них нет ни оппозиции, ни идеи… Вы не нужны «Русским ведомостям», например. Да, развлечение и только…
— И только, — ответил Антон Павлович.
— А почему вы, позвольте вас спросить, подписываетесь Чехонте?.. К чему такой китайский псевдоним?..
Чехов засмеялся.
— А потому, — продолжал студент, — что когда вы будете доктором медицины, то вам будет совестно за то, что вы писали без идеи и без протеста…
— Вы правы… — отвечал Чехов, продолжая смеяться. И прибавил:
— Поедемте-ка в Сокольники… Прекрасный день… Там уже цветут фиалки… Воздух, весна.
И мы отправились в Сокольники.
Будни и праздники Антоши Чехонте
Михаил Павлович Чехов:
Брат Антон получал свою стипендию из Таганрога не ежемесячно, а по третям, сразу по сто рублей. Это не облегчало его стесненных обстоятельств, так как полученной суммой сразу же погашались долги, нужно было купить пальто, внести плату в университет и так далее, и на другой день на руках не оставалось ничего. Я помню, как он в первый раз получил такую сумму и накупил разных юмористических журналов, в числе которых была и «Стрекоза»». Затем он что-то написал туда и стал покупать «Стрекозу» у газетчика уже каждую неделю, с нетерпением ожидая в «Почтовом ящике» этого журнала ответа на свое письмо. Это было зимой, и я помню, как озябшими пальцами Антон перелистывал купленный им по дороге из университета номер этого журнала. Наконец появился ответ: «Совсем не дурно, благословляем и на дальнейшее сподвижничество». Затем, в марте 1880 года, в №10 «Стрекозы» появилось в печати первое произведение Антона Чехова, и с тех пор началась его непрерывная литературная деятельность. Произведение его называлось в рукописи «Письмо к ученому соседу» и представляло собою в письменной форме тот материал, с которым он выступал по вечерам у нас в семье, когда приходили гости и он представлял перед ними захудалого профессора, читавшего перед публикой лекцию о своих открытиях. Это появление в печати первой статьи брата Антона было большой радостью в нашей семье. <…>
После «Стрекозы» Антон Павлович перешел сотрудничать в «Зритель». История этого перехода такова. Пока Антон Павлович работал в «Стрекозе», старший мой брат, Александр, пописывал в «Будильнике», где появился один из его рассказов — «Карл и Эмилия», обративший на себя внимание. Между тем редакция «Стрекозы» стала то и дело возвращать брату Антону его статьи обратно с ехидными ответами в «Почтовом ящике», и, после того как он поместил в ней около десятка статеек, тот же «Почтовый ящик» «Стрекозы» переполнил чашу терпения брата следующим ответом: «Не расцвев, увядаете. Очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к делу». Антон обиделся и стал искать себе другой журнал. К «Будильнику» и «Развлечению» он тогда относился недоверчиво, а подходящего органа не находилось. Если не ошибаюсь в хронологии, то как раз в это время группа московских писателей затеяла издавать литературный сборник «Бес», к участию в котором пригласили Антона и в качестве художника — Николая. Вместе с другим художником. А. С. Яновым, Николай с азартом принялся за иллюстрации, Антон же собирался написать туда кое-что, да так и не собрался. «Бес» вышел без его материала. Брат Антон остался без заработка, но его вскоре выручил «Зритель». Как потом оказалось, журнал этот стал специально «чеховским», так как в нем все литературно-художественное производство целиком перешло в руки сразу троих моих братьев — Александра, Антона и Николая, причем Александр, кроме того, стал еще заведовать в «Зрителе» секретарской частью. Помещался этот журнал на Страстном бульваре, в доме Васильева, недалеко от Тверской. <…> Редакция «Зрителя» была более похожа на клуб, чем на редакцию. Сюда, как к себе домой, сходились каждый день ее члены, хохотали, курили, рассказывали анекдоты, ровно ничего не делали и засиживались до глубокой ночи. <…>
Брат Николай с азартом и увлечением принялся за иллюстрации к «Зрителю». Он нарисовал заглавную виньетку для журнала и массу рисунков и заставок, но первый номер вышел бледный в литературном отношении и успеха не имел. Брат Антон начал свое сотрудничество только с № 5 статейкой «Темпераменты», затем журнал целиком перешел под власть моих братьев. Николай рисовал буквально с утра и до вечера; Давыдов портил его рисунки тоже с утра и до вечера, причем приходилось их перерисовывать вновь; Антон писал не скупясь, но журнал не шел, его трудно было выпускать по три раза в неделю, он стал запаздывать и, наконец, потерял доверие у публики. Дело погибало, и, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить положение, Давыдов напечатал сообщение, что у художника Н. П. Чехова заболели глаза, что он почти ослеп и поэтому поводу выход журнала в свет временно приостанавливается. Подписчики ответили рядом писем, что они желают художнику скорейшего выздоровления, но что из этого вовсе не следует, чтобы редакция могла воспользоваться их деньгами, далеко не удовлетворив их журналом. <…>
Выход в свет «Зрителя» подтянул и другие московские журналы. Так, «Будильник», испугавшись конкуренции, стал печатать обложку золотой краской. После кончины «Зрителя» мои братья Антон и Николай перешли работать туда. Впрочем, сколько помню, брат Антон сотрудничал в «Зрителе» всего только один год, и, когда этот журнал потом возобновился, он уже больше в нем не участвовал.
Петр Алексеевич Сергеенко:
Кроме «Антоши Чехонте» у Чехова было множество других псевдонимов; ему приходилось в студенческие годы писать в разных журналах и различного рода заметки. И тогда было не так, как теперь. Тогда подписываться своим полным именем значило признавать свой труд серьезным и косвенно как бы претендовать на бессмертие. Чехов же слишком был скромен, чтобы придавать своим юношеским работам серьезное значение. К тому же он и сам не мог припомнить всех своих псевдонимов и всех своих работ. Будучи студентом, он писал очень много, «каждый вечер по очерку».
Владимир Алексеевич Гиляровский:
Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова, Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых, — они жили в маленькой квартире в Головином переулке, на Сретенке. Веселые это были вечера! Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно, ни карт, ни танцев никогда не бывало, но все было проникнуто какой-то особой теплотой, сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь — на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя.
Иван Леонтьевич Щеглов:
Многим московским питомцам «Эрмитажа» и Тестова (ресторан и трактир. — Сост.), вероятно, покажется ересью, если я отмечу здесь, что нигде и никогда так вкусно не едал и не пивал, как за столом у Чеховых, по крайней мере так весело и аппетитно. <…> После ужина Николай Павлович играл на рояли; потом что-то пели хором, чему-то оглушительно громко смеялись — и, в заключение, молодежь, возбужденная чудною лунною ночью, потащила меня, как приезжего гостя, шататься по стогнам первопрестольной. Антона Чехова тоже очень соблазняла прогулка, но у него на плечах была какая-то срочная работа… и он остался. Уходя, я видел, как он уселся за письменный стол, как-то по-стариковски сгорбившись, и снова взялся за перо.
Да, немало тяжести лежало тогда на плечах бедного Антона! Можно сказать, весь дом Чеховых в то время держался на одном Антоне. И нужду же пережил он в начале своей писательской деятельности — боже упаси!
Владимир Алексеевич Гиляровский:
Мы с Антоном работали в те времена почти во всех иллюстрированных изданиях: «Свет и тени», «Мирском толке», «Развлечении», «Будильнике», «Москве», «Зрителе», «Стрекозе», «Осколках», «Сверчке». По вечерам часто собиралась у Чеховых небольшая кучка жизнерадостных людей: его семейные, юноша-виолончелист Семашко, художники, мой товарищ по сцене Вася Григорьев, когда великим постом приезжал в Москву на обычный актерский съезд. Мы все любили его пение и интересные рассказы, и Антоша нередко записывал его меткие словечки, а раз даже записал целый рассказ о случае в Тамбове, о собаке, попавшей в цирк. Это и послужило темой для «Каштанки».
Николай Дмитриевич Телешов:
Несмотря на молчание критики, читатели живо интересовались молодым писателем и сумели верно понять Чехова и оценить сами, без посторонней помощи.
С рассказами Чехова, так называемыми «Пестрыми рассказами», мне пришлось познакомиться довольно рано, почти в самом начале литературных выступлений Антона Павловича, когда он писал под разными веселыми псевдонимами в «Стрекозе», в «Осколках», в «Будильнике». Потом на моей памяти, на моих глазах, так сказать, он начал переходить от юмористических мелочей к серьезным художественным произведениям. В то время он был известен все еще по-прежнему — как Чехонте, автор коротеньких веселых рассказцев. И слышать о нем приходилось не что-нибудь существенное и серьезное, а больше пустячки да анекдотики, вроде того, например, будто Чехов, нуждаясь постоянно в веселых сюжетах и разных смешных положениях для героев, которых требовалось ему всегда множество, объявил дома, что станет платить за каждую выдумку смешного положения по десять копеек, а за полный сюжет для рассказа по двадцать копеек, или по двугривенному, как тогда говорилось. И один из братьев сделался будто бы усердным его поставщиком. Или рассказывалась такая история: в доме, где жили Чеховы, бельэтаж отдавался под балы и свадьбы, поэтому нередко в квартиру нижнего этажа сквозь потолок доносились звуки вальса, кадрили с галопом, польки-мазурки с назойливым топотом. Чеховская молодежь, если бывали все в духе, начинала шумно изображать из себя приглашенных гостей и весело танцевать под чужую музыку, на чужом пиру. Не отсюда ли вышел впоследствии известный рассказ «Свадьба» и затем водевиль на ту же тему?
Михаил Павлович Чехов:
«Сказкам Мельпомены», изданным в 1884 году, как говорится, не повезло. Она была напечатана в типографии А. А. Левенсона в долг, с тем чтобы все расходы по ее печатанию были погашены в первую голову из ближайшей выручки за книжку. Но не пришлось выручать даже и этих расходов, и вот по какой причине: владельцы книжных магазинов, которым «Сказки Мельпомены» были сданы на комиссию, вообразили, что это не театральные рассказы, а детские сказки, и положили ее у себя в детский отдел. Случались даже и недоразумения. Так, один генерал сделал заведующему книжным магазином «Нового времени» скандал за то, что ему продали такую безнравственную детскую книжку. Что сталось потом со «Сказками Мельпомены», не знал даже и сам автор. Такая же неудача постигла и другую книгу Чехова того времени. Она была уже напечатана, сброшюрована, и только недоставало ей обложки. В эту книгу вошли, между прочим, рассказ «Жены артистов», впоследствии напечатанный в «Сказках Мельпомены», и «Летающие острова». Книжка же была очень мило иллюстрирована братом Николаем. Я не знаю, почему именно она не вышла в свет и вообще какова была ее дальнейшая судьба.
Николай Дмитриевич Телешов:
Тогдашняя критика высокомерно молчала; даже «нововременский» зубоскал Буренин, сотрудник того же издательства, которое выпустило эту книжку, отметил ее появление таким четверостишием:
Беллетристику-то — эх, увы! Пишут Минские да Чеховы, Баранцевичи да Альбовы; Почитаешь — станет жаль Бовы!<…> Далеко не сразу был он признан влиятельной критикой. Михайловский отозвался о нем холодно и небрежно, а Скабичевский почему-то пророчил, что Чехов непременно сопьется и умрет под забором.
Дмитрий Васильевич Григорович (1822–1900), писатель. Письмо А. П. Чехову, 25 марта 1886 г.:
Милостивый Государь Антон Павлович, около года тому назад я случайно прочел в «Петерб<ургской> газете» Ваш рассказ; названия его теперь не припомню, помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности, а главное, — замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал все, что было подписано Чехонте, хотя внутренне сердился на человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму. Читая Вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас настоящий талант, — талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколенья. Я не журналист, не издатель; пользоваться Вами я могу, только читая Вас, если я говорю о Вашем таланте, говорю по убеждению. Мне минуло уже 65 лет, но я сохранил еще столько любви к литературе, с такою горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что не мог, — как видите, — утерпеть и протягиваю Вам обе руки. Но это еще не все, вот что хочу прибавить: по разнообразным свойствам Вашего несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде (метель ночь, местность в «Агафье» и т. д.), чувству пластичности, где в нескольких строчках является полная картина: тучки на угасающей заре: «как пепел на потухающих угольях…» и т. д. — Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю Ваших средств, если у Вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного, отделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам. Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики. В основу Ваших рассказов часто взят мотив несколько порнографического оттенка, к чему это? Правдивость, реализм не только не исключают изящества, но выигрывают от последнего. Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями и о пупке дьячка. Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только портят впечатление в глазах читателя со вкусом. Простите мне великодушно такие замечания, я решился их высказать потому только, что истинно верю в Ваш талант и желаю ему ото всей души полного развития и полного выражения. На днях, — говорили мне, — выходит книга с Вашими рассказами, если она будет под псевдонимом Чехонте, — убедительно прошу Вас телеграфировать издателю, чтобы он поставил на ней настоящее Ваше имя. После последних рассказов в «Нов<ом> врем<ени>» и успеха «Егеря» оно будет иметь больше успеха. Мне приятно было бы иметь удостоверение, что Вы не сердитесь на мои замечания, но принимаете их как следует к сердцу, точно так же, как я пишу Вам неавторитетно, — по простоте старого сердца. Жму Вам дружески руку и желаю Вам всего лучшего!
Антон Павлович Чехов. Письмо Д. В. Григоровичу. Москва, 28 марта 1886 г.:
Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенные люди глядят на таких избранников, как Вы; можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия Ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно — гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мной эта высокая награда или нет… Повторяю только, что она меня поразила. Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтоб быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства… А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый «литературный кружок»: таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают здесь свои языки. Если пойти мне туда и прочесть хотя кусочек из Вашего письма, то мне засмеются в лицо. За пять лет моего шаганья по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и — пошла писать! Это первая причина… Вторая — я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне.
Пишу все это для того только, чтобы хотя немного оправдаться перед Вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егеря», который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом… Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал.
Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было. Но вот нежданно-негаданно явилось ко мне Ваше письмо. Простите за сравнение, оно подействовало на меня, как губернаторский приказ «выехать из города в 24 часа!», т. е. я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз…
Я с Вами во всем согласен. Циничности, на которые Вы мне указываете, я почувствовал сам, когда увидел «Ведьму» в печати. Напиши я этот рассказ не в сутки, а в 3–4 дня, у меня бы их не было…
От срочной работы избавлюсь, но не скоро… Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как уж голодал, но не во мне дело… Письму я отдаю досуг, часа 2–3 в день и кусочек ночи, т. е. время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело. Поставить на книжке мое настоящее имя нельзя, потому что уже поздно: виньетка готова и книга напечатана. Мне многие петербуржцы еще до Вас советовали не портить книги псевдонимом, но я не послушался, вероятно, из самолюбия. Книжка моя мне очень не нравится. Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий. Я верю, что, прочитав ее, многие разочаруются. Знай я, что меня читают и что за мной следите Вы, я не стал бы печатать этой книги.
Вся надежда на будущее. Мне еще только 26 лет. Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро.
Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку в вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу.
Пришлите мне, если можно. Вашу карточку. Я так обласкан и взбудоражен Вами, что, кажется, не лист, а целую стопу написал бы Вам. Дай Бог Вам счастья и здоровья, и верьте искренности глубоко уважающего Вас и благодарного
А. Чехова.
Михаил Павлович Чехов:
После этого между старым писателем и молодым талантом завязались отношения. Брат Антон съездил в Петербург, побывал у Григоровича и возвратился из Северной Пальмиры точно в чаду от ласкового приема. Его пригласил к себе работать и А. С. Суворин. Теперь, значит, дела пойдут веселее и можно будет не особенно прижиматься. <…> Антону шел только 26-й год — и наша квартира наполнилась молодежью. Интересные барышни — Лика Мизинова, Даша Мусин-Пушкина, Варя Эберле, молодые музыканты и люди, причастные к искусству и литературе, постоянно пели и играли, а брат Антон вдохновлялся этими звуками и людьми и писал у себя внизу, где находился его отдельный кабинет. Попишет — и поднимется наверх, чтобы поострить или подурачиться вместе со всеми. А днем, когда все занимались делом и у нас не было никого, брат Антон обращался ко мне:
— Миша, сыграй что-нибудь, а то плохо пишется…
И я отжаривал для него на пианино по целым получасам попурри из разных опереток с таким ожесточением, на какое может быть способен разве только студент-второкурсник сангвинического темперамента.
По вечерам же у нас собиралась молодежь каждый день. И вдруг на один из таких вечеров к нам неожиданно является Григорович. Высокий, стройный, красивый, в небрежно завязанном дорогом галстуке, он сразу же попадает в молодую кутерьму, заражается ею и… начинает, старый греховодник, ухаживать за барышнями. Он просиживает у нас до глубокой ночи и кончает тем, что отправляется провожать пленившую его Долли Мусин-Пушкину до самой ее квартиры.
Второй раз я встретился с Григоровичем уже в Петербурге, у Сувориных. Он стал вспоминать об этом вечере, и, по-видимому, это было ему приятно.
— Анна Ивановна, голубушка моя. — обратился он к Сувориной, говоря быстро и задыхаясь от волнения. — Если бы вы только знали, что там у Чеховых происходило!
И, подняв обе руки к небу, он воскликнул:
— Вакханалия, душечка моя, настоящая вакханалия!
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва. 5 марта 1889 г.:
Вчера ночью ездил за город и слушал цыганок. Хорошо поют эти дикие бестии. Их пение похоже на крушение поезда с высокой насыпи во время сильной метели: много вихря, визга и стука…
Иван Леонтьевич Щеглов:
В общем этот первый период чеховской литературной известности — 1886 по 1896 год — можно считать наиболее счастливой половиной его личной жизни, причем самая безоблачная полоса захватывает первые три года (получение Пушкинской премии, шумный успех «Иванова», сближение с А. Н. Плещеевым, Д. В. Григоровичем, П. И. Чайковским, Всеволодом Гаршиным, Владимиром Короленко и друг.). Зато и промелькнули эти первые годы нелепо, неуловимо, точно сладкий майский сон, промелькнули в безоглядной сумасбродной суете, оставив в воспоминании какие-то светлые праздничные клочки…
«Петербургские свидания»
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941), прозаик, поэт, драматург, литературный критик, философ, религиозный мыслитель. Муж З. Н. Гиппиус:
Мягкая меховая шапка гречником, длинная московская шуба, слегка шаркающие калоши и знакомый басок:
— Голубчик, хорошо в Петербурге. Люблю я петербургскую литературную среду. Да и вообще хорошо быть русским литератором. Превосходнейшие люди — русские литераторы…
Мы идем с Чеховым в зимний день где-то около Исаакиевского собора. Идем, чтобы захватить еще одного «превосходнейшего человека» и пойти вместе куда-нибудь пообедать, — ну, хоть к Палкину, что ли. В те времена все мы были непритязательны.
— Неужели уж так хороша литераторская жизнь? — говорю я, смеясь.
Смеется и Чехов, тихонько. Нет, он говорит искренно. В голосе, в глазах — ирония, но она у него всегда, неотделимая от него, и вряд ли он сам ее замечает.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Петербург был для Антона Павловича чем-то желанным и в то же время запретным. <…>
Все ежемесячники, за исключением «Русской мысли» и «Русского вестника», к которому А.П. не имел никакого отношения, издавались в Петербурге, и там были сосредоточены все главные литературные силы.
Понятно, что и литературные связи А.П., которые с каждым годом расширялись, были главным образом в Петербурге. Там, а не в Москве был впервые замечен и признан его талант. Там издавались его книги, а журналы наперебой звали его к себе сотрудничать. Да даже и раньше того момента, когда был замечен его талант, в Петербурге, в лейкинских «Осколках» и в «Петербургской газете», главным образом помещались его рассказы, и оттуда шли первые скромные заработки.
Словом, если Москва дала ему медицинские познания и сделала его врачом, то восприемником его литературной карьеры был Петербург. И, сколько мне помнится, в Петербург он всегда ездил с удовольствием. В Москве у него шла постоянная, напряженная работа. Даже в Мелихове, которое он любил, как птица любит ею самой свитое гнездо, он не был избавлен от всегдашней заботы о средствах к жизни. В Петербург же он приезжал как будто на гастроли.
Здесь были люди, у которых он мог считать себя как дома. С семейством А. С. Суворина он был в прекрасных отношениях, и там для него был всегда готов «и стол и дом».
Правда, он не особенно любил там останавливаться, но это происходило не от недостатка любезности со стороны хозяев или недоверия с его стороны, а просто от желания не стеснять ни других, ни себя. Быть кому-нибудь обязанным без уверенности в том, что он сможет отплатить, было для него настоящим пугалом. И если он иногда останавливался в гостинице, то это вызывалось не необходимостью, а его капризом.
В самом же Петербурге он был, что называется, нарасхват. Всюду его звали, всем хотелось видеть его своим гостем. Литературных приятелей у него было множество, со всеми надо было посидеть, поболтать, распить бутылку вина. А кроме того, наполняли время и литературные дела, так как круг его литературных отношений расширился.
И петербургский образ жизни был совсем иной, более подходящий к его вкусам, чем московский, и менее для него вредный. Петербуржцы — домоседы по преимуществу. Московская трактирность им не по нутру. И потому тут жизнь проходит спокойнее и здоровее.
Он всегда говорил, что в Петербурге у него голова как-то яснее, чем в Москве. Это понятно. Когда люди спрашивают другу друга: где мы встретимся вечером? — в Петербурге это значит: я к вам приеду или вы ко мне? Когда такой же вопрос задают в Москве, это значит: в «Эрмитаже», в «Метрополе», в «Праге» или у «Яра»?
И в этом отношении Петербург был благоприятен для его здоровья. Здесь он и спать ложился раньше, и нервы его были спокойнее. И, конечно, он давно оставил бы Москву и стал бы жить в Петербурге, если бы не убийственный для его легких климат нашей северной столицы. Эта вечная сырость, постоянные неожиданные смены тепла холодом и холода теплом, ветры — все это для него было переносимо только в самой небольшой дозе. И он, под личиной постоянного бронхита всегда подозревавший прятавшуюся за ним свою болезнь, стремился в этот город и боялся его.
Владимир Алексеевич Тихонов (1857–1914), драматург, прозаик:
В 1891 году; 5 января, т. е. в Крещенский сочельник, вечером, в квартире Петра Петровича Гнедича собрались гости. В числе их был и незабвенный Антон Павлович Чехов. Благодаря ли его присутствию, или все были в ударе, но вечер и зачался и шел необычайно весело. Художник С. С. Соломко устроил «Китайские тени», в которых в комическом виде изображались все присутствующие, импровизировались маленькие сценки, читали стихи, пелись куплеты. И все это как будто делалось для того, чтобы повеселить нашего милого, дорогого московского гостя Антона Павловича. Радушные хозяева, и без того известные своим хлебосольством, в этот вечер, кажется, превзошли самих себя, и вечер так далеко затянулся за полночь, что, когда мы, наиболее засидевшиеся гости, т. е. А. П. Чехов, Вас. Ив. Немирович-Данченко и я, выходили от них, шел уже шестой час утра. Антон Павлович был в необычайно радостном настроении духа. Прощаясь с супругами Гнедич, он, улыбаясь своей чарующей улыбкой, между прочим, говорил, что никогда не забудет вечера 5-го января и каждый год в этот день будет приезжать к ним в гости в Петербург.
— А мы, — в ответ ему сказала Ольга Андреевна Гнедич, — каждый год в этот день будем устраивать такую же вечеринку в честь вашего посещения. Квартира Гнедичей помещалась на Сергиевской улице, недалеко от Сергиевского собора, где в это время шло богослужение по случаю наступившего праздника. И не помню, кому из нас троих — чуть ли не Антону Павловичу — пришла мысль зайти туда. И мы зашли.
После шумного вечера тихая и торжественная служба произвела на нас какое-то особое мягкое, умиротворяющее впечатление. Но в храме было тесно и душно, и Вас. Ив. Немирович-Данченко предложил нам отправиться в Исаакиевский собор. И вот мы, все трое, на одном извозчике, поехали с Сергиевской на Исаакиевскую площадь. У Исаакия было просторно, но как-то темно и даже пустынно. И вскоре Вас. Ив. Немирович-Данченко, простившись, покинул нас и отправился к себе домой в гостиницу «Англию», что как раз наискось от Исаакиевского собора. А мы с Антоном Павловичем тихо заговорили о красоте храма.
— А бывали ли вы когда-нибудь в Смольном соборе? — спросил я его.
— Нет, не бывал, — ответил он.
— Так поедем туда, и вы увидите самый красивый храм в России, — предложил я.
— Поедемте, — согласился Антон Павлович.
И мы опять, на этот раз уже вдвоем, поплелись через весь Петербург от Исаакия к Смольному. Но когда мы прибыли туда, служба уже подходила к концу и нам пришлось простоять в храме не более трех-четырех минут.
— Ну, а теперь ко мне чай пить! — сказал я. Чехов посмотрел на часы: было уже четверть седьмого. Я жил на Шпалерной, близехонько от Смольного. И этот конец мы прошли пешком.
А через полчаса, сидя за самоваром, Антон Павлович вдруг сказал:
— Однако, господа петербуржцы, что же вы со мной делаете? Немирович повез меня к Исаакию, потому что сам живет около Исаакия, а вы — к Смольному, потому что у Смольного! Ловко! — и рассмеялся своим тихим чистым смехом.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Петербург, 14 января 1891 г.:
Я утомлен, как балерина после пяти действий и восьми картин. Обеды, письма, на которые лень отвечать, разговоры и всякая чепуха. Сейчас надо ехать обедать на Васильевский остров, а мне скучно, и надо работать. Поживу еще три дня, посмотрю, если балет будет продолжаться, то уеду домой или к Ивану в Судорогу.
Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство! Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников; Маслов (Бежецкий) не ходит к Сувориным обедать; Щеглов рассказывает все ходящие про меня сплетни и т. д. Все это ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая-то плесень.
Игнатий Николаевич Потапенко:
В Петербурге у А.П. было много литературных приятелей, и каждый хотел повидаться с ним. Он был для петербуржцев человеком свежим, от него живой Русью веяло. Все тут, встречаясь постоянно в одних и тех же комбинациях, изрядно надоели друг другу, и появление его — такого своеобразного и так непохожего на всех — как бы озонировало атмосферу…
Антон Павлович Чехов. Из письма И. П. Чехову. Петербург, 24 января 1891 г.:
Живу я еще в Питере и каждый день собираюсь уехать домой. Ужасно утомился. Ужасно! Целый день, от 11 ч. утра до 4 часов вечера я на ногах; комната моя изображает из себя нечто вроде дежурной, где по очереди отбывают дежурство гг. знакомые и визитеры. Говорю непрерывно. Делаю визиты и конца им не предвижу.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Сколько я помню, всегда все были ему рады и его появление всюду приветствовалось. И не подлежит никакому сомнению, что он не только производил освежающее впечатление, но как-то без всяких стараний со своей стороны объединял довольно-таки разбросанные и разрозненные элементы.
Иван Леонтьевич Щеглов:
О тогдашних «петербургских свиданиях» нечего и говорить: теперь, издали, они мне представляются какой-то непрерывной вереницей радостных тостов во славу русской литературы в лице Антона Павловича, бывшего повсюду почетнейшим застольным гостем. Числа и месяцы в этой суматохе невольно спутываются… То встречаешь с Антоном Чеховым новый год у Суворина, то справляешь вместе «капустник» у артиста Свободина, то присутствуешь на импровизированной в честь Чехова литературно-музыкальной вечеринке у старика Плещеева… Сегодня устраивается в «Малом Ярославце» торжественная «кулебяка» в день ангела Чехова, а спустя дня два сам Чехов тащит меня на Васильевский остров «на блины» к какому-то совершенно неведомому мне хлебосольному помещику — само собой разумеется, ярому поклоннику А.П.
«Прекрасная Лика» (Лидия Стахиевна Мизинова)
Мария Тимофеевна Дроздова:
Особенно близким другом чеховского дома была Лидия Евстафьевна (так у мемуариста. — Сост.) Мизинова, необычайно красивая женщина с чудными пепельными волосами, всегда сильно надушенная, с сигареткой в зубах.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Лика была девушка необыкновенной красоты. Настоящая «Царевна-Лебедь» из русских сказок. Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под «соболиными» бровями, необычайная женственность и мягкость и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием ломанья и почти суровой простотой — делали ее обаятельной, но она как будто не понимала, как она красива, стыдилась и обижалась, если при ней об этом кто-нибудь из компании Кувшинниковой с бесцеремонностью художников заводил речь. Однако она не могла помешать тому, что на нее оборачивались на улице и засматривались в театре. Лика была очень дружна с сестрой А.П. Марией Павловной и познакомила нас.
Мария Павловна Чехова:
Лидия Стахиевна была необыкновенно красива. Правильные черты лица, чудесные серые глаза, пышные пепельные волосы и черные брови делали ее очаровательной. Ее красота настолько обращала на себя внимание, что на нее при встречах заглядывались. Мои подруги не раз останавливали меня вопросом:
— Чехова, скажите, кто эта красавица с вами?
Михаил Павлович Чехов:
Природа, кроме красоты, наградила ее умом и веселым характером. Она была остроумна, ловко умела отпарировать удары, и с нею было приятно поговорить. Мы, все братья Чеховы, относились к ней как родные, хотя мне кажется, что брат Антон интересовался ею и как женщиной.
Мария Павловна Чехова:
Я ввела Лидию Стахиевну в наш дом и познакомила с братьями. Когда она в первый раз зашла за чем-то ко мне, произошел такой забавный эпизод. Мы жили тогда в доме Корнеева на Садовой-Кудринской. Войдя вместе с Ликой, я оставила ее в прихожей, а сама поднялась по лестнице к себе в комнату наверх. В это время младший брат Миша стал спускаться по лестнице в кабинет Антона Павловича, расположенный в первом этаже, и увидел Лику. Лидия Стахиевна всегда была очень застенчива. Она прижалась к вешалке и полузакрыла лицо воротником своей шубы. Но Михаил Павлович успел ее разглядеть. Войдя в кабинет к брату, он сказал ему:
— Послушай, Антон, к Марье пришла такая хорошенькая! Стоит в прихожей.
— Гм… да? — ответил Антон Павлович, затем встал и пошел через прихожую наверх.
За ним снова поднялся Михаил Павлович. Побыв минутку наверху, Антон Павлович спустился. Миша тоже вскоре спустился, потом поднялся: это оба брата повторяли несколько раз, стараясь рассмотреть Лику. Впоследствии Лика рассказывала мне, что в тот первый раз у нее создалось впечатление, что в нашей семье страшно много мужчин, которые все ходили вверх и вниз! После знакомства с нашей семьей Лика сделалась постоянной гостьей в нашем доме, стала общим другом и любимицей всех, не исключая и наших родителей. В кругу близких людей она была веселой и очаровательной. Мои братья и все, кто бывал в нашем доме, не считаясь ни с возрастом, ни с положением, — все ухаживали за ней. Когда я знакомила Лику с кем-нибудь, я обычно рекомендовала ее так:
— Подруга моя и моих братьев…
Антон Павлович действительно очень подружился с Ликой и, по своему обыкновению, называл ее различными шутливыми именами: Жаме, Мелитой, Канталупочкой, Мизюкиной и др. Ему всегда было весело и приятно в обществе Лики. На обычные шутки брата она всегда отвечала тоже шутками, хотя иногда ей и доставалось от него. <…> Антон Павлович переписывался с Ликой. Письма его были полны остроумия и шуток. Он часто поддразнивал Лику придуманным им ее мифическим поклонником, называл его Трофимом, причем произносил это имя по-французски Trophin. И в письмах так же писал, например: «Бросьте курить и не разговаривайте на улице. Если Вы умрете, то Трофим (Trophin) застрелится, а Прыщиков заболеет родимчиком…» Или же посылал ей такое письмо: «Трофим! Если ты, сукин сын, не перестанешь ухаживать за Ликой, то я тебе…» и мне брат писал в таком же роде: «Поклон Лидии Егоровне Мизюковой. Скажи ей, чтобы она не ела мучного и избегала Левитана. Лучшего поклонника, как я, ей не найти ни в Думе, ни в высшем свете».
Да и Лика не отставала от него и порой отвечала ему в таком же духе, вроде того что она приняла предложение выйти замуж за одного владельца винного завода — старичка семидесяти двух лет. Когда мы жили в Мелихове, Лика бывала у нас там постоянно. Мы так к ней привыкли, что даже родители наши скучали, когда она долго не приезжала. <…> В летнюю пору Лика жила у нас в Мелихове подолгу. С ее участием у нас происходили чудесные музыкальные вечера. Лика недурно пела и одно время даже готовилась быть оперной певицей.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Все в доме любили Лику и радовались ее приезду. Всех пленяла ее красота, остроумие. Приезжала она внезапно, на тройке с бубенцами, серебром разливающимися у крыльца. Собаки с невероятным лаем и визгом выскакивали на звон бубенцов. Переполох в доме, все бежали навстречу. Приехала Лика! Весь дом наполнялся шумом, смехом.
Мария Павловна Чехова:
Между Ликой и Антоном Павловичем в конце концов возникли довольно сложные отношения. Они очень подружились, и похоже было, что увлеклись друг другом. Правда, тогда, да и долгое время спустя, я думала, что больше чувств было со стороны брага, чем Лики. Лика не была откровенна со мной о своих чувствах к Ан тону Павловичу, как, скажем, она была откровенна в дальнейших письмах ко мне по поводу ее отношений к И. Н. Потапенко. Отношения Лики и Антона Павловича раскрылись позднее, когда стали известны ее письма к Антону Павловичу. Лика в письме к брату пишет: «У нас с Вами отношения странные. Мне просто хочется Вас видеть, и я всегда первая делаю все, что могу. Вы же хотите, чтобы Вам было спокойно и хорошо и чтобы около Вас сидели и приезжали бы к Вам, а сами не сделаете ни шагу ни для кого. Я уверена, что если я в течение года почему-либо не приеду к Вам, Вы не шевельнетесь сами повидаться со мной… Я буду бесконечно счастлива, когда, наконец, ко всему этому и к Вам смогу относиться вполне равнодушно», — это уже говорит о серьезном чувстве Лики к Антону Павловичу и о том, что он знал об этом чувстве. Другие письма Лики рассказывают о большой ее любви и страданиях, которые Антон Павлович причинял ей своим равнодушием: «Вы отлично знаете, как я отношусь к Вам, а потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю также и Ваше отношение — или снисходительное, или полное игнорирования. Самое мое горячее желание — вылечиться от этого ужасного состояния, в котором нахожусь, но это так трудно самой. Умоляю Вас, помогите мне, не зовите меня к себе, не видайтесь со мной. Для Вас это не так важно, а мне, может быть, это и поможет Вас забыть».
Антон Павлович обращал все это в шутку, а Лика… продолжала по-прежнему бывать у нас. Я не знаю, что было в душе брата, но мне кажется, что он стремился побороть свое чувство к Лике. К тому же у Лики были некоторые черты, чуждые брату: бесхарактерность, склонность к быту богемы. И, может быть, то, что он писал ей однажды в шутку, впоследствии оказалось сказанным всерьез: «В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили».
Рождение драматурга. «Иванов»
Иван Леонтьевич Щеглов:
Драматургом же сделался он, можно сказать, нечаянно, попав однажды в театр Корша на представление заигранной одноактной пьески «Победителей не судят» (сюжет пьески вертится на укрощении грубого, но добродушного моряка великосветской красавицей). «Победителей не судят» — переделка с французского, и довольно-таки топорная, изящной салонной вещицы Пьера Бертона «Les jurons de Cadillac»[8], в которой восхищали в шестидесятых годах в Михайловском театре петербургскую публику г-жа Напталь-Арно и г. Дьедоние. У Корша отличались г-жа Рыбчинская и г. Соловцов, находившийся, кстати сказать, в приятельских отношениях с Чеховым. Соловцов, своей дюжей фигурой, зычным голосом и резкой манерой подходивший как нельзя более к заглавной роли, настолько понравился Чехову, что у него, как он сам мне рассказывал, явилась мысль написать для него «роль»… нечто вроде русского медведя, взамен французского. Таким образом, появился на свет водевиль «Медведь» — чеховский театральный первенец, жизненностью и оригинальностью оставивший далеко за флагом своих шаблонных водевильных сверстников.
Сценический успех «Медведя» не помешал, однако, Чехову критически отнестись к самому исполнению. «Соловцов играл феноменально. — пишет он мне, цитируя любимое словечко режиссера театра Корша. — Рыбчинская была прилична и мила. В театре стоял непрерывный хохот; монологи обрывались аплодисментами. В 1-е и 2-е представление вызывали и актеров, и автора. Все газетчики, кроме Васильева, расхвалили… Но, душа моя, играют Соловцов и Рыбчинская не артистически, без оттенков, дуют в одну ноту, трусят и проч. Игра топорная». И заключает с обычным добродушным юмором: «После первого представления случилось несчастье: кофейник убил моего медведя. Рыбчинская пила кофе, кофейник лопнул от пара и обварил ей лицо. Второй раз играла Глама, очень прилично. Теперь Глама уехала в Питер, и, таким образом, мой пушной зверь поневоле издох, не прожив и трех дней».
Почти одновременно явился на свет непредвиденный «драматический выкидыш» (слово Чехова) уже в виде большой четырехактной комедии… Чехов недаром называл своего «Иванова» «выкидышем»: если «Медведь» написан был для Соловцова, что называется, в один присест, то «Иванов» был набросан чуть ли не на пари с Коршем в каких-нибудь две недели.
Михаил Павлович Чехов:
В сумрачном кабинете корнеевского дома на Кудринской-Садовой он стал писать акт за актом, которые тотчас же передавались Коршу для цензуры и для репетиций.
Алексей Алексеевич Должен ко:
В связи с этим у него часто бывали артисты Градов-Соколов, Киселевский, Давыдов. Мартынова, Кошева и другие. Они читали пьесу и распределяли между собою роли. Антон очень волновался и говорил, что «все бы это было хорошо, если бы артисты проявляли больше жизненных инстинктов». Потом начались репетиции, и пьеса пошла очень хорошо. Исполнение было прекрасное. Публика осталась очень довольна.
Михаил Павлович Чехов:
Смотреть его собралась самая изысканная московская публика. Театр был переполнен. Одни ожидали увидеть в «Иванове» веселый фарс в стиле тогдашних рассказов Чехова, помещавшихся в «Осколках», другие ждали от него чего-то нового, более серьезного, — и не ошиблись. Успех оказался пестрым: одни шикали, другие, которых было большинство, шумно аплодировали и вызывали автора, но в общем «Иванова» не поняли, и еще долго потом газеты выясняли личность и характер главного героя. Но как бы то ни было, о пьесе заговорили. Новизна замысла и драматичность приемов автора обратили на него всеобщее внимание как на драматурга, и с этого момента начинается его официальная драматургическая деятельность. «Ты не можешь себе представить, — пишет Антон Павлович брату Александру после первого представления «Иванова», — что было! Из такого малозначащего дерьма, как моя пьесенка… получилось черт знает что… Шумели, галдели, хлопали, шикали; в буфете едва не подрались, а на галерке студенты хотели вышвырнуть кого-то, и полиция вывела двоих. Возбуждение было общее. Сестра едва не упала в обморок, Дюковский, с которым сделалось сердцебиение, бежал, а Киселев ни с того ни с сего схватил себя за голову и очень искренне возопил: «Что же я теперь буду делать?» Актеры были нервно напряжены… На другой день после спектакля появилась в «Московском листке» рецензия Петра Кичеева, который обзывает мою пьесу нагло-цинической, безнравственной дребеденью» (24 ноября 1887 года). Я был на этом спектакле и помню, что происходило тогда в театре Корша. Это было что-то невероятное. Публика вскакивала со своих мест, одни аплодировали, другие шикали и громко свистели, третьи топали ногами. Стулья и кресла в партере были сдвинуты со своих мест, ряды их перепутались, сбились в одну кучу, так что после нельзя было найти своего места; сидевшая в ложах публика встревожилась и не знала, сидеть ей или уходить. А что делалось на галерке, то этого невозможно себе и представить: там происходило целое побоище между шикавшими и аплодировавшими. Поэтому не удивительно, что всего только две недели спустя после этого представления брат Антон писал из Петербурга: «Если Корш снимет с репертуара мою пьесу, тем лучше. К чему срамиться? Ну их к черту».
Алексей Алексеевич Долженко:
Автора вызывали несколько раз под гром аплодисментов. Антон чувствовал себя очень неловко, выходил на сцену нетвердою поступью и угловато кланялся публике, о чем он мне после говорил сам. Все прошло очень хорошо. В этот же вечер все участники спектакля были приглашены Антоном на ужин. Было очень оживленно, говорилось много речей но адресу автора. Ужин затянулся до самого утра.
Иван Леонтьевич Щеглов:
Спешно написанный, еще более спешно разыгранный артистами театра Корша и возбудивший разноголосицу в московской прессе, «Иванов» вконец расстроил нервы Чехову, когда автор, ввиду постановки пьесы на петербургской казенной сцене, принялся за переделку и взглянул на нее строгим оком художника… Впрочем, каждому оригинальному драматургу известно, что гораздо легче написать новую пьесу, чем переделать старую, а Чехову пришлось, вдобавок, переработать все коренным образом… Разница между московским и петербургским «Ивановым» получилась разительная, доходившая до последней корректурной крайности, если вспомнить, что у Корша Иванов умирал от разрыва сердца, а на александринской сцене застреливался из револьвера… «Я замучился, и никакой гонорар не может искупить того каторжного напряжения, какое я чувствовал последние недели, — поверяет Чехов поэту Плещееву по окончании переделки. — Раньше своей пьесе я не придавал никакого значения и относился к ней с снисходительной иронией: написал, мол, и черт с ней. Теперь же, когда она вдруг нежданно пошла в дело, я понял, до чего плохо она сработана. Последний акт поразительно плох. Всю неделю я возился над пьесой, строчил варианты, поправки, вставки, сделал новую Сашу (для Савиной), изменил 4-й акт до неузнаваемости, отшлифовал самого Иванова — и так замучился, до такой степени возненавидел свою пьесу, что готов кончить ее словами Кина: «Палками Иванова, палками!!»» Едва ли автор мог подозревать, что в Петербурге «Иванова» встретят овациями!.. На его авторское счастье, пьеса шла в бенефис режиссера Александринского театра Ф. А. Федорова-Юрковского (бенефис за 25-летнюю службу), ввиду чего роли были распределены между лучшими силами труппы, без различия рангов и самолюбий. Ансамбль вышел чудесный, и успех получился огромный.
Публика принимала пьесу чутко и шумно с первого акта, а по окончании третьего, после заключительной драматической сцены между Ивановым и больной Саррой, с увлечением разыгранной В. Н. Давыдовым и П. Я. Стрепетовой, устроила автору, совместно с юбиляром-режиссером, восторженную овацию. «Иванов», несмотря на многие сценические неясности, решительно захватил своей свежестью и оригинальностью, и на другой день все газеты дружно рассыпались в похвалах автору пьесы и ее исполнению. <…>
В тот же вечер, после четырехактного «Иванова», шел старинный классический фарс «Адвокат Пателен» (в 3 действиях), так что спектакль, состоявший в общем из семи актов, затянулся до второго часа ночи и не дал мне возможности поздравить Чехова после спектакля.
Я увиделся с ним на другой день, на веселом банкете, устроенном в честь его помещиком Соковниным, восторженнейшим поклонником Чехова. Вид Чехов имел сияющий, жизнерадостный, хотя несколько озадаченный размерами «ивановского успеха». На обеде было несколько литераторов, артист Свободин и дальний родственник последнего, пристав Василеостровской части, оказавшийся не только горячим почитателем А.П., но и вообще тонким знатоком литературы. Обед вышел на славу, причем славили Чехова, что называется, во всю ивановскую, а сам хозяин, поднимая бокал шампанского в честь Чехова, в заключение тоста, торжественно приравнял чеховского «Иванова» к грибоедовскому «Горе от ума».
Я взглянул искоса на Чехова: он густо покраснел, как-то сконфуженно осунулся на своем месте, и в глазах его мелькнули чуть-чуть заметные юмористические огоньки — дозорные писательские огоньки, свидетельствовавшие о непрерывной критике окружающего… «И Шекспиру не приходилось слышать тех речей, какие прослышал я!» — не без иронии писал он мне потом из Москвы.
Но русские поклонники родных талантов неумолимы.
Несмотря на то, что Чехов, переутомленный столичной суетой, спешил в Москву, восторженный помещик, вопреки всяким традициям, накануне отъезда А.П. собрал всех снова «на гуся». Снова шампанское, снова шумные «шекспировские тосты»…
Все это могло вскружить голову хоть кому, только не Чехову. Возвращаясь вместе с Чеховым после «прощального гуся» на извозчике, я был озадачен странной задумчивостью, затуманившей его лицо, и на мой попрек он как-то машинально, не глядя на меня, проговорил:
— Все это очень хорошо и трогательно, а только я все думаю вот о чем…
— Есть еще о чем думать после таких оваций! — невольно вырвалось у меня.
Чехов нахмурился, что я его прервал, и продолжал:
— Я все думаю о том… что-то будет через семь лет? — И с тем же хмурым видом настойчиво повторил: — Что-то будет через семь лет?..
Как раз через семь лет было в Петербурге… первое представление чеховской «Чайки».
1888. «По морям Черному, Житейскому и Каспийскому»
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Феодосия., 14 июля 1888 г.:
Дорога от Сум до Харькова прескучнейшая, от Харькова до Лозовой и от Лозовой до Симферополя можно околеть с тоски. Таврическая степь уныла, однотонна, лишена дали, бесколоритна <…>. Судя по степи, по ее обитателям и по отсутствии того, что мило и пленительно в других степях Крымский полуостров блестящей будущности не имеет и иметь не может. От Симферополя начинаются горы, а вместе с ними и красота. Ямы, горы ямы, горы, из ям торчат тополи, на горах темнеют виноградники — все это залито лунным светом, дико, ново и настраивает фантазию на мотив гоголевской «Страшной мести». Особенно фантастично чередование пропастей и туннелей, когда видишь то пропасти, полные лунного света, то беспросветную, нехорошую тьму… Немножко жутко и приятно. Чувствуется что-то нерусское и чужое. В Севастополь я приехал ночью. Город красив сам по себе красив и потому, что стоит у чудеснейшего моря Самое лучшее у моря — это его цвет, а цвет описать нельзя. Похоже на синий купорос. Что касается пароходов и кораблей, бухты и пристаней, то прежде всего бросается в глаза бедность русского человека. Кроме «поповок», похожих на московских купчих, и кроме 2–3 сносных пароходов, нет в гавани ничего путного. <…> Ночевал в гостинице с полтавским помещиком Кривобоком, с к<ото>рым сошелся дорогой.
Поужинали разварной кефалью и цыплятами, натрескались вина и легли спать. Утром — скука смертная. Жарко, пыль, пить хочется… На гавани воняет канатом, мелькают какие-то рожи с красной, как кирпич, кожей, слышны звуки лебедки, плеск помоев, стук, татарщина и всякая неинтересная чепуха. Подойдешь к пароходу: люди в отрепьях, потные, сожженные наполовину солнцем, ошалелые, с дырами на плечах и спине, выгружают портландский цемент; постоишь, поглядишь, и вся картина начинает представляться чем-то таким чужим и далеким, что становится нестерпимо скучно и не любопытно. Садиться на пароход и трогаться с якоря интересно, плыть же и беседовать с публикой, которая вся целиком состоит из элементов уже надоевших и устаревших, скучновато. Море и однообразный, голый берег красивы только в первые часы, но скоро к ним привыкаешь; поневоле идешь в каюту и пьешь вино. Берег красивым не представляется… Красота его преувеличена. Все эти Гурзуфы, Массандры и кедры, воспетые гастрономами по части поэзии, кажутся с парохода тощими кустиками, крапивой, а потому о красоте можно только догадываться, а видеть ее можно разве только в сильный бинокль. Долина Пела с Сарами и Рашевкой гораздо разнообразнее и богаче содержанием и красками. Глядя на берег с парохода, я понял, почему это он еще не вдохновил ни одного поэта и не дал сюжета ни одному порядочному художнику-беллетристу. Он рекламирован докторами и барынями — в этом вся его сила. Ялта — это помесь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански-ярмарочным. Коробообразные гостиницы, в к<ото>рых чахнут несчастные чахоточные, наглые татарские хари, турнюры с очень откровенным выражением чего-то очень гнусного, эти рожи бездельников-богачей с жаждой грошовых приключений, парфюмерный запах вместо запаха кедров и моря, жалкая, грязная пристань, грустные огни вдали на море, болтовня барышень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой, в которой они ничего не понимают, — все это в общем дает такое унылое впечатление и так внушительно, что начинаешь обвинять себя в предубеждении и пристрастии.
Спал я хорошо, в каюте I класса, на кровати. Утром в 5 часов изволил прибыть в Феодосию — серовато-бурый, унылый и скучный на вид городишко. Травы нет, деревца жалкие, почва крупнозернистая, безнадежно тощая. Все выжжено солнцем, и улыбается одно только море, к<ото>рому нет дела до мелких городишек и туристов. Купанье до того хорошо, что я, окунувшись, стал смеяться без всякой причины. Суворины, живущие тут в самой лучшей даче, обрадовались мне; оказалось, что комната для меня давно уже готова и что меня давно уже ждут, чтобы начать экскурсии. Через час после приезда меня повезли на завтрак к некоему Мурзе, татарину. Тут собралась большая компания: Суворины, главный морской прокурор, его жена, местные тузы, Айвазовский… Было подаваемо около 8 татарских блюд, очень вкусных и очень жирных. Завтракали до 5 часов и напились, как сапожники. Мурза и прокурор (еще не старый питерский делец) обещали свозить меня в татарские деревни и показать мне гаремы богачей. Конечно, поеду.
Антон Павлович Чехов. Из письма И. Л. Щеглову. Феодосия, 18 июля 1888 г.:
Живу в Феодосии у генерала Суворина. Жарища и духота невозможные, ветер сухой и жесткий, как переплет, просто хоть караул кричи. Деревьев и травы в Феодосии нет, спрятаться некуда. Остается одно — купаться. И я купаюсь. Море чудесное, синее и нежное, как волосы невинной девушки. На берегу его можно жить 1000 лет и не соскучиться. Целый день проводим в разговорах. Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых, еще никем не приподнятых вопросов. Говорим, говорим, говорим и, по всей вероятности, кончим тем, что умрем от воспаления языка и голосовых связок. Быть с Сувориным и молчать так же нелегко, как сидеть у Палкина и не пить. Действительно. Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер в охоте на бекасов, т. е. работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка — отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Феодосия, 22–23 июля 1888 г.:
Мечтал я написать в Крыму пьесу и 2–3 рассказа, но оказалось, что под южным небом гораздо легче взлететь живым на небо, чем написать хоть одну строку. Встаю я в 11 часов, ложусь в 3 ночи, целый день ем, пью и говорю, говорю, говорю без конца. Обратился в разговорную машину. Суворин тоже ничего не делает, и мы с ним перерешали все вопросы. Жизнь сытая, полная, как чаша, затягивающая… Кейф на берегу, шартрезы, крюшоны, ракеты, купанье, веселые ужины, поездки, романсы — все это делает дни короткими и едва заметными; время летит, летит, а голова под шум волн дремлет и не хочет работать… Дни жаркие, ночи душные, азиатские… Нет, надо уехать!
Вчера я ездил в Шах-мамай, именье Айвазовского, за 25 верст от Феодосии. Именье роскошное, несколько сказочное; такие имения, вероятно, можно видеть в Персии. Сам. Айвазовский, бодрый старик лет 75, представляет из себя помесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем; полон собственного достоинства, руки имеет мягкие и подает их по-генеральски. Недалек, но натура сложная и достойная внимания. В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло. Женат на молодой и очень красивой женщине, которую держит в ежах. Знаком с султанами, шахами и эмирами. Писал вместе с Глинкой «Руслана и Людмилу». Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал. В своей жизни он не прочел ни одной книги. Когда ему предлагают читать, он говорит: «Зачем мне читать, если у меня есть свои мнения?» Я у него пробыл целый день и обедал. Обед длинный, тягучий, с бесконечными тостами. Между прочим, на обеде познакомился я с женщиной-врачом Тарновской, женою известного профессора. Это толстый, ожиревший комок мяса. Если ее раздеть голой и выкрасить в зеленую краску, то получится болотная лягушка. Поговоривши с ней, я мысленно вычеркнул ее из списка врачей… <…>
3 часа ночи под субботу. Только что вернулся из сада и поужинал. Прощался с феодосийцами. Поцелуям, пожеланиям, советам и излияниям не было конца. Через 11/2 часа идет пароход. Еду с сыном Суворина куда глаза глядят. Начинается ветер. Быть рвоте.
Антон Павлович Чехов. Из письма неустановленному лицу. Сухум, 25 июля 1888 г.:
Я в Абхазии! Ночь ночевал в монастыре «Новый Афон», а сегодня с утра сижу в Сухуме. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное — горы, горы и горы без конца и краю… Сижу я сейчас на балконе, а мимо лениво прохаживаются абхазцы в костюмах маскарадных капуцинов; через дорогу бульвар с маслинами, кедрами и кипарисами, за бульваром темно-синее море.
Жарко невыносимо! Варюсь в собственном поте. Мой красный шнурок на сорочке раскис от пота и пустил красный сок; рубаха, лоб и подмышки хоть выжми. Кое-как спасаюсь купаньем… Вечереет… Скоро поеду на пароход. Вы не поверите, голубчик, до какой степени вкусны здесь персики! Величиной с большой яблок, бархатистые, сочные… Ешь, а нутро так и ползет по пальцам…
Из Феодосии выехал на «Юноне», сегодня ехал на «Дире», завтра поеду на «Бабушке»… Много я перепробовал пароходов, но еще ни разу не рвал. На Афоне познакомился с архиереем Геннадием, епископом сухумским, ездящим по епархии верхом на лошади. Любопытная личность. Купил матери образок, который привезу. Если бы я пожил в Абхазии хотя месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не умею рисовать.
Антон Павлович Чехов. Из письма К. С. Баранцевичу. Сумы, 12 августа 1888 г.:
Был я в Крыму, в Новом Афоне, в Сухуме, Батуме, Тифлисе, Баку… Видел я чудеса в решете… Впечатления до такой степени новы и резки, что все пережитое представляется мне сновидением и я не верю себе. Видел я море во всю его ширь. Кавказский берег, горы, горы, горы, эвкалипты, чайные кусты, водопады, свиней с длинными острыми мордами, деревья, окутанные лианами, как вуалью, тучки, ночующие на груди утесов-великанов, дельфинов, нефтяные фонтаны, подземные огни, храм огнепоклонников, горы, горы, горы… Пережил я Военно-грузинскую дорогу. Это не дорога, а поэзия, чудный фантастический рассказ, написанный демоном и посвященный Тамаре… Вообразите Вы себя на высоте 8000 футов… Вообразили? Теперь извольте подойти мысленно к краю пропасти и заглянуть вниз; далеко, далеко Вы видите узкое дно, по которому вьется белая ленточка — это седая, ворчливая Арагва; по пути к ней Ваш взгляд встречает тучки, лески, овраги, скалы… Теперь поднимите немножко глаза и глядите вперед себя: горы, горы, горы, а на них насекомые — это коровы и люди… Поглядите вверх — там страшно глубокое небо. Дует свежий горный ветерок… Вообразите две высокие стены и между ними длинный, длинный коридор; потолок — небо, пол — дно Терека; по дну вьется змея пепельного цвета. На одной из стен полка, по которой мчится коляска, в которой сидите Вы… <…> Змея злится, ревет и щетинится. Лошади летят, как черти… Стены высоки, небо еще выше… С вершины стен с любопытством глядят вниз кудрявые деревья… Голова кружится! Это Дарьяльское ущелье, или, выражаясь языком Лермонтова, теснины Дарьяла. Господа туземцы — свиньи. Ни одного поэта, ни одного певца… Жить где-нибудь на Гадауре или у Дарьяла и не писать сказки — это свинство!
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. А. Лейкину. Сумы, 12 августа 1888 г.:
Дорога от Батума до Тифлиса с знаменитым Сурамским перевалом оригинальна и поэтична; все время глядишь в окно и ахаешь: горы, туннели, скалы, реки, водопады, водопадики. Дорога же от Тифлиса до Баку — это мерзость запустения, лысина, покрытая песком и созданная для жилья персов, тарантулов и фаланг; ни одного деревца, травы нет… скука адская. Сам Баку и Каспийское море — такая дрянь, что я и за миллион не согласился бы жить там. Крыш нет, деревьев тоже нет, всюду персидские хари, жара в 50°, воняет керосином, под ногами всхлипывает нефтяная грязь, вода для питья соленая… Из Баку хотел я плыть по Каспию в Узунада на Закаспийскую дорогу, в Бухару и в Персию, но пришлось повернуть оглобли назад: мой спутник Суворин-фис получил телеграмму о смерти брата и не мог ехать дальше…
Антон Павлович Чехов. Из письма И. Л. Щеглову. Сумы, 14 августа 1888 г.:
Ах, милый капитан, если б Вы знали, какая лень, как мне не хочется писать, ехать в Москву! Когда я читаю в газете московскую хронику; театральные анонсы, объявления и проч., то все это представляется мне чем-то вроде катара, который я уже пережил… Отчего мы с Вами не живем в Киеве, Одессе, в деревне, а непременно в столице? Добро бы пользовались столичными прелестями, а то ведь домоседствуем, в четырех стенах сидим! Теряем мы жизнь…
По Сибири и Дальнему Востоку
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Сумы, 4 мая 1889 г.:
Работать и иметь вид работающего человека в промежутки от 9 часов утра до обеда и от вечернего чая до сна вошло у меня в привычку, и в этом отношении я чиновник. Если же из моей работы не выходит по две повести в месяц или 10 тысяч годового дохода, то виновата не лень, а мои психико-органические свойства: для медицины я недостаточно люблю деньги, а для литературы во мне не хватает страсти и, стало быть, таланта. Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска, оттого-то не случается, чтобы я за одну ночь написал бы сразу листа три-четыре или, увлекшись работою, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать; не совершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, ни заметных умностей. Я боюсь, что в этом отношении я очень похож на Гончарова, которого я не люблю и который выше меня талантом на 10 голов. Страсти мало; прибавьте к этому и такого рода психопатию: ни с того ни с сего, вот уже два года, я разлюбил видеть свои произведения в печати, оравнодушел к рецензиям, к разговорам о литературе, к сплетням, успехам, неуспехам, к большому гонорару — одним словом, стал дурак дураком. В душе какой-то застой. Объясняю это застоем в своей личной жизни. Я не разочарован, не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг все как-то менее интересно. Надо подсыпать под себя пороху.
Михаил Павлович Чехов:
В апреле 1890 года Антон Павлович предпринял поездку на остров Сахалин. Поездка эта была задумана совершенно случайно. Собрался он на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно, так что в первое время трудно было понять, серьезно ли он говорит об этом или шутит.
В 1889 году я кончил курс в университете и готовился к экзаменам в государственной комиссии, которая открылась осенью этого года, и потому пришлось повторять лекции по уголовному праву и тюрьмоведению. Эти лекции заинтересовали моего брата, он прочитал их и вдруг засобирался. Начались подготовительные работы к поездке. Ему не хотелось ехать на Сахалин с пустыми руками, и он стал собирать материалы. Сестра и ее подруги делали для него выписки в Румянцевской библиотеке, он доставал оттуда же редкие фолианты о Сахалине. Работа кипела. Но его озабочивало то, что его, как писателя, не пустят на каторгу или же покажут ему не все, а только то, что можно показать. Антон Павлович отправился в январе 1890 года в Петербург хлопотать о том, чтобы ему был дан свободный пропуск повсюду. С другой стороны, его беспокоило то, что его поездке могут придать официальный характер. Обращение к стоявшему тогда во главе главного тюремного управления М. Н. Галкину-Враскому не принесло никакой пользы, и без всяких рекомендаций, а только с одним корреспондентским бланком в кармане он двинулся наконец на Дальний Восток.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва, 9 марта 1890 г.:
Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий. Нету меня планов ни гумбольдтских, ни даже кеннановских. Я хочу написать хоть 100–200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как Вам известно, свинья. Выть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей и чего я имел невежество не знать раньше. К тому-же, полагаю, поездка — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но подумайте и скажите, что я потеряю, если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает, что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25–30 дней, не больше, все же остальное время просижу на палубе парохода или в комнате и буду непрерывно бомбардировать Вас письмами. Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2–3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью?
Михаил Павлович Чехов:
Отправляясь в такой дальний путь. Антон Павлович и все мы были очень непрактичны. Я, например, купил ему в дорогу отличный, но громоздкий чемодан, тогда как следовало захватить с собой кожаный, мягкий и плоский, чтобы можно было на нем в тарантасе лежать. Нужно было взять с собою чаю, сахару, консервов, — всего этого в Сибири тогда нельзя было достать. Необходимо было захватить с собою лишние валенки или, наконец, те, которые им были взяты с собою, предварительно обсоюзить кожей. Но всего этого мы не сделали.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва, 15 апреля 1890 г.:
У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну, хотя впереди не вижу никаких опасностей, кроме зубной боли, которая у меня непременно будет в дороге. Так как, если говорить о документах, я вооружен одним только паспортом и ничем другим, то возможны неприятные столкновения с предержащими властями, но это беда проходящая. Если мне чего-нибудь не покажут, то я просто напишу в своей книге, что мне не показали — и баста, а волноваться не буду. <…>
Купил себе полушубок, офицерское непромокаемое пальто из кожи, большие сапоги и большой ножик для резания колбасы и охоты на тигров. Вооружен с головы до ног.
Михаил Павлович Чехов:
В апреле мы проводили его в Ярославль. На вокзале собрались вся наша семья и знакомые, причем Д. П. Кувшинников повесил ему через плечо в особом кожаном футляре бутылку коньяку со строгим приказом выпить ее только на берегу Великого океана (что Чехов потом в точности и исполнил).
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Волга, пароход «Александр Невский», 25 апреля 1890 г.:
Друзья мои тунгусы! Был ли у Вас дождь, когда Иван вернулся из Лавры? В Ярославле лупил такой дождь, что пришлось облечься в кожаный хитон. Первое впечатление Волги было отравлено дождем, заплаканными окнами каюты и мокрым носом Гурлянда, который вышел на вокзал встретить меня. Во время дождя Ярославль кажется похожим на Звенигород, а его церкви напоминают о Перервинском монастыре; много безграмотных вывесок, грязно, по мостовой ходят галки с большими головами. На пароходе я первым долгом дал волю своему таланту, т. е. лег спать. Проснувшись, узрел солнце. Волга недурна; заливные луга, залитые солнцем монастыри, белые церкви; раздолье удивительное; куда ни взглянешь, всюду удобно сесть и начать удить. На берегу бродят классные дамы и щиплют зеленую травку, слышится изредка пастушеский рожок. Над водой носятся белые чайки, похожие на младшую Дришку.
Пароход неважный. Самое лучшее в нем — это ватерклозет. Стоит он высоко, имея под собою четыре ступени, так что неопытный человек вроде Иваненко легко может принять его за королевский трон. Самое худшее на пароходе — это обед. Сообщаю меню с сохранением орфографии: щи зеле, сосиськи с капу, севрюшка фры, кошка запеканка; кошка оказалась кашкой. Так как деньги у меня нажиты потом и кровью, то я желал бы, чтобы было наоборот, т. е. чтобы обед был лучше ватерклозета, тем более что после корнеевского сантуринского у меня завалило все нутро, и я до самого Томска обойдусь без ватера. <…> Кострома хороший город. Видел я Плес, в котором жил томный Левитан; видел Кинешму, где гулял по бульвару и наблюдал местных шпаков; заходил здесь в аптеку купить бертолетовой соли от языка, который стал у меня сафьяновым от сантуринского. <…>
Холодновато и скучновато, но в общем занятно.
Свистит пароход ежеминутно; его свист — что-то среднее между ослиным ревом и эоловой арфой. Через 5–6 часов буду в Нижнем. Восходит солнце. Ночь спал художественно. Деньги целы — это оттого, что я часто хватаюсь за живот. Очень красивы буксирные пароходы, тащущие за собой по 4–5 барж; похоже на то, как будто молодой, изящный интеллигент хочет бежать, а его за фалды держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка жены.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Кама, пароход «Пермь — Нижний», 24 апреля 1890 г.:
Друзья мои тунгусы! Плыву по Каме, но местности определить не могу; кажется, около Чистополя. Не могу также воспеть красоту берегов, так как адски холодно; береза еще не распустилась, тянутся кое-где полосы снега, плавают льдинки — одним словом, вся эстетика пошла к черту. Сижу в рубке, где за столом сидят всякого звания люди, и слушаю разговоры, спрашивая себя: «Не пора ли вам чай пить?» Если б моя воля, то от утра до ночи только бы и делал, что ел; так как денег на целодневную еду нет, то сплю и паки сплю. На палубу не выхожу — холодно. По ночам идет дождь, а днем дует неприятный ветер.
Ах, икра! Ем, ем и никак не съем. В этом отношении она похожа на шар сыра. Благо, несоленая. Нехорошо, что я не догадался сшить себе мешочек для чая и сахара. Приходится требовать стаканами, что и невыгодно и скучно. Хотел сегодня утром купить в Казани чаю и сахару, да проспал.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Екатеринбург, 29 апреля 1890 г.:
Друзья мои тунгусы! Кама прескучнейшая река. <…> Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам черт не сумеет дуть так резко и противно. Когда дует холодный ветер и рябит воду, имеющую теперь после половодья цвет кофейных помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. Камские города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи — единственное занятие. На пристанях толпится интеллигенция, для которой приход парохода — событие. Все больше Щербаненки и Чугуевцы, в таких же шляпах, с такими же голосами и с таким же выражением «второй скрипки» во всей фигуре; по-видимому, ни один из них не получает больше 35 рублей, и, вероятно, все лечатся от чего-нибудь. <…>
Плыл я до Перми 21/2 года — так казалось. Приплыл туда в 2 часа ночи. Поезд отходил в 6 часов вечера. Пришлось ждать. Шел дождь. Вообще дождь, грязь, холод… бррр! Уральская дорога везет хорошо. <…> Проснувшись вчера утром и поглядев в вагонное окно, я почувствовал к природе отвращение: земля белая, деревья покрыты инеем и за поездом гонится настоящая метелица. Ну, не возмутительно ли? Не сукины ли сыны?.. Калош у меня нет, натянул я большие сапоги и, пока дошел до буфета с кофе, продушил дегтем всю Уральскую область. А приехал в Екатеринбург — тут дождь, снег и крупа. Натягиваю кожаное пальто. Извозчики — это нечто невообразимое по своей убогости. Грязные, мокрые, без рессор; передние ноги у лошади расставлены так / \, копыта громадные, спина тощая… Здешние дрожки — это аляповатая пародия на наши брички. К бричке приделан оборванный верх, вот и все. И чем правильнее я нарисовал бы здешнего извозчика с его пролеткой, тем больше бы он походил на карикатуру. Ездят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где грязно и, стало быть, мягко. Все извозчики похожи на Добролюбова. В России все города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула. Похож и на Сумы, и на Гадяч. Колокола звонят великолепно, бархатно. <…>
Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик. Входит в номер с самоваром или с графином и, того гляди, убьет. Я сторонюсь. <…>
Всю ночь здесь бьют в чугунные доски. На всех углах. Надо иметь чугунные головы, чтобы не сойти с ума от этих неумолкающих курантов. Сегодня попробовал сварить себе кофе: получилось матрасинское вино. Пил и только плечами пожимал.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Томск, 14–17 мая 1890 г.:
Возят через Сибирь почтовые и вольные. Я взял последних: все равно. Посадили меня раба Божьего в корзинку-плетушку и повезли на паре. Сидишь в корзине, глядишь на свет Божий, как чижик, и ни о чем не думаешь… Сибирская равнина начинается, кажется, от самого Екатеринбурга и кончается черт знает где; я сказал бы, что она очень похожа на нашу южнорусскую степь, если бы не мелкий березняк, попадающийся то там, то сям, и если бы не холодный ветер, покалывающий щеки. Весна еще не начиналась. Зелени совсем нет, леса голы, снег не весь растаял; на озерах стоит матовый лед. 9 мая в день св. Николая был мороз, а сегодня 14-го выпал снег в 1 вершка. О весне говорят одни только утки. Ах, как много уток! Никогда в жизни я не видел такого утиного изобилия. Летают над головой, вспархивают около тарантаса, плавают в озерах и в лужах, короче, в один день из плохого ружья я настрелял бы тысячу штук. Слышно, как кричат дикие гуси… Их здесь тоже много. Часто попадаются вереницы журавлей и лебедей… В березняке порхают тетерева и рябчики. Зайцы, которых здесь не едят и не стреляют, ничтоже сумняся стоят на задних лапках и, вздернув уши, любопытным взором провожают едущих. Они так часто перебегают дорогу, что это здесь не считается дурною приметой. Холодно ехать… На мне полушубок. Телу ничего, хорошо, но ногам зябко. Кутаю их в кожаное пальто — не помогает… На мне двое брюк. Ну-с, едешь, едешь… Мелькают верстовые столбы, лужи, березнячки… Вот перегнали переселенцев, потом этап… Встретили бродяг с котелками на спинах; эти господа беспрепятственно прогуливаются по всему сибирскому тракту. То старушонку зарежут, чтобы взять ее юбку себе на портянки, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами — сгодится, то проломят голову встречному нищему или выбьют глаза своему же брату ссыльному, но проезжающих они не трогают. Вообще в разбойничьем отношении езда здесь совершенно безопасна. От Тюмени до Томска ни почтовые, ни вольные ямщики не помнят, чтобы у проезжающего украли что-нибудь; когда идешь на станцию, вещи оставляешь на дворе; на вопрос, не украдут ли, отвечают улыбкой. О грабежах и убийствах по дороге не принято даже говорить. Мне кажется, потеряй я свои деньги на станции или в возке, нашедший ямщик непременно возвратил бы мне их и не хвастался бы этим. Вообще народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями. Комнаты у них убраны просто, но чисто, с претензией на роскошь; постели мягкие, все пуховики и большие подушки, полы выкрашены или устланы самоделковыми холщовыми коврами. Это объясняется, конечно, зажиточностью, тем, что семья имеет надел из 16 десятин чернозема и что на этом черноземе растет хорошая пшеница (пшеничная мука стоит здесь 30 коп. за пуд). Но не все можно объяснить зажиточностью и сытостью, нужно уделить кое-что и манере жить. Когда ночью входишь в комнату, в которой спят, то нос не чувствует ни спирали, ни русского духа. Правда, одна старуха, подавая мне чайную ложку, вытерла ее о задницу, но зато вас не посадят пить чай без скатерти, при вас не отрыгивают, не ищут в голове; когда подают воду или молоко, не держат пальцы в стакане, посуда чистая, квас прозрачен, как пиво, — вообще чистоплотность, о которой наши хохлы могут только мечтать, а ведь хохлы куда чистоплотнее кацапов! Хлеб пекут здесь превкуснейший; я в первые дни объедался им. Вкусны и пироги, и блины, и оладьи, и калачи, напоминающие хохлацкие ноздреватые бублики. Блины тонки… Зато все остальное не по европейскому желудку. Например, всюду меня потчевали «утячьей похлебкой». Это совсем гадость: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и невареный лук; утиные желудки не совсем очищены от содержимого и потому, попадая в рот, заставляют думать, что рот и rectum[9] поменялись местами. Я раз попросил сварить суп из мяса и изжарить окуней. Суп мне подали пресоленый, грязный, с закорузлыми кусочками кожи вместо мяса, а окуни с чешуей. Варят здесь щи из солонины; ее же и жарят. Сейчас мне подавали жареную солонину: преотвратительно; пожевал и бросил. Чай здесь пьют кирпичный. Это настой из шалфея и тараканов — так по вкусу, а по цвету — не чай, а матрасинское вино. Кстати сказать, я взял с собою из Екатеринбурга 1/2 фунта чаю, 5 фунтов сахару и 3 лимона. Чаю не хватило, а купить негде. В паршивых городках даже чиновники пьют кирпичный чай и самые лучшие магазины не держат чая дороже 1 р. 50 к. за фунт. Пришлось пить шалфей. Расстояние между станциями определяется расстоянием между каждыми двумя соседними деревнями: 20–40 верст. Деревни здесь большие, поселков и хуторов нет. Везде церкви и школы; избы деревянные, есть и двухэтажные. К вечеру лужи и дорога начинают мерзнуть, а ночью совсем мороз, хоть доху надевай… Бррр! Тряско, потому что грязь обращается в кочки. Выворачивает душу… К рассвету страшно утомляешься от холода, тряски и колокольчиков; страстно хочется тепла и постели… Пока меняют лошадей, прикорнешь где-нибудь в уголке и тотчас же заснешь, а через минуту возница уже дергает за рукав и говорит: «Вставай, приятель, пора!» Во вторую ночь я стал чувствовать острую зубную боль в пятках. Невыносимо больно. Спрашиваю себя: не отморозил ли? <…> Утром часов в 5–6 чаепитие в избе. Чай в дороге — это истинное благодеяние. Теперь я знаю ему цену и пью его с остервенением Янова. Он согревает, разгоняет сон, при нем съедаешь много хлеба, а хлеб за отсутствием другой еды должен съедаться в большом количестве; оттого-то крестьяне едят так много хлеба и хлебного. Пьешь чай и разговариваешь с бабами, которые здесь толковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и свободнее, чем в Европе; мужья не бранят и не бьют их, потому что они так же высоки, и сильны, и умны, как их повелители; они, когда мужей нет дома, ямщикуют; любят каламбурить. Детей не держат в строгости; их балуют. Дети спят на мягком, сколько угодно, пьют чай и едят вместе с мужиками и бранятся, когда те любовно подсмеиваются над ними. Дифтерита нет.
Царит здесь черная оспа, но странно, она здесь не так заразительна, как в других местах: двое-трое заболеют, умрут — и конец эпидемии. Больниц и врачей нет. Лечат фельдшера. Кровопускание и кровососные банки в грандиозных, зверских размерах. Я по дороге осматривал одного еврея, больного раком печени. Еврей истощен, еле дышит, но это не помешало фельдшеру поставить ему 12 кровососных банок. Кстати об евреях. Здесь они пашут, ямщикуют, держат перевозы, торгуют и называются крестьянами, потому что они в самом деле и de jure и de facto крестьяне. Пользуются они всеобщим уважением, и, по словам заседателя, нередко их выбирают в старосты. Я видел жида, высокого и тонкого, который брезгливо морщился и плевал, когда заседатель рассказывал скабрезные анекдоты; чистоплотная душа; его жена сварила прекрасную уху. Жена того жида, что болен раком, угощала меня щучьей икрой и вкуснейшим белым хлебом. О жидовской эксплоатации не слышно. <…> Обедать нечего. Умные люди, когда едут в Томск, берут с собою обыкновенно полпуда закусок. Я же оказался дураком, и потому 2 недели питался одним только молоком и яйцами, которые здесь варят так: желток крутой, а белок восмятку. Надоедает такая еда в 2 дня. За всю дорогу я только два раза обедал, если не считать жидовской ухи, которую я ел, будучи сытым после чая. Водку не пил; сибирская водка противна, да и отвык я от нее, пока доехал до Екатеринбурга. Водку же пить следует. Она возбуждает мозг, который от дороги делается вялым и тупым, отчего глупеешь и слабеешь. <…> В первые три дня вояжа у меня от тряски и толчков разболелись ключицы, плечи, позвонки, кобчик… Ни сидеть, ни ходить, ни лежать… Но зато прошли все грудные и головные боли, разыгрался донельзя аппетит, а геморрой, точно воды в рот набрал — молчок. От напряжения, от частой возни с чемоданами и проч., а быть может, и от прощальных попоек в Москве у меня по утрам бывало кровохарканье, которое наводило на меня нечто вроде уныния, возбуждая мрачные мысли, и которое к концу пути прекратилось; теперь даже кашля нет; давно я так мало кашлял, как теперь, после двухнедельного пребывания на чистом воздухе. После же первых трех дней вояжа тело мое привыкло к тряске и для меня наступило время, когда я стал не замечать, как после утра наступал полдень, а потом вечер и ночь. Дни мелькали быстро, как в затяжной болезни. Думаешь, что еще нет полудня, а мужики говорят, что ты бы, барин, остался ночевать, а то как бы не заблудился ночью; и в самом деле, поглядишь на часы — 8-й час вечера.
Везут быстро, но поразительного в этой быстроте ничего нет. Вероятно, я застал дурную дорогу, зимой возят быстрее. На гору несутся вскачь, а прежде чем выехать со двора и прежде чем ямщик сядет на козлы, лошадей держат двое-трое. Лошади напоминают московских пожарных лошадей; однажды я едва не передавил старух, а в другой раз едва не налетел на этап. Теперь извольте вам приключение, которым я обязан сибирской езде. Только прошу мамашу не охать и не причитывать, ибо все обошлось благополучно. В ночь под 6-е мая на рассвете вез меня один очень милый старик на паре. Тарантасик. Я дремал и от нечего делать поглядывал, как в поле и в березняке искрились змееобразные огни: это горела прошлогодняя трава, которую здесь жгут. Вдруг слышу дробный стук колес. Навстречу во весь дух, как птица, несется почтовая тройка. Мой старик спешит свернуть вправо, тройка пролетает мимо, и я усматриваю в потемках громадную, тяжелую почтовую телегу, в которой сидит обратный ямщик. За этой тройкой несется вторая тройка тоже во весь дух. Мы спешим свернуть вправо… К великому моему недоумению и страху, тройка сворачивает не вправо, а влево… Едва я успел подумать: «Боже мой, сталкиваемся!», как раздался отчаянный треск, лошади мешаются в одну темную массу, дуги падают, мой тарантас становится на дыбы, и я лечу на землю, а на меня мои чемоданы. Но это не все… Летит третья тройка… По-настоящему, эта должна была искрошить меня и мои чемоданы, но, слава богу, я не спал, ничего не сломал себе от падения и сумел вскочить так быстро, что мог отбежать в сторону. «Стой! — заорал я третьей тройке. — Стой!» Тройка налетела на вторую и остановилась… Конечно, если бы я умел спать в тарантасе или если бы третья тройка неслась тотчас же за второй, то я вернулся бы домой инвалидом или всадником без головы. Результаты крушения: сломанные оглобли, изорванные сбруи, дуги и багаж на земле, оторопевшие, замученные лошади и страх от мысли, что сейчас была пережита опасность. Оказалось, что первый ямщик погнал лошадей, а во вторых двух тройках ямщики спали, и лошади сами понеслись за первой тройкой, некому было править ими. Очнувшись от переполоха, мой старик и ямщики всех трех троек стали неистово ругаться. Ах, как ругались! Я думал, что кончится дракой. Вы не можете себе представить, какое одиночество чувствуешь среди этой дикой, ругающейся орды, среди поля, перед рассветом, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодный ночной воздух! Ах, как тяжко на душе! Слушаешь ругань, глядишь на изломанные оглобли и на свой истерзанный багаж, и кажется тебе, что ты брошен в другой мир, что тебя сейчас затопчут… После часовой ругани мой старик стал связывать веревочками оглобли и сбрую; пошли в ход и мои ремни. До станции дотащились кое-как, еле-еле, и то и дело останавливались… После 5–6 дня начались дожди при сильном ветре. Шел дождь днем и ночью. Пошло в дело кожаное пальто, спасавшее меня и от дождя и от ветра. Чудное пальто. Грязь пошла невылазная, ямщики стали неохотно возить по ночам. Но, что ужаснее всего и чего я не забуду во всю мою жизнь, это перевозы через реки. Подъедешь ночью к реке… Начинаешь с ямщиком кричать… Дождь, ветер, по реке ползут льдины, слышен плеск… И кстати радость: кричит бугай. На сибирских реках живут бугаи. Значит, они признают не климат, а географическое положение… Ну-с, через час в потемках показывается громадный паром, имеющий форму баржи; громадные весла, похожие на рачьи клешни. Перевозчики — народ озорной, все больше ссыльные, присланные сюда по приговорам общества за порочную жизнь. Сквернословят нестерпимо, кричат, просят денег на водку… Везут через реку долго, долго… мучительно долго! Паром ползет…
Антон Павлович Чехов. Из письма М. В. Киселевой, 7 мая 1890 г.:
Пишу Вам теперь, сидя в избе на берегу Иртыша. Ночь. Попал я сюда таким образом. Еду я по сибирскому тракту на вольных. Проехал уже 715 верст. Обратился в великомученика с головы до пяток. С сегодняшнего утра стал дуть резкий холодный ветер и заморосил противнейший дождишко. Надо заметить, что в Сибири весны еще нет: земля бурая, деревья голые, и, куда ни взглянешь, всюду белеют полосы снега; день и ночь еду я в полушубке, в валенках… Ну-с, подул с утра ветер… Тяжелые свинцовые облака, бурая земля, грязь, дождь, ветер… бррр! Еду, еду… без конца еду, а погода не унимается. Перед вечером на станции мне говорят, что ехать дальше нельзя, так как все залило, мосты разнесло и проч. Зная, как любят вольные ямщики пугать стихиями, чтобы оставить проезжего у себя ночевать (это выгодно), я не поверил и приказал запрячь тройку. Что ж? Увы мне! Проехал я не больше пяти верст, как увидел луговой берег Иртыша, весь покрытый большими озерами; дорога спряталась под водой, и мостки по дороге в самом деле или снесены, или раскисли. Возвращаться назад мешает отчасти упрямство, отчасти желание скорее выбраться из этих скучных мест… Начинаем ехать по озерам… Боже мой, никогда в жизни не испытывал ничего подобного! Резкий ветер, холод, отвратительный дождь, а ты изволь вылезать из тарантаса (не крытого) и держать лошадей: на каждом мостике можно проводить лошадей только поодиночке… Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска; виден голый, угрюмый берег Иртыша… Въезжаем в самое большое озеро; теперь уж охотно бы вернулся, да трудно… Едем по длинной, узкой полоске земли… Полоска кончается, и мы бултых! Потом опять полоска, опять бултых… Руки закоченели… А дикие утки точно смеются и огромными стаями носятся над головой… Темнеет… Ямщик молчит — растерялся… Но вот, наконец, выезжаем к последней полоске, отделяющей озера от Иртыша… Отлогий берег Иртыша на аршин выше уровня; он глинист, гол, изгрызен, склизок на вид… Мутная вода… Белые волны хлещут по глине, а сам Иртыш не ревет и не шумит, а издает какой-то странный звук, похожий на то, как будто под водой стучат по гробам… Тот берег — сплошная, безотрадная пустыня… Вам снился часто Божаровский омут; так мне теперь будет сниться Иртыш…
Но вот и паром. Надо переправляться на ту сторону. Выходит из избы мужик и, пожимаясь от дождя, говорит, что паромом плыть нельзя теперь, так как слишком ветрено… (Паромы здесь весельные.) Советует обождать тихой погоды… И вот я сижу ночью в избе, стоящей в озере на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя: где я? зачем я здесь?
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Красный Яр — Томск, 14–17 мая 1890 г.:
Утром не захотели везти на пароме: ветер. Пришлось плыть на лодке. Плыву через реку, а дождь хлещет, ветер дует, багаж мокнет, валенки, которые ночью сушились в печке, опять обращаются в студень. О, милое кожаное пальто! Если я не простудился, то обязан только ему одному. Когда вернусь, помажьте его за это салом или касторкой. На берегу целый час сидел на чемодане и ждал, когда из деревни приедут лошади. Помню, взбираться на берег было очень скользко. В деревне грелся и пил чай. Приходили за милостыней ссыльные. Для них каждая семья ежедневно заквашивает пуд пшеничной муки. Это вроде повинности. Ссыльные берут хлеб и пропивают его в кабаке. Один ссыльный, оборванный, бритый старик, которому в кабаке выбили глаза свои же ссыльные, услышав, что в комнате проезжий, и приняв меня за купца, стал петь и читать молитвы. Он и о здравии, и за упокой, пел и пасхальное «Да воскреснет Бог», и «Со святыми упокой» — чего только не пел! Потом стал врать, что он из московских купцов. Я заметил, как этот пьяница презирал мужиков, на шее которых жил! 11-го поехал на почтовых. От скуки читал на станциях жалобные книги. Сделал открытие, которое меня поразило и которое в дождь и сырость не имеет себе цены: на почтовых станциях в сенях имеются отхожие места. О, вы не можете оценить этого!
12 мая мне не дали лошадей, сказавши, что ехать нельзя, так как Обь разлилась и залила все луга. Мне посоветовали: «Вы поезжайте в сторону от тракта до Красного Яра; там на лодке проедете верст 12 до Дубровина, а в Дубровине вам дадут почтовых лошадей…» Поехал я на вольных в Кр<асный> Яр. Приезжаю утром. Говорят, что лодка есть, но нужно немного подождать, так как дедушка послал на ней в Дубровино работника, который повез заседателева писаря. Ладно, подождем… Проходит час, другой, третий… Наступает полдень, потом вечер… Аллах керим, сколько чаю я выпил, сколько хлеба съел, сколько мыслей передумал! А как много я спал! Наступает ночь, а лодки все нет… Наступает раннее утро… Наконец в 9 часов возвращается работник. Слава небесам, плывем! И как хорошо плывем! Тихо в воздухе, гребцы хорошие, острова красивые… Вода захватила людей и скот врасплох, и я вижу, как бабы плывут в лодках на острова доить коров. А коровы тощие, унылые… По случаю холодов совсем нет корму. Плыл я 12 верст. В Дубровине на станции чай, а к чаю мне подали, можете себе представить, вафли… <…>
14 мая мне опять не дали лошадей. Разлив Томи. Какая досада! Не досада, а отчаянье! В 50 верстах от Томска, и так неожиданно! Женщина зарыдала бы на моем месте… Для меня люди добрые нашли выход: «Поезжайте, ваше благородие, до Томи — только 6 верст отсюда; там вас перевезут на лодке до Яра, а оттуда в Томск вас свезет Илья Маркович». Нанимаю вольного и еду к Томи, к тому месту, где должна быть лодка. Подъезжаю — лодки нет. Говорят, только что уплыла с почтой и едва ли вернется, так как дует сильный ветер. Начинаю ждать… Земля покрыта снегом, идут дождь и крупа, ветер… Проходит час, другой, а лодки нет… Насмехается надо мной судьба! Возвращаюсь назад на станцию. Тут три почтовые тройки и почтальон собираются ехать к Томи. Говорю, что лодки нет. Остаются. Получаю от судьбы награду: писарь на мой нерешительный вопрос, нет ли чего закусить, говорит, что у хозяйки есть щи… О, восторг! О, пресветлого дне! И в самом деле, хозяйкина дочка подает мне отличных щей с прекрасным мясом и жареной картошки с огурцом. После пана Залесского я ни разу так не обедал. После картошки разошелся я и сварил себе кофе. Кутеж!
Перед вечером почтальон, пожилой, очевидно натерпевшийся человек, не смевший сидеть в моем присутствии, стал собираться ехать к Томи. И я тоже. Поехали. Как только подъехали к реке, показалась лодка, такая длинная, что мне раньше и во сне никогда не снилось. Когда почту нагружали в лодку, я был свидетелем одного странного явления: гремел гром — это при снеге и холодном ветре. Нагрузились и поплыли. Сладкий Миша, прости, как я радовался, что не взял тебя с собой! Как я умно сделал, что никого не взял! Сначала наша лодка плыла по лугу около кустов тальника… Как бывает перед грозой или во время грозы, вдруг по воде пронесся сильный ветер, поднявший валы. Гребец, сидевший у руля, посоветовал переждать непогоду в кустах тальника; на это ему ответили, что если непогода станет сильнее, то в тальнике просидишь до ночи и все равно утонешь. Стали решать большинством голосов и решили плыть дальше. Нехорошее, насмешливое мое счастье! Ну, к чему эти шутки? Плыли мы молча, сосредоточенно… Помню фигуру почтальона, видавшего виды… Помню солдатика, который вдруг стал багров, как вишневый сок… Я думал: если лодка опрокинется, то сброшу полушубок и кожаное пальто… потом валенки… потом и т.д… Но вот берег все ближе, ближе… На душе все легче, легче, сердце сжимается от радости, глубоко вздыхаешь почему-то, точно отдохнул вдруг, и прыгаешь на мокрый скользкий берег… Слава богу! У Ильи Марковича, выкреста, говорят, что к ночи ехать нельзя — дорога плоха, что нужно остаться ночевать. Ладно, остаюсь. После чая сажусь писать вам это письмо, прерванное приездом заседателя. Заседатель — это густая смесь Ноздрева, Хлестакова и собаки. Пьяница, развратник, лгун, певец, анекдотист и при всем том добрый человек. Привез с собою большой сундук, набитый делами, кровать с матрасом, ружье и писаря. Писарь прекрасный, интеллигентный человек, протестующий либерал, учившийся в Петербурге, свободный, неизвестно как попавший в Сибирь, зараженный до мозга костей всеми болезнями и спивающийся по милости своего принципала, называющего его Колей. Посылает власть за наливкой. «Доктор! — вопит она. — Выпейте еще рюмку, в ноги поклонюсь!» Конечно, выпиваю. Трескает власть здорово, врет напропалую, сквернословит бесстыдно. Ложимся спать. Утром опять посылают за наливкой. Трескают наливку до 10 часов и наконец едут. Выкрест Илья Маркович, которого мужики боготворят здесь — так мне говорили, — дал мне лошадей до Томска. Я, заседатель и писарь сели в одном возке. Заседатель всю дорогу врал, пил из горлышка, хвастал, что не берет взяток, восхищался природой и грозил кулаком встречным бродягам. Проехал 15 верст — стоп! Деревня Бровкино… Останавливаемся около жидовской лавочки и идем «отдыхать». Жид бежит за наливкой, а жидовка варит уху, о которой я уже писал. Заседатель распорядился, чтоб пришли сотский, десятский и дорожный подрядчик, и пьяный стал распекать их, нисколько не стесняясь моим присутствием. Он ругался, как татарин. Скоро я разъехался с заседателем и по отвратительной дороге вечером 15-го мая доехал до Томска. В последние 2 дня я сделал только 70 верст можете судить, какова дорога! В Томске невылазная грязь.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Томск, 20 мая 1890 г.:
Всю дорогу я голодал, как собака. Набивал себе брюхо хлебом, чтобы не мечтать о тюрбо, спарже и проч. Даже о гречневой каше мечтал. По целым часам мечтал.
В Тюмени я купил себе на дорогу колбасы, но что это за колбаса! Когда берешь кусок в рот; то во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки; когда же начинаешь жевать, то такое чувство, как будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный в деготь. Тьфу! Поел раза два и бросил.
Антон Павлович Чехов. Из путевого очерка:
Со мною от Томска до Иркутска едут два поручика и военный доктор. Один поручик пехотный, в мохнатой папахе, другой — топограф, с аксельбантом. На каждой станции мы, грязные, мокрые, сонные замученные медленной ездой и тряской, валимся на диваны и возмущаемся: «Какая скверная, какая ужасная дорога!» А станционные писаря и старосты говорят нам:
— Это еще ничего, а вот погодите, что на Козульке будет!
Иван Яковлевич Шмидт (1862–1930), поручик, впоследствии полковник Российской армии, попутчик А. П. Чехова:
Войдя в станционное помещение, я увидел молодого человека, почти моего возраста, элегантной внешности. Он был одет в серый дорожный костюм. Новые темно-коричневой кожи чемоданы с красивою отделкой, туго набитый и аккуратно затянутый портплед, бинокль, фотографический аппарат и лежавшая на столе толстая записная книжка заставляли предполагать в нем ученого иностранца. «Иностранец» заговорил со мною первым. Взглянув на мои погоны, он сказал: «Если не ошибаюсь, вы направляетесь на Хабаровск, в таком случае, не хотите ли продолжить путешествие вместе? Меня зовут Антон Павлович Чехов». <…> На другой день, усевшись в кошеву, мы тронулись в путь.
Путешествие по Сибири имеет своеобразную прелесть зимою, когда по хорошему снежному пути сибирская тройка превращается действительно в «тройку-птицу». Но ехать по этой стране в распутицу — мало удовольствия. Мы испытали это особенно на границе Енисейской губернии, между станциями Козулька и Чернолесье. Здесь на протяжении двадцати верст дорога прорезывала глухую тайгу и представляла собою покатую по обе стороны гать. Ямщик должен был вести тройку так, чтобы коренник все время шел по середине дороги, иначе оба полоза попадали на один скат и следовала катастрофа.
Первая из них случилась в полуверсте от станции. Кошева сползла и опрокинулась на сторону Чехова, причем я перелетел через голову моего спутника и прижал его своею особой. Мы с трудом общими усилиями подняли тяжелую кошеву, вытащили из мокрого, перемешенного с грязью снега багаж и тронулись дальше. Спустя короткое время кошева опрокинулась на мою сторону. Чехов навалился и запутал меня в свою доху. Этот реванш однако не утешил его. Он нашел, что «хрен редьки не слаще». <…> Немного удобнее представлялось в то время и место отдыха. Почтовая станция из сеней и небольшой комнаты с двумя столами и кожаным диваном. Пассажиры спали обычно на полу, на разостланном сене, а умывались на дворе у колодца. Зато каждая станция имела свой, по выражению Чехова, «юмористический журнал» в виде «жалобной книги». Утомленные дорогою и изнервничавшиеся путешественники заносили в нее свои жалобы часто в весьма образных выражениях: «теперь в третий раз говорит, что нет лошадей — врет чертова кукла», «на этой станции проклятые клопы чуть не отгрызли мне…» и т. д. Наиболее характерные из таких жалоб Чехов заносил в особый отдел своей записной книжки, который он называл «копилкою курьезов».
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Красноярск, 28 мая 1890 г.:
Что за убийственная дорога! Еле-еле дополз до Красноярска и два раза починял свою повозку; лопнул сначала курок — железная, вертикально стоящая штука, соединяющая передок повозки с осью; потом сломался под передком так называемый круг. Никогда в жизни не видывал такой дороги, такого колоссального распутья и такой ужасной, запущенной дороги. <…>
Последние три станции великолепны; когда подъезжаешь к Красноярску, то кажется, что спускаешься в иной мир. Из леса выезжаешь на равнину, которая очень похожа на нашу донецкую степь, только здесь горные кряжи грандиознее. Солнце блестит во всю ивановскую и березы распустились, хотя за три станции назад на березах не потрескались даже еще почки. Слава Богу, въехал-таки я наконец в лето, где нет ни ветра, ни холодного дождя. Красноярск красивый интеллигентный город; в сравнении перед ним Томск свинья в ермолке и моветон. Улицы чистые, мощеные, дома каменные, большие, церкви изящные.
Я жив и совершенно здоров. Деньги целы, вещи тоже целы; потерял было шерстяные чулки и скоро нашел.
Пока, если молчать о повозке, все обстоит благополучно и жаловаться не на что. Только расходы страшенные. Нигде так сильно не сказывается житейская непрактичность, как в дороге. Плачу лишнее, делаю ненужное, говорю не то, что нужно, и жду всякий раз того, что не случается.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Иркутск, 6 июня 1890 г:
От Красноярска до Иркутска всплошную тянется тайга. Лес не крупнее Сокольничьего, но зато ни один ямщик не знает, где он кончается. Конца краю не видать. Тянется на сотни верст. Что и кто в тайге, неизвестно никому, и только зимою случается, что приезжают через тайгу из далекого севера за хлебом какие-то люди на оленях. Когда въедешь на гору и глянешь вперед и вниз, то видишь впереди гору, за ней еще гору, потом еще гору, с боков тоже горы — и все это густо покрыто лесом. Даже жутко делается. Это второе оригинальное и новое… От Красноярска начались жарища и пыль. Жара страшная. Полушубок и шапка лежат под спудом. Пыль во рту, в носу, за шеей — тьфу! Подъезжаем к Иркутску — надо переплывать через Ангару на плашкоте (т. е. пароме). Как нарочно, точно на смех, поднимается сильнейший ветер… Я и мои военные спутники, 10 дней мечтавшие о бане, обеде и сне, стоим на берегу и бледнеем от мысли, что нам придется переночевать не в Иркутске, а в деревне. Плашкот никак не может подойти… Стоим час — другой, и — о небо! — плашкот делает усилие и подходит к берегу. Браво, мы в бане, мы ужинаем и спим! Ах, как сладко париться, есть и спать!
Иван Яковлевич Шмидт:
В тот же вечер, отправясь в «Бани Курбатова», мы, вместо предполагавшейся дымной лачуги, попали, к нашему изумлению, в залитый электрическим светом дворец с мраморными ваннами и особой комнатою для ожидающих, с мягкою мебелью, коврами, журналами и газетами.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. Н. Плещееву. Иркутск, 5 июня 1890 г.:
Наконец поборол самые трудные 3000 верст, сижу в приличном номере и могу писать. Оделся я нарочно во все новое и возможно щеголеватее, ибо Вы не можете себе представить, до какой степени мне надоели грязные большие сапоги, полушубок, пахнущий дегтем, или пальто в сене, пыль и крошки в карманах и необычайно грязное белье. В дороге одет я был таким сукиным сыном, что даже бродяги косо на меня посматривали, а тут еще, точно нарочно, от холодных ветров и дождей рожа моя потрескалась и покрылась рыбьей чешуей. Теперь наконец я опять европеец, что и чувствую всем моим существом.
<…> Когда по приезде в Иркутск я мылся в бане, то с головы моей текла мыльная пена не белого, а пепельно-гнедого цвета, точно я лошадь мыл.
Антон Павлович Чехов. Из письма И. Л. Лейкину. Иркутск, 5 июня 1890 г.:
Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю Бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие… Многое я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека. Енисей, тайга, станции, ямщики, дикая природа, дичь, физические мучительства, причиняемые дорожными неудобствами, наслаждения, получаемые от отдыха, — все, вместе взятое, так хорошо, что и описать не могу. Уж одно то, что я больше месяца день и ночь был на чистом воздухе — любопытно и здорово; целый месяц ежедневно я видел восход солнца от начала до конца.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Иркутск, 6 июня 1890 г.:
Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы… Нет уродливых заборов, нелепых вывесок и пустырей с надписями о том, что нельзя останавливаться. Есть трактир «Таганрог». Сахар 24 коп., кедровые орехи 6 коп. за фунт.
Иван Яковлевич Шмидт:
В Иркутске Чехов решил остановиться на две недели и привести в порядок свои путевые заметки. Мы сняли в «Подворье» две комнаты. Одна из них служила нам общею спальнею, другая — кабинетом Чехова и его приемною.
В этой приемной у А.П. перебывало еще больше народу, чем в Томске, и обмен мнений был много жарче. Помню, однажды у А.П. собралось человек двенадцать местной интеллигенции. Тут были и молодые люди, и почтенные старцы. Все они жаловались на скуку и бессодержательность иркутской жизни и вздыхали по Москве и Петербургу. Всегда спокойный и корректный. Чехов на этот раз не выдержал:
— Я не понимаю вас, господа, — сказал он, — у вас тут такое приволье, такое изобилие благ, что если бы вы проявили хоть чуточку энергии и самодеятельности, то могли бы создать земной рай.
— Научите, с чего начать? — язвительно спросил какой-то господин в очках.
— Да хотя бы с создания общества борьбы со скукою…
Из всех чествований, устроенных Чехову, самое шумное было в Купеческом клубе. Самыми же приятными для молодого писателя знаками внимания были, если сказать по секрету, те, которые оказывались его юными почитательницами. Это были улыбки, букетики цветов, а иногда и запрятанные в них записочки. Эти подношения делались обычно во время прогулок по местному «Невскому проспекту», т. е. по Большой улице.
За подношениями следовали знакомства и визиты в дома. Знакомства повели к тому, что двухнедельный срок оказался мал. Мы задержались в Иркутске еще несколько дней. Когда мы, наконец, сломя голову поскакали на почтовых в село Лиственничное, откуда должны были переправиться на другой берег Байкальского озера, пароход исчез из виду.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Лиственичная, 13 июня 1890 г.:
Так как не бывает ничего такого, что бы не кончалось, то я ничего не имею против ожиданий и ожидаю всегда терпеливо, но дело в том, что 20-го из Сретенска идет пароход вниз по Амуру; если мы не попадем на него, то придется ждать следующего парохода, который пойдет 30-го. Господа милосердные, когда же я попаду на Сахалин? Ехали мы к Байкалу по берегу Ангары, которая берет начало из Байкала и впадает в Енисей. Зрите карту. Берега живописные. Горы и горы, на горах всплошную леса. Погода была чудная, тихая, солнечная, теплая; я ехал и чувствовал почему-то, что я необыкновенно здоров; мне было так хорошо, что и описать нельзя. Это, вероятно, после сиденья в Иркутске и оттого, что берег Ангары на Швейцарию похож. Что-то новое и оригинальное. Ехали по берегу, доехали до устья и повернули влево; тут уже берег Байкала, который в Сибири называется морем. Зеркало. Другого берега, конечно, не видно: 90 верст. Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые; направо и налево видны мысы, которые вдаются в море вроде Аю-Дага или феодосийского Тохтабеля. Похоже на Крым. Станция Лиственичная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту; будь дома белые, совсем была бы Ялта. Только на горах нет построек, так как горы слишком отвесны и строиться на них нельзя. Заняли мы квартиру-сарайчик, напоминающий любую из Красковских дач. У окон, аршина на 2–3 от фундамента, начинается Байкал. Платим рубль в сутки. Горы, леса, зеркальность Байкала — все отравляется мыслью, что нам придется сидеть здесь до пятницы. Что мы будем здесь делать? Вдобавок еще не знаем, что нам есть. Население питается одной только черемшой. Нет ни мяса, ни рыбы; молока нам не дали, а только обещали. За маленький белый хлебец содрали 16 коп. Купил я гречневой крупы и кусочек копченой свинины, велел сварить размазню; невкусно, поделать нечего, надо есть. Весь вечер искали по деревне, не продаст ли кто курицу, и не нашли… Зато водка есть! Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т. п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно. А между тем, казалось бы, достать мясо и рыбу гораздо легче, чем водку, которая и дороже и везти ее труднее… Нет, должно быть, пить водку гораздо интереснее, чем трудиться ловить рыбу в Байкале или разводить скот.
Иван Яковлевич Шмидт:
На другой день подошел какой-то маленький скрипучий пароходик и мы благополучно переплыли через Байкал к поселку Мышинскому.
В Забайкалье нам сказали, что пароход из Сретенска отплывает через пять дней и что мы сможем попасть на него только скача туда непрерывно дни и ночи.
Нас это не испугало, и мы помчались в путь. Счастье благоприятствовало нам. Сухая, каменная дорога была гладка, как паркет. На станциях мы находили уже готовые тройки, а ямщики, поощряемые хорошими чаевыми, везли нас точно на свадьбу. <…> Мы примчались к Сретенской пристани, когда подан был уже третий гудок. Молодцы матросы подхватили наш багаж, перекинули на палубу и подняли сходни. По их крику: «Готово!» пароход зашумел колесами и начал отделяться от пристани. — Ну, слава Богу, — вздохнул Чехов, размазывая по своему потному лицу густой слой пыли и становясь похожим на зебру.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Шилка, пароход «Ермак», 20 июня 1890 г.:
Наконец-таки я могу снять тяжелые, грязные сапоги, потертые штаны и лоснящуюся от пыли и пота синюю рубаху, могу умыться и одеться по-человечески. Я уж не в тарантасе сижу, а в каюте I класса амурского парохода «Ермак». Перемена такая произошла десятью днями раньше и вот по какой причине. Я писал Вам из Лиственичной, что к байкальскому пароходу я опоздал, что придется ехать через Байкал не во вторник, а в пятницу и что успею я поэтому к амурскому пароходу только 30 июня. Но судьба капризна и часто устраивает фокусы, каких не ждешь. В четверг утром я пошел прогуляться по берегу Байкала; вижу — у одного из двух пароходишек дымится труба. Спрашиваю, куда идет пароход? Говорят, «за море», в Клюево; какой-то купец нанял, чтобы перевезти на тот берег свой обоз. Нам нужно тоже «за море» и на станцию Боярскую. Спрашиваю: сколько верст от Клюева до Боярской? Отвечают: 27. Бегу к спутникам и прошу их рискнуть поехать в Клюево. Говорю «рискнуть», потому что поехав в Клюево, где нет ничего, кроме пристани и избушки сторожа, мы рисковали не найти лошадей, засидеться в Клюеве и опоздать к пятницкому пароходу, что для нас было бы пуще Игоревой смерти, так как пришлось бы ждать до вторника. Спутники согласились. Забрали мы свои пожитки, веселыми ногами зашагали к пароходу и тотчас же в буфет: ради Создателя супу! Полцарства за тарелку супу! Буфетик препоганенький, выстроенный по системе тесных ватерклозетов, но повар Григорий Иваныч, бывший воронежский дворовый, оказался на высоте своего призвания. Он накормил нас превосходно. Погода была тихая, солнечная. Вода на Байкале бирюзовая, прозрачнее, чем в Черном море. Говорят, что на глубоких местах дно за версту видно; да и сам я видел такие глубины со скалами и горами, утонувшими в бирюзе, что мороз драл по коже. Прогулка по Байкалу вышла чудная, во веки веков не забуду. Только вот что было нехорошо: ехали мы в III классе, а вся палуба была занята обозными лошадями, которые неистовствовали как бешеные. Эти лошади придавали поездке моей особый колорит казалось, что я еду на разбойничьем пароходе. В Клюеве сторож взялся довезти наш багаж до станции; он ехал, а мы шли позади телеги пешком по живописнейшему берегу. Скотина Левитан, что не поехал со мной. Дорога лесная: направо лес, идущий на гору, налево лес, спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие скалы! Тон у Байкала нежный, теплый. Было, кстати сказать, очень тепло. Пройдя 8 верст, дошли мы до Мысканской станции, где кяхтинский чиновник, проезжий, угостил нас превосходным чаем и где нам дали лошадей до Боярской. Итак, вместо пятницы мы уехали в четверг; мало того, мы на целые сутки вперед ушли от почты, которая забирает обыкновенно на станциях всех лошадей. Стали мы гнать в хвост и гриву, питая слабую надежду, что к 20 попадем в Сретенск. <…> О сне и об обедах, конечно, некогда было и думать. Скачешь, меняешь на станциях лошадей и думаешь только о том, что на следующей станции могут не дать лошадей и задержат на 5–6 часов. Делали в сутки 200 верст — больше летом нельзя сделать. Обалдели. Жарища к тому же страшенная, а ночью холод, так что нужно было мне сверх суконного пальто надевать кожаное; одну ночь ехал даже в полушубке. Ну-с, ехали, ехали и сегодня утром прибыли в Сретенск, ровно за час до отхода парохода, заплативши ямщикам на двух последних станциях по рублю на чай. <…>
Плыву по Шилке, которая у Покровской станицы, слившись с Аргунью, переходит в Амур. Река — не шире Пела, даже уже. Берега каменистые: утесы да леса. Совсем дичь. Лавируем, чтобы не сесть на мель или не хлопнуться задом о берег. У порогов пароходы и баржи часто хлопаются. Душно. Сейчас останавливались у Усть-Кары, где высадили человек 5–6 каторжных. Тут прииски и каторжная тюрьма. Вчера был в Нерчинске. Городок не ахти, но жить можно.
Пароход будет ночевать в Горбице. Ночи здесь туманные, опасно плыть. В Горбице опущу это письмо. Еду я в I классе, потому что спутники мои едут во II. Ушел от них. Вместе ехали (трое в одном тарантасе), вместе спали и надоели друг другу, особенно они мне. <…>
Перерыв. Ходил к своим поручикам пить чай. Оба они выспались и в благодушном настроении… Один из них, поручик Шмидт (фамилия, противная для моего уха), пехота, высокий, сытый, горластый курляндец, большой хвастун и Хлестаков, поющий из всех опер, но имеющий слуха меньше, чем копченая селедка, человек несчастный, промотавший прогонные деньги, знающий Мицкевича наизусть, невоспитанный, откровенный не в меру и болтливый до тошноты.
Иван Яковлевич Шмидт:
На другое утро, встретясь с Чеховым на палубе, я почти не узнал его. Свежий и бодрый, он одет был в щегольскую коричневую пижаму с шелковыми отворотами и обшлагами.
К завтраку он вышел в элегантном костюме из белой фланели и в модном сиреневом галстуке. К обеду — в смокинге.
На следующий день новая трансформация. Эти кокетливые переодевания объяснялись присутствием на пароходе группы молоденьких барышень, только что окончивших Иркутский институт. Они ехали под присмотром матери одной из них, строгой и тонкой дамы. Имя Чехова сейчас же открыло доступ к ее сердцу, и с этого времени на пароходе стало шумно и весело.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Амур под Покровской, 21 июня 1890 г.:
Налетели на камень, сделали пробоину и теперь починяемся. Сидим на мели и качаем воду. Налево русский берег, направо китайский. Если бы я теперь вернулся домой, то имел бы право хвастать: «В Китае я не был, но видел его в 3-х саженях от себя». В Покровской будем ночевать. Учиним экскурсию.
Если бы я был миллионером, то непременно имел бы на Амуре свой пароход. Хороший, любопытный край. <…> На китайском берегу сторожевой пост: избушка, на берегу навалены мешки с мукой, оборванные китайцы таскают их на носилках в избушку. А за постом густой, бесконечный лес. Будьте здоровы.
С нами едут из Иркутска институтки — лица русские, но некрасивые.
Иван Яковлевич Шмидт:
Особенно памятным для пассажиров был тот вечер, когда молодой писатель сам прочел несколько своих маленьких рассказов. В этот день он окончательно вскружил голову стройной и хорошенькой Ф. Их взаимная симпатия оказалась на пароходе секретом Полишинеля.
Я позволил себе однажды шутя сказать Чехову, что было бы совсем небанально с его стороны, отправляясь на Сахалин, чтобы изучить быт каторжан, наложить по дороге на себя узы Гименея.
— Не могу, — ответил он, — у меня в Москве уже есть невеста.
Затем, помолчав немного, он странным голосом, точно думал вслух, добавил:
— Только вряд ли я буду с нею счастлив, она слишком красива…
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. От Покровской до Благовещенска, 23–26 июня 1890 г.:
Я писал уже вам, что мы сидим на мели. У Усть-Стрелки, где Шилка сливается с Аргунью (зри карту), пароход, сидящий в воде 21/2 фута, налетел на камень, сделал несколько пробоин и, набрав в трюм воды, сел на дно. Стали выкачивать воду и класть латки; голый матрос лезет в трюм, стоит по шею в воде и нащупывает пятками дыры; всякую дыру покрывают извнутри сукном, вымазанным в сале, кладут сверху доску и ставят на последней подпорку, которая, подобно колонне, упирается в потолок. — вот и починка. Выкачивали с 5 часов вечера до ночи, но вода все не убывала; пришлось отложить работу до утра. Утром нашли еще несколько новых пробоин и опять стали латать и качать. Матросы качают, а мы, публика, гуляем по палубам, судачим, едим, пьем, спим; капитан и его помощник делают то же, что и публика, и не спешат. Направо китайский берег, налево станица Покровская с амурскими казаками: хочешь — сиди в России, хочешь — поезжай в Китай, запрету нет. Днем жара невыносимая, так что приходится надевать шелковую рубаху. Обедать дают в 12 часов, ужинать в 7 ч. вечера. На беду к станице подходит встречный пароход «Вестник» с массою публики. «Вестнику» тоже нельзя идти дальше, и оба парохода сидят сиднем. На «Вестнике» военный оркестр. В результате целое торжество. Вчера весь день у нас на палубе играла музыка, развлекавшая капитана и матросов и, стало быть, мешавшая починять пароход. Женская половина пассажирства совсем повеселела: музыка, офицеры, моряки… ах! Особенно рады институтки. Вечером вчера гуляли по станице, где играла по найму казаков все та же музыка. Сегодня продолжаем починяться. Обещает капитан, что пойдем после обеда, но обещает лениво, глядя куда-то в сторону, — очевидно, врет. Не спешим. Когда я спросил одного пассажира, когда же мы, наконец, пойдем дальше, то он спросил: — А разве вам здесь плохо?
И то правда. Почему не стоять, коли не скучно? Капитан, его помощник и агент — верх любезности. Китайцы, сидящие в III классе, добродушны и смешны. Вчера один китаец сидел на палубе и пел дискантом что-то очень грустное; в это время профиль у него был смешнее всяких карикатур. Все глядели на него и смеялись, а он — ноль внимания. Попел дискантом и стал петь тенором: боже, что за голос! Это овечье или телячье блеянье. Китайцы напоминают мне добрых, ручных животных. Косы у них черные, длинные, как у Натальи Михайловны. Кстати о ручных животных; в уборной живет ручная лисица-щенок. Умываешься, а она сидит и смотрит. Если долго не видит людей, то начинает скулить.
Какие странные разговоры! Только и говорят о золоте, о приисках, о Добровольном флоте, об Японии. В Покровской всякий мужик и даже поп добывают золото. Этим же занимаются и поселенцы, которые богатеют здесь так же быстро, как и беднеют. Есть чуйки, которые не пьют ничего, кроме шампанского, и в кабак ходят не иначе, как только по кумачу, который расстилается от избы вплоть до кабака. <…>
Амур чрезвычайно интересный край. До чертиков оригинален. Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют. Она, т. е. эта жизнь, напоминает мне рассказы из американской жизни. Берега до такой степени дики, оригинальны и роскошны, что хочется навеки остаться тут жить. Последние строчки пишу уж 25 июня. Пароход дрожит и мешает писать. Опять плывем. Проплыл я уже по Амуру 1000 верст и видел миллион роскошнейших пейзажей; голова кружится от восторга. Видел я такой утес, что если бы у подножия его Гундасова вздумала окисляться, то она бы умерла от удовольствия, и если бы мы с Софьей Петровной Кувшинниковой во главе устроили здесь пикник, то могли бы сказать друг другу: умри, Денис, лучше не напишешь. Удивительная природа. А как жарко! Какие теплые ночи! Утром бывает туман, но теплый. Я осматриваю берега в бинокль и вижу чертову пропасть уток, гусей, гагар, цапель и всяких бестий с длинными носами. Вот бы где дачу нанять! Вчера в местечке Рейнове пригласил меня к больной жене некий золотопромышленник. Когда я уходил от него, он сунул мне в руку пачку ассигнаций. Мне стало стыдно, я начал отказываться и сунул деньги назад, говоря, что я сам очень богат разговаривали долго, убеждая друг друга, и все-таки в конце концов у меня в руке осталось 15 рублей. Вчера же в моей каюте обедал золотопромышленник с лицом Пети Полеваева; за обедом он вместо воды пил шампанское и угощал им нас. Деревни здесь такие же, как на Дону; разница есть в постройках, но неважная. Жители не исполняют постов и едят мясо даже в Страстную неделю; девки курят папиросы, а старухи трубки — это так принято. Странно бывает видеть мужичек с папиросами. А какой либерализм! Ах, какой либерализм!
На пароходе воздух накаляется докрасна от разговоров. Здесь не бояться говорить громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда, либеральничай сколько влезет. Народ все больше независимый, самостоятельный и с логикой. Если случается какое-нибудь недоразумение в Усть-Каре, где работают каторжные (между ними много политических, которые не работают), то возмущается весь Амур. Доносы не приняты. Бежавший политический свободно может проехать на пароходе до океана, не боясь, что его выдаст капитан.
Это объясняется отчасти и полным равнодушием ко всему, что творится в России. Каждый говорит: какое мне дело?
Иван Яковлевич Шмидт:
Неторопливо скользя по широкой глади Амура, среди живописных берегов этой могущественной реки, пароход бросил якорь у Зейской пристани. Здесь Чехова, как врача, пригласили к больному золотопромышленнику. Возвратясь на пароход и вынув из бумажника за угол полученную им сторублевую бумажку, он пошутил: «Если так пойдет и дальше, то скоро мои гонорары превзойдут Захарьинские![10]»
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Благовещенск, 24 июня 1890 г.:
В голове у меня все перепуталось и обратилось в порошок; и немудрено, Ваше превосходительство! Проплыл я по. Амуру больше тысячи верст и видел миллионы пейзажей, а ведь до Амура были Байкал, Забайкалье… Право, столько видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно. Люди на Амуре оригинальные, жизнь интересная, не похожая на нашу. Только и разговора, что о золоте. Золото, золото и больше ничего. У меня глупое настроение, писать не хочется, и пишу я коротко, по-свински. <…> Я в Амур влюблен; охотно бы пожил на нем года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России. <…> Китайцы начинают встречаться с Иркутска, а здесь их больше, чем мух. Это добродушнейший народ. <…>
С Благовещенска начинаются японцы, или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво. В языке их преобладает звук «тц». <…> Когда я одного китайца позвал в буфет, чтобы угостить его водкой, то он, прежде чем выпить, протягивал рюмку мне, буфетчику, лакеям и говорил: кусай! Это китайские церемонии. Пил он не сразу, как мы, а глоточками, закусывая после каждого глотка, и потом, чтобы поблагодарить меня, дал мне несколько китайских монет. Ужасно вежливый народ. Одеваются бедно, но красиво, едят вкусно, с церемониями.
Китайцы возьмут у нас Амур — это несомненно. Сами они не возьмут, но им отдадут его другие, например, англичане, которые в Китае губернаторствуют и крепости строят. По Амуру живет очень насмешливый народ; все смеются, что Россия хлопочет о Болгарии, которая гроша медного не стоит, и совсем забыла об Амуре. Нерасчетливо и неумно.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Под Хабаровкой, пароход «Муравьев», 29 июня 1890 г.:
В каюте летают метеоры — это светящиеся жучки, похожие на электрические искры. Днем через Амур переплывают дикие козы. Мухи тут громадные. Со мною в одной каюте едет китаец Сон-Люли, который непрерывно рассказывает мне о том, как у них в Китае за всякий пустяк «голова долой». Вчера натрескался опиума и всю ночь бредил и мешал мне спать. 27-го я гулял по китайскому городу Айгуну. Мало-помалу вступаю я в фантастический мир.
На Сахалине
Антон Павлович Чехов. Из письма Л. Ф. Кони, Петербург, 26 января 1891 г.:
Мое короткое сахалинское прошлое представляется мне таким громадным, что когда я хочу говорить о нем, то не знаю, с чего начать, и мне всякий раз кажется, что я говорю не то, что нужно.
Антон Павлович Чехов. Из книги «Остров Сахалин»:
Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собою от океана почли тысячу верст восточною берега Сибири и вход в устье Амура. Он имеет форму, удлиненную с севера на юг, и фигурою, по мнению одного из авторов, напоминает стерлядь. Географическое положение его определяется так: от 45°54′ до 54°53′ с. ш. и от 141°40′ до 144°53′ в. д. Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечно промерзлой почвы, по своему положению соответствует Рязанской губернии, а южная — Крыму. Длина острова 900 верст, наибольшая его ширина равняется 125, и наименьшая 25 верстам. Он вдвое больше Греции и в полтора раза больше Дании.
Михаил Павлович Чехов:
Антон добрался 11 июля до Сахалина, прожил на нем более трех месяцев, прошел его весь с севера на юг, первый из частных лиц сделал там всеобщую перепись населения, разговаривал с каждым из 10 тысяч каторжных и изучил каторгу до мельчайших подробностей. Проехал он на колесах свыше четырех тысяч верст, целые два месяца при самых неблагоприятных условиях.
Антон Павлович Чехов. Из книги «Остров Сахалин»:
Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. Палевом плане горят чудовищные костры, выше них — горы, из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров; похоже, как будто горит весь Сахалин. Вправо темною тяжелою массой выдается в море мыс Жонкьер, похожий на крымский Аю-Даг; на вершине его ярко светится маяк, а внизу, в воде, между нами и берегом стоят три остроконечных рифа — «Три брата». И все в дыму, как в аду. <…> Возле пристани по берегу, по-видимому без дела» бродило с полсотни каторжных: одни в халатах, другие в куртках или пиджаках из серого сукна. При моем появлении вся полсотня сняла шапки — такой чести до сих пор, вероятно, не удостаивался еще ни один литератор.
Алексей Степанович Фельдман, чиновник:
Живо помню мою первую встречу с Чеховым. <…> Было серенькое, осеннее холодное утро. Возвращаясь из тюрьмы, я встретил нашего тюремного доктора, шедшего с каким-то незнакомым мне молодым человеком.
— А мы только что были у вас! — еще издали крикнул мне доктор. — Вот рекомендую: Чехов, Антон Павлович. Приехал ревизовать вашу тюрьму.
Доктор весело захохотал, а Чехов, протягивав мне руку, смущенно бормотал:
— Уж и ревизовать!..
Мне, помню, сразу понравилось лицо Чехова; славное, открытое студенческое молодое лицо. Глаз; умные, мягкие, ласковые и чуть-чуть грустные.
— Мне хочется осмотреть вашу тюрьму. Можно?.. У меня имеется разрешение начальника острова, — поспешно добавил он, заметив мою нерешительность.
В тюрьме Чехов подолгу беседовал с каторжниками. Он сумел расположить их к себе, и они относились к нему на редкость доверчиво. Мы диву давались. Каторжане в большинстве хитры, подозрительны и лживы. Случайным посетителям тюрьмы они рассказывают самые невероятные истории обнаруживая при этом редкую изобретательность но с Чеховым они беседовали необычайно просто и правдиво.
— Душевный человек, их высокородие Антон Павлыч, — говорили арестанты.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину Москва, 9 декабря 1890 г.:
Пробыл я на Сахалине не 2 месяца, как напечатано у Вас, а 3 плюс 2 дня. Работа у меня была напряженная; я сделал полную и подробную перепись всего сахалинского населения и видел все, кроме смертной казни. Когда мы увидимся, я покажу Вам целый сундук всякой каторжной всячины, которая, как сырой материал, стоит чрезвычайно дорого. Знаю я теперь очень многое, чувство же привез я с собою нехорошее. Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, как от прогорклого масла, теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом. Два месяца я работал напряженно, не щадя живота, в третьем же месяце стал изнемогать от помянутой горечи, скуки и от мысли, что из Владивостока на Сахалин идет холера и что я таким образом рискую прозимовать на каторге. Но, слава небесам, холера прекратилась, и 13 октября пароход увез меня из Сахалина. Был я во Владивостоке. О Приморской области и вообще о нашем восточном побережье с его флотами, задачами и тихоокеанскими мечтаниями скажу только одно: вопиющая бедность! Бедность, невежество и ничтожество, могущие довести до отчаяния. Один честный человек на 99 воров, оскверняющих русское имя.
Михаил Лаврентьевич Нюнюков, бывший конюх каторжной тюрьмы на Сахалине:
Ездили мы с Чеховым по всему Тымовскому округу… Возил я его и в Уское (Усково), и в Славы к гилякам. Он очень заинтересовался жизнью гиляков и все записывал в записную книжку. Потом поехали в Адо-Тымово, оттуда в Иркир. От Иркира повернули назад. Переночевали у начальника Тымовского округа Будакова… Ездили мы по району, по стройке Новой дороги. Объехали много тюрем, были на том месте, где погибал каторжный народ при постройке Онорской дороги.
Антон Павлович Чехов. Из письма Д. Л. Манучарову. Мелихово, 21 марта 1896 г.:
Бывший приамурский ген<ерал>-губ<ернатор> барон Корф разрешил мне посещать тюрьмы и поселения с условием, что я не буду иметь никакого общения с политическими, — я должен был дать честное слово. С политическими мне приходилось говорить очень мало и то лишь при свидетелях-чиновниках (из которых некоторые играли при мне роль шпионов), и мне известно из их жизни очень немногое. На Сахалине политические ходят в вольном платье, живут не в тюрьмах, несут обязанности писарей, надзирателей (по кухне и т. п.), смотрителей метеорологических станций; один при мне был церковным старостой, другой был помощником смотрителя тюрьмы (негласно), третий заведовал библиотекой при полицейском управлении и т. д. При мне телесному наказанию не подвергали ни одного из них. По слухам, настроение духа у них угнетенное. Были случаи самоубийств — это опять-таки по слухам.
Антон Павлович Чехов. Из письма Л. С. Суворину. Татарский пролив, пароход «Байкал», 11 сентября 1890 г.:
Здравствуйте! Плыву по Татарскому проливу из Северного Сахалина в Южный. Пишу и не знаю, когда это письмо дойдет до Вас. Я здоров, хотя со всех сторон глядит на меня зелеными глазами холера, которая устроила мне ловушку. Во Владивостоке, Японии, Шанхае, Чифу, Суэце и, кажется, даже на Луне — всюду холера, везде карантины и страх. На Сахалине ждут холеру и держат суда в карантине. Одним словом, дело табак. Во Владивостоке мрут европейцы, умерла, между прочим, одна генеральша. Прожил я на Сев<ерном> Сахалине ровно два месяца. Принят я был местной администрацией чрезвычайно любезно, хотя Галкин не писал обо мне ни слова. Ни Галкин, ни баронесса Выхухоль, ни другие гении, к которым я имел глупость обращаться за помощью, никакой помощи мне не оказали; пришлось действовать на собственный страх. Сахалинский генерал Кононович интеллигентный и порядочный человек. Мы скоро спелись и все обошлось благополучно. Я привезу с собой кое-какие бумаги, из которых Вы увидите, что условия, в которые я был поставлен с самого начала, были благоприятнейшими. Я видел все; стало быть, вопрос теперь не в том, что я видел, а как видел.
Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации. Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано, а теперь, когда уже я покончил с каторгою, у меня такое чувство, как будто я видел все, но слона-то и не приметил. Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему; и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд.
У Ландсберга я обедал, у бывшей баронессы Гембрук сидел в кухне… Был у всех знаменитостей. Присутствовал при наказании плетьми, после чего ночи три-четыре мне снились палач и отвратительная кобыла. Беседовал с прикованными к тачкам. Когда однажды в руднике я пил чай, бывший петербургский купец Бородавкин, присланный сюда за поджог, вынул из кармана чайную ложку и подал ее мне, а в итоге я расстроил себе нервы и дал себе слово больше на Сахалин не ездить.
Вокруг света
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Татарский пролив, пароход «Байкал», и сентября 1890 г.:
Завтра я буду видеть издали Японию, остров Матсмай. Теперь 12-й час ночи. На море темно, дует ветер. Не пойму, как это пароход может ходить и ориентироваться, когда зги не видно, да еще в таких диких, мало известных водах, как Татарский пролив. Когда вспоминаю, что меня отделяет от мира 10 тысяч верст, мною овладевает апатия. Кажется, что приеду домой через сто лет.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва, 9 декабря 1890 г.:
Японию мы миновали, ибо в ней холера. <…> Первым заграничным портом на пути моем был Гонг-Конг. Бухта чудная, движение на море такое, какого я никогда не видел даже на картинках; прекрасные дороги, конки, железная дорога на гору, музеи, ботанические сады; куда ни взглянешь, всюду видишь самую нежную заботливость англичан о своих служащих, есть даже клуб для матросов. Ездил я на дженерихче, т. е. на людях, покупал у китайцев всякую дребедень и возмущался, слушая, как мои спутники россияне бранят англичан за эксплоатацию инородцев. Я думал: да, англичанин эксплоатирует китайцев, сипаев, индусов, но зато дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство, вы тоже эксплоатируете, но что вы даете? Когда вышли из Гонг-Конга, нас начало качать. Пароход был пустой и делал размахи в 38 градусов, так что мы боялись, что он опрокинется. Морской болезни я не подвержен — это открытие меня приятно поразило. По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников. Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувыркаясь, в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море. Заболел у нас рогатый скот. По приговору доктора Щербака и Вашего покорнейшего слуги, скот убили и бросили в море.
Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал. Затем следует Цейлон — место, где был рай. Здесь в раю я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. <…> От Цейлона безостановочно плыли 13 суток и обалдели от скуки. Жару выношу я хорошо. Красное море уныло; глядя на Синай, я умилялся.
Михаил Павлович Чехов:
Когда он возвращался обратно через Индию на пароходе «Петербург» и в Китайском море его захватил тайфун, причем пароход шел вовсе без груза и его кренило на 45 градусов, к брату Антону подошел командир «Петербурга» капитан Гутан и посоветовал ему все время держать в кармане наготове револьвер, чтобы успеть покончить с собой, когда пароход пойдет ко дну. Этот револьвер теперь хранится в качестве экспоната в Чеховском музее в Ялте. Другой случай — встреча с французским пароходом, севшим на мель. «Петербург» по необходимости должен был остановиться и подать ему помощь. Спустили проволочный канат — перлень, соединили его с пострадавшим судном, и когда стали тащить, канат лопнул пополам. Его связали, прицепили снова, и французский пароход был спасен. Всю дальнейшую дорогу французы, следовавшие позади, кричали «Vive la Russie!» и играли русский гимн; и затем оба парохода разошлись, каждый поплыл своей дорогой. Каково же было разочарование потом, когда на «Петербурге» вспомнили, что забыли на радостях взыскать с французов тысячу рублей за порванный перлень (все спасательные средства ставятся в счет спасенному), и, таким образом, эта тысяча рублей была разложена на всех подписавших протокол о спасении французского судна, в том числе и на моего брата Антона. Третий случай — купание его в Индийском океане. С кормы парохода был спущен конец. Антон Павлович бросился в воду с носа на всем ходу судна и должен был ухватиться за этот конец. Когда он был уже в воде, то собственными глазами увидел рыб-лоцманов и приближавшуюся к нему акулу («Гусев»). За все эти перипетии он был вознагражден потом на острове Цейлон, в этом земном раю. Здесь он, под самыми тропиками, в пальмовом лесу, в чисто феерической, сказочной обстановке, получил объяснение в любви от прекрасной индианки.
Антон Павлович Чехов. Из письма И. Л. Леонтьеву (Щеглову). Москва, 10 декабря 1890 г.:
Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т.е. на острове Цейлоне.
Антон Павлович Чехов. Из письма Ал. П. Чехову Москва, 27 декабря 1890 г.:
В Индии водки нет. Пьют виски.
Европейское турне 1891 года
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Вена, 20 марта (1 апреля) 1891 г.:
Друзья мои чехи! Пишу вам из Вены, куда я приехал вчера в 4 часа пополудни. В дороге все было благополучно. От Варшавы до Вены я ехал, как железнодорожная Нана, в роскошном вагоне «Интернационального общества спальных вагонов»: постели, зеркала, громадные окна, ковры и проч.
Ах, друзья мои тунгусы, если бы вы знали, как хороша Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни. Улицы широкие, изящно вымощенные, масса бульваров и скверов, дома все 6- и 7-этажные, а магазины — это не магазины, а сплошное головокружение, мечта! Одних галстухов в окнах миллиарды! Какие изумительные вещи из бронзы, фарфора, кожи! Церкви громадные, но они не давят своею громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев. Особенно хороши собор св. Стефана и Votiv-Kirche. Это не постройки, а печенья к чаю. Великолепны парламент, дума, университет все великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство. И здесь это искусство попадается не кусочками, как у нас, а тянется полосами в несколько верст. Много памятников. В каждом переулке непременно книжный магазин. На окнах книжных магазинов попадаются и русские книги, но увы! это сочинения не Альбова, не Баранцевича и не Чехова, а всяких анонимов, пишущих и печатающих за границей. Видел я «Ренана», «Тайны зимнего дворца» и т. п. Странно, что здесь можно все читать и говорить, о чем хочешь.
Разумейте, языцы, какие здесь извозчики, черт бы их взял. Пролеток нет, а все новенькие, хорошенькие кареты в одну и чаще в две лошади. Лошади прекрасные. На козлах сидят франты в пиджаках и в цилиндрах, читают газеты. Вежливость и предупредительность.
Обеды хорошие. Водки нет, а пьют пиво и недурное вино. Одно скверно: берут деньги за хлеб. Когда подают счет, то спрашивают: «Wieviel Brodchen?», т. е. сколько слопал булочек? И берут за всякую булочку. Женщины красивы и изящны. Да вообще все чертовски изящно.
Антон Павлович Чехов. Из письма И. П. Чехову. Венеция, 24 марта апреля) 1891 г.:
Я теперь в Венеции, куда приехал третьего дня из Вены. Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Вместо улиц и переулков каналы, вместо извозчиков гондолы, архитектура изумительная, и нет того местечка, которое не возбуждало бы исторического или художественного интереса. Плывешь в гондоле и видишь дворцы дожей, дом, где жила Дездемона, дома знаменитых художников, храмы… А в храмах скульптура и живопись, какие нам и во сне не снились. Одним словом очарование.
Весь день от утра до вечера я сижу в гондоле и плаваю по улицам или же брожу по знаменитой площади святого Марка. Площадь гладка и чиста, как паркет. Здесь собор святого Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дожей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь.
А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты на гондоле… Тепло, тихо, звезды… Лошадей в Венеции нет, и потому тишина здесь, как в поле. Вокруг снуют гондолы… Вот плывет гондола, увешанная фонариками. В ней сидят контрабас, скрипки, гитара, мандолина и корнет-а-пистон, две-три барыни, несколько мужчин — и ты слышишь пение и музыку. Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков.
Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга. Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество. Великолепны усыпальницы Кановы и Тициана. Здесь великих художников хоронят, как королей, в церквах; здесь не презирают искусства, как у нас: церкви дают приют статуям и картинам, как бы голы они ни были.
Во дворце дожей есть картина, на которой изображено около 10 тысяч человеческих фигур. Сегодня воскресенье. На площади Марка будет играть музыка.
Зинаида Николаевна Гиппиус:
Мы жили там уже две недели, когда раз Мережковский, увидев в цветном сумраке св. Марка сутулую спину высокого старика в коричневой крылатке, сказал:
— А ведь это Суворин! Другой, что с ним, — Чехов. Когда они выйдут на площадь, я поздороваюсь с Чеховым. Он нас познакомит с Сувориным. Буренину я бы не подал руки, а Суворин, хоть и того же поля ягода, но на вкус иная. Любопытный человек, во всяком случае.
<…> «Страшный» Суворин <…> мне понравился. Какой живой старик! Точно ртутью налит. Флегматичный Чехов двигался около него, как осенняя муха. Это Суворин «вытащил» его за границу и явно «шапронировал», показывал ему Европу, Италию. Слегка тыкал носом и в Марка, и в голубей, и в какие-то «произведения искусства». Ироничный и умный Чехов подчеркивал свое равнодушие, нарочно «ничему не удивлялся», чтобы позлить патрона. С добродушием, впрочем: он прекрасно относился к Суворину. <…>
Всякий вечер гуляли по городу, потом шли пить «фалерно» в роскошный длинный салон суворинских апартаментов, в лучшей гостинице на Канале. Салон этот был увешан венецианскими, безрамными, зеркалами и люстрами со сверканьем стеклянных подвесок. Золотое фалерно тоже сверкало. И все были веселы. Веселее всех — Суворин. Болтал без умолку, даже на месте усидеть не мог, все вскакивал. Каждую минуту мы с ним затевали спор. Спорил горячо, убеждал, доказывал, отстаивал свое мнение и… вдруг останавливался. Пожимал плечами. Совсем другим тоном прибавлял:
— А черт его знает! Может, оно все и не так. <…> Вечера наши кончались тем, что Суворин и Чехов шли нас провожать в нашу скромную гостиницу. Я — впереди с Сувориным, за нами Чехов и Мережковский.
Дмитрий Сергеевич Мережковский:
Я восторженно говорил с Чеховым об Италии. Он шел рядом, высокий, чуть горбясь, как всегда, и тихонько усмехался. Он тоже в первый раз был в Италии. Венеция тоже была для него первым итальянским городом, но никакой восторженности в нем не замечалось. Меня это даже немного обидело. Он занимался мелочами, неожиданными, и, как мне тогда казалось, совершенно нелюбопытными. Гид, с особенной лысой головой, голос продавщицы фиалок на площади св. Марка, непрерывные звонки на итальянских станциях… а вечером, когда мы все шли по лунным улочкам Венеции в гостиницу Бауер, пить чай, и попадались там простоволосые девицы, стукающие деревянными подошвами, Чехов мне рассказывал:
— Хотелось узнать, какая тут у них последняя цена. Ко многим подходил, спрашивав «quanro?»[11] Больше все «dieci»[12]. Ну, а потом, оказывается, есть и «cinque»[13]. Ведь это около двух рублей.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Венеция, 25 марта (6 апреля) 1891 г.:
Восхитительная голубоглазая Венеция шлет всем вам привет. Ах, синьоры и синьорины, что за чудный город эта Венеция! Представьте вы себе город, состоящий из домов и церквей, каких вы никогда не видели: архитектура упоительная, все грациозно и легко, как птицеподобная гондола. Такие дома и церкви могут строить только люди, облачающие громадным художественным и музыкальным вкусом и одаренные львиным темпераментом. Теперь представьте, что на улицах и в переулках вместо мостовых вода, представьте, что во всем городе нет ни одной лошади, что вместо извозчиков вы видите гондольеров на их удивительных лодках, легких, нежных, носатых птицах, которые едва касаются воды и вздрагивают при малейшей волне. И все от неба до земли залито солнцем.
Есть улицы широкие, как Невский, и есть такие, где, растопырив руки, можно загородить всю улицу. Центр города — это площадь св. Марка с знаменитым собором того же имени. Собор великолепен, особенно снаружи. Рядом с ним — дворец дожей, где Отелло объяснялся перед дожем и сенаторами.
Вообще говоря, нет местечка, которое не возбуждало бы воспоминаний и не было бы трогательно. Например, домик, где жила Дездемона, производит впечатление, от которого трудно отделаться. Самое лучшее время в Венеции — это вечер. Во-первых, звезды, во-вторых, длинные каналы, в которых отражаются огни и звезды, в-третьих, гондолы, гондолы и гондолы; когда темно, они кажутся живыми. В-четвертых, хочется плакать, потому что со всех концов слышатся музыка и превосходное пение. Вот плывет гондола, увешанная разноцветными фонариками; света достаточно, чтобы разглядеть контрабас, гитару, мандолину, скрипку… Вот другая такая же гондола… Поют мужчины и женщины и как поют! Совсем опера. В-пятых, тепло…
Одним словом, дурак тот, кто не едет в Венецию. Жизнь здесь дешева. Квартира и стол в неделю стоят 18 франков, т. е. 6 рублей с человека, а в месяц 25 р… гондольер за час берет 1 франк, т. е. 30 коп. В музеи, академию и проч. пускают даром. В десять раз дешевле Крыма, а ведь Крым перед Венецией — это каракатица и кит.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Венеция, 26 марта (у апреля) 1891 г.:
Лупит во всю ивановскую дождь. Venezia bella перестала быть bella. От воды веет унылой скукой, и хочется поскорее бежать туда, где солнце. <…> Вчера, описывая дешевизну венецианской жизни, я немножко хватил через край. Виновата в этом г-жа Мережковская, которая сказала мне, что она с мужем платит столько-то франков в неделю. Но вместо неделю читай в день. Все-таки здесь дешево. Здешний франк здесь то же, что в России рубль. Едем во Флоренцию.
Зинаида Николаевна Гиппиус:
Начиная с Пизы, Суворин и Чехов стали нас неудержимо обгонять. Из Пизы они уехали через несколько часов, на другой же день. Во Флоренции мы их застали на кончике — Чехову Флоренция вовсе не понравилась. Ехали марш-маршем.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Флоренция, 29 марта (10 апреля) 1891 г.:
Я во Флоренции. Замучился, бегаючи но музеям и церквам. Видел Венеру Медичейскую и нахожу; что если бы ее одели в современное платье, то она вышла бы безобразна, особенно в талии. Я здоров. Небо пасмурно, а Италия без солнца, это все равно, что лицо под маской. Будьте здоровы. Ваш Antonio. Хорош памятник Данте.
Зинаида Николаевна Гиппиус:
В последний раз столкнулись в Риме, в белой церкви Сан-Паоло. Солнечный день. Голубые и розовые пятна — от цветных стекол — на белом мраморе. Опять живой и быстрый Суворин, медлительный Чехов… Уж не знаю, удалось ли ему тут, в Риме, где-нибудь «на травке полежать».
Василий Васильевич Розанов (1856–1919), писатель, философ, журналист, постоянный сотрудник газеты «Новое время». Со слов А. С. Суворина:
Антон Павлович раз приехал в Рим. С ним были друзья, литераторы. Едва передохнув, они шумно поднялись, чтобы ехать осматривать Колизей и вообще что там есть. Но Антон Павлович отказался; он расспросил прислугу, какой здесь более всего славится дом терпимости, и поехал туда. И во всяком новом городе, в какой бы он ни приезжал, он раньше всего ехал в такой дом.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Рим, 1(13) апреля 1891 г.:
Был я в храме Петра, в Капитолии, в Колизее, на Форуме, был даже в кафешантане, но не получил того наслаждения, на какое рассчитывал. Мешает погода. Идет дождь. В осеннем пальто жарко, а в летнем холодно.
Путешествие очень дешево. Можно съездить в Италию, имея только 400 руб., и вернуться домой с покупками. Если бы я путешествовал один или, положим, с Иваном, то привез бы домой убеждение, что в Италию съездить гораздо дешевле, чем на Кавказ. Но, увы, я с Сувориным… В Венеции мы жили в лучшем отеле, как дожи, здесь, в Риме, живем, как кардиналы, потому что занимаем Salon в бывшем дворце кардинала Конти, а ныне в отеле «Minerva»; две больших гостиных, люстры, ковры, камины и всякая ненужная чепуха, стоящая нам 40 франков в сутки. От хождения болит спина и горят подошвы. Ужас, сколько ходим!
Мне странно, что Левитану не понравилась Италия. Это очаровательная страна. Если бы я был одиноким художником и имел деньги, то жил бы здесь зимою. Ведь Италия, не говоря уж о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство в самом деле есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. В. Киселевой. Рим, 1(13) апреля 1891 г.:
Шатаясь по Ватикану, я зачах от утомления, а когда вернулся домой, то мне казалось, что мои ноги сделаны из ваты.
Я обедаю за table d'hote'ом. Можете себе представить, против меня сидят две голландочки: одна похожа на пушкинскую Татьяну, а другая на сестру ее Ольгу. Я смотрю на обеих в продолжение всего обеда и воображаю чистенький беленький домик с башенкой, отличное масло, превосходный голландский сыр, голландские сельди, благообразного пастора, степенного учителя… и хочется мне жениться на голландочке, и хочется, чтобы меня вместе с нею нарисовали на подносе около чистенького домика.
Видел я все и лазил всюду, куда приказывали. Давали нюхать — нюхал. Но пока чувствую одно только утомление и желание поесть щей с гречневой кашей. Венеция меня очаровала и свела с ума, а когда выехал из нее, наступили Бэдекер и дурная погода. <…>
Удивительно здесь дешевы галстухи. Ужасно дешевы, так что их даже я, пожалуй, начну есть. Франк за пару.
Завтра еду в Неаполь. Пожелайте, чтобы я встретился там с красивой русской дамой, по возможности вдовой или разведенной женой. В путеводителях сказано, что в путешествии по Италии роман непременное условие. Что ж, черт с ним, я на все согласен. Роман так роман.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Неаполь, 4 (16) апреля 1891 г.:
Везувий прячет свою вершину в облаках и бывает хорошо виден только по вечерам. Днем бывает пасмурно. Мы остановились на набережной, и нам видно все: море. Везувий, Капри, Сорренто… Днем ездили вверх, в монастырь St. Martini: отсюда вид такой, какого я никогда не видел ранее. Замечательная панорама. Нечто подобное я видел в Гонг-Конге, когда поднимался на гору по железной дороге. В Неаполе великолепный пассаж. А магазины!! У меня головокружение от магазинов. Сколько блеска! <…>
В Неаполе удивительный акварий. Есть даже акулы и спруты. Когда спрут (осьминог) жрет какое-нибудь животное, то смотреть противно. Был в парикмахерской и видел, как одному молодому человеку целый час подстригали бородку. Вероятно, жених или шулер. В парикмахерской потолок и все 4 стены зеркальные, так что кажется, что имеешь дело не с цирульней, а с Ватиканом, где 11 тысяч комнат. Стригут удивительно.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Неаполь, 7 (19) апреля 1891 г.:
Вчера я был в Помпее и осматривал ее. Это, как вам известно, римский город, засыпанный в 79 году по Рожд<еству> Хр<истову> лавою и пеплом Везувия. Я ходил по улицам сего города и видел дома, храмы, театры, площади… Видел и изумлялся уменью римлян сочетать простоту с удобством и красотою. Осмотрев Помпею, завтракал в ресторане, потом решил отправиться на Везувий. Такому решению сильно способствовало выпитое мною отличное красное вино. До подошвы Везувия пришлось ехать верхом. Сегодня по этому случаю у меня в некоторых частях моего бренного тела такое чувство, как будто я был в третьем отделении и меня там выпороли. Что за мученье взбираться на Везувий! Пепел, горы лавы, застывшие волны расплавленных минералов, кочки и всякая пакость. Делаешь шаг вперед и — полшага назад, подошвам больно, груди тяжело… Идешь, идешь, идешь, а до вершины все еще далеко. Думаешь: не вернуться ли? Но вернуться совестно, на смех поднимут. Восшествие началось в 2 1/2 часа и кончилось в 6. Кратер Везувия имеет несколько сажен в диаметре. Я стоял на краю его и смотрел вниз, как в чашку. Почва крутом, покрытая налетом серы, сильно дымит. Из кратера валит белый вонючий дым, летят брызги и раскаленные камни, а под дымом лежит и храпит сатана. Шум довольно смешанный: тут слышится и прибой волн, и гром небесный, и стук рельс, и падение досок. Очень страшно и притом хочется прыгнуть вниз, в самое жерло. Я теперь верю в ад. Лава имеет до такой степени высокую температуру, что в ней плавится медная монета.
Спускаться так же скверно, как и подниматься. По колена грузнешь в пепле. Я страшно устал. Возвращался назад верхом через деревушки и мимо дач; пахло великолепно и светила луна. Я нюхал, глядел на луну и думал о ней, т. е. о Лике Ленской.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Финальмарина, 12 (24) апреля 1891 г.:
Я еду в Ниццу по берегу моря. Только что миновал Геную. Виды великолепные, но все удовольствие портит скверная погода. Лупит дождь, небо пасмурно, земля грязная. Если и в Ницце будет такая же погода, то мы вернемся домой. Вообще благодаря погоде нашу поездку следует признать неудачной. Вчера я опять был в Риме и опять осматривал храм св. Петра. От входной двери до алтаря я сосчитал 250 шагов. <…>
Заграничные вагоны и железнодорожные порядки хуже русских. У нас вагоны удобнее, а люди благодушнее. Здесь на станциях нет буфетов.
Антон Павлович Чехов. Из письма семье. Ницца, 15 (27) апреля 1891 г.:
Живем в Ницце, на берегу моря. Солнце светит, тепло, зелено, пахнет, но ветер. На расстоянии одного часа езды от Ниццы находится знаменитое Монако; здесь есть местечко Монте-Карло, в котором играют в рулетку. Вообразите себе залы Благородного собрания, красивые, высокие и более широкие. В залах большие столы, на столах рулетка, которую я опишу Вам когда приеду. Третьего дня я ездил туда и проиграл. Игра завлекает страшно. После проигрыша я с Сувориным-фисом[14] стал думать, думал и придумал систему игры, при которой непременно выиграешь. Поехали вчера, взявши по 500 франков; с первой же ставки я выиграл пару золотых, потом еще и еще, жилетные карманы мои отвисли от золота; были у меня в руках монеты французские даже 1808 года, бельгийские, итальянские, греческие, австрийские… Никогда в другое время я не видел столько золота и серебра. Начал я играть в 5 часов, а к 10 часам у меня в кармане не было уже ни одного франка, и у меня осталось только одно: удовольствие от мысли, что я купил себе обратный билет в Ниццу. Вот как, судари мои! Вы, конечно, скажете: «Какая подлость! Мы бедствуем, а он там в рулетку играет». Совершенно справедливо, и я разрешаю Вам зарезать меня. Но я лично очень доволен собой. Но крайней мере я могу теперь говорить своим внукам, что я в рулетку играл и знаком с тем чувством, какое возбуждается этой игрою. Около казино с рулеткой есть другая рулетка — это рестораны. Дерут здесь страшно и кормят великолепно. Что ни порция, то целая композиция, перед которой в благоговении нужно преклонять колена, но отнюдь не осмеливаться есть ее. Всякий кусочек изобильно уснащен артишоками, трюфлями всякими соловьиными языками… И, Боже Ты мой Господи, до какой степени презренна и мерзка эта жизнь с ее артишоками, пальмами, запахом померанцев! Я люблю роскошь и богатство, но здешняя рулеточная роскошь производит на меня впечатление роскошного ватерклозета. В воздухе висит что-то такое, что, вы чувствуете, оскорбляет вашу порядочность, опошляет природу, шум моря, луну. Был я вчера в воскресенье в здешней русской церкви. Особенности: вместо вербы — пальмовые ветви, вместо мальчиков в хоре поют дамы, отчего пение приобретает оперный оттенок, на тарелочку кладут иностранную монету, староста и сторожа церковные говорят по-французски и т. п. Великолепно пели «Херувимскую» № 7 Бортн<янского> и простое «Отче наш».
Из всех мест, в каких я был доселе, самое светлое воспоминание оставила во мне Венеция. Рим похож в общем на Харьков, а Неаполь грязен. Море же не прельщает меня, так как оно надоело мне еще в ноябре и декабре. Черт знает что, оказывается, что я не прерывно путешествую целый год. Не успел вернуться из Сахалина, как уехал в Питер, а потом опять в Питер и в Италию…
Антон Павлович Чехов. Из письма семы. Париж, 22 апреля (3 мая) 1891 г;
Сегодня Пасха. Стало быть, Христос воскрес! Это первая Пасха, которую провожу я не дома.
Приехал я в Париж в пятницу утром и тотчас же поехал на выставку. Да, Эйфелева башня очень, очень высока. Остальные выставочные постройки я видел только снаружи, так как внутри находилась кавалерия, приготовленная на случай беспорядков. В пятницу ожидались волнения. Народ толпами ходил по улицам, кричал, свистал, волновался, а полицейские разгоняли его. Чтобы разогнать большую толпу, здесь достаточно десятка полицейских. Полицейские делают дружный натиск, и толпа бежит, как сумасшедшая. В один из натисков и я сподобился: полицейский схватил меня за лопатку и стал толкать вперед себя.
Масса движения. Улицы роятся и кипят. Что ни улица, то Терек бурный. Шум, гвалт. Тротуары заняты столиками, за столиками — французы, которые на улице чувствуют себя, как дома. Превосходный народ. Впрочем, Парижа не опишешь, отложу его описание до моего приезда. Заутреню слушал в посольской церкви.
Александр Алексеевич Плещеев (1858–1944). журналист, драматург, балетный критик, издатель журналов «Театральный мирок» (1884–1885), «Невод» (1906–1907), газеты «Петербургский дневник театрала» (1904–1905). Сын поэта А. Н. Плещеева:
Как-то в Париже, в отеле «Мирабо», я встретил Антона Павловича у моего отца и был несказанно обрадован этому. В то время у меня были средства, а с ними Париж представлялся много соблазнительнее, чем без них…
— Говорят, погуливаете вы здесь? — спросил меня Чехов.
— Обожаю Париж, Антон Павлович, осматриваю…
— А что бы меня позвать, да показать.
— Хотите, Антон Павлович, завтра обедать вместе, а потом посмотрим разные кабачки?
— Очень хочу.
Так мы и решили, чтобы встретиться на другой день и пойти обедать.
— Меня Суворин звал провести вечер с ним, обедать, но мы все время вместе. — говорил Чехов, — а с вами-то будет посвободнее.
Между прочим, я рассказывал Чехову, как с одним приятелем осматривал ночной Париж, для чего, в качестве журналиста, обращался к начальнику сыскной полиции Горону, который поручил своему агенту Росиньолю сопровождать нас и показать всевозможные вертепы Парижа. Чехова это заинтересовало, и он пожелал последовать моему примеру, желал осмотреть самый низкий пласт парижской жизни, а пока что условились исследовать средний ее пласт.
На другой день я обедал с Чеховым и с приглашенным мною другом детства доктором-психиатром В. П. Тишковым. <…> Ели умеренно, а на напитки приналегли, начав с отечественного нектара — водки. А потом, как говорится, пошла писать губерния. Как из земли вырос около нас какой-то чичероне, рекомендованный внимательным к иностранной клиентуре ресторатором. Колесили мы с ним по Парижу — всю ночь. Начали с «Мулен Руж», где смотрели танцы модной тогда танцовщицы Гулю. Она танцевала среди публики со своими товарками, причем каждая вытягивала ногу к плечу, словно солдат брал ружье на плечо. Потом соединяли ноги в воздухе и замирали в группе под аплодисменты публики.
Антон Павлович, не считаясь с сознанием, что алкоголь ему вреден, потягивал вино, а коллега Титиков подбадривал его и люто аккомпанировал ему.
— Не превратиться бы нам в двух нотариусов из «Периколы»! — заметил Чехов Тишкову. — ну да — Александр Алексеевич поддержит… он крепче нас.
Попали еще в какой-то кабачок. Появились, разумеется, женщины, и вижу, как сейчас, бледного Антона Павловича, беседовавшего с одной из них. Он вынул из кармана золотой и подарил ей, сказав, приблизившись ко мне и Тишкову:
— У нее есть дочь.
И больше ни слова о ней. Я последовал его примеру и в свою очередь поддержал стройную женщину, цвет кожи которой был бронзоватым, а лицо усталым, не спавшим.
Чеховский отклик на ее жалобы не поднял ее духа и мало тронул ее. Искренна она была или нет, никто не знал.
Поехали дальше в какой-то притон, где под звуки скрипки и трубы вальсировал подозрительный и темный Париж. Спросили ликер. Я был здесь раньше с Росиньолем.
Под утро, когда светало, пили кофе где-то у центрального рынка. И Чехов и Тишков позеленели, да и я, вероятно, тоже, хотя чувствовал себя бодрее их. Прошлись по рынку, откуда несло вкусными ароматами свежих овощей.
Я проводил приятелей до гостиницы, где они жили, и на другой день мы не виделись. Через день встретил на Итальянском бульваре А. С. Суворина. Он ворчал и надулся. Совсем Грозный.
— Что вы сделали с Чеховым? Вы ведь его чуть не уморили? И теперь еще у него голова болит и он едва ходит! — набросился на меня Суворин. — Нет, нет, больше вы его, пожалуйста, не приглашайте! — Суворин, помимо того, был недоволен, что Чехов променял его на нашу компанию.
Антон Павлович не жаловался при встрече со мной на недомогание, а только благодарил, причем сознался, что очень много совсем не помнит. Я сказал, что мне за него влетело от А. С. Суворина.
— Ревнует старик, — смеялся Чехов. — Сердился, что обедал один. Он думал, что я умираю, голова болела, а так чувствую себя ничего.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. И. Урусову. Москва, 3 мая 1891 г.:
Многоуважаемый Александр Иванович, Ваше письмо, где Вы приглашаете меня на чашку чая «с последствиями», я получил только вчера, вернувшись из Содома и Гоморры. Пока мы не виделись, я успел побывать в Италии, в Париже, Ницце, Берлине, Вене… В Париже видел голых женщин.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину Алексин, 10 мая 1891 г.:
Я тоже скучаю по Венеции и Флоренции и готов был бы еще раз взобраться на Везувий; Болонья же стерлась в моей памяти и потускнела, что же касается Ниццы и Парижа, то, вспоминая о них, «я с отвращением читаю жизнь мою».
«Мелиховское сидение»
Михаил Павлович Чехов:
Зимою 1892 года <…> Чехов стал землевладельцем. Прочитав в газете объявление о продаже какого-то имения близ станции Лопасня Московско-Курской железной дороги, сестра и я отправились его смотреть. Никто никогда не покупает имения зимою, когда оно погребено под снегом и не представляется ни малейшей возможности осмотреть его подробно, но мы оба были тогда совсем непрактичны, относились доверчиво ко всем, а главное — Антон Павлович поставил нам ультиматум, что если имение не будет куплено теперь же, то он уедет за границу, и потому мы, по необходимости, должны были спешить. От станции имение отстояло в 12–13 верстах, и какова была к нему дорога, можно ли было по ней проехать в слякоть, — этого мы узнать не могли, так как ехали на санях по глубокому снегу, по пути, накатанному напрямик. К тому же ямщики, которые возили покупателей осматривать это имение, считали себя обязанными его расхваливать. Мы приехали. Все постройки были выкрашены в яркие, свежие цвета, крыши были зеленые и красные, и на общем фоне белого снега усадьба производила довольно выгодное впечатление. Но в каком состоянии находились леса, были ли они еще на корню или состояли из одних только пней, мы этого узнать не могли, да, признаться, это нас и не интересовало. Мы верили. Нужна была усадьба более или менее приличная, чтобы можно было в нее въехать немедленно, а эта усадьба, по-видимому, такому требованию могла удовлетворить. <…> Называлась эта усадьба «Мелихово» и находилась в Серпуховском уезде Московской губернии.
Мы вернулись домой, рассказали, и тут же было решено это Мелихово купить. <…> Брат Антон уплатил за имение деньги, так сказать, зажмурившись, ибо до покупки он не побывал в Мелихове ни разу: он въехал в него уже тогда, когда все формальности были закончены. <…>
Едва только сошел снег, как уже роли в хозяйстве были распределены: сестра принялась за огород и сад, я — за полевое хозяйство, сам Антон Павлович — за посадку деревьев и уход за ними. Отец с утра и до вечера расчищал в саду дорожки и проводил новые; кроме того, на нем лежала обязанность вести дневник: за все долгие годы «мелиховского сидения» он вел его самым добросовестным образом изо дня в день, не пропуская записи ни одного числа. <…>
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва, 17 марта 1892 г.:
Жить в деревне неудобно, началась несносная распутица, но в природе происходит нечто изумительное, трогательное, что окупает своею поэзией и новизною все неудобства жизни. Каждый день сюрпризы один лучше другого. Прилетели скворцы, везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава. День тянется, как вечность. Живешь, как в Австралии, где-то на краю света; настроение покойное, созерцательное и животное в том смысле, что не жалеешь о вчерашнем и не ждешь завтрашнего. Отсюда издали люди кажутся очень хорошими, и это естественно, потому что, ухода в деревню, мы прячемся не от людей, а от своего самолюбия, которое в городе около людей бывает несправедливо и работает не в меру. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так хорошо, что я суеверно осаживаю себя и вспоминаю о своих кредиторах, которые когда-нибудь выгонят меня из моей благоприобретенной Австралии.
Михаил Павлович Чехов:
Нового землевладельца увлекало все: и посадка луковиц, и прилет грачей и скворцов, и посев клевера, и гусыня, высидевшая желтеньких пушистых гусенят. С самого раннего утра, часто даже часов с четырех, Антон Павлович был уже на ногах. Напившись кофе, он выходил в сад и подолгу осматривал каждое фруктовое дерево, каждый куст, подрезывал его или же долго просиживал на корточках у ствола и что-то наблюдал. Земли оказалось больше, чем нужно, и пришлось поневоле вести полевое хозяйство, но работали общими силами, без всяких приказчиков и управляющих, и работы эти составляли для нас удовольствие и потребность, хотя и не обходилось, конечно, без разочарований.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 31 марта 1892 г::
Во мне все-таки говорит хохлацкая кровь. Я велел убрать из колодца культурный насос, взвизгивающий, когда качают воду, и хочу поставить скрипящий журавль, который у здешних мужиков будет вызывать недоумение. Велел я также людскую выбелить. «Велел» — это уж очень по-помещицки; вернее — попросил, так как все работы по окраске, починке всяких мелочей и проч. несут мои домочадцы с Мишей во главе. Парники засадили и засеяли сами, без наемников; весною деревья будем сажать тоже сами, и огород тоже. Все-таки экономия! В первое время меня всего ломало от физического труда, теперь же ничего, привык. Как работник и помощник я решительно ничего не стою. Только и умею снег в пруд бросать да канавки копать. А вбиваю гвоздь — криво выходит.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Дом был весь приведен в порядок, заново окрашен, оклеен, кое-где перестроен, выведена отдельная кухня. Мелихово стало настоящей «чеховской усадьбой»: не романтический тургеневский уголок с беседкой «Миловидой» и «Эоловой арфой», не щедринская деревня с страшными воспоминаниями — но и не «дача», хотя все и было новое. Новый низкий дом без всякого стиля, но с собственным уютом. Лучшая комната отведена была А.П. под кабинет. Большая, с огромными венецианскими окнами, с тамбуром, чтобы не дуло, с камином и большим турецким диваном. Зимой окна до половины заносило снегом. Иногда зайцы заглядывали в них из сугробов, становясь на задние лапки, причем Чехов говорил Лике, что это они любуются на нее. А весной — в окна смотрели цветущие яблони, за которыми ухаживал сам А.П. <…>
Сам Чехов очень полюбил Мелихово. В мелиховской обстановке он совсем преображался, и там я никогда не видела у него того рассеянного, отсутствующего взгляда, как в Москве. И в Мелихове — он уже был не зрителем, а активно действующим лицом. Пожалуй, самые светлые его годы связаны с Мелиховым. После тяжелого детства, лишений и скудости, беготни за трехрублевыми гонорарами, скитаний по дешевым квартиренкам — он вдруг ощутил, что у него есть свой дом, которого не надо менять, из которого не надо торопиться…
Мария Тимофеевна Дроздова:
Деревня примыкала к усадьбе почти вплотную, деревня убогая, без садов, без зелени, только и было красок, что от красующейся на частоколах стираной одежды. На краю стояла каменная, но обветшалая церковь. На паперти, на припеке, меж разрушенных плит торчала высохшая полынь, на могилах тоскливо торчали поломанные кресты.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 6 апреля 1892 г.:
Тут все в миниатюре: маленькая липовая аллея, пруд величиною с аквариум, маленькие сад и парк, маленькие деревья, но пройдешься раз-другой, вглядишься — и впечатление маленького исчезает. Очень просторно, несмотря даже на близкое соседство деревни. Кругом много леса. Изобилие скворцов. А скворец может с полным правом сказать про себя: пою Богу моему, дондеже есмь. Он поет целый день, не переставая.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Не могу сказать, чтобы места около Мелихова были особенно красивы: но большая, чисто русская прелесть была в просторе полей, в темно-синей полосе леса на горизонте, в алых закатах, ложившихся на полосы сжатого хлеба. И когда мы сидели на его любимой завалинке перед воротами, смотревшей прямо в поле, глаза А.П. утрачивали свойственную ему грусть и были ясны и спокойны. «Глушь, тишина, лоси…» — писал он об этих местах и ценил их. Соседство деревни не мешало ему. С крестьянами отношения сразу установились самые хорошие.
Михаил Павлович Чехов:
Иногда до нашего слуха долетали такие фразы мелиховских крестьян:
— Что и говорить, господа старательные!..
— А что, это настоящие господа или не настоящие?
Антон Павлович съездил в Москву и привез от Сытина целый ящик его народных изданий. Книги были сданы в людскую. Каждый вечер грамотей Фрол собирал вокруг себя всю дворню и читал вслух. «Капитанская дочка» Пушкина и «Аммалат-Бек» Марлинского приводили горничных Машу и Анюту в восторг, а старая кухарка Марья Дормидонтовна, доживавшая у нас век, заливалась в три ручья.
Михаил Осипович Меньшиков:
Под вечер, когда крестьяне возвращались с поля, Чехов провел меня по деревне. Заходили в избы, останавливались со встречными. В поклонах мужиков, в разговорах чувствовались почти семейные, деловые и вместе с тем сердечные отношения. Ни тени сентиментальности. Я слышал, что Чеховы — вся семья — делают много добра крестьянам, но озорства не любят. Как-то вечером, в темную августовскую ночь в саду у Чехова грянуло два выстрела. «Воров пугаем, — заметил Чехов, — яблоки воруют». «Но если попадут в человека?» — спросил я. «Да выстрелы холостые. Это сторож придумал для своего престижа». Каждый день ходили к Чехову лечиться, иногда издалека. Ходили за юридическими советами, отнимали время.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 15 мая 1892 г.:
Мужиков и лавочников я уже забрал в свои руки, победил. У одного кровь пошла горлом, другой руку деревом ушиб, у третьего девочка заболела… Оказалось, что без меня хоть в петлю полезай.
Кланяются мне почтительно, как немцы пастору, а я с ними ласков — и все идет хорошо.
Михаил Павлович Чехов:
С первых же дней, как мы поселились в Мелихове, все кругом узнали, что Антон Павлович — врач. Приходили, привозили больных в телегах и далеко увозили самого писателя к больным. С самого раннего утра перед его домом уже стояли бабы и дети и ждали от него врачебной помощи. Он выходил, выстукивал, выслушивал и никого не отпускал без лекарства; его постоянной помощницей, «ассистентом» была сестра Мария Павловна. Расход на лекарства был порядочный, так что пришлось держать на свои средства целую аптеку. Я развешивал порошки, делал эмульсии и варил мази, и не раз, принимая меня за «фершала», больные совали мне в руку пятачки, а один дьячок дал даже двугривенный, и все искренне удивлялись, что я не брал. Будили Антона Павловича и по ночам. Я помню, как однажды среди ночи проезжавшие мимо Мелихова путники привезли к нам человека с проколотым вилами животом, которого они подобрали по дороге. Мужик был внесен в кабинет, в котором на этот раз я спал, положен среди пола на ковре, и Антон Павлович долго возился с ним, исследуя его раны и накладывая повязки.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Антон Павлович иногда уезжал за шесть верст в мужской монастырь, когда там бывали большие базары, по престольным праздникам. Он привозил деревенским детишкам гостинцы: девочкам — копеечные куколки, мальчикам — лошадки на колесиках. Оборвется ли у куколки фартучек, приклеенный клеем, и уже какая-нибудь девчушка стоит у окошка Антона Павловича с просьбой починить. Антон Павлович отрывается от работы, берет синдетикон и терпеливо приводит в порядок отставшее или сломанное. К большим праздникам Мария Павловна шила детворе из веселеньких цветных ситчиков платьица, — на это время всегда находилось.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 6 апреля 1892 г:
У нас Пасха. Церковь есть, но нет причта. Собрали со всего прихода 11 рублей и наняли иеромонаха из Давыдовской пустыни, который начал служить с пятницы. Церковь ветхая, холодная, окна с решетками, плащаница — это доска в 1 1/2 аршина длиною с тусклым изображением. Пасхальную утреню пели мы, т. е. моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так торжественно. Вчера во весь день сияло солнце; было тепло. Утром я пошел в поле, с которого уже сошел снег, и полчаса провел в отличнейшем настроении: изумительно хорошо! Озимь уже зеленая, а в лесу травка.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Жизнь в доме весной и летом начиналась рано, в пять часов. Еще роса не сошла, а Антон Павлович — уже в саду, совсем одетый, с лейкой, поливая свои любимые розы или заботливо обирая гусениц. В шесть часов утра под окнами слышался сдержанный разговор больных. В восемь часов утра все собирались к утреннему чаю. Антон Павлович обыкновенно наскоро пил кофе и уходил в свой кабинет работать. Вскоре вся семья также оставляла столовую, и каждый шел по своим делам. А работы было много в этом доме: кто идет полоть огород или цветник, кто — приготовлять лекарства по просьбе Антона Павловича.
Михаил Павлович Чехов:
Вставая рано, с солнцем, наша семья и обедала рано: в двенадцать часов дня. Антон Павлович купил колокол и водрузил его в усадьбе на высоком столбе. Раз в сутки, ровно в двенадцать часов дня, Фрол или кто-нибудь вместо него должен был отбить двенадцать ударов, и вся округа по радиусу верст в шесть-семь, услышав этот колокол, бросала работу и садилась обедать. Уже в одиннадцать часов утра, успев наработаться и пописать вдоволь, Антон Павлович приходил в столовую и молча, но многозначительно взглядывал на часы. Мать тотчас же вскакивала из-за швейной машинки и начинала суетиться:
— Ах, батюшки. Антоша есть хочет! Начиналось дерганье звонка в кухню, находившуюся в отдельном помещении. Прибегала Анюта или Маша и начинались приготовления к обеду. «Скорей, скорей!» Но вот уже стол накрыт. Совсем идиллическая картина! От множества разных домашних закусочек, приготовленных заботливой рукой Евгении Яковлевны, положительно нет на столе места. <…> Нет места и за столом. Кроме пятерых постоянных членов семьи, обязательно обедают и чужие.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Самыми веселыми часами в Мелихове были трапезы, к которым А.П. выходил всегда в хорошем расположении духа, приветливый и ласковый. Он не выносил на люди ни своих бессонных ночей, ни сосредоточенности творческих часов. Шутил, смеялся и был радушным хозяином. Звал обедающих «к мутному источнику» — это выражение вошло в обиход и имеет свою историю. Как-то Павел Ег. ездил со мной в воскресенье в церковь; деревенский батюшка говорил крестьянам проповедь, которая очень понравилась ему; вернувшись, он сказал:
— Вот, Антон, ты никогда в церковь не ходишь, а какую батюшка хорошую проповедь сказал — приятно было слушать!
А.П. серьезно, но со смеющимися глазами попросил меня рассказать ему содержание проповеди — «что в ней так понравилось папаше?». Проповедь гласила приблизительно следующее: «Что бы вы сказали, — обращался батюшка к прихожанам, — если бы вы увидели путника, томимого жаждой, и рядом с ним два источника — один прозрачно чистый, другой же мутный и загрязненный, и вдруг путник для утоления жажды пренебрегает чистым источником и утоляет свою жажду из мутного? Вы бы назвали его неразумным! Но не то же ли самое делаете и вы, когда в праздничный отдых свой, вместо того чтобы идти к чистому источнику церковной службы, душеспасительного чтения — отправляетесь в кабак и там напиваетесь?..» и т. д. <…> А.П. выслушал и, почтительно похвалив проповедь, сказал:
— Ну, а теперь пойдемте к мутному источнику, ибо по берегам его растут великолепные соленые грузди!
С тех пор выражение это и получило право гражданства.
После обеда обыкновенно начиналась игра с собаками. В доме жили две таксы, любимицы А.П.: коричневая Хина Марковна, которую он звал страдалицей (так она разжирела) и уговаривал «лечь в больницу»: «Там-ба-б вам-ба-б полегчало-ба-б!» — и Бром Исаич, о котором А.П. говорил, что у него глаза Левитана: и действительно, у него были скорбные, темные-темные глаза.
Любимая игра была дразнить собак моим собольком, которого я носила на шее. Собаки сходили с ума и лаяли, прыгая кругом него. Мне надоел шум, да я и боялась за судьбу моего соболька, и я спрятала его. После этого стало меня удивлять, что собаки так же яростно лаяли, как только А.П. укажет им на сигарную коробку, стоявшую на камине. Так и заливаются, так и рвутся к коробке! Оказалось, что А.П. потихоньку стащил моего соболька из комода и спрятал его в эту коробку.
Михаил Павлович Чехов:
После обеда Чехов уходил в спальню, запирался там и обдумывал сюжеты, если его не прерывал Морфей. А затем с трех часов дня и вплоть до семи вечера грудились снова.
Евгения Михайловна Чехова:
В Мелихове подолгу и часто гостил старый друг семьи Александр Игнатьевич Иваненко. Однажды Антон Павлович поручил ему произвести «инвентаризацию» усадьбы.
Иваненко составил шутливую опись, в которой, после перечисления тарантасов, саней, беговых дрожек, плутов и прочего, о лошадях, носивших любопытные клички, сказано так: «По Мелиховским дорогам на 1 июня состязались: Киргиз 8 лет. Перегнал курьерский поезд 100 раз и сбросил владельца столько же раз. Мальчик 5 лет. Дрессированная лошадь, изящно танцует в запряжке. Анна Петровна 98 лет. По старости бесплодна, но подает надежды каждый год. Казачка 10 лет. Не выносит удилов». Далее следует описание свиней, уток, кур, собак. Две таксы, подаренные Лейкиным, выделены особо: «Хина Марковна отличается тучностью и неподвижностью. Ленива и ехидна. Бром Исаевич отличается резвостью и ненавистью к Белолобому. Благороден и искренен». В заключение рукописи сказано о хозяевах: «Павел Егорович Чехов и его супруга Евгения Яковлевна Чехова: счастливейшие из смертных. В законном супружестве состоят 42 года. Ура! Дети их: Антон Павлович Чехов: законный владелец Мелиховского царства, Сазонихи, Стружкина, царь Мидийский и пр. и пр., он же писатель и доктор. Мария Павловна Чехова: добра, умна, изящна, красива, грациозна, вспыльчива и отходчива, строга, но справедлива. Любит конфеты и духи, хорошую книжку, хороших умных людей. Не влюбчива. Избегает красивых молодых людей и т. д.».
Михаил Павлович Чехов:
Самое веселое время в Мелихове — это были ужины. За ними, устав за день, вся семья отдыхала и велись такие разговоры, на какие был способен один только Антон Павлович, да еще в присутствии «прекрасной Лики», когда она приезжала. Затем в десять часов вечера расходились спать. Тушились огни, и все в доме затихало, и только слышно было негромкое пение и монотонное чтение Павла Егоровича, любившего помолиться.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Когда в Мелихово приезжали гости, которые были Антону Павловичу приятны, он превращался в заботливого хозяина и проявлял самое радушное гостеприимство и, главное, — заботу о том, чтобы все были сыты и хорошо спали.
В изданных письмах А.П. он часто упоминает о том, что я пел в Мелихове. Это правда. Музыкой и пением в Мелихове были наполнены наши дни. Хорошая музыкантша Л. С. Мизинова, большая приятельница А.П. и всей его семьи, садилась за рояль, я пел. А Антон Павлович обыкновенно заказывал те вещи, которые ему особенно нравились. Большим расположением его пользовался Чайковский, и его романсы не сходили с нашего репертуара.
Но в письмах А.П. стыдливо умолчал о том, что и он сам пел, — правда, не романсы, а церковные песнопения. Им научился он в детстве, когда под руководством отца пел в церкви. У него был довольно звучный басок. Он отлично знал церковную службу и любил составлять домашний импровизированный хор. Пели тропари, кондаки, стихири, пасхальные ирмосы. Присаживалась к нам и подпевала и Марья Павловна, сочувственно гудел Павел Егорыч, а Антон Павлович основательно держал басовую партию.
И это, видимо, доставляло ему искреннее удовольствие. Глядя на его лицо, казалось, что в такие часы он чувствовал себя ребенком.
Михаил Павлович Чехов:
Иногда он любил совершать прогулку по своему «герцогству» или в ближайший монастырь — Давыдову пустынь. Запрягали тарантас, телегу и беговые дрожки. Антон Павлович надевал белый китель, перетягивал себя ремешком и садился на беговые дрожки. Сзади него, бочком, помещались Лика или Наташа Линтварева и держались руками за этот ремешок. Белый китель и ремешок давали Антону Павловичу повод называть себя гусаром. Компания трогалась; впереди ехал на беговых дрожках «гусар», а за ним — телега и тарантас, переполненные гостями.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Гости в мелиховском доме не переводились: друзья, почитатели, поклонницы. В конце концов это начало утомлять Антона Павловича. До обеда всех принимала Мария Павловна, и, несмотря на все радушие, это часто тяготило ее, так как многие из приезжающих под каким-нибудь предлогом, чтобы повидать Чехова, были люди совершенно незнакомые и не подходящие к чеховскому дому по духу. Бесцеремонность ненужных посетителей порой удручала весь дом. От таких гостей все стремились как-нибудь спрятаться, уйти, и незваный гость оставался один. Был однажды такой случай, что одному назойливому гостю, которому сказали, что Чехов уехал на целую неделю, пришлось загородить в дверях путь в комнату Антона Павловича, где Чехов едва успел спрятаться за гардеробом; гость настойчиво желал осмотреть хотя бы жилище писателя, если уж нельзя посмотреть самого хозяина.
Иван Леонтьевич Щеглов:
То приезжает целая замоскворецкая семья, будто бы, «чтобы насладиться беседой бесценного Антона Павловича», а в сущности для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от московской сутолоки, и заставляющая исполнять Чехова роль чичероне мелиховских окрестностей… То является какая-нибудь профессорская чета, говорящая без умолку с утра до вечера и жалующаяся на другой день Чехову, что им мешало спать пение петуха и мычание коровы… То налетает тройка совершенно незнакомых студентов, — по словам последних, «исключительно затем, чтобы справиться о драгоценном здоровье Антона Павловича», — и остающаяся на двое суток, и т. д., и т. д.
Михаил Павлович Чехов:
Вваливались охотники с собаками, желавшие поохотиться в чеховских лесах; одна девица, с головою, как определил Антон Павлович, «похожей на ручку от контрабаса», с которой ни он сам, ни его семья не имели ровно ничего общего, приезжала в Мелихово, беззастенчиво занимала целую комнату и жила целыми неделями. Когда кто-нибудь из домашних деликатно замечал ей, что пора, мол, понять, в чем дело, то она немедленно отвечала: — Я в гостях у Антона Павловича, а не у вас.
Очень часто приезжал сосед, который донимал своим враньем и ни одной фразы не начинал без того, чтобы не оговориться заранее: — Хотите — верьте, хотите — нет… И так далее.
Михаил Павлович Чехов:
В Мелихове у Антона Павловича, вероятно, от переутомления расходились нервы — он почти совсем не спал. Стоило только ему начать забываться сном, как его «дергало». Он вдруг в ужасе пробуждался, какая-то странная сила подбрасывала его на постели, внутри у него что-то обрывалось «с корнем», он вскакивал и уже долго не мог уснуть.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Я не знаю, как он работал, когда был один. Этого, кажется, никто не знал. Может быть, тогда он сидел за столом не отрываясь. Но в те дни, когда в Мелихове бывали гости, он почти все время был с ними.
Но, несомненно, он и тогда работал. Творческая деятельность не покидала его ни на минуту. И случалось, что во время шумного разговора или музыки он вдруг исчезал, но не надолго: через несколько минут он появлялся, и оказывалось, что в это время он был у себя в кабинете, где написал две-три строчки, которые сложились в его голове. Так делал он довольно часто в течение дня.
Но вечером, когда, около полуночи, все расходились по своим комнатам, ложились в постели и в доме потухали огни, в его кабинете долго еще горела лампа. Тогда он работал, как хотел, иногда засиживаясь долго, а на другой день вставал позже других…
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 28 мая 1892 г.:
У нас жарко. Идут теплые дожди. Вечера восхитительные. В версте от меня хорошее купанье и хорошие места для пикников, но нет времени ни купаться, ни на пикники ездить. Или пишу со скрежетом зубовным, или же решаю грошовые вопросы с плотниками и работниками. Мише от начальства была жестокая распеканция за то, что он но неделям проживает у меня и не сидит у себя дома, и теперь мне одному приходится заниматься хозяйством, в которое я не верю, так как оно мизерно и похоже больше на барскую забаву, чем надело. Купил я три мышеловки и ловлю мышей по 25 штук в день и уношу их в лес. В лесу прекрасно. Помещики ужасно глупо делают, что живут в парках и фруктовых садах, а не в лесах. В лесу чувствуется присутствие божества, не говоря уж о том, что жить в нем выгодно — не бывает порубок и уход за лесом сподручнее. <…> Лесные просеки величественнее, чем аллеи.
Михаил Павлович Чехов:
К первой же осени вся усадьба стала неузнаваема. Были перестроены и выстроены вновь новые службы, сняты лишние заборы, посажены прекрасные розы и разбит цветник, и в поле, перед воротами, Антон Павлович затеял рытье нового большого пруда. С каким интересом мы следили за ходом работ! С каким увлечением Антон Павлович сажал вокруг пруда деревья и пускал в него тех самых карасиков, окуньков и линей, которых привозил с собой в баночке из Москвы и которым давал обещание впоследствии «даровать конституцию». Этот пруд походил потом больше на ихтиологическую станцию или на громадный аквариум, чем на пруд: каких только пород рыб в нем не было! <…>
Зима 1893 года была в Мелихове суровая, многоснежная. <…> Расчищенные в саду дорожки походили на траншеи. Мы зажили монастырской жизнью отшельников. Мария Павловна уезжала в Москву на службу, так как была в это время учительницей гимназии, в доме оставались только брат Антон, отец, мать и я, и часы тянулись необыкновенно долго. Ложились еще раньше, чем летом, и случалось так, что Антон Павлович просыпался в первом часу ночи, садился заниматься и затем укладывался под утро спать снова. Он в эту зиму много писал.
Но как только приезжали гости и возвращалась из Москвы сестра Маша, жизнь круто изменялась. Пели, играли на рояле, смеялись. Остроумию и веселости не было конца. Евгения Яковлевна напрягала все усилия, чтобы стол по-прежнему ломился от яств; отец с таинственным видом выносил специально им самим заготовленные настоечки на березовых почках и на смородинном листу и наливочки, и тогда казалось, что Мелихово имеет что-то особенное, свое, чего не имели бы никакая другая усадьба и никакая другая семья.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Обыкновенно кто бы ни приезжал — привозил почту, захваченную попутно на станции Лопасня. Антон Павлович любил получать почту. Она была очень обильная: газеты, журналы, какие у нас только выходили, много писем чуть не со всего света. <…>
Особенно ждали почту в осенние вечера. Но если ее привозили во время ужина, то, пока он не кончится, письма лежали под рукой Антона Павловича нераспечатанные.
Антон Павлович Чехов. Из письма Ал. П. Чехову. Мелихово, 21 октября 1892 г.:
Собравши плоды земные, мы тоже теперь сидим и не знаем, что делать. Снег. Деревья голые. Куры жмутся к одному месту. Чревоугодие и спанье утеряли свою прелесть; не радуют взора ни жареная утка, ни соленые грибы. Но как это ни странно, скуки совсем нет. Во-первых, просторно, во-вторых, езда на санях, в-третьих, никто не лезет с рукописями и с разговорами, и, в-четвертых, сколько мечтаний насчет весны! Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень. В головах кишат планы. Да, атавизм великая штука. Коли деды и прадеды жили в деревне, то внукам безнаказанно нельзя жить в городе. В сущности, какое несчастье, что мы с детства не имели своего угла.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину Мелихово, 22 октября 1892 г.:
Днем валит снег, а ночью во всю ивановскую светит луна, роскошная, изумительная луна. Великолепно. Но тем не менее все-таки я удивляюсь выносливости помещиков, которые поневоле живут зимою в деревне. Зимою в деревне до такой степени мало дела, что если кто не причастен так или иначе к умственному труду, тот неизбежно должен сделаться обжорой и пьяницей или тургеневским Пегасовым. Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая тишина днем и ночью, бабы, старухи — все это располагает к лени, равнодушию и к большой печени.
Михаил Павлович Чехов:
Переселение Антона Павловича из Москвы в Мелихово на постоянное жительство и весть о том, что вот-де там-то поселился писатель Чехов, повели неминуемо к официальным знакомствам. Кончилось дело тем, что Антона Павловича (и меня) выбрали в члены санитарного совета. Таким образом, началась земская деятельность писателя. Он стал принимать непосредственное участие в земских делах, строил школы, причем ему помогала в этом наша сестра Мария Павловна, проводил шоссе, заведовал холерными участками, и ни одно, даже самое маленькое общественное дело не проходило мимо его внимания. В этом отношении он целиком походил на нашего дядю Митрофана Егоровича. То и дело к нему приходил то с той, то с другой казенной бумагой сотский, и каждая такая бумага звала его к деятельности.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 8 декабря 1892 г.:
Ах, если б Вы знали, как я утомлен! Утомлен до напряжения. Гости, гости, гости… Моя усадьба стоит как раз на Каширском тракте, и всякий проезжий интеллигент считает должным и нужным заехать ко мне и погреться, а иногда даже и ночевать остаться. Одних докторов целый легион! Приятно, конечно, быть гостеприимным, но ведь душа меру знает. Я ведь и из Москвы-то ушел от гостей.
1892. Холерный год
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Известность его как врача быстро росла, скоро его выбрали в члены серпуховского санитарного совета. Тем временем на Россию надвинулась холера. Ему, как врачу и члену совета, предложили взять на себя заведывание санитарным участком. Он тотчас же согласился и, конечно, безвозмездно.
Антон Павлович Чехов. Ил письма Н. А. Лейкину. Мелихово, 13 июля 1892 г.:
По случаю холеры, которая еще не дошла до нас, я приглашен в санитарные врачи от земства, дан мне участок, и я теперь разъезжаю по деревням и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда. О литературной работе и подумать некогда. В 1848 г. в моем участке была холера жестокая; рассчитываем, что и теперь она будет не слабее, хотя, впрочем, Божья воля. Участки велики, так что все время у врачей будет уходить только на утомительные разъезды. Бараков нет, трагедии будут разыгрываться в избах или на чистом воздухе. Помощников нет. Дезинфекции и лекарств обещают безгранично. Дороги скверные, а лошади у меня еще хуже. Что же касается моего здравия, то я уж к полудню начинаю чувствовать утомление и желание завалиться спать. Это без холеры, а что будет при холере, посмотрим.
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. М. Линтваревой. Мелихово, 22 июля 1892 г.:
Я злюсь, как цепной пес; у меня 23 деревни, а до сих пор я не получил еще ни одной койки и, вероятно, никогда не получу фельдшера, которого мне обещали в Санитарном совете. Езжу по фабрикам и выпрашиваю как милостыни помещения для своих будущих пациентов. В разъездах я от утра до вечера и уже утомился, хотя холеры еще не было. Вчера вечером мок на проливном дожде, не ночевал дома и утром шел домой пешком по грязи и все время ругался. Моя лень оскорблена во мне глубоко. <…> Но это только в первое время. Через 1–2 недели все войдет в свою колею и мы усядемся. Холера, надо полагать, будет не особенно сильная. Да и сильная не страшна, так как земство снабдило врачей самыми широкими полномочиями. То есть я не получил ни копейки, но могу нанимать избы и людей сколько угодно и в тяжелых случаях могу выписать из Москвы санитарный отряд. Земцы здесь интеллигентные, товарищи дельные и знающие люди, а мужики привыкли к медицине настолько, что едва ли понадобится убеждать их, что в холере мы, врачи, неповинны. Бить, вероятно, нас не будут.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 1 августа 1892 г.:
Я организую, строю бараки и проч., и я одинок, ибо все холерное чуждо душе моей, а работа, требующая постоянных разъездов, разговоров и мелочных хлопот, утомительна для меня. Писать некогда. Литература давно уже заброшена, и я нищ и убог, так как нашел удобным для себя и для своей самостоятельности отказаться от вознаграждения, какое получают участковые врачи. Мне скучно, но в холере, если смотреть на нее с птичьего полета, очень много интересного. <…> Хорошего больше, чем дурного, и этим холера резко отличается от голода, который мы наблюдали зимою. Теперь все работают, люто работают. В Нижнем на ярмарке делают чудеса, которые могут заставить даже Толстого относиться уважительно к медицине и вообще к вмешательству культурных людей в жизнь. Похоже, будто на холеру накинули аркан. Понизили не только число заболеваний, но и процент смертности. В громадной Москве холера не идет дальше 50 случаев в неделю, а на Дону она хватает по тысяче в день — разница внушительная. Мы, уездные лекаря, приготовились; программа действий у нас определенная, и есть основание думать, что в своих районах мы тоже понизим процент смертности от холеры. Помощников у нас нет, придется быть и врачом и санитарным служителем в одно и то же время; мужики грубы, нечистоплотны, недоверчивы; но мысль, что наши труды не пропадут даром, делает все это почти незаметным. Из всех серпуховских докторов я самый жалкий; лошади и экипаж у меня паршивые, дорог я не знаю, по вечерам ничего не вижу, денег у меня нет, утомляюсь я очень скоро, а главное — я никак не могу забыть, что надо писать, и мне очень хочется наплевать на холеру и сесть писать. И с Вами хочется поговорить.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 16 августа 1892 г.:
Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь 2 превосходных барака со всею обстановкой и бараков пять не превосходных, а скверных.
Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень. <…> Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь, — это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится. Холера уже в Москве и в Московск<ом> уезде. Надо ждать ее с часу на час. Судя по ходу ее в Москве, надо думать, что она уже вырождается и что запятая начинает терять свою силу. Надо также думать, что она сильно поддается мерам, которые приняты в Москве и у нас. Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь. <…>
Способ лечения холеры требует от врача прежде всего медлительности, т. е. каждому больному нужно отдавать по 5–10 часов, а то и больше. Так как я намерен употреблять способ Канта и и — клистиры из таннина и вливание раствора поваренной соли под кожу, — то положение мое будет глупее дурацкого.
Пока я буду возиться с одним больным, успеют заболеть и умереть десять. Ведь на 25 деревень только один я, если не считать фельдшера, который называет меня вашим высокоблагородием, стесняется курить в моем присутствии и не может сделать без меня ни единого шага. При единичных заболеваниях я буду силен, а если эпидемия разовьется хотя бы до пяти заболеваний в день, то я буду только раздражаться, утомляться и чувствовать себя виноватым.
Конечно, о литературе и подумать некогда. Не пишу ничего. <…>
Когда узнаете из газет, что холера уже кончилась, то это значит, что я уже опять принялся за писанье. Пока же я служу в земстве, не считайте меня литератором. Ловить зараз двух зайцев нельзя.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 18 октября 1892 г.:
20-го окт<ября> земское собрание. Предположено (я читал в отчете) благодарить меня за организацию участка. С августа на 15 октября я записал у себя на карточках 500 больных; в общем принял, вероятно, не менее тысячи. Мой участок вышел удачен в том отношении, что были в нем доктор, фельдшер, два отличных барака, принимались больные, производились разъезды по всей форме, посылались в санитарное бюро отчеты, но денег потрачено всего 110 руб. 76 коп. Львиную долю расходов я взвалил на своих соседей-фабрикантов, которые и отдувались за земство.
Москва и москвичи
Лидия Карловна Федорова:
— Из того, что вы видели. Антон Павлович, какие города вам больше всего нравятся? — спросил А. М. (Федоров. — Сост.).
— Трудно, батенька, сказать так сразу. Ну, первое, могу сказать, что больше всего мне нравится Москва.
— Москва! — вырвалось у меня изумленно.
— Да-с, сударыня, Москва. Другою такого города вам не найти на земном шаре. Ну, хорош Париж. Значит, собственно, три: Москва, Флоренция[15], Париж.
Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854–1933), писатель, врач. Долгое время жил в Ялте, где близко сошелся с Чеховым:
И все было мило для него в Москве — и люди, и улицы, и звон разных Никол Мокрых и Никол на Щепах, и классический московский извозчик, и вся московская бестолочь. Отдышится он от Москвы и от московского плеврита, проживет в Ялте два-три месяца — и снова разговоры все о Москве.
И все три сестры, повторяющие на разные лады: «В Москву, в Москву», — это все он же, один Антон Павлович, думавший вечно о Москве и постоянно стремившийся в Москву, где постоянно получал он плевриты и обострения процесса и которая, имею основание думать, укоротила ему жизнь.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Антон Павлович, не будучи москвичом по рождению и проведя детство и гимназические годы в Таганроге, среди смешанного населения огорожаненных хохлов, и обруселых греков, и других южных национальностей, в Москве за время студенчества и нескольких лег самостоятельной жизни, конечно, не мог сделаться москвичом и никогда не был им по существу. <…>
Но все же и на нем лежал «московский отпечаток»; по необходимости он свой внешний обиход жизни должен был приспособить к Москве, вести знакомства и дела с московскими людьми и, живя с московскими, «по-московски выть». <…> Из приемлемых для Чехова журналов в Москве была только одна «Русская мысль». Из стоявшего во главе ее триумвирата — Голыдев, Лавров и Ремезов — литератором в полном смысле этого слова был только один В. А. Гольцев. Был еще журнал Куманина «Артист», к которому Антон Павлович относился сочувственно. — красивое издание с широким размахом. Но это был журнал, почти исключительно посвященный интересам театра.
Из газет Чехов мог тогда принимать в расчет только «Русские ведомости», в которых работали главным образом московские профессорские круги, собственно же литераторы, статьи которых от времени до времени там появлялись, были петербуржцы. Беллетристика же как в «Русской мысли», так и в «Русских ведомостях» принадлежала почти вся сплошь петербургским литераторам. Постоянно живущих в Москве беллетристов почти не было.
Что же касается мелкой прессы и разных юмористических еженедельников, то это был тот мир, в котором А.П. невольно вращался в самом начале своей литературной деятельности, — мир, не оставивший в нем приятных воспоминаний, и там ему теперь, конечно, нечего было делать. Знакомства в Москве у него были обширные, но в огромном большинстве обывательские. Мне сейчас даже трудно вспомнить, кто жил тогда в Москве из заправских литераторов: кроме Вл. И. Немировича-Данченко и князя А. И. Сумбатова, которые оба больше клонились к театру, и тех, кого я уже упомянул, а также журналистов, работавших в «Русских ведомостях», я никого не припоминаю. П. Д. Боборыкин проживал по нескольку месяцев в Москве, одно время жил Г. А. Мачтет.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Когда он наезжал в Москву, он останавливался всегда в «Большой Московской» гостинице, напротив Иверской, где у него был свой излюбленный номер. С быстротой беспроволочного телеграфа по Москве распространялась весть: «А.П. приехал!», и дорогого гостя начинали чествовать. Чествовали его так усиленно, что он сам себя прозвал «Авеланом», — это был морской министр, которого ввиду франко-русских симпатий беспрерывно чествовали то в России, то во Франции. И вот, когда приезжал «Авелан», начинались так называемые «общие плавания», как он прозвал наши встречи: он вообще был неистощим на шутливые прозвища и названия. Передо мной — голубая записочка, написанная его тонким, насмешливым почерком:
«…Наконец волны выбросили безумца на берег»… (несколько строк многоточия) «…И простирал руки к двум белым чайкам…»
Это не отрывок из таинственного романа: это — просто записка, означавшая, что приехал А.П. и хочет видеть нас — мою приятельницу молодую артистку Л. Б. Яворскую и меня. Следовали завтраки в редакции «Артиста» у Куманина, чаи в редакции «Русских ведомостей» у общего друга «дедушки-Саблина», съемки у Трунова… К этому периоду относится фотография, на которой мы сняты втроем: Яворская, Чехов и я. К Трунову повез нас Куманин, снимавший нас для «Артиста». Снимались мы все вместе и порознь, наконец решено было на память сняться втроем. Мы долго усаживались, хохотали, и когда фотограф сказал «смотрите в аппарат», — А.П. отвернулся и сделал каменное лицо, а мы все не могли успокоиться, смеясь, приставали к нему с чем-то — и в результате получилась такая карточка, что Чехов ее окрестил «Искушение св. Антония».
Игнатий Николаевич Потапенко:
Признаюсь, всякий его приезд был для меня праздником, да и не для меня только, а и для всех членов небольшого кружка.
Сейчас же об этом посылались известия в «Русские ведомости» Михаилу Алексеевичу Саблину, который почел бы за обиду, если бы узнал об этом не первый. Соиздатель «Русских ведомостей», почтенного возраста человек, лет на двадцать старше каждого из нас, он питал трогательную нежность к Антону Павловичу. Всегда занятый по газете (он заведовал хозяйственной частью), с виду суровый и благодаря своей комплекции несколько тяжеловесный на подъем, он оживлялся и обращался в юношу, когда приезжал Чехов, и уж тут дни и вечера, сколько бы их ни было, превращались в праздники.
Нам и без того приходилось завтракать и обедать в трактирах. Но это делалось как нечто неизбежное, а тут все это приобретало своего рода торжественность.
Москвич и знаток Москвы, М. А. Саблин знал, где что нужно есть и пить. Завтракать, например, было необходимо у Тестова, и притом в виде закуски есть не иначе как грудинку, вынутую из щей. Другой великий знаток этого дела, Вукол Михайлович Лавров, знал потаенные утолки, где можно было получить какую-то необыкновенную ветчину и изумительную белорыбицу, которая таяла во рту, как масло. С этой целью ездили куда-то далеко, на неведомый мне край Москвы, в места, куда я без посторонней помощи ни за что не попал бы. В дальнейший репертуар входили «Большой Московский», «Эрмитаж», а иногда и путешествие за город на тройке.
Любил отдыхать с нами В. А. Гольцев. Попивая красное вино, которое было вредно для его сердца, он держал остроумные, подчас едкие речи и поддерживал дружески-высокий тон.
После спектакля иногда урывал час-другой и приезжал А. И. Южин, вместе с ним выступали на очередь театральные темы, а красное вино заменялось шипучим.
Антон Павлович иногда ворчал и слегка упирался, но его легко было уговорить. Не мог же он не принимать в расчет, что все это — по случаю его приезда, и не решился бы нанести кровную обиду М. А. Саблину, который в его обществе молодел на двадцать лет.
И он, легонько покашливая, с чуть-чуть сердитым лицом, покорно ехал, а потом оживлялся, вступал в дружеский спор с Гольцевым и был неистощим по части очаровательных, до упаду смешных глупостей и милых неожиданностей, в которых он был неподражаемый мастер. <…> Зато домосед В. М. Лавров иногда ознаменовывал приезд Чехова из деревни чем-то вроде раута у себя дома. Это были бесконечно длинные, вкусные, сытные, с обильным возлиянием и достаточно веселые обеды, многолюдные и речистые, затягивавшиеся далеко за полночь и носившие на себе отпечаток самобытности хозяина. Чехова они утомляли, и потому (однако ж единственно поэтому) он шел на них неохотно, но личность В. М. Лаврова его сильно интересовала. <…>
В Москве Чехов оставался по нескольку дней, но в эти дни ничего не писал. Его манера работать вдали от людских глаз — здесь, где он был постоянно на виду у всех, была неосуществима. Зато и уезжал он внезапно, словно по какому-то неотразимому внутреннему побуждению. Вот сегодня собирались в театр, взяли билеты, и он интересовался пьесой, стремился или кто-нибудь позвал его вечером, и он обещал. Все равно — неотразимое побуждение было сильнее всего.
Просто ему надоедало довольно-таки бессмысленное шумное времяпровождение московское, и потянуло в тихое Мелихово, в его кабинет, или, может быть, в душе созрело что-нибудь, требовавшее немедленного занесения на бумагу. И он уезжал, несмотря ни на что.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Его затаскивали по обедам, театрам, собраниям литераторов и пр. Как он писал об этом времени — он жил «в беспрерывном чаду» и в конце концов не без облегчения уезжал в свое Мелихово. В Москве он разделял наши развлечения, интересы, говорил обо всем, о чем говорила Москва, бывал на тех же спектаклях, в тех же кружках, что и мы, просиживал ночи, слушая музыку, но я не могла отделаться от того впечатления, что «он не с нами», что он — зритель, а не действующее лицо, зритель далекий и точно старший — хотя многие члены нашей компании, как тот же Саблин, проф. Гольцев, старик Тихомиров — редактор «Детского чтения» и др… были много старше его. И все же он — старший, играющий с детьми, делающий вид, что ему интересно — а ему… не интересно. И где-то за стеклами его пенсне, за его юмористической усмешкой, за его шутками — чувствовались грусть и отчужденность. Была ли тому причиной болезнь, которая уже давала ему себя знать и была ясна, как врачу. — неудовлетворенность ли в личной жизни, но радости у А.П. не было, и всегда на все «издали» смотрели его прекрасные умные глаза. И недаром он как-то показал мне брелок, который всегда носил, с надписью: «Одинокому весь мир — пустыня».
Размолвка с Левитаном
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Левитан был большим другом Чехова. И вдруг между ними вспыхнула ссора, настоящая, серьезная — вспыхнула она из-за С. П. Кувшинниковой. Дело было так: Чехов написал один из лучших своих рассказов «Попрыгунья», на который несомненно его натолкнуло что-то из жизни С. П. Только писатель может понять, как преломляются и комбинируются впечатления от виденной и слышанной жизни в жизнь творчества.
С наивностью художника, берущего краски, какие ему нужно и где только можно, Чехов взял только черточки из внешней обстановки С. П. — ее «русскую» столовую, отделанную серпами и полотенцами, ее молчаливого мужа, занимавшегося хозяйством и приглашавшего к ужину; ее дружбу с художниками. Он сделал свою героиню очаровательной блондинкой, а мужа ее талантливым молодым ученым. Но она узнала себя — и обиделась. А.П. писал по этому поводу одной из своих корреспонденток: «Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в 20-летней героине моей «Попрыгуньи», и меня вся Москва обвиняет в пасквиле.
Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником…»
Левитан, тоже «узнавший себя» в художнике, также обиделся, хотя в сущности уж для него-то ничего обидного не было и уж за одну несравненную талантливость рассказа надо было «простить автору все прегрешения». Но вступились друзья-приятели, пошли возмущения, негодования, разрасталась тяжелая история, и друзья больше года не виделись и не разговаривали, оба от этого в глубине души страдая.
А у С. П. несомненно Чехов наступил на какое-то больное место: никто не знал, что в их отношениях с Левитаном уже есть трещина, которая и привела к полному разрыву — опять-таки года через два-три после написания рассказа… Как раз в это время, когда бедная С. П. уже дочитала последние страницы своего романа, как говорил ее оригинальный муж, я зимой собралась в Мелихово и по дороге заехала к Левитану, обещавшему показать мне этюды, написанные им летом на Удомле, где мы вместе жили. У Левитана была красивая в коричневых тонах мастерская, отделанная для него Морозовым в особняке на одном из бульваров. Левитан встретил меня, похожий на веласкесовский портрет в своей бархатной блузе; я была нагружена разными покупками, как всегда когда ехала в Мелихово. Когда Левитан узнал, куда я еду, он стал по своей привычке длительно вздыхать и говорить, как тяжел ему этот глупый разрыв и как бы ему хотелось туда по-прежнему поехать.
— За чем же дело стало? — говорю с энергией и стремительностью молодости. — Раз хочется — так и надо ехать. Поедемте со мной сейчас!
— Как? Сейчас? Так вот и ехать?
— Так вот и ехать, только руки вымыть! (Он был весь в красках.)
— А вдруг это будет не кстати? Вдруг он не поймет?
— Беру на себя, что будет кстати! — безапелляционно решила я.
Левитан заволновался, зажегся — и вдруг решился. Бросил кисти, вымыл руки, и через несколько часов мы уже подъезжали к мелиховскому дому. Всю дорогу Левитан волновался, протяжно вздыхал и с волнением говорил:
— Танечка, а вдруг (он очень приятно грассировал) мы глупость делаем?
Я его успокаивала, но его волнение заражало и меня, и у меня невольно стаю сердце екать: а вдруг я подведу его под неприятную минуту? Хотя, с другой стороны, зная А.П., уверена была, что этого не будет. И вот мы подъехали к дому, залаяли собаки, выбежала на крыльцо Маша, вышел закутанный А. П… в сумерках вгляделся — кто со мной? Маленькая пауза — потом крепкое рукопожатие… и заговорили о самых обыкновенных вещах, о дороге, о погоде — точно ничего и не случалось. Это было началом возобновления дружеских отношений, не прерывавшихся уже до смерти Левитана, которого А.П. и навещал и лечил.
Михаил Павлович Чехов:
Поговаривали, что Левитан собирался вызвать Антона Павловича на дуэль. Ссора затянулась. Я не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы Т. Л. Щепкина-Куперник не притащила Левитана насильно к Антону Чехову и не помирила их. Левитан еще долго продолжал свои романы. Между прочим, один из них находится в некоторой связи с чеховской «Чайкой».
Я не знаю в точности, откуда у брата Антона появился сюжет для его «Чайки», но вот известные мне детали. Где-то на одной из северных железных дорог, в чьей-то богатой усадьбе жил на даче Левитан. Он завел там очень сложный роман, в результате которого ему нужно было застрелиться или инсценировать самоубийство. Он стрелял себе в голову, но неудачно: пуля прошла через кожные покровы головы, не задев черепа. Встревоженные героини романа, зная, что Антон Чехов был врачом и другом Левитана, срочно телеграфировали писателю, чтобы он немедленно же ехал лечить Левитана. Брат Антон нехотя собрался и поехал. Что было там, я не знаю, но по возвращении оттуда он сообщил мне, что его встретил Левитан с черной повязкой на голове, которую тут же при объяснении с дамами сорвал с себя и бросил на пол. Затем Левитан взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной, ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее ногам. Эти два мотива выведены Чеховым в «Чайке». Софья Петровна Кувшинникова доказывала потом, что этот эпизод произошел именно с ней и что она была героиней этого мотива. Но это неправда. Я ручаюсь за правильность того, что пишу сейчас о Левитане со слов моего покойного брата. Вводить же меня в заблуждение брат Антон не мог, да это было и бесцельно. А может быть, Левитан и повторил снова этот сюжет, — спорить не стану.
Провал. 17 октября 1896
Владимир Николаевич Ладыженский:
Чехов в Москве приглашал меня ехать с собой в Петербург на первое представление «Чайки» в Александрийском театре. Как сейчас помню, что это представление было назначено на 17 октября, и Чехов говорил мне:
— Поедем смотреть, как провалится моя пьеса, недаром ставится она в день крушения поезда.
Когда же я доказывал, что такая интересная и поэтическая вещь не должна провалиться, Чехов заметил:
— Напротив, должна, непременно должна! Дело в том, что большинство актеров играет по шаблону. Один будет стараться представлять писателя, значит, может быть, и загримируется кем-нибудь из известных литераторов и будет его передразнивать. У них если на сцене военный, то непременно поднимает плечи и хлопает каблуками, чего не делают в жизни военные. Большой, вдохновенный талант — редкость, а об передаче настроения моей пьесы не позаботятся.
Евтихий Павлович Карпов (1857–1926), драматург, режиссер Александрийского театра, постановщик первого спектакля по пьесе Чехова «Чайка»:
Я прекрасно понимал, что воплощение на сцене этой пьесы представляет задачу весьма большой трудности. С робостью я приступил к инсценировке пьесы.
Очень долго подробно мы обсуждали с Александром Степановичем Яновым, художником Александрийского театра, план декораций, все детали постановки. Янов прекрасно чувствовал русский быт, русскую природу, любил ее и был увлечен пьесой Чехова.
С особенной тщательностью он разработал макеты декораций, но поводу каждой мелочи приходил советоваться со мной.
Я предполагал поставить «Чайку» не ранее середины ноября, но дело повернулось иначе.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Но в судьбе этой пьесы сыграли роль такие случайности и посторонние делу обстоятельства, какие, кажется, немыслимы ни в одном театре, кроме русского.
В то время в Александрийском театре в полном ходу была система бенефисов. У главных актеров бенефисы были ежегодные, вторые же — получали их от времени до времени, за особые заслуги или просто когда кому-нибудь удавалось выхлопотать. Основной репертуар сезона составлялся заранее, и если автор приходил с своей пьесой во время сезона, то, какими бы достоинствами она ни обладала, для нее уже не было места. Конечно, бывали исключения. Связи и хлопоты, слово, замолвленное влиятельным лицом, легко открывали дверь храма во всякое время. Но у Чехова не было связей, хлопотать же он не умел, да и не хотел.
Но зато благодаря бенефисам на сцену иногда попадали пьесы, лишенные всяких художественных достоинств, но заключавшие в себе эффектную роль для бенефицианта. Бенефициант сам выбирал для себя пьесу, требовалось только формальное утверждение дирекции. Так же формально к таким пьесам относился и Театрально-литературный комитет. Что же было делать, если актер или, еще хуже, актриса настаивали? Если бенефис получал актер второстепенный, то он иногда, ради хорошего сбора, жертвовал своим актерским самолюбием и выбирал пьесу с козырной ролью не для себя, а для первой актрисы, имя которой делало сбор, или старался выехать на имени автора.
К несчастью, тут случилось именно это последнее. Пьеса досталась для бенефиса Левкеевой.
Евтихий Павлович Карпов:
Елизавета Ивановна Левкеева, юбилейный спектакль которой был назначен на 17 октября, просила меня отдать пьесу Ант. Пав. ей в бенефис. Отказать Елизавете Ивановне я не мог, хотя предупредил ее, что для нее нет роли в пьесе Чехова и что вряд ли мы поспеем к 17 октября поставить пьесу… Мне не хотелось ставить пьесу наспех, кое-как, с шести-семи репетиций… Но Левкеева так облюбовала «Чайку», так лелеяла мысль иметь в бенефис пьесу Чехова, что и слушать ничего не хотела.
Она сама побывала в мастерской у Янова, взяла с него слово, что он напишет декорации к сроку, обратилась с просьбою к Антону Павловичу дать ей «Чайку» в бенефис.
Она ворвалась ко мне в кабинет, как буря, взволнованная и радостная, получив от Чехова разрешение на постановку «Чайки».
Игнатий Николаевич Потапенко:
В одном из писем своих, не помню — кому, А.П., говоря о распределении ролей в «Чайке», сообщает, что Чайку, то есть Нину Заречную, будет играть толстая комическая актриса Левкеева. Конечно, это была заведомая шутка. Но в дальнейшем, когда начали искать роль для бенефициантки, стали в тупик. Бенефициантке в пьесе нечего было делать. Упоминаемая в одном из писем Суворину моя мысль — отдать ей роль жены управляющего, конечно, не принадлежала к удачным, но это была единственная возможность так или иначе ввести ее в пьесу и, как это водилось, дать публике возможность встретить ее аплодисментами.
Цель — прямо-таки святотатственная, когда речь идет о таком произведении, как «Чайка», но это все-таки было гораздо меньшее зло, чем ставить пьесу в бенефис Левкеевой.
Это была актриса своеобразная. Есть такие люди, которые, не делая никаких усилий, одним своим появлением в обществе вызывают веселое настроение. Что-то в них есть смешное — в манерах, в движениях, в голосе. Общество умирает от скуки, но появляется такой человек — и всем вдруг становится весело.
Левкеева, на мой взгляд, была такая актриса. При исполнении роли едва ли она задавалась целью дать какой-нибудь характер или тип. Это всегда была Левкеева. Сама она по своему складу очень подходила для некоторых персонажей Островского, но это было просто счастливое совпадение. В остальном же, в чем она появлялась, она смешила своими манерами, походкой, голосом.
Появление такой актрисы в пьесе Чехова, конечно, было бы неуместно. «Публика станет ждать от этой роли чего-нибудь смешного и разочаруется», — совершенно справедливо заметил Чехов. Было ясно, что бенефициантку придется совсем устранить из пьесы, что и было потом сделано.
Евтихий Павлович Карпов:
7 октября было первое представление пьесы «Пашенька», а 17-го юбилейный бенефис Е. И. Левкеевой за 25 лет службы на Императорской сцене. «Чайку» надо было поставить в девять дней. Срок более чем короткий! Вся моя надежда была на то, что опытные талантливые артисты, дружно, с любовью принявшись за работу, в конце концов выйдут победителями из трудного положения.
Мария Михайловна Читау (1860–1935), актриса Петербургского Александрийского театра с 1878 по 1900 г. Первая исполнительница роли Маши в пьесе Чехова «Чайка», поставленной в Александрийском театре впервые 17 октября 1896 г.:
Роли в «Чайке» распределял сам А. С. Суворин. М. Г. Савина должна была играть Нину Заречную, Дюжикова 1-я — Аркадину, Абаринова — Полину Андреевну, Машу — я. В главных ролях из мужского персонала участвовали: Давыдов, Варламов, Аполлонский, Сазонов.
На считку «Чайки» мы собрались в фойе артистов. Не было только Савиной и автора. Савина прислала сказать, что больна. Но, конечно, не ее присутствие интересовало собравшихся, а присутствие и чтение самого автора.
Ждали его очень долго, сначала довольно молчаливо, потом началось ежеминутное поглядывание на часы, томление и актерская болтовня. Наконец вошел главный режиссер Е. П. Карпов и возвестил, что Антон Павлович прислал из Москвы телеграмму, что на считке не будет. Все были разочарованы этим известием. Карпов же распорядился, чтобы суфлер Корнев прочитал нам пьесу. Неунывающая никогда бенефициантка не участвовала в «Чайке» и выбрала для себя более подходящую веселую комедию для конца спектакля, но на считку приехала и теперь утешалась тем, что Чехов сам поведет репетиции и послужит нам камертоном, так как такового среди режиссуры не имелось. Без всякой пользы для уразумения «новых тонов» и даже без простого смысла доложил нам пьесу Корнев, а затем мы стали брать ее на дом для чтения. <…>
Начались репетиции. Автор еще не приехал из Москвы. Савина продолжала хворать, и реплики Заречной читал нам помощник режиссера Поляков.
Евтихий Павлович Карпов:
Первая репетиция, к великой моей досаде, прошла кое-как.
Какая репетиция без главного действующего лица!
Мария Михайловна Читау:
На второй репетиции автора все еще не было, и стало известно, что Савина, тоже не приехавшая в театр, отказалась от роли Нины, но изъявила готовность играть Аркадину вместо Дюжиковой 1-й. Роль Заречной была передана Комиссаржевской. Конечно, всякие перетасовки являлись досадной помехой делу, когда для подготовки новой пьесы давалось всего 7 репетиций, хотя в данном случае перемены были и к лучшему. Комиссаржевская приехала на репетицию, приехала и Дюжикова репетировать за Савину. Эта добросовестная, честная и прекрасная артистка для пользы дела шла на то, чтобы изображать какой-то манекен, который вынесут на чердак, как только явится настоящая фигура. Но и пользы-то, собственно, оказать она не могла, ибо ни угадать, ни передать соисполнителям пьесы, как поведет роль Савина, было, конечно, невозможно. Давыдов давал кое-какие указания некоторым из нас, помимо режиссеров, которые все ссылались на будущие указания автора. Но и сам Давыдов при всем своем огромном таланте не улавливал «новых тонов».
Одна Комиссаржевская уже настолько художественно набрасывала эскиз образа Нины Заречной, что жизнерадостная бенефициантка, блестя выпуклыми глазами и по привычке вертя кистями рук с растопыренными пальцами, помню, делилась со мною надеждами на то, что «Вера Федоровна щеп и лучины нащепает из Нины, Савушка будет великолепна в роли провинциальной примадонны — что, может, пьеса обставлена ахово, а сам Антон Павлович окончательно наведет лак».
Евтихий Павлович Карпов:
Вторая репетиция прошла с тетрадками в руках актеров, в «разборке мест». Один только Н. Ф. Сазонов репетировал, зная наизусть роль Тригорина. Я Богом молил актеров, ввиду малого количества репетиций, поскорее выучить роли. Необходимо было установить основной тон пьесы и затем приступить к детальной разработке характеров и общих сцен.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Антона Павловича еще не было в Петербурге, когда приступили к репетициям. Они шли слабо. Артисты отнеслись к пьесе совершенно так же, как ко всякой другой.
Сегодня не пришел один, завтра двое, и в то время, как явившиеся играют свою роль уже под суфлера, за неявившегося читает по рукописи помощник режиссера. Что из этого получалось — легко себе представить. <…>
И когда Чехов, никем из актеров не замеченный, пришел в театр, занял место в темной зале и посидел часа полтора, — то, что происходило на сцене, произвело на него гнетущее впечатление. До спектакля оставалось пять дней, а половина исполнителей еще читала роли по тетрадкам, некоторых же вовсе не было на сцене, вместо них появлялся бородатый помощник режиссера и без всякого выражения прочитывал, в виде реплик, последние слова из их роли…
Когда режиссер упрекал актера, читающего по тетрадке: «Как вам не стыдно до сих пор роль не выучить!» — тот с выражением оскорбленной гордости отвечал: «Не беспокойтесь, я буду знать свою роль…» Антон Павлович вышел из театра подавленный. «Ничего не выйдет, — говорил он. — Скучно, неинтересно, никому это не нужно. Актеры не заинтересовались, значит — и публику они не заинтересуют». У него уже являлась мысль — приостановить репетиции, снять пьесу и не ставить ее вовсе.
Евтихий Павлович Карпов:
Ант. Павл. Чехов, аккуратно приходил каждый день в театр с И. Н. Потапенко, принимал живое, деятельное участие в репетициях. Он, видимо, очень волновался, хотя и не хотел этого показывать. То и дело он вставал с своего кресла у суфлерской будки, уходил за кулисы и беседовал то с тем, то с другим из артистов.
Чехова коробил всякий фальшивый звук актера, затрепанная, казенная интонация. Несмотря на свою стыдливую деликатность, он нередко останавливал среди сцены актеров и объяснял им значение той или иной фразы, толковал характеры, как они ему представляются, и все время твердил:
— Главное, голубчики, не надо театральности… Просто все надо… Совсем просто… Они все простые, заурядные люди…
Когда перед сценой, сколоченной из досок в саду Сорина, появились две актрисы, изображающие тени. Ант. Павл. замахал руками:
— Зачем?.. Зачем эти девы!.. Понимаете, там ничего этого не было… Просто два плотника, вот которые строили сцену, завернулись в простыни и стали по бокам. Вот и все!.. Вот и тени!
Я боялся, что появление из-за кустов закутанных в простыни плотников вызовет смех публики и нарушит настроение перед монологом Нины Заречной, и уговорил оставить актрис. Антон Павлович нехотя согласился. <…> Присутствие на репетициях Антона Павловича оживляло, поднимало артистов. Работа шла нервно, лихорадочно. И чем дальше подвигались репетиции, тем спокойнее становился Антон Павлович. Помню, мы вышли вместе с Ант. Павл. и Игн. Н. Потапенко из Михайловского театра, где репетировали «Чайку».
Комиссаржевская уже овладела ролью Нины, и в этот раз была, что называется, в ударе.
— Ну, если она так сыграет в спектакле, будет очень хорошо!.. — сказал, пощипывая бородку, Антон Павлович. — Лучше не надо!
<…> Все, что можно было сделать в неимоверно короткий срок, в восемь репетиций, для такой тонкой пьесы полутонов, как «Чайка», — все было сделано.
Генеральная репетиция прошла гладко с ансамблем, но вяловато. Чувствовалось, что у актеров опустились нервы, не было настроения, огня… Антону Павловичу понравились декорации, обстановка, гримы, но он больше, чем кто-нибудь, чувствовал, что пьеса идет без подъема, без настроения… В зрительном зале на генеральной репетиции сидела почти вся драматическая труппа, театральные чиновники и их родственники. Антон Павлович в одном из антрактов обвел глазами сидящую публику и как бы про себя спокойно проговорил:
— Пьеса не понравится… Она не захватывает…
— Что за пустяки!.. Почему вы так думаете?.. — протестовал я.
— А вы посмотрите на выражение лиц у публики… Она скучает… Им неинтересно…
Игнатий Николаевич Потапенко:
Накануне представления мы с Антоном Павловичем обедали у Палкина. Он уже предчувствовал неуспех и сильно нервничал.
К спектаклю приехали из Москвы Марья Павловна и еще кой-кто из близких, и он выражал недовольство. Зачем было приезжать? Это как будто увеличивало его ответственность.
Мария Павловна Чехова:
Утром 17 октября Антон Павлович, угрюмым и суровым, встретил меня на Московском вокзале. Идя по перрону, покашливая, он говорил мне:
— Актеры ролей не знают. Ничего не понимают. Играют ужасно. Одна Комиссаржевская хороша. Пьеса провалится. Напрасно ты приехала.
Я посмотрела на брата. В этот момент, помню, выглянуло солнце, и серая, мрачная петербургская осень сразу стала мягкой, ласковой, все по-весеннему заулыбалось. Я воскликнула:
— Ничего, Антоша, все будет хорошо! Посмотри, какая чудная погода, светит солнышко. Оставь свои дурные мысли.
Не знаю, подействовала ли на него перемена погоды или мой оптимистический тон, но он не стал больше говорить об актерах и пьесе, а шутливо сообщил мне:
— Я тебе в ложе целую выставку устроил. Все красавцы будут. А вот Лике, возможно, будет неприятно. В театре будет Игнатий, и с Марией Андреевной. Лике от этой особы может достаться, да и самой ей едва ли приятна эта встреча.
Лидия Стахиевна Мизимова днем раньше приехала в Петербург. У нее были свои основания волноваться по поводу первой постановки «Чайки». Всего только около двух лет прошло с тех пор, как она пережила свой неудачный роман с Игнатием Николаевичем Потапенко. Ей предстояло теперь в присутствии в театре самого Потапенко и его жены смотреть пьесу, в которой Антон Павлович в какой-то степени отразил этот их роман. И, конечно, спектакль Лику волновал.
Мария Михайловна Читау:
Перед поднятием занавеса за кулисами поползли неизвестно откуда взявшиеся слухи, что «молодежь» ошикает пьесу. Тогда все толковали, что Антон Павлович не угождает ей своей аполитичностью и дружбой с Сувориным. На настроение большинства артистов этот вздорный, быть может, слух тоже оказал известное давление: что-де можно поделать, когда пьеса заранее обречена на гибель? Под такими впечатлениями началась «Чайка».
Игнатий Николаевич Потапенко:
На сцене были Комиссаржевская, Абаринова, Дюжикова, Читау, Давыдов, Варламов, Алоллонский, Сазонов, Писарев. Панчин. Этим актерам, даже и не в столь густой концентрации, приходилось выступать в пьесах безжизненных и бездарных, и они умудрялись делать им успех. О небрежности же с их стороны, о невнимании не могло быть и речи. Можно сказать с уверенностью, что они напрягали все силы своих дарований, чтобы дать наибольшее и наилучшее. То, чего недоставало, — общий тон, единство настроения, — был недостаток коренной и проявлялся не здесь только, а и в других постановках. <…>
Но зато их согревала симпатия к автору, которого все любили и желали сделать для него как можно лучше.
И все-таки был даже не неуспех, а провал, притом выразившийся в совершенно нетерпимых, некультурных, диких формах.
Евтихий Павлович Карпов:
Е. И. Левкеева, талантливая комическая актриса, с легкой склонностью к шаржу, была одной из любимиц публики Александрийского театра. У нее была своя, особенная публика — средний обыватель, полуинтеллигент-чиновник, богатый гостинодворец, домовладелец, приказчик. Словом, та публика, которая приходит в театр посмеяться, развлечься, «с приятностью провести время». Сверху донизу набила эта публика Александринский театр вдень 25-летнего юбилея Е. И. Левкеевой, несмотря на весьма повышенные цены. <…> Интеллигентная публика, за весьма малым исключением, отсутствовала. В театре сидел зритель, пришедший на бенефис комической актрисы повеселиться, посмеяться, приятно провести вечерок. И среди этого благодушного обывателя торчал кое-где желчно настроенный, угрюмый, вечно весьма недовольный, скучающий газетный рецензент и два-три литератора, близкие друзья автора. <…> Открыли занавес.
В первом же явлении, когда Маша предлагает Медведенко понюхать табаку и говорит: «Одолжайтесь!» в зрительном зале раздался хохот… Когда Сорина — Давыдова вывезли на сцену в кресле (на чем настаивал Антон Павлович), публика покатилась со смеху. Кое-кто зашикал, чтобы унять неуместный смех. Но «весело настроенную» публику было трудно остановить. Она придиралась ко всякому поводу, чтобы посмеяться… Фразы Сорина, сказанные без всякого подчеркивания, вроде: «У тебя маленький голос, но противный», вызывали хохот. Выход Варламова — Шамраева с фразой: «В 1873 году», — хохот… Появляются из-за кулисы тени, — необыкновенное веселье в зрительном зале. Нина — Комиссаржевская нервно, трепетно, как дебютантка, начинает свой монолог: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени…» Неудержимый смех публики… Комиссаржевская повышает голос, говорит проникновенно, искренне, сильно, нервно… Зал затихает. Напряженно слушают. Чувствуется, что артистка захватила публику. Но вопрос Аркадиной: «Серой пахнет! Это так нужно?..» снова вызывает гомерический хохот.
Иван Леонтьевич Щеглов:
На сцене в первом акте, после захода солнца, темнеет.
— Почему это вдруг стало темно? Как это нелепо! — слышу чей-то голос позади моего кресла.
Евтихий Павлович Карпов:
Лучшие места первого действия пропали, непонятые «веселой публикой».
Конец акта прошел благополучно, и когда закрылся занавес, раздались аплодисменты. Актеры вышли на вызов.
В. Ф. Комиссаржевская, взволнованная, со слезами на глазах, бросилась ко мне со словами:
— Что же это за ужас!.. Я провалила роль… Чему они смеются?
Лидия Алексеевна Авилова:
Публика стала выходить в коридоры или в фойе, и я слышала, как некоторые возмущались, другие злобно негодовали: «Символистика»… «Писал бы свои мелкие рассказы»… «За кого он нас принимает?»… «Зазнался, распустился»…
Остановился передо мной Ясинский, весь взъерошенный, задыхающийся.
— Как вам понравилось? Ведь это черт знает что! Ведь это позор, безобразие…
Его кто-то отвел.
Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головой. Всюду слышалось: Чехов… Чехов…
Евтихий Павлович Карпов:
Второе действие прошло недурно. Варламов в своей сцене с Аркадиной снова вызвал смех всего зала и ушел под аплодисменты. Сцена между Тригориным и Ниной не произвела должного впечатления. Сазонов — Тригорин провел свою роль с искусной актерской техникой, но малохарактерно. В нем не чувствовался писатель. Его жалобы на свою писательскую долю, на ужасы его жизни, на его мучения, неразлучные с творчеством, звучали неубедительно. В них не было глубины страдания, «меланхоличности», а главное, не было искренности.
Чудный по художественной простоте конец второго акта публика не оценила. Она, очевидно, ждала совсем иного и разочаровалась.
Иван Леонтьевич Щеглов:
Во втором акте Треплев (Аполлонский) кладет у ног Нины Заречной (Комиссаржевская) убитую чайку. Рядом со мной опять кто-то ворчит:
— Отчего это Аполлонский все носится с какой-то дохлой уткой? Экая дичь, в самом деле!..
В антракте (между вторым и третьим действием) сталкиваюсь в проходе между креслами с одним превосходительным членом театральной дирекции.
— Помилуйте, — говорю я ему. — разве можно такие тонкие пьесы играть так возмутительно неряшливо?
Театральный генерал презрительно фыркает.
— Так, по-вашему, это «пьеса»? Поздравляю! А по-моему, это — форменная чепуха!
Прохожу в буфет и встречаю там знакомого полковника, большого театрала. Вот, думаю, с кем отведу душу…
— Ну, и отличился же сегодня Сазонов! — негодую я: — Вместо литератора Тригорина играет доброй памяти Андрюшу Белугина?..
Но миролюбивый полковник раздраженно на меня набрасывается:
— Да-с, и надо в ножки ему поклониться, что еще «играет»! Удивляюсь на дирекцию — как можно ставить на сцену такую галиматью!.. Возвращаюсь в партер, удрученный до последней степени.
Евтихий Павлович Карпов:
Третий акт доставил публике много веселья. Выход Треплева с повязкой на голове — смешок в зале. Аркадина делает перевязку Треплеву — неудержимый хохот. Конец сцены между Аркадиной и Треплевым, когда они начинают наделять друг друга такими эпитетами, как «Декадент, киевский мещанин, скряга, оборвыш!» — веселят публику.
Иван Леонтьевич Щеглов:
Следующая за ней сцена между Аркадиной и ее сожителем — литератором Тригориным — прямо великолепна по реализму и оригинальности замысла. Но сцена разыграна была Сазоновым и Дюжиновой грубо и банально, и момент, когда Аркадина падает на колени перед Тригориным, показался большинству смешным и неестественным.
Евтихий Павлович Карпов:
Варламов — Шамраев в своем монологе об актере Измайлове и его оговорке «Мы попали в запендю…» снова вызывает смех. И последняя, финальная сцена третьего акта пропадает. Шум в зале. Вызовы автора и актеров… Шиканье…
Антон Павлович Чехов. Из дневника 1896 г.:
Два-три акта я просидел в уборной Левкеевой. К ней в антрактах приходили театральные чиновники в вицмундирах, с орденами, Погожев со звездой; приходил молодой красивый чиновник, служащий в департаменте государственной полиции. <…> Толстые актрисы, бывшие в уборной, держались с чиновниками добродушно-почтительно и льстиво (Левкеева изъявляла удовольствие, что Погожев такой молодой, а уже имеет звезду); это были старые, почтенные экономки, крепостные, к которым пришли господа.
Мария Михайловна Читау:
Не помню, во время которого акта я зашла в уборную бенефициантки, и застала ее вдвоем с Чеховым. Она не то виновато, не то с состраданием смотрела на него своими выпуклыми глазами и даже ручками не вертела. Антон Павлович сидел, чуть склонив голову, прядка волос сползла ему на лоб, пенсне криво держалось на переносье… Они молчали. Я тоже молча стала около них. Так прошло несколько секунд. Вдруг Чехов сорвался с места и быстро вышел.
Евтихий Павлович Карпов:
Ко мне в кабинет, бледный, с растерянной, застывшей улыбкой, входит Ант. Павлович…
— Автор провалился… — говорит он не своим голосом…
— И почему они все смеются, идиоты!.. — с раздражением замечает Н. Ф. Сазонов.
Лидия Алексеевна Авилова:
В последнем действии, которое мне очень поправилось и даже заставило на время забыть о провале пьесы, Комиссаржевская (Нина), вспоминая ту пьесу Треплева, в которой она в первом действии играла Мировую душу, вдруг сдернула с дивана простыню, закуталась в нее и опять начала свой монолог: «Люди, львы, орлы…» Но едва она успела начать, как весь зал покатился от хохота. И это в самом драматическом, самом трогательном месте пьесы, в той сцене, которая должна бы была вызвать слезы! Смеялись над простыней, и надо сказать, что Комиссаржевская, желая напомнить свой белый пеплум Мировой души, не сумела изобразить его более или менее красиво, но все-таки это был предлог, а не причина смеха. Я была убеждена, что захохотал с умыслом какой-нибудь Ясинский, звериные хари и подхватили, а публика просто заразилась, а может быть, даже вообразила, что в этом месте подобает хохотать. Как бы то ни было, хохотали все, весь зрительный зал, и весь конец пьесы был окончательно испорчен. Никого не тронул финальный выстрел Треплева, и занавес опустился под те же свистки и глумления, которые и после первого действия заглушили робкие аплодисменты.
Александр Рафаилович Кугель:
Это был один из тех катастрофических театральных вечеров <…> когда публика, не усвоив и не поняв, чего хотят актеры, с необычайным упрямством и необычайным легкомыслием, не желает вникать в дело и создает спектакль из своего собственного веселого настроения. Тогда актеры, путавшиеся и раньше в ролях, которые они плохо чувствовали, окончательно теряют власть над собою и либо стараются скорее отбарабанить слова и уйти со сцены, либо, что еще хуже и уже совсем неблагородно, начинают играть в тон публике, не только не пытаясь сделать слова роли более вразумительными, но, наоборот, сугубо подчеркивая их кажущуюся невразумительность и превращая спектакль в народническое представление. Я сидел рядом с рецензентом «Новостей», желчным и озлобленным Н. А Селивановым — мрачным человеком в темно-синих очках, скрывавших бельмо на глазу. Его особенностью было, вообще, то, что все его раздражало, как бельмо на глазу. Он шипел на «Чайке» с первых же слов и злорадствовал.
Лидия Алексеевна Авилова:
У вешалок возбуждение еще не улеглось. И там смеялись. Громко ругали автора и передавали друг другу:
— Слышали? Сбежал! Говорят, прямо на вокзал, в Москву.
— Во фраке?! Приготовился выходить на вызовы! Ха, ха…
Но я слышала тоже, как одна дама сказала своему спутнику:
— Ужасно жаль! Такой симпатичный, талантливый… И ведь он еще так молод… Ведь он еще очень молод.
Алексей Сергеевич Суворин:
Когда после первых двух актов «Чайки» на Александрийском театре он увидел, что пьеса не имеет успеха, он бежал из театра и бродил по Петербургу неизвестно где. Сестра его и все знакомые не знали, что подумать, и посылали всюду, где предполагали его найти.
Антон Павлович Чехов. Из дневника 1896 г
Это правда, что я убежал из театра, но когда уже пьеса кончилась.
Алексей Сергеевич Суворин. Из дневника:
17 октября 1896. Сегодня «Чайка» в Александрийском театре. Пьеса не имела успеха. Публика невнимательная, не слушающая, кашляющая, разговаривающая, скучающая. Я давно не видал такого представления. Чехов был удручен. В первом часу ночи приехала к нам его сестра, спрашивая, где он. Она беспокоилась. Мы послали в театр, к Потапенко, к Левкеевой (у нее собирались артисты на ужин — пьеса шла в ее бенефис за 25-летнюю службу). Нигде его не было. Он пришел в 2 ч. Я пошел к нему, спрашиваю, где вы были? «Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление… Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача». Завтра в 3 ч. хочет ехать. «Пожалуйста, не останавливайте меня. Я не могу слушать все эти разговоры». Вчера еще, после генеральной репетиции, он беспокоился о пьесе и хотел, чтоб она не шла. Он был очень недоволен исполнением. Оно было действительно самое посредственное. Но и в пьесе есть недостатки: мало действия, мало развиты интересные по своему драматизму сцены и много дано места мелочам жизни, рисовке характеров неважных, неинтересных. Режиссер Карпов показал себя человеком торопливым, безвкусным, плохо овладевшим пьесой и плохо срепетировавшим ее. Чехов очень самолюбив, и когда я высказывал ему свои впечатления, он выслушивал их нетерпеливо. Пережить этот неуспех без глубокого волнения он не мог.
Алексей Сергеевич Суворин:
Когда я вошел к нему в комнату, он сказал мне строгим голосом: «Назовите меня последним словом (он произнес это слово), если когда-нибудь я еще напишу пьесу».
Игнатий Николаевич Потапенко:
Впечатление, произведенное на него этим невероятным событием, было огромное. И нужно было обладать чеховской выдержкой, чтобы иметь равнодушное лицо и почти равнодушно шутить над всем происшедшим.
В тот вечер я его не видел и не знаю, с каким лицом он «ужинал у Романова, честь-честью». Я пришел к нему на другой день часов в десять утра. Он занимал маленькую квартирку в доме Суворина, где-то очень высоко, и жил один. Я застал его за писанием писем. Чемодан, с плотно уложенными в нем вещами, среди которых было много книг, лежал раскрытый.
— Вот отлично, что пришел. По крайней мере проводишь. Тебе я могу доставить это удовольствие, так как ты не принадлежишь к очевидцам моего вчерашнего триумфа… Очевидцев я сегодня не желаю видеть.
— Как? Даже Марью Павловну?
— С нею увидимся в Мелихове. Пусть погуляет. Вот письма. Мы их разошлем. Я уже уложился.
— Почтовым?
— Нет, это долго ждать. Есть поезд в двенадцать.
— Отвратительный. Идет, кажется, двадцать два часа.
— Тем лучше. Буду спать и мечтать о славе… Завтра буду в Мелихове. А? Вот блаженство!.. Ни актеров, ни режиссеров, ни публики, ни газет. А у тебя хороший нюх.
— А что?
— Я хотел сказать: чувство самосохранения. Вчера не пришел в театр. Мне тоже не следовало ходить. Если б ты видел физиономии актеров! Они смотрели на меня так, словно я обокрал их, и обходили меня за сто саженей. Ну, идем…
Захватив чемоданы и письма, вышли и спустились по лестнице. Тут письма были отданы швейцару, с поручениями. В одном он извещал о своем отъезде Марью Павловну, в другом — Суворина, в третьем, кажется, брата.
Взяли извозчика и поехали на Николаевский вокзал. Тут Антон Павлович уже шутил, посмеивался над собой, смешил себя и меня. На дебаркадере ходил газетчик, подошел к нам, предложил газет. Антон Павлович отверг:
— Не читаю! — Потом обратился ко мне:
— Посмотри, какое у него добродушное лицо, а между тем руки его полны отравы. В каждой газете по рецензии…
Поезд был пустой, и у Антона Павловича оказалось в распоряжении целое купе второго класса.
— Ну, и сладко же буду спать, — говорил он.
Но в глазах его было огорчение. Все эти остроты, шутки, смех ему кой-чего стоили.
— Кончено, — говорил он перед самым отъездом, уже стоя на площадке вагона. — Больше пьес писать не буду. Не моего ума дело. Вчера, когда шел из театра, высоко подняв воротник, яко тать в нощи. — кто-то из публики сказал: «Это беллетристика», а другой прибавил: «И преплохая…» А третий спросил: «Кто такой этот Чехов? Откуда он взялся?» А в другом месте какой-то коротенький господин возмущался: «Не понимаю, чего это дирекция смотрит. Это оскорбительно — допускать такие пьесы на сцену». А я прохожу мимо и, держа руку в кармане, складываю фигу: на, мол, скушай; вот ты и не знаешь, что это сделал я.
— А то, может, раздумаешь, Антон Павлович, да останешься? — предложил я, когда раздался второй звонок.
— Ну, нет, благодарю. Сейчас все придут и утешать будут — с такими лицами, с какими провожают дорогих родственников на каторгу.
Третий звонок. Простились.
— Приезжай в Мелихово. Попьем и попоем.
И поезд отошел. Антон Павлович уехал, глубоко оскорбленный Петербургом.
Антон Павлович Чехов. Из дневника 1896 г. Октябрь:
17 окт. в Александрийском театре шла моя «Чайка». Успеха не имела.
Мария Павловна Чехова:
На другой день, приехав к Сувориным, я брата уже не застала. Он утром, ни с кем в доме не простившись, уехал товарно-пассажирским поездом домой в Москву, а мне от него была лишь передана следующая записочка.
«Я уезжаю в Мелихово; буду там завтра во втором часу дня. Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня, потому что я уже был подготовлен к нему репетициями, — и чувствую я себя не особенно скверно.
Когда приедешь в Мелихово, привези с собой Лику». Суворину он тоже оставил прощальную записку, заканчивавшуюся словами: «Никогда я не буду ни писать пьес, ни ставить».
В полночь того же дня и я уехала домой. В Мелихове брат встретил меня словами: «О спектакле — больше ни слова!»
В каком состоянии Антон Павлович возвращался домой — можно судить но тому, что, всегда аккуратный и внимательный, он при выходе из вагона поезда забыл взять свои вещи и потом давал телеграмму поездному обер-кондуктору с просьбой выслать их в Лопасню.
Игнатий Николаевич Потапенко:
Но как скоро душа его осилила это проклятое наваждение! На другой день, приехав в Мелихово, он уже пишет деловые письма, хлопочет о книгах для таганрогской библиотеки, которой он помогал организоваться.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, 22 октября 1896 г.:
В Вашем последнем письме (от 18 окт.) Вы трижды обзываете меня бабой и говорите, что я струсил. Зачем такая диффамация? После спектакля я ужинал у Романова, честь-честью, потом лег спать, спал крепко и на другой день уехал домой, не издав ни одного жалобного звука. Если бы я струсил, то я бегал бы по редакциям, актерам, нервно умолял бы о снисхождении, нервно вносил бы бесполезные поправки и жил бы в Петербурге недели две-три, ходя на свою «Чайку», волнуясь, обливаясь холодным потом, жалуясь… Когда Вы были у меня ночью после спектакля, то ведь Вы же сами сказали, что для меня лучше всего уехать; и на другой день утром я получил от Вас письмо, в котором Вы прощались со мной. Где же трусость? Я поступил так же разумно и холодно, как человек, который сделал предложение, получил отказ и которому ничего больше не остается, как уехать. Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось; я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему, о чем и предупреждал Вас с полною искренностью. Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой — и теперь хоть новую пьесу пиши. Уже не чувствую утомления и раздражения и не боюсь, что ко мне придут Давыдов и Жан говорить о пьесе. С Вашими поправками я согласен — и благодарю 1000 раз. Только, пожалуйста, не жалейте, что Вы не были на репетиции. Ведь была в сущности только одна репетиция, на которой ничего нельзя было понять; сквозь отвратительную игру совсем не видно было пьесы. <…>
Сестра в восторге от Вас и от Анны Ивановны, и я рад этому несказанно, потому что Вашу семью люблю, как свою. Она поспешила из Петербурга домой, вероятно думала, что я повешусь. У нас теплая, гнилая погода, много больных. Вчера у одного богатого мужика заткнуло калом кишку, и мы ставили ему громадные клистиры. Ожил.
Окончательный диагноз
Иван Леонтьевич Щеглов:
Злополучное представление, как уже известно, состоялось поздней осенью 1896 г.; а уже ранней весной следующего года — следовательно, менее, чем через полгода — Чехов лежал в московской клинике с явно обнаруженными признаками чахотки…
Михаил Павлович Чехов:
В марте 1897 года брат Антон опасно заболел. Ничего не предчувствуя и не подозревая, он отправился из Мелихова в Москву, где его ожидал Суворин. Едва только они сели в «Эрмитаже» за обед, как у Антона Павловича хлынула из легких кровь. Несмотря на принятые обычные меры, истечение крови не прекращалось.
Вот как описывает старик Суворин это несчастье в своем «Дневнике», причем я для ясности буду в его заметку вставлять свои пояснения в скобках: «Третьего дня у Чехова пошла кровь горлом, когда мы сели за обед в «Эрмитаже» Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали. Сегодня он ушел к себе в «Б. Моск.» (овскую гостиницу). Два дня лежал у меня. Он испугался этого припадка и говорил мне, что это очень тяжелое состояние.
«Для успокоения больных (говорил Чехов) мы говорим во время кашля, что он — желудочный, а во время кровотечения — что оно геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки»… Вчера (я, Суворин) встал в 5 часов утра, не уснул ни минуты, написал записку Чехову и сам отнес ее в «Б. Моск.» (овскую гостиницу), потом гулял в Кремле, по набережной к Спасу и обратно в «Слав. базар». В 7 часов пришел (обратно к себе) в отель. Лег и уснул немного. В 11-м часу пришел (от Чехова) доктор Оболонский и сказал, что у Чехова в 6 часов утра пошла опять кровь горлом и он отвез его в клинику Остроумова на Девичьем поле. Надо знать, что 24 (марта) утром, когда я еще спал (и когда Чехов двое суток после описанного обеда в «Эрмитаже» провел в номере у Суворина), Чехов оделся, разбудил меня и сказал, что он уходит к себе в отель. Как я ни уговаривал его остаться (у меня), он ссылался на то, что (у него в гостинице на его имя) получено много писем, что со многими ему надо видеться и т. д. Целый день он говорил, устал, и припадок к утру повторился. Я дважды был вчера у Чехова в клинике. Как там ни чисто, а все-таки это больница и там больные. Обедали в коридоре, в особой комнате. Чехов лежал в № 16, на десять номеров выше, чем его «Палата № 6», как заметил Оболонский. Больной смеется и шутит по своему обыкновению, отхаркивал кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал: «Разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеют ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней тому назад он говорил мне: «Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет. С вешней водой уйду.»» О том, что случилось с Антоном Павловичем во время обеда в «Эрмитаже» и происходило потом все последующие дни, мы все узнали далеко не тотчас. Но даже для нас, Чеховых, после выхода суворинского «Дневника» в свет явилось полной неожиданностью то, что после случившегося припадка Антон Павлович целых двое суток пролежал не у себя, а в номере у А. С. Суворина в гостинице «Славянский базар», где, без сомнения, пользовался чисто отеческим уходом. Когда Антона Павловича поместили в клинику, то я был далеко на Волге, а сестра Мария Павловна находилась в Мелихове и ничего не знала. Приехав в Москву, она, к удивлению своему, встретила на вокзале брата Ивана Павловича, который передал ей карточку для посещения в клинике больного писателя. На карточке было написано: «Пожалуйста, ничего не рассказывай матери и отцу». Бросив случайный взгляд на столик, она увидела на нем рисунок легких, причем верхушки их были очерчены красным карандашом. Она тотчас же догадалась, что у Антона Павловича была поражена именно эта часть. Это и самый вид больного ее встревожили. Всегда бодрый, веселый, жизнерадостный, Антон Павлович походил теперь на тяжелобольного; ему запрещено было двигаться, разговаривать, да он и сам едва ли бы имел для этого достаточно сил. Когда его перевели потом из от дельной комнаты в большую палату, то навещавшая его вновь сестра застала его ходившим по ней взад и вперед в халате и говорившим: «Как это я мог прозевать у себя притупление?» В клинике Антона Павловича посетил Лев Николаевич Толстой, разговаривавший с ним об искусстве. Как бы то ни было, а теперь дело представлялось ясным. У Антона Павловича была официально констатирована бугорчатка легких, и необходимо было теперь от нее спасаться во что бы то ни стало и, несмотря ни на что, бежать от гнилой тогда северной весны.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Москва, 1 апреля 1897 г.:
Доктора определили верхушечный процесс в легких и предписали мне изменить образ жизни. Первое я понимаю, второе же непонятно, потому что почти невозможно. Велят жить непременно в деревне, но ведь постоянная жизнь в деревне предполагает постоянную возню с мужиками, с животными, стихиями всякого рода, и уберечься в деревне от хлопот и забот так же трудно, как в аду от ожогов. Но все же буду стараться менять жизнь по мере возможности, и уже через Машу объявил, что прекращаю в деревне медицинскую практику. Это будет для меня и облегчением, и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть. Велят мне есть раз шесть в день и возмущаются, находя, что я ем очень мало. Запрещено много говорить, плавать и проч., и проч.
Кроме легких, все мои органы найдены здоровыми, все органы; что у меня иногда по вечерам бывает импотенция, я скрыл от докторов. До сих нор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было не вредно; теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость!
Автора «Палаты № 6» из палаты № 16 перевели в 14. Тут просторно, два окна, потапенковское освещение, три стола. Крови выходит немного. После того вечера, когда был Толстой (мы долго разговаривали), в 4 часа утра у меня опять шибко пошла кровь.
Мелихово здоровое место; оно как раз на водоразделе, стоит высоко, так что в нем никогда не бывает лихорадки и дифтерита. Решили общим советом, что я никуда не поеду и буду продолжать жить в Мелихове. Надо только покомфортабельнее устроить помещение. Когда надоест в Мелихове, то поеду в соседнюю усадьбу, которую я арендовал для братьев, на случай их приезда.
Ко мне то и дело ходят, приносят цветы, конфекты, съестное. Одним словом, блаженство. <…> Я пишу уже не лежа, а сидя, но написав, тотчас же ложусь на одр свой.
Иван Леонтьевич Щеглов:
В апреле 1897 г., в бытность мою в Москве, я получил от Чехова открытку (со штемпелем от 5 апреля) с приглашением навестить его: «Милый Жан, буду с нетерпением ожидать Вас. Приходите во всякое время дня, кроме промежутка от часа до трех пополудни, когда происходит кормление и прогуливание больных зверей. Я скажу швейцару, чтобы он принял Вас. Или лучше всего, когда придете, пришлите мне со швейцаром Вашу карточку, и я скажу, чтобы Вас привели ко мне немедленно. Мне гораздо лучше. Я уже гуляю. — Обитатель палаты № 14, А. Чехов. Суббота. Клиника проф. Остроумова».
Невеселое вышло это свидание!.. Кроме того, в помещении, где находился Чехов, было еще двое больных, и это стесняло свободу беседы… Помещение — светлое, высокое, просторное, каковым русские литераторы редко пользуются, находясь в добром здоровье. Чехов лежал на койке в больничном халате, заложив руки за голову, и о чем-то думал… Сбоку, вровень с кроватью, помещалась предательская жестяная посудина, прикрытая чистым полотенцем, куда A. П. изредка откашливался. С другой стороны — столик, и на нем пачка писем, чья-то толстая рукопись и вазочка с букетом живых цветов. Увидя меня, он поднялся с кровати, протянул исхудалую руку и улыбнулся своей милой доброй «чеховской» улыбкой. Я сел рядом на стул.
— Ну, что, Антуан, как дела?
— Да что, Жан, — плохиссиме! Зачислен отныне официальным порядком в инвалидную команду… Впрочем, медикусы утешают, что я еще долгонько протяну, если буду блюсти инвалидный устав… Это значит: не курить, не пить… ну, и прочее. Не авантажная перспектива, надо признаться!
И его грустное, утомленное лицо стало еще грустнее.
Чтобы переменить разговор, я обратил внимание на толстую рукопись, лежавшую на столике…
— Ах, это? Это один юноша мне всучил… Начинающий писатель — усиленно просил проштудировать… Поди, думает, невесть какая сладость быть русским писателем! — Чехов вздохнул и показал глазами на пачку писем: — Один ли он тут!
«Ну, люди, — подумал я про себя, — даже в госпитале, больному человеку, не дадут покоя!»
— А это у вас от кого? — кивнул я на букет, украшавший больничный столик. — Наверное, какая-нибудь московская поклонница?
— И не угадали: не поклонница, а поклонник… Да еще, вдобавок, московский богатей, миллионер. — Чехов помолчал и горько усмехнулся: — Небось, и букет преподнес, и целый короб всяких комплиментов, а попроси у этого самого поклонника «десятку» взаймы — ведь не даст! Будто не знаю я их… этих поклонников!
Мы оба помолчали.
— А знаете ли, кто у меня вчера здесь был? — неожиданно и с видимым удовольствием вставил Чехов. — Вот сидел на этом самом месте, где вы теперь сидите.
— Не догадываюсь.
— Лев Толстой!
Я невольно разволновался.
— Вот интересно, о чем вы с ним разговаривали?
Чехов чуть-чуть нахмурился и уклончиво отвечал:
— Говорили мы с ним немного, так как много говорить мне запрещено, да и потом… при всем моем глубочайшем почтении к Льву Николаевичу, я во многом с ним не схожусь… во многом! — подчеркнул он и закашлялся от видимого волнения. Очевидно было, что его более тронул и образовал самый факт посещения, чем его душевный результат, и также очевидно было… что критика и мораль Льва Толстого у койки больного, нуждающегося писателя пришлась не совсем ко двору.
Чтоб излишне не утомлять Чехова, я поднялся и стал прощаться. Он проводил меня в коридор до самых дверей, убеждая навестить его в непродолжительном времени в Мелихове.
— Слышите, Жан, я беру с вас слово!.. И, пожалуйста, не откладывайте по обыкновению, ибо летом медикусы посылают меня на кумыс. — И уже у самых дверей он добавил, мягко улыбнувшись: — А ведь знаете, я почти привык здесь… здесь так удобно думать! А но утрам я хожу гулять, хожу в Новодевичий монастырь… на могилу Плещеева. Другой раз загляну в церковь, прислонюсь к стенке и слушаю, как поют монашенки… И на душе бывает так странно и тихо!..
Антон Павлович Чехов. Из дневника 1897 г.:
С 25 марта по го апреля лежал в клинике Остроумова. Кровохарканье. В обеих верхушках хрипы, выдох; в правой притупление. 28 марта приходил ко мне Толстой Л. Н.; говорили о бессмертии.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. О. Меньшикову. Мелихово, 16 апреля 1897 г.:
В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы; мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю.
Иван Леонтьевич Щеглов:
Приехав в конце апреля в Мелихово, я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в Чехове со времени нашего недавнего свидания в остроумовской клинике. Лицо было желтое, изможденное, он часто кашлял и зябко кутался в плед, несмотря на то, что вечер был на редкость теплый… Помню, в ожидании ужина, мы сидели на скамеечке возле его дома, в уютном уголке, украшенном клумбами чудесных тюльпанов; рядом, у ног Чехова, лежал, свернувшись, его мелиховский любимчик, собачка Бром, маленькая, коричневая, презабавная, похожая на шоколадную сосульку… Чеховски деликатно, меткими полунамеками, А.П. повествовал мне о своих житейских невзгодах и сетовал на вызванное ими крайнее переутомление.
— Знаете, Жан, что мне сейчас надо? — заключил он, и в его голосе звучала страдальческая нота. — Год отдохнуть! Ни больше, ни меньше. Но отдохнуть в полном смысле. Пожить в полное удовольствие; когда вздумается, — погулять, когда вздумается, — почитать, путешествовать, бить баклуши, ухаживать… Понимаете, один только год передышки, а затем я снова примусь работать, как каторжный!
1897–1898. Уроки французского
Антон Павлович Чехов. Из письма В. М. Соболевскому. Мелихово, 19 августа 1897 г:
Я говорю на всех языках, кроме иностранных; когда за границей я говорю по-немецки или по-французски, то кондуктора обыкновенно смеются, и в Париже добраться с одного вокзала на другой для меня это все равно, что играть в жмурки.
Антон Павлович Чехов. Из дневника 1897 г:
4 сент. Приехал в Париж. Moulin rouge, danse du ventre, Café du Néan с гробами. Café du Ciel и проч. 8-го сент. В Биаррице. Здесь В. М. Соболевский и В. А. Морозова. Каждый русский в Биаррице жалуется, что здесь много русских.
14 сент. Байона. Grande course landaise. Бой с коровами.
22 сент. Из Биаррица в Ниццу через Тулузу.
23 сент. Ницца. Поселился в Pension Russe. Знакомство с Максимом Ковалевским, завтраки у него в Beaulieu, в обществе Н. И. Юрасова и художника Якоби. В Монте-Карло.
7 окт. Признания шпиона.
9 окт. Видел, как мать Башкирцевой играла в рулетку. Неприятное зрелище.
15 ноябрь. Монте-Карло. Я видел, как крупье украл золотой.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Париж, 5(17) сентября 1897 г.:
Вчера весь день ходил по Парижу. Был с Настей в magasin du Louvre, купил себе фуфайку, палку, 2 галстука, сорочку. Вечером был в Moulin rouge, видел знаменитый danse du ventre[16]. В громадном слоне с красными глазами маленькая зрительная зала, куда нужно взбираться по узкой витой лестнице — здесь и проделывается эта danse du ventre при звоне бубнов и пианино, за которым сидит негритянка.
Погода пасмурная, но весело. Город любопытный и располагающий к себе.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Биарриц, 11 (23) сентября 1897 г.:
В Бордо я застал теплое, яркое утро, но чем ближе к Биаррицу, тем все хуже и хуже. Меня встретили Соболевский и Морозова. Когда ехали с вокзала, шел дождь, дул осенний ветер. М<орозова> предлагала занять у нее комнату, но я отклонил сие любезное предложение и поселился в «Виктории». Погода в общем неважная, особенно по утрам, но стоит только выглянуть солнцу, как становится жарко и очень весело. Plage[17] интересен; хороша толпа, когда она бездельничает на песке. Я гуляю, слушаю слепых музыкантов; вчера ездил в Байону, был в Casino на «La belle Helene»[18]. Интересен город со своим рынком, где много кухарок с испанскими физиономиями. Жизнь здесь дешевая. За 14 франков мне дают комнату во втором этаже. Service и все остальное. Кухня очень хорошая, изысканная, только одно не хорошо — приходится много есть. За завтраком и обедом, все за ту же цену, подают вино, rouge et blanc[19]; есть хорошее пиво, хорошая Марсала — одним словом, тяжела ты, шапка Мономаха! Очень много женщин. Погода, кажется, не станет лучше. Придется скоро покинуть эти милые места и отправиться куда-нибудь на юг, через Париж, конечно. Поеду на Ривьеру, потом, должно быть, в Алжир. Домой не хочется. <…> Русских очень, очень много. Женщины еще туда-сюда, у русских же старичков и молодых людей физиономии мелкие, как у хорьков, и все они роста ниже среднего. Русские старики бледны, очевидно изнемогают по ночам около кокоток; ибо у кого импотенция, тому ничего больше не остается, как изнемогать. А кокотки здесь подлые, алчные, все они тут на виду — и человеку солидному, семейному, приехавшему сюда отдохнуть от трудов и суеты мирской, трудно удержаться, чтобы не пошалить.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. А. Хотяинцевой. Биарриц, 17 (29) сентября 1897 г.:
На днях в Байоне происходил бой коров. Пикадоры-испанцы сражались с коровами. Коровенки, сердитые и довольно ловкие, гонялись по арене за пикадорами, точно собаки. Публика неистовствовала.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ницца, 25 сентября (7 октября) 1897 г.:
В Ницце тепло; очаровательное море, пальмы, эвкалипты, но вот беда: кусаются комары. Если здешний комар укусит, то потом три дня шишка. Мой адрес для писем: France, Nice, Pension Russe. Этот пансион содержит русская дама, кухарка у нее русская, и щи вчера подавали русские, зеленые. Мне хорошо за границей, домой не тянет; но если не буду работать, то скоро вернусь в свой флигель. Праздность опротивела. Да и деньги тают, как безе.
Антон Павлович Чехов. Из письма И. П. Чехову. Ницца, 2 (14) октября 1897 г.:
Вчера я видел, как около училища школьники играли в мяча, по-видимому, в беглого. С ними были учитель и поп. Игра была шумная, как когда-то в Таганроге, и поп бегал взапуски, не стесняясь присутствием посторонних.
За границей стоит пожить, чтобы поучиться здешней вежливости и деликатности в обращении. Горничная улыбается, не переставая; улыбается, как герцогиня на сцене, — и в то же время по лицу видно, что она утомлена работой. Входя в вагон, нужно поклониться; нельзя начать разговора с городовым или выйти из магазина, не сказавши «bonjour». В обращении даже с нищими нужно прибавлять «monsieur» и «madame».
Игнатий Николаевич Потапенко:
Чехов жил в русском пансионе, который теперь уже, кажется, не существует. Приехав, я застал его там. Пансион был наполнен, так что мне едва удалось добыть комнату где-то во флигеле. У Чехова же была хорошая просторная комната в главном здании.
Публика в пансионе была русская, но крайне серая и неинтересная. Какой-то провинциальный прокурор, учитель, баронесса с дочерью, которой дома, в России, почему-то не удавалось выйти замуж, и т. п.
Но утешением служило близкое соседство М. М. Ковалевского, который жил в своей вилле в Болье, в двадцати минутах езды от Ниццы, и часто посещал А.П., к которому относился с какой-то трогательной заботливостью.
Антон Павлович чувствовал себя здесь в высшей степени бодро. Я редко видел его таким оживленным и жизнерадостным. Самое место, где помещался наш пансион, не отличалось ни бойкостью, ни красотой. Моря отсюда не было видно, да и горы заслонялись высокими домами. Но недалеко была главная улица — Avenue de la Gare, по которой мы почти каждый день путешествовали к морю и там проводили часы. Тогда же завязалась у А.П. трогательная дружба с Юрасовым, местным вице-консулом и консулом в Ментоне, белым старичком, который с обожанием смотрел на него и возился с ним, как с ребенком.
Раз в неделю у него бывали пироги, настоящие русские пироги, и он зазывал Антона Павловича к себе. Иногда удовольствие есть эти вице-консульские пироги выпадало и на мою долю. Да и самый пансион не без основания назывался «русским» (хотя в то время официальное название у него было какое-то другое). Там была русская кухарка, история которой интересовала все население пансиона, а А.П. не менее, чем других. Благодаря ей на нашем столе иногда появлялись тоже пироги, по-русски приготовленная селедка и даже борщ.
Сама же она, хотя и не забыла родного языка, но давным-давно совершенно офранцузилась и не выражала ни малейшего желания вернуться в Россию.
— Зачем? — говорила она. — Там я была рабой, а здесь — свободная гражданка, такая, как все.
В Ниццу она попала лет двадцать тому назад, случайно, в качестве горничной при купеческой семье, но семья уехала, а она осталась. Вышла замуж за негра, плававшего на каком-то пароходе, и у нее была дочь-мулатка, таинственное существо, жившее тут же, в здании пансиона, но отдельно от матери.
Дело в том, что негр, однажды вернувшись из плавания, нашел у своей жены белого ребенка и, сделав из этого правильный вывод, отверг жену, не захотел иметь с нею больше никакого дела. В то время, о котором идет речь, его уже не существовало, он умер. Да и то белое существо, которое послужило причиной разрыва, тоже умерло.
А смуглолицая Соня (так, кажется, ее звали), уже совсем взрослая девушка, избегала показываться на глаза своей матери, которая встречала ее суровым укором. Она и вообще почти не показывалась, и если уж ей необходимо было выйти со двора, она делала это торопливо, чтобы как можно меньше глаз видели ее.
Выходила же она по вечерам и возвращалась домой не всегда одна…
Это странное сплетение обстоятельств почему-то сильно овладело вниманием А.П. Впрочем, это было понятно.
«В жизни все просто», — обыкновенно говорил он, бракуя в литературе все нарочитое, искусно скомпонованное, эффектное, рассчитанное на то, чтобы удивить читателя. А тут вдруг перед ним жизнь, дающая готовый сюжет для забористого бульварного романа.
Простая русская девушка, негр, белый ребенок, таинственная мулатка, выходящая на ночной промысел…
Иногда за обедом, когда подавали русское блюдо, он сопоставлял, по обыкновению отрывисто и без всяких объяснений: «Русский борщ и мулатка…» И всегда, когда но двору проходила смуглолицая Соня, он всматривался в нее и следил за нею глазами.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Пицца, 15 (27) октября 1897 г.:
Я уже привык к месту, освоился, осмотрелся и нахожу, что я превосходно сделал, что не купил участка в Ялте. Здесь и теплей, и интересней, и жизнь гораздо дешевле, и если бы понадобилось купить участок, то это здесь удалось бы сделать и скорее и выгоднее. За превосходную комнату с коврами, с камином и проч. и проч. и с отдельной уборной, с правом сидеть и принимать своих гостей в салоне, за завтрак, обед (по качеству и количеству не уступающий ничем 2-х рублевому обеду в Эрмитаже), кофе и проч. и проч. я плачу 70 франков в неделю, т. е. 100 р. в месяц. Стало быть, холостой человек, зарабатывающий 2500–3000 р. в год, может прожить здесь прекрасно. Приходится много расходовать на мелочи — на газеты, которые я читаю в изобилии, глотаю, и на певцов и музыкантов, которые то и дело приходят во двор и задают концерты под окнами. А здешние уличные певцы, которым платишь по 10 сантимов, поют из опер, поют гораздо лучше, чем в мамонтовской опере, и я думаю, что здешний уличный тенор, во всяком случае, более талантливый и более изящный, чем, например, Петруша Мельников, получал бы у Мамонтова по 500 р. в месяц. Я не преувеличиваю и с каждым днем все убеждаюсь, что петь в опере не дело русских. Русские могут быть разве только басами, и их дело торговать, писать, пахать, а не в Милан ездить.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ницца, 27 октября (8 ноября) 1897 г.:
А вот тебе на закуску урок французского языка. На адресе принято писать «Monsieur Antoine Tchekhoff», а не «a M-r Ant. Tchekhoff». Надо писать «recommandee», а не «recommandée». Французский язык очень вежливый и тонный язык, ни одна фраза, даже в разговоре с прислугой, с городовым или с извозчиком, не обходится без monsieur, madame и без «я вас прошу» и «будьте добры». Нельзя сказать «дайте воды», а «будьте добры дать мне воды» или «дайте воды, я вас прошу». Но эта фраза, т. е. «я вас прошу», не должна быть «je vous en pre» (же ву зан при), как говорят в России, а непременно «s'il vous plait» (если вам нравится) или, для разнообразия, «ayez la bonté de donner»… (имейте доброту дать), «veuiliez donner» (вёйе) — пожелали бы вы дать. Если кто в магазине говорит «je vous en prie», то так уж и знай, что это русский. Русские же слово «les gens» в смысле «прислуга» произносят как «жанс», но это неверно, надо говорить «жан»… Слово «oui» — да — надо произносить не «вуй», как у нас, а «уий», чтобы слышалось и. Желая доброго пути, русские говорят: «bon voyage — бон вуайаш», сильно слышится ш, надо же произносить — воайажж… Voisinage… вуазинажжж… а не вуазинаш… Также «treize» и «quatorze» надо произносить не трэс и не каторс, как Аделаида, а трэззз… каторззз… чтобы звучало в конце слова з. Слово «sens» — чувство — произносится санс, слово «soit» в смысле «пусть» — суатт. Слово «ailleurs» — в другом месте — и «d'ailleurs» — впрочем — произносятся альор и дальор, причем о приближается к е.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ницца, 31 октября — 2 ноября (12–14 ноября) 1897 г.:
Здесь начинается сезон. Большой съезд публики со всех концов света, даже с Сандвичевых островов. Много русских. Здесь все хорошо, но не во всем, однако, Франция опередила Россию. Спички, сахар, папиросы, обувь и аптеки в России несравненно лучше. Здешний сахар не сладок, а конфекты в сравнении с нашими ничего не стоят.
Антон Павлович Чехов. Из письма Л. И. Сувориной. Ницца, 10 (22) ноября 1897 г:
В Биаррице я завел себе для французского языка Margot, девицу 19 лет; когда мы прощались, она говорила, что непременно приедет в Ниццу. И, вероятно, она здесь, в Ницце, но я никак не могу ее найти и… и не говорю по-французски. Погода здесь райская. Жарко, тихо, ласково. Начались музыкальные конкурсы. По улицам ходят оркестры, шум, танцы, смех. Гляжу на все это и думаю: как глупо я делал раньше, что не живал подолгу за границей. Теперь мне кажется, что, если буду жив, я уже не стану зимовать в Москве ни за какие пряники. Как октябрь, так и вон из России. Природа здешняя меня не трогает, она мне чужда, но я страстно люблю тепло, люблю культуру… А культура прет здесь из каждого магазинного окошка, из каждого лукошка; от каждой собаки пахнет цивилизацией.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ницца, 12 (24) ноября 1897 г.:
Теперь о здоровье. Все благополучно. Je suis bien portant. По-французски здоровый — sain, но это от носится только к пище, воде, климату, про себя же люди говорят — bien portant от «se porter bien» — хорошо носить себя, быть здоровым. Поздоровавшись, ты говоришь: «Je suis charme de vous voir bien portant» — я рад видеть вас в добром здоровье. После charme и вообще слов, означающих душевную деятельность и деятельность наших пяти чувств, памяти, глагол, как дополнение, обыкновенно следует с предлогом de. Наприм<ер>: j'oublie de vous donner de l'argent — я забываю дать вам денег. Bien значит хорошо и употребляется также в смысле очень. Vous etes bien bon — вы очень добры. И те semble bien cher — мне это кажется очень дорого. Je vous remercie bien[20]. Учиться по-французски в наши годы трудно, очень даже, но добиться кое-чего можно. Не учись у О<льги> П<етровны>, а читай что-нибудь со словарем, по 5–10 строк в день, и выучивай по одному выражению в день. Например, сегодня выучи значение la piece (вещь, штука). Тебя спрашивают: сколько вам нужно книг, монет, комнат? Ты отвечаешь trois pieces, sept pieces. А завтра выучи слово monier[21] или descendre[22]. Учи по словарю Макарова. И так в месяц выучишь 30 слов в их французском, часто употребляемом значении. Говорю я дурно, но читаю уже хорошо и могу писать письма по-французски. Будь здорова.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ницца, 14 (26) декабря 1897 г.:
Что великолепно в Ницце, так это цветы, которыми здесь запружены все рынки. Масса цветов и дешевизна необычайная. И цветы удивительно выносливые, не вянущие. Как бы ни завял цветок, но стоит только обрезать внизу кончик стебелька и поставить ненадолго в теплую воду — и оживает цветок.
Александра Александровна Хотяинцева:
По утрам Антон Павлович гулял на Promenade des Anglais и, греясь на солнце, читал французские газеты. В то время они были очень интересны — шло дело Дрейфуса, о котором Чехов не мог говорить без волнения.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Ницца, 4 (16)января 1898 г.:
Дело Дрейфуса закипело и поехало, но еще не стало на рельсы. Зола благородная душа, и я (принадлежащий к синдикату и получивший уже от евреев 100 франков) в восторге от его порыва. Франция чудесная страна, и писатели у нее чудесные.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Ницца, 6 (18) февраля 1898 г.:
Я знаком с делом по стенограф<ическому> отчету, это совсем не то, что в газетах, и Зола для меня ясен. Главное, он искренен, т. е. он строит свои суждения только на том, что видит, а не на призраках, как другие. И искренние люди могут ошибаться, это бесспорно, но такие ошибки приносят меньше зла, чем рассудительная неискренность, предубеждения или политические соображения. Пусть Дрейфус виноват, — и Зола все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание. Скажут: а политика? интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров, жандармов и без них много, и во всяком случае роль Павла им больше к лицу, чем Савла. И какой бы ни был приговор. Зола все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость, и умрет он с покойной или по крайней мере облегченной совестью. У французов наболело, они хватаются за всякое слово утешения и за всякий здоровый упрек, идущие извне, вот почему здесь имело такой успех письмо Бьернстерна и статья нашего Закревского (которую прочли здесь в «Новостях»), и почему противна брань на Зола, т. е. то, что каждый день им подносит их малая пресса, которую они презирают. Как ни нервничает Зола, все-таки он представляет на суде французский здравый смысл, и французы за это любят его и гордятся им, хотя и аплодируют генералам, которые, в простоте души, пугают их то честью армии, то войной.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Однажды очень ранней весной, когда у нас бушевали последние, с пронизывающим ветром метели, он трогательно прислал нам в Мелихово маленькую картонную коробочку с живыми цветами фиалок и еще каких-то весенних цветов, не помню. Bet! это пришло к нам в раздавленном виде, а проехав шестнадцать верст по морозу от станции до Мелихова, превратилось в заледенелый комочек, но внимательность, нежность Чехова тронули всех домашних.
Театральный роман. Начало
Константин Сергеевич Станиславский:
Весной 1897 года зародился Московский Художественно-общедоступный театр. Пайщики набирались с большим трудом, так как новому делу не пророчили успеха. Антон Павлович откликнулся по первому призыву и вступил в число пайщиков. Он интересовался всеми мелочами нашей подготовительной работы и просил писать ему почаще и побольше. Он рвался в Москву, но болезнь приковывала его безвыездно к Ялте, которую он называл Чертовым островом, а себя сравнивал с Дрейфусом. Больше всего он, конечно, интересовался репертуаром будущего театра.
На постановку его «Чайки» он ни за что не соглашался. После неуспеха ее в С.-Петербурге это было его больное, а следовательно, и любимое детище. Тем не менее в августе 1898 года «Чайка» была включена в репертуар. Не знаю, каким образом Вл. И. Немирович-Данченко уладил это дело.
Александр Леонидович Вишневский:
В первые дни начала художественного театра, Станиславский не вполне разделял репертуарные увлечения Немировича-Данченко. И высшая любовь последнего, Чехов, была первому непонятна. — Чехов? «Чайка»? Да разве можно это играть? Я ничего не понимаю, — так отвечал Станиславский своему союзнику.
В течение двух недель по нескольку часов кряду старался Владимир Иванович обратить Станиславского в чеховскую веру, и все же уехал Константин Сергеевич, до конца не приняв своим сердцем все еще чуждую ему «Чайку». Но вот поразительный пример режиссерской интуиции Станиславского: оставаясь все еще равнодушным к Чехову, он присылал такой богатый, полный оригинальности и глубины материал для постановки «Чайки», что Немирович-Данченко приходил в восторг.
Константин Сергеевич Станиславский:
Я уехал в Харьковскую губернию писать mise en scène.
Это была трудная задача, так как, к стыду своему, я не понимал пьесы. И только во время работы, незаметно для себя, я вжился и бессознательно полюбил ее. Таково свойство чеховских пьес. Поддавшись обаянию, хочется вдыхать их аромат. Скоро из писем я узнал, что А.П. не выдержал и приехал в Москву. Приехал он, вероятно, для того, чтобы следить за репетициями «Чайки», которые уже начались тогда. Он очень волновался. К моему возвращению его уже не было в Москве. Дурная погода угнала его назад в Ялту. Репетиции «Чайки» временно прекратились.
Настали тревожные дни открытия Художественного театра и первых месяцев его существования. Дела театра шли плохо. За исключением «Федора Иоанновича», делавшего большие сборы, ничто не привлекаю публики. Вся надежда возлагалась на пьесу Гауптмана «Ганнеле», но московский митрополит Владимир нашел ее нецензурной и снял с репертуара театра.
Наше положение стало критическим, тем более что на «Чайку» мы не возлагали материальных надежд.
Однако пришлось ставить ее. Все понимали, что от исхода спектакля зависела судьба театра. Но этого мало. Прибавилась еще гораздо большая ответственность. Накануне спектакля, по окончании малоудачной генеральной репетиции, в театр явилась сестра Антона Павловича — Мария Павловна Чехова.
Она была очень встревожена дурными известиями из Ялты.
Мысль о вторичном неуспехе «Чайки» при тогдашнем положении больного приводила ее в ужас, и она не могла примириться с тем риском, который мы брали на себя.
Мы тоже испугались и заговорили даже об отмене спектакля, что было равносильно закрытию театра. Нелегко подписать приговор своему собственному созданию и обречь труппу на голодовку. А пайщики? что они сказали бы? Наши обязанности по отношению к ним были слишком ясны.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
17 декабря 1898 года мы играли «Чайку» в первый раз. Наш маленький театр был не совсем полон. Мы уже сыграли и «Федора» и «Шейлока»; хоть и хвалили нас, однако составилось мнение, что обстановка, костюмы необыкновенно жизненны, толпа играет исключительно, но… «актеров пока не видно», хотя Москвин прекрасно и с большим успехом сыграл Федора. И вот идет «Чайка», в которой нет ни обстановки, ни костюмов — один актер. Мы все точно готовились к атаке. Настроение было серьезное, избегали говорить друг с другом, избегали смотреть в глаза, молчали, все насыщенные любовью к Чехову и к новому нашему молодому театру, точно боялись расплескать эти две любви, и несли мы их с каким-то счастьем, и страхом, и упованием. Владимир Иванович (Немирович-Данченко. — Сост.) от волнения не входил даже в ложу весь первый акт, а бродил по коридору.
Константин Сергеевич Станиславский:
В 8 часов занавес раздвинулся. Публики было мало. Как шел первый акт — не знаю. Помню только, что от всех актеров пахло валериановыми каплями. Помню, что мне было страшно сидеть в темноте и спиной к публике во время монолога Заречной и что я незаметно придерживал ногу, которая нервно тряслась.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Очень волновалась и я. Но с первых минут, с первых слов несравненных Маши — Лилиной и Медведенки — Тихомирова я просто забыла, что я в театре, что это пьеса, и чувствовала небывалое в театре ощущение: будто это не сцена и не актеры, а живая жизнь — и мы все случайно подсматриваем ее… Это впечатление разделяли и все зрители.
Александр Леонидович Вишневский:
Думаю, все, кто был в тот вечер в театре «Эрмитаж», помнят первое представление «Чайки». Как мы играли, что говорили, никто из нас не помнит, потому что мы все едва стояли на ногах. Каждый из нас только мучительно сознавал, что нужно иметь успех, так как от этого зависит, может быть, самая жизнь любимого поэта.
Опустился занавес при гробовом молчании. Мы похолодели. С Книппер сделалось дурно. Роксанова (молодая артистка, игравшая Нину Заречную) разразилась слезами. Как продолжительно было молчание публики, можно судить по тому, что мы успели разойтись по уборным. И вдруг зала забурлила, загрохотала от рукоплесканий. Публика пришла в себя — и затишье, так ошибочно истолкованное за сценой, сменилось бурей восторга.
Когда я теперь возобновляю в памяти впечатления, мне становится ясно, что захват зрителя начался почти с первых же сцен пьесы. Но было еще какое-то колебание. Нужно было что-то, что ударило бы с особенной силой. И этот последний удар был дан М. П. Лилиной, игравшей Машу, когда она со слезами рухнула на грудь доктора Дорна, которого играл я. Этот момент решил сценическую судьбу «Чайки», я рискну сказать даже — судьбу Чехова в театре. Чехов и Художественный театр победили. И надолго. Театр рисковал не напрасно.
Помню, как помощник режиссера подбежал к нам и ошарашил меня той бесцеремонностью, с какой он толкнул нас на сцену. Там уже был раздвинут занавес. Публика повскакивала с мест, аплодировала, шумела. Мы стояли растерянные, невменяемые, навытяжку. Никому и в голову не пришло поклониться. После первого акта нас вызывали двенадцать раз.
Все целовались. Кто-то не выдержал, разрыдался. Все сотрудники — рабочие, портнихи, ученики, статисты — высыпали на сцену. Пришлось затянуть антракт. От слез у многих сошел грим, так что пришлось перегримировываться.
Константин Сергеевич Станиславский:
Многие, и я в том числе, от радости и возбуждения танцевали дикий танец.
Александр Леонидович Вишневский:
Второй акт прошел без особого успеха, в третье повторилось то же, что было после первого акта.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Даже тишайший Эфрос — критик и журналист — человек, необычайно сдержанный и задумчивый, «вышел из берегов»: вскочил на стул, кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму.
Александр Леонидович Вишневский:
По окончании спектакля публика стала требовать, чтобы Чехову послали в Ялту телеграмму. Немирович-Данченко составил текст и прочел его со сцены. Новая шумная овация.
Константин Сергеевич Станиславский:
С этого вечера между всеми нами и Антоном Павловичем установились почти родственные отношения.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Чем же мы взяли? Актеры мы все, за исключением Станиславского и Вишневского, были неопытные и не так уж прекрасно играли «Чайку», но, думается, что вот эти две любви — к Чехову и к нашему театру, которыми мы были полны до краев и которые мы несли с таким счастьем и страхом на сцену, — не могли не перелиться в души зрителей. Они-то и дали нам эту радость победы…
Следующие спектакли «Чайки» пришлось отменить из-за моей болезни — я первое представление играла с температурой 39° и сильнейшим бронхитом, а на другой день слегла совсем. И нервы не выдержали; первые дни болезни никого не пускали ко мне; я лежала в слезах, негодуя на свою болезнь. Первый большой успех — и нельзя играть!
А бедный Чехов в Ялте, получив поздравительные телеграммы и затем известие об отмене «Чайки», решил, что опять полный неуспех, что болезнь Книппер — только предлог, чтобы не волновать его, не вполне здорового человека, известием о новой неудачной постановке «Чайки».
Антон Павлович Чехов. Из письма Е. М. Шавровой-Юст. Ялта, 26 декабря 1898 г.:
Из Москвы пишут и барабанят во все барабаны, что «Чайка» имела успех. Но так как в театре мне вообще не везет, не везет роковым образом, то одна из исполнительниц после первого представления заболела — и «Чайка» моя не идет. В театре мне так не везет, так не везет, что если бы я женился на актрисе, то у нас наверное родился бы орангутанг или дикобраз.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
К Новому году я поправилась, и мы с непрерывающимся успехом играли весь сезон нашу «Чайку».
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Она шла при переполненном театре, и часто я, возвращаясь домой поздним вечером мимо «Эрмитажа» в Каретном ряду, где тогда помещался Художественный театр, наблюдала картину, как вся площадь перед театром была запружена народом, конечно главным образом молодежью, студентами, курсистками, которые устраивались там на всю ночь — кто с комфортом, захватив складной стульчик, кто с книжкой у фонаря, кто, собираясь группами и устраивая танцы, чтобы согреться — жизнь кипела на площади, — с тем, чтобы с раннего утра захватить билет и потом уже бежать на занятия, не смущаясь бессонной ночью. Грела и поддерживала молодость…
Художественный театр реабилитировал и заново создал «Чайку», но смело можно сказать, что и «Чайка» создала Художественный театр, во всяком случае все чеховские пьесы — это лучшее, что театр создал.
Константин Сергеевич Станиславский:
Ему <…> хотелось посмотреть «Чайку» в нашем исполнении. И мы дали ему эту возможность. За неимением постоянного помещения наш театр временно обосновался в Никитском театре. Там и был объявлен театр без публики. Туда были перевезены все декорации.
Обстановка грязного, пустого, неосвещенного и сырого театра, с вывезенной мебелью, казалось бы, не могла настроить актеров и их единственного зрителя. Тем не менее спектакль доставил удовольствие Антону Павловичу. Вероятно, он очень соскучился о театре за время «ссылки» в Ялте. С каким почти детским удовольствием он ходил по сцене и обходил грязные уборные артистов. Он любил театр не только с показной его стороны, но и с изнанки.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
По окончании четвертого акта, ожидая, после зимнего успеха, похвал автора, мы вдруг видим: Чехов, мягкий, деликатный Чехов, идет на сцену с часами в руках, бледный, серьезный, и очень решительно говорит, что все очень хорошо, но «пьесу мою я прошу кончать третьим актом, четвертый акт не позволю играть…» Он был со многим не согласен, главное с темпом, очень волновался и уверял, что этот акт не из его пьесы. И правда, у нас что-то не ладилось в этот раз. Владимир Иванович и Константин Сергеевич долго успокаивали его, доказывая, что причина неудачной нашей игры в том, что мы давно не играли (весь пост), а все актеры настолько зеленые, что потерялись среди чужой, неуютной обстановки мрачного театра. Конечно, впоследствии забылось это впечатление, все поправилось, но всегда вспоминался этот случай, когда так решительно и необычно для него протестовал Чехов, когда ему было что-то действительно не по душе.
Константин Сергеевич Станиславский:
Исполнение одной из ролей он осудил строго до жестокости. Трудно было предположить ее в человеке такой исключительной мягкости. А.П. требовал, чтоб роль была отобрана немедленно. Не принимал никаких извинений и грозил запретить дальнейшую постановку пьесы.
Пока шла речь о других ролях, он допускал милую шутку над недостатками исполнения, но стоило заговорить о неудавшейся роли, как А.П. сразу менял тон и тяжелыми ударами бил беспощадно.
— Нельзя же, послушайте. У вас же серьезное дело, — говорил он. Вот мотив его беспощадности. Этими же словами выяснилось и его отношение к нашему театру. Ни комплиментов, ни подробной критики, ни поощрений он не высказывал.
Антон Павлович Чехов. Из письма A. Л. Вишневскому. Ялта, 3 ноября 1899 г.:
Как бы ни было, все прекрасно, и я благодарю небо, что, плывя по житейскому морю, я наконец попал на такой чудесный остров, как Художественный театр. Когда у меня будут дети, то я заставлю их вечно молить Бога за вас всех.
Ольга Книппер
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Мой путь к сцене был не без препятствий. Я росла в семье, не терпевшей нужды. Отец мой, инженер-технолог, был некоторое время управляющим завода в бывшей Вятской губернии, где я и родилась. Родители переехали в Москву, когда мне было два года, и здесь провела я всю свою жизнь. Моя мать была в высшей степени одаренной музыкальной натурой, она обладала прекрасным голосом и была хорошей пианисткой, но, по настоянию отца, ради семьи, не пошла ни на сцену, ни даже в консерваторию. После смерти отца и потери сравнительно обеспеченного существования она стала педагогом и профессором пения при школе Филармонического училища, иногда выступала в концертах и трудно мирилась со своей неудачно сложившейся артистической карьерой.
Я после окончания частной женской гимназии жила, по тогдашним понятиям, «барышней»: занималась языками, музыкой, рисованием. Отец мечтал, чтобы я стала художницей. — он даже показывал мои рисунки Вл. Маковскому, с семьей которого мы были знакомы, — или переводчицей; я в ранней юности переводила сказки, повести и увлекалась переводами. В семье меня, единственную дочь, баловали, но держали далеко от жизни… Товарищ старшего брата, студент-медик, говорил мне о высших женских курсах, о свободной жизни (видя иногда мое подавленное состояние), и когда заметили, как я жадно слушала эти рассказы, как горели у меня глаза, милого студента тихо удалили на время из нашего дома. А я осталась со своей мечтой о свободной жизни.
Детьми и в ранней юности мы ежегодно устраивали спектакли; смастерили сцену у нас в зале, играли и у нас, и у знакомых, участвовали и в благотворительных вечерах. Но когда мне было уже за двадцать лег и когда мы стали серьезно поговаривать о создании драматического кружка, отец, видя мое увлечение, мягко, но внушительно и категорически прекратил эти мечтания, и я продолжала жить как в тумане, занимаясь то тем, то другим, но не видя цели. Сцена меня манила, но по тогдашним понятиям казалось какой-то дикостью сломать семью, которая окружала меня заботами и любовью, уйти, и куда уйти? Очевидно, и своей решимости и веры в себя было мало.
Резко изменившиеся после внезапной смерти отца материальные условия поставили все на свое место. Надо было думать о куске хлеба, надо было зарабатывать его, так как у нас ничего не осталось, кроме нанятой в большом особняке квартиры, пяти человек прислуги и долгов. Переменили квартиру, отпустили прислугу и начали работать с невероятной энергией, как окрыленные. Мы поселились «коммуной» с братьями матери (один был врач, другой — военный) и работали дружно и энергично. Мать давала уроки пения, я — уроки музыки, младший брат, студент, был репетитором, старший уже служил инженером на Кавказе.
Это было время большой внутренней переработки, из «барышни» я превращалась в свободного, зарабатывающего на свою жизнь человека, впервые увидавшего эту жизнь во всей ее пестроте. Но во мне вырастала и крепла прежняя, давнишняя мечта — о сцене. Ее поддержало пребывание в течение двух летних сезонов после смерти отца в «Полотняном заводе», майоратном имении Гончаровых, с которыми дружили и родители, и мы, молодежь. Разыскав по архивным документам, что небольшой дом, в котором тогда помещался трактир, имел в прошлом отношение, хотя и весьма смутное, к Пушкину (его жена происходила из того же рода), мы упросили отдать этот дом в наше распоряжение, и вся наша жизнь сосредоточилась в этом доме. Мы устроили сцену и начали дружно составлять программу народного театра. Мы играли Островского, водевили с пением, пели, читали в концертах. Наша маленькая труппа пополнялась рабочими и служащими писчебумажной фабрики Гончаровых. Когда в 1898 году мы открывали Художественный театр «Царем Федором», я получила трогательный адрес с массой подписей от рабочих Полотняного завода, — это была большая радость, так как Полотняный завод оставил в моей памяти незабываемое впечатление на всю мою жизнь. Мало-помалу сцена делалась для меня осознанной и желанной целью. Никакой другой жизни, кроме артистической, я уже себе не представляла. Потихоньку от матери подготовила я с трудом свое поступление в драматическую школу при Малом театре, была принята очень милостиво, прозанималась там месяц, как вдруг неожиданно был назначен «проверочный» экзамен, после которого мне было предложено оставить школу, но сказано, что я не лишена права поступления на следующий год. Это было похоже на издевательство. Как впоследствии выяснилось, я из числа четырех учениц была единственной, принятой без протекции, а теперь нужно было устроить еще одну, поступавшую с сильной протекцией, отказать нельзя было. И вот я была устранена.
Это был для меня страшный удар, так как вопрос о театре стоял для меня тогда уже очень остро — быть или не быть, вот — солнце, вот — тьма. Мать, видя мое подавленное состояние и несмотря на то, что до этого времени была очень против моего решения идти на сцену, устроила через своих знакомых директоров Филармонии мое поступление в драматическую школу, хотя прием туда уже целый месяц как был прекращен.
Три года я пробыла в школе по классу Вл. И. Немировича-Данченко и А. А. Федотова, одновременно бегая по урокам, чтоб иметь возможность платить за учение и зарабатывать на жизнь. Зимой 1897/98 года я кончала курс драматической школы. Уже ходили неясные, волновавшие нас слухи о создании в Москве какого-то нового, «особенного» театра; уже появлялась в стенах школы живописная фигура Станиславского с седыми волосами и черными бровями, и рядом с ним характерный силуэт Санина; уже смотрели они репетицию «Трактирщицы», во время которой сладко замирало сердце от волнения; уже среди зимы учитель наш, Вл. И. Немирович-Данченко, говорил М. Г. Савицкой, мне и некоторым другим моим товарищам, что мы будем оставлены в этом театре, и мы бережно хранили эту тайну… И вот тянулась зима, надежда то крепла, то, казалось, совсем пропадала, пока шли переговоры… И уже наш третий курс волновался пьесой Чехова «Чайка», уже заразил нас Владимир Иванович своей трепетной любовью к ней, и мы ходили неразлучно с желтым томиком Чехова, и читали, и перечитывали, и не понимали, как можно играть эту пьесу, но все сильнее и глубже охватывала она наши души тонкой влюбленностью, словно это было предчувствие того, что в скором времени должно было так слиться с нашей жизнью и стать чем-то неотъемлемым, своим, родным.
Все мы любили Чехова-писателя, он нас волновал, но, читая «Чайку», мы, повторяю, недоумевали: возможно ли ее играть? Так она была непохожа на пьесы, шедшие в других театрах.
Владимир Иванович Немирович-Данченко говорил о «Чайке» с взволнованной влюбленностью и хотел ее ставить на выпускном спектакле. И когда обсуждали репертуар нашего начинающегося молодого дела, он опять убежденно и проникновенно говорил, что непременно пойдет «Чайка». И «Чайкой» все мы волновались, и все, увлекаемые Владимиром Ивановичем, были тревожно влюблены в «Чайку». Но, казалось, пьеса была так хрупка, нежна и благоуханна, что страшно было подойти к ней и воплотить все эти образы на сцене… Прошли наши выпускные экзамены, происходившие на сцене Малого театра. И вот наконец я у цели, я достигла того, о чем мечтала, я актриса, да еще в каком-то новом, необычном театре.
Мы встретились впервые 9/21 сентября 1898 года — знаменательный и на всю жизнь не забытый день.
До сих пор помню все до мелочей, и трудно говорить словами о том большом волнении, которое охватило меня и всех нас, актеров нового театра, при первой встрече с любимым писателем, имя которого мы, воспитанные Вл. И. Немировичем-Данченко, привыкли произносить с благоговением.
Никогда не забуду ни той трепетной взволнованности, которая овладела мною еще накануне, когда я прочла записку Владимира Ивановича о том, что завтра, 9 сентября, А. П. Чехов будет у нас на репетиции «Чайки», ни того необычайного состояния, в котором шла я в тот день в Охотничий клуб на Воздвиженке, где мы репетировали, пока не было готово здание нашего театра в Каретном ряду, ни того мгновения, когда я в первый раз стояла лицом к лицу с А. П. Чеховым.
Все мы были захвачены необыкновенно тонким обаянием его личности, его простоты, его неумения «учить», «показывать». Не знали, как и о чем говорить… И он смотрел на нас то улыбаясь, то вдруг необычайно серьезно, с каким-то смущением, пощипывая бородку и вскидывая пенсне и тут же внимательно разглядывая «античные» урны, которые изготовлялись для спектакля «Антигоны». <…>
И с этой встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни.
Мария Павловна Чехова:
Когда в феврале 1899 года после знакомства с артистами Московского Художественного театра я писала Антону Павловичу в Ялту, что советую ему поухаживать за Книппер, я, конечно, не предполагала, что за этой невинной шуткой в будущем встанет что-то серьезное, большое… Но, впрочем, как стало известно уже позднее, брат и не нуждался в этом моем совете — он еще при первом знакомстве с О. Л. Книппер обратил на нее внимание. Посмотрев впервые репетицию пьесы «Царь Федор Иоаннович», где Ольга Леонардовна играла Ирину; Антон Павлович писал Суворину, что если бы он остался в Москве, то «влюбился бы в Ирину»! В общем, вышло, что вкусы наши с братом совпали.
После первого знакомства на спектакле «Чайка» я начала встречаться с Ольгой Леонардовной в Москве и помимо театра. Весной 1899 года, когда Антон Павлович вернулся из Ялты, мы поехали в Мелихово и пригласили погостить к нам О. Л. Книппер. Она три дня прожила у нас, оживляя наше тихое Мелихово своим звонким голосом и веселым смехом.
У Антона Павловича начинается переписка с Ольгой Леонардовной. Летом этого же года, заранее списавшись. Антон Павлович встречает Ольгу Леонардовну в Новороссийске (он ездил тогда по делам в Таганрог). Оттуда они вместе едут на пароходе в Ялту. Там в течение двух недель они часто встречаются, совершают прогулки и вместе возвращаются в Москву.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
В Москве Антон Павлович пробыл недолго и в конце августа уехал обратно в Ялту, а уже с 3 сентября возобновилась наша переписка.
Антон Павлович Чехов. Из письма О. Л. Книппер. Ялта, 5 сентября 1899 г.:
Милая актриса, отвечаю на все Ваши вопросы. Доехал я благополучно. Мои спутники уступили мне место внизу, потом устроилось так, что в купе осталось только двое: я да один молодой армянин. По нескольку раз в день я пил чай, всякий раз по три стакана, с лимоном, солидно, не спеша. Все, что было в корзине, я съел. Но нахожу, что возиться с корзиной и бегать на станцию за кипятком — это дело несерьезное, это подрывает престиж Художественного театра. До Курска было холодно, потом стало теплеть, и в Севастополе было уже совсем жарко. В Ялте остановился в собственном доме и теперь живу тут, оберегаемый верным Мустафою. Обедаю не каждый день, потому что ходить в город далеко, а возиться с керосиновой кухней мешает опять-таки престиж. По вечерам ем сыр. Видаюсь с Синани. У Срединых был уже два раза; Вашу фотографию они осматривали с умилением, конфеты съели. Л. В. чувствует себя сносно. Нарзана не пью. Что еще? В саду почти не бываю, а сижу больше дома и думаю о Вас. И проезжая мимо Бахчисарая, я думал о Вас и вспоминал, как мы путешествовали. Милая, необыкновенная актриса, замечательная женщина, если бы Вы знали, как обрадовало меня Ваше письмо. Кланяюсь Вам низко, низко, так низко, что касаюсь лбом дна своего колодезя, в котором уже дорылись до 8 сажен. Я привык к Вам и теперь скучаю и никак не могу помириться с мыслью, что не увижу Вас до весны; я злюсь — одним словом, если бы Наденька узнала, что творится у меня в душе, то была бы история. <…>
Ну, крепко жму и целую Вашу руку. Будьте здоровы, веселы, счастливы, работайте, прыгайте, увлекайтесь, пойте и, если можно, не забывайте заштатного писателя. Вашего усердного поклонника А. Чехова.
В «теплой Сибири»
Исаак Наумович Альтшуллер:
Приехал он в Ялту как будто без определенных планов, но здесь скоро принял решение перебраться на юг окончательно и так как «по гостиницам жить надоело», то стал подыскивать участок. По этому поводу у него происходили постоянные совещания с И. А. Синани, владельцем книжного магазина на набережной, хорошо знакомым всякому бывавшему в Ялте, так как его магазин с лавочкой у входа служил излюбленным местом свиданий и встреч друзей и знакомых, особенно писателей. <…>
Однажды А.П. таинственно повез нас с доктором Орловым в Верхнюю Аутку, которая тогда еще не была присоединена к городу Ялте, а считалась деревней, остановился в конце ее, загадочно предложил нам перелезть через низкий забор, и когда мы очутились на довольно неприглядном участке, под самым пыльным шоссе, с запущенным виноградником, с двумя-тремя тощими деревьями и старым татарским кладбищем с многочисленными характерными надгробными мусульманскими памятниками по передней его границе, он торжественно заявил, что этот самый участок он собирается купить, причем при оценке его рекомендовал обратить особенное внимание на два его достоинства: во-первых, на имеющийся «библейский» колодец и, во-вторых, на чудесный далекий вид на долину речки Учан-Су и кусочек моря. Так как владелец продавал участок из уважения к Чехову необыкновенно дешево, за четыре тысячи, да еще так, что три тысячи можно было платить когда угодно и без процентов, то тут же на общем совещании решено было, что покупать стоит. Впрочем, шоссе впоследствии при ремонте было значительно поднято и несколько отведено в сторону, а к дому Чехова устроен небольшой, в виде переулка, спуск. Денег свободных у него в это время еще не было, и он комбинировал всякие кредитные операции. В середине октября умер отец Антона Павловича, и известие об этом еще более укрепило его в решении поскорее построиться и перевезти мать, которой, как он полагал, будет теперь очень тоскливо оставаться в Мелихове. Последнее предполагалось продать. <…> Он в это время очень много работал, преимущественно по утрам.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. О. Меньшикову. Ялта, 20 октября 1898 г.:
У меня умер отец. Выскочила главная шестерня из мелиховского механизма, и мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мелихове утеряла теперь всякую прелесть и что мне придется устраивать для них теперь новое гнездо. И это весьма вероятно, так как зимовать в Мелихове я уже не буду, а без мужчин в деревне не управиться.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чехову Ялта, 26 октября 1898 г.:
Я покупаю в Ялте участок и буду строиться, чтобы иметь место, где зимовать. Перспектива постоянного скитанья, с номерами, швейцарами, случайной кухней и проч. и проч. пугает мое воображение. Со мною зимовала бы и мать. Здесь зимы нет; конец октября, а розы и прочие цветы цветут взапуски, деревья зелены и тепло. Много воды. Кроме дома ничего не нужно, никаких служб; все под одной крышей. В подвальном этаже уголь, дрова, дворницкая и все. Куры несутся круглый год, и для них особого помещения не нужно, достаточно перегородки. Вблизи булочная, базар. Так что матери будет очень тепло и очень удобно. Кстати же в лесничестве всю осень собирают рыжики и маслята — и это развлечет нашу мать. Строить сам я не буду, все сделает архитектор. К апрелю дом будет готов. Участок, с городской точки зрения, большой; поместится и сад, и цветник, и огород. С будущего года в Ялте железная дорога.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Когда Чехов приступил к постройке дачи, он очень подробно и внимательно разрабатывал с архитектором и приехавшей сестрой, Марией Павловной, план дома. Предполагалось три жильца — он сам, мать и в летнее время сестра, служившая тогда преподавательницей в одной из московских женских гимназий. Требовалось, чтобы комнаты были по возможности изолированы. Оттого дом и имел несколько странное расположение: прямо от входа кабинет Антона Павловича, столько раз описанный, и отделенная от него незастекленной с резьбой дверью небольшая, очень светлая спальня. В другом конце коридора дверь в комнату матери, и в башенке наверху — комната Марии Павловны. Внизу столовая и комната для гостей. Чехов перебрался на свой участок задолго до того, как был готов дом, и жил в комнате при будущей кухне, помещавшейся в отдельном небольшом флигеле. Он очень много занимался будущим садом. У него было большое стремление к своему углу, к покупке всяких участков, дач и т. д.
Александр Иванович Куприн:
Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами. — она походила бы на здания в стиле moderne, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало, отделенное низкой стенкой, старое, заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах.
Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали.
А.П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны!
Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:
— Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? — прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. — Знаете ли, через триста — четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Вскоре после ауткинской дачи он приобрел участок в Кучук-Кое, около Кикинеиза, верстах в 25 от Ялты, совершенно ему не нужный и никчемный, к которому вел очень крутой спуск от шоссе с еще более крутым спуском от него к морскому берегу. Купил потому, что «там чудный вид, и все есть: и маленький домик, и табачный сарай, и дроги, и нужно только будет из Москвы выписать ложки, вилки, самовар. Почта рядом, я уверен, что и матери понравится». — «Но ведь туда добраться нельзя». — «Это ничего, можно будет купить ослика, чудесно будет, или еще и лошадь». А через год он еще купил участок в Гурзуфе, потому что на самом берегу, «свой кусочек берега, и можно будет рыбу ловить, чудесно!». И на обоих участках, я думаю, он был счетом не более двух-трех раз. Когда после продажи сочинений Марксу получались свободные деньги, он собирался и в Москве домик купить, «где-нибудь на окраине, но непременно с садом», и где-нибудь дачу под Москвой, непременно около речки. И когда я ему говорил, что он тоже свой крыжовник любит, то он смеялся и говорил: «Здесь же крыжовника нет, а миндаль, грецкий орех». Но его привлекал, конечно, не крыжовник, а именно свой угол, сад.
Владимир Николаевич Ладыженский:
А когда я навестил Чехова в Крыму, он говорил мне:
— Тебе нравится моя дача и садик, ведь нравится? А между тем это моя тюрьма, самая обыкновенная тюрьма, вроде Петропавловской крепости. Разница только в том, что Петропавловская крепость сырая, а эта сухая.
Чехов долю не мог примириться с жизнью «не по своей воле» на юге, но в конце концов полюбил свою дачу, о которой много заботился. Он ценил, очевидно, результаты своих трудов. И когда, незадолго перед его кончиной, Мария Павловна призналась ему, что и она долго не могла примириться с Ялтой и неизбежной потерей Мелихова, а теперь ей здесь все дорого, Чехов грустно заметил:
— Вот так не любя замуж выходят. Сначала не нравится, а потом привыкают!
Александра Александровна Хотяинцева:
Когда ему пришлось устраивать свой сад в Ялте, где в садах много вечнозеленых растений, он насадил деревья с опадающей листвой, чтобы «чувствовать весну».
Александр Иванович Куприн:
Вставал А.П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда безукоризненно изящно и скромно одетого.
По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставать: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.
Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессоры, светские люди, сенаторы, священники, актеры — и Бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись разные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота — и настоящая, и мнимая.
Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства. <…>
В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом, — удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящая из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И, кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого. <…>
После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу, и поглядывал из-под ее полей прищуренными глазами. Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали но телефону, можно ли видеть А. П-ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили незнакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. <…>
Всего лучше чувствовал себя А.П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда — но год от году все реже и реже — воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим, прелестным юношеским юмором. <…>
После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уже все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время или разбирался в своих памятных книжках, занося впечатления дня. — это, кажется, не было никому известно.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ялта, 10 марта 1899 г.:
В Ялте распускаются и цветут деревья. Я каждый день катаюсь, все катаюсь; разрешил себе истратить на извозчика 300 р., но до сих пор еще и 20 р. не истратил, а все-таки, можно сказать, катаюсь много. Бываю в Ореанде, в Массандре. Катаюсь с поповной чаще, чем с другими, — и по сему случаю разговоров много, и поп наводит справки, что я за человек. Вчера был на вечере.
Михаил Константинович Первухин (1870–1928), прозаик, журналист, редактор газеты «Крымский курьер» (1900–1906):
Бывало, что Чехов, как он сам, шутя над своею слабостью, выражался ироническим тоном, «совершал подвиг», проходя все расстояние от дачи до ялтинской набережной пешком, без отдыха по пути. На набережной же у него была «станция» в крошечном книжном магазине большого чудака Синани, который, будучи человеком весьма скромной, доморощенной культуры, с благоговением относился к писателям вообще, а Чехова буквально боготворил. <…>
У дверей магазинчика Синани стояла удобная скамья, из-за которой чудак-караим вел нескончаемые препирательства с городскою управой и местной полицией, требовавшими удаления ее. И вот если не в самом магазине Синани, то у дверей его, на этой самой скамье, получившей название «писательской», по целым часам засиживался Антон Павлович, греясь на солнышке и созерцая море, сухо покашливая и рассеянно слушая разгоревшийся в магазине спор крикуна Синани с любившим подшучивать над ним непременным членом ялтинской городской управы, отставным знаменитым певцом баритоном Д. Усатовым. <…>
— Перевешать вас всех надо! — горячится вспыльчивый Синани, — в Сибирь сослать! Вот погодите, дождетесь вы! Только и знаете, что население грабите!
Выскочит на улицу, стучит палкою с железным наконечником о цементный тротуар, отчаянно жестикулирует.
— Антон Павлович! — вопит к мирно греющемуся на ласковом солнышке и думающему какую-то печальную, хмурую думу Чехову. Нет, вы слышали?! Нет, что вы скажете на это безобразие?!
Чехов бесконечно далек от предмета спора. Ялту он откровенно недолюбливает и словно сердится на нее за то, что ему приходится жить в ней. Горячность Синани явно смешит его. Но, мягко и чуть иронически улыбаясь, он отзывается солидным баском:
— Да, это действительно безобразие!
— Вот погодите! — грозит Синани своему противнику. — Я уже просил Антона Павловича разделать вас под орех в каком-нибудь своем произведении! И Антон Павлович обещал, что соберется, разделает! Правда ведь, Антон Павлович? Вы обещали?
И Чехов рассеянно отвечает баском:
— Обещал! Я их, злодеев!
Антон Павлович Чехов. Из письма В. Н. Ладыженскому. Ялта, 17 февраля 1900 г.:
Я все в той же Ялте. Приятели сюда ко мне не ездят, снегу нет, саней нет, нет и жизни. Cogito ergo sum[23] — и кроме этого «cogito» нет других признаков жизни.
За отсутствием практики многие органы моего тела оказались ненужными, так что за ненадобностью я продал их тут одному турку. <…>
Будь здоров и крепок. Трудись! Старайся! Часто вспоминаю, как мы сидели у Филиппова и пили чай: за соседним столом сидели две девицы, из которых одна тебе очень нравилась.
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
14 июля 1908. <…> Они вместе посещали в Ялте бордель, и Филиппов удивлялся, до чего «возмутительно бессердечное обращение» позволял себе Чехов по отношению к проституткам.
Иван Алексеевич Бунин:
Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку… Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора…
Максим Горький:
Но я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался — совершенно безуспешно — надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей, лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногой собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. А увидев меня на крыльце, сказал, ухмыляясь:
— Здравствуйте. Вы читали у Бальмонта «Солнце пахнет травами»? Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь — татарским потом…
Он же долго и старательно пытался засунуть толстый красный карандаш в горлышко крошечной аптекарской склянки. Это было явное стремление нарушить некоторый закон физики. Чехов отдавался этому стремлению солидно, с упрямой настойчивостью экспериментатора.
Антон Павлович Чехов. Из письма Вл. И. Немировичу-Данченко. Ялта, 24 ноября 1899 г.:
Конечно, я здесь скучаю отчаянно. Днем работаю, а к вечеру начинаю вопрошать себя, что делать, куда идти. — и в то время, как у вас в театре идет второе действие, я уже лежу в постели. Встаю, когда еще темно, можешь ты себе представить; темно, ветер ревет, дождь стучит.
Антон Павлович Чехов. В записи М. К. Первухина:
В общем, я просто-напросто, селясь в Ялте, как говорится, «опередил события». Надо было бы подождать так… Ну, лет сто, что ли? Тогда, знаете, добрые люди по воздуху летать будут со скоростью не ста, а… а тысячи верст в час! Целые, знаете, воздушные поезда будут. И вот, знаете, тогда мы с вами могли бы, вставши утречком в Ялте, вместе отправляться на чай в Москву, на завтрак — в Питер, а к вечеру, к обеду — домой, в эту самую Ялту. А вечером к нам сюда, в Ялту, живые люди из Москвы и Питера заглядывать будут. Вот при таких условиях — стоит и в Ялте жить. При иных — нет!
На фоне Чехова…
Исаак Наумович Альтшуллер:
Конец 90-х и начало 900-х годов были как раз началом расцвета и быстрого роста южного берега как всероссийского курорта. Ялта становилась местом, куда съезжались не только для лечения, но и для отдыха весной, летом и осенью не только богатая буржуазия, но и представители русской интеллигенции. От этого много выигрывали Крым и крымчаки, но от этого очень терпел Чехов. Само собою разумеется, что Чехова считали долгом посетить съезжавшиеся писатели и вообще люди, имевшие отношение к литературе и журналистике. И так как они отдыхали и делать им было нечего, то приходили часто и сидели подолгу. Среди них были люди, Чехову приятные и близкие, с которыми ему было хорошо и которых он сам звал, а были и чуждые и несимпатичные, от которых отделаться он все-таки не мог.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чехову. Ялта, 3 декабря 1899 г.:
Целый день звонит телефон, надоедают посетители.
Вячеслав Андреевич Фаусек:
С ним искали знакомства, искали случая хотя бы увидеть его. Ялтинские дамы и молодежь специально отправлялись гулять на набережную затем, чтобы видеть, как гуляет Чехов с певцом М., и еще издали, по огромному росту всегдашнего спутника Чехова, узнавали через толпу, в каком месте набережной Антон Павлович находится. Концерт М., устроенный им тогда в зале гостиницы «Россия», привлек такую массу публики, что она едва помещалась в зале. Конечно, такой успех концерта М., певца хотя и очень интересного, обладавшего огромной силы басом — «черноземная сила», как определял голос М. Антон Павлович, — но малоизвестного большой публике, в значительной мере был обязан имени Чехова. Публика знала, что Чехов будет на концерте М., и шла на концерт с уверенностью увидеть, между прочим, и знаменитого Чехова.
— Чехов! Чехов! Вон он стоит! Вон он пошел! Вон он остановился!
Такой полушепот то и дело слышался в густой толпе.
Сергей Николаевич Щукин:
Все им очень интересовались и старались увидать. Бывали назойливы. Помню, в одном магазине приказчик рассказывал покупателям, что Чехов, уходя, по забывчивости оставил один из купленных им свертков. Тотчас же две дамы, бывшие в магазине, выпросили у приказчика этот сверток, чтобы передать А. П-чу и таким образом познакомиться с ним.
Другой раз, долго спустя, А. П-чу пришлось быть на набережной. Он сидел на скамейке. Проходившие мимо стали так неприятно и любопытно всматриваться в его лицо, иногда даже останавливаясь, что, не выдержав, он стал от них закрываться газетой, которую держал в руках.
Родион Абрамович Менделевич:
Сидим мы на скамеечке, в Александровском сквере, разговариваем, смотрим на морской простор… Мимо проходит какой-то студентик с двумя барышнями. Увидев писателя, он о чем-то шушукается с своими спутницами, потом быстро подходит к Чехову, снимает фуражку и спрашивает:
— Вы — Чехов?..
— Да, я… — растерянно отвечает А.П.
— Pardon… Больше мне ничего не нужно…
И я видел, как краска залила бледные щеки Чехова.
— Как неделикатно и назойливо! — прошептал он.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Мы много гуляли, тщательно избегая набережной, где его одолевали курортные дамы, «антоновки», преследуя его по пятам; стоило ему зайти к Синани, как немедленно лавка заполнялась покупательницами, которым неотложно требовались газеты, книги, папиросы и т. п. Чехов с мрачным видом круто поворачивался и устремлялся через ближайшие улицы или городской сад подальше от набережной.
Владимир Николаевич Ладыженский:
Прогулка шла очень недурно, но только до набережной. На набережной Чехов привлек к себе внимание публики. На него все оглядывались, а следом за ним, как дельфины за пароходом, показались «антоновки». Чехов смущался все больше и больше.
— Пойдем скорее. А то неловко. Видишь, здесь много людей.
Мы ускорили шаг, добрались до городского сада и заняли столик. Здесь присоединился к нам еще один из наших общих друзей, и мы занялись гастрономическими соображениями. Но недолго пришлось нам на этот раз благодушествовать. Толпа, неумолимая толпа, росла крутом столика, а аллеи сада наполнялись мужественными и неотвратимыми «антоновками».
— Нет, так невозможно. Неловко уж очень. Что же это они на нас все глядят? Пойдем в ресторан, тут кабинет есть один, — смущенно говорил Чехов, забывая, по-видимому, что глядели не на нас, а на него.
Михаил Константинович Первухин:
На моей памяти только один раз Чехов разошелся, шутил, острил, даже почти дурачился в Ялте. Это было в один из его немногих визитов в редакцию «Крымского курьера» незадолго до Рождества 1901 года.
Долго потом, несколько лет, я хранил большой лист грубой, вырванной из какой-то бухгалтерской книги бумаги, на котором был «отбитый» моим редакционным «Ремингтоном» текст «редакционного протокола». Его продиктовал, шутя, сам Чехов:
«Слушали и постановили поддержать следующие ходатайства непрактикующего врача Антона Чехова в Ялтинское Городское Управление и прочие инстанции, а в том числе и на Высочайшее Имя:
О воспрещении приезжающим в Ялту розоволицым гимназисткам из Саратова приходить при встрече с А. Чеховым в телячий восторг и взвизгивать пронзительно «Чехов! Чехов!»
К ялтинским гимназистам сие воспрещение не относится, ибо они ограничиваются достаточно терпимым молчаливым заглядыванием Чехову и прочим знаменитостям в рот.
О воспрещении ялтинским извозчикам указывать приезжим ауткинскую дачу Чехова как некую местную достопримечательность.
О разрешении ялтинскому дачевладельцу доктору А. П. Чехову поставить у его дачи в Аутке саженной величины вывеску с надписью аршинными буквами следующего содержания:
«Воспрещается вход дамам-писательницам, как с рукописями, так и без оных.
Имеющие намерение интервьюировать А. Чехова сотрудники одесских газет из аптекарских учеников и коммивояжеров Товарищества Российско-Американской Резиновой Мануфактуры благоволят пожаловать после дождика в четверг. В случае же экстренной надобности знать мнение А. Чехова о событиях в Китае, конституции на Сандвичевых островах, новой пьесе Сарду и пр., — желающие могут получать все интересующие их сведения от дворника Абдула, которому даны соответствующие инструкции.
Убедительно просят являющихся на дачу А. Чехова дам, кои переживают интересные душевные драмы, звонков не обрывать, цветов не рвать, стекол не разбивать, истерик с пролитием морей изящных слез не устраивать и дворнику Абдулу физиономию не царапать.
Авторов многоактных драм и трагедий, всюду возящих пудовые рукописи, просят не трудиться, ибо владелец сей дачи А. Чехов находится в безвестном отсутствии и тщетно разыскивается полицией для водворения по месту прописки.
Поучения толстовцев и буддистов поручено выслушивать дворнику Абдулу. Примечание: не любит, чтобы его хлопали по плечу и тыкали перстом в живот. Носит с собою суковатую палку. Бросать в сад А. Чехова через забор визитные карточки не рекомендуется: Абдул сердится».
Проект всеподданнейшего прошения непрактикующего врача Антона Павловича Чехова, живущего в Ялте, на Аутке, в собственном доме, на Высочайшее Имя.
Припадая к священным стопам и прочее, А. Чехов слезно молит о разрешении ему проживать в Ялте и в прочих злачных и незлачных местах Российской империи по паспорту на имя мещанина города Пропойска Анемподиста Сидоровича Спиридонова, ремеслом маляра и ночного сторожа, ибо только сим способом проситель А. Чехов может сохранить за собою право употреблять хоть часть времени на литературный труд, идущий на пользу российской словесности. А еще А. Чехов слезно просит разрешить ему в экстренных случаях ходить в женском платье и именоваться Агафьею Тихоновною Перепелицыною. Ибо только в сем виде он может избежать злой участи быть растерзанным на части жаждущими прославиться юными поэтами из прыщавых гимназистов и великосветскими романистами из ротных фельдшеров».
Евгений Николаевич Чириков (1864–1932), романист, публицист драматург. Член литературного кружка «Среда»:
За завтраком Антон Павлович рассказывал:
— Был у меня такой случай… и вот все боюсь я теперь отказывать в свидании посетителям. Принимать всех, это значит, бросить всякую работу и заняться приемом посетительниц и выслушиванием их комплиментов… А между тем, случаются обидные ошибки. В прошлом году, например… такой случай… Однажды ранним утром я пошел погулять на набережную. Я гуляю рано, пока на улицах мало сезонной публики… Встретился с писателем Е<лпатьевск>им, и мы сели с ним на лавочку поболтать в уединении. Неожиданно подходит чистильщик сапог, татарин, и подает мне букет роз. Ну, думаю, какая-нибудь сезонная дама, страдающая бессонницей. От кого? — спрашиваю. Татарин ткнул рукой в сторону, где вдали, на лавочке, сидела какая-то особа женского пола. Я был в хорошем настроении духа, пошутил: поднес цветы своему спутнику. Тот возвращает мне, я — снова ему. Татарин смутился, оглянулся и жестами спрашивает сидящую в отдалении женщину, кому из нас надо отдать букет? Тогда мы встали и пошли прочь, оставив цветы на лавочке… Конечно, очень скоро я забыл про это происшествие на набережной. Случай этот прошел мимо и, как множество всяких пустяков, попал в яму забвения. И вдруг этот пустой случай оживает и превращается в такую трогательную красоту женской души, что никогда уже не забудется! Осенью получаю письмо из сибирской глуши: какая-то девушка, сельская учительница, пишет мне, что три года лелеяла мечту увидать меня, копила деньги на путешествие в Крым, с большим трудом добилась отпуска и поехала в Ялту. Пишет, что долго простаивала у ворот моей дачи, чтобы увидать любимого писателя, и, наконец, подкараулила и пошла следом за мной на набережную, но подойти не решилась, а купила розы и послала мне с татарином, а я бросил их на лавочке и только посмеялся… Но все равно, пишет, я все-таки счастлива тем, что вас видела, потому что вы мой самый любимый писатель…
И вот эта девушка вспоминается мне теперь каждый раз, когда в передней вздрогнет робкий звонок и мать откажет кому-то в приеме…
Печальные глаза Антона Павловича до сих пор помнятся мне вместе с рассказом о бедной девушке с цветами.
Михаил Александрович Чехов:
Еще запечатлелась в моей памяти прогулка с Антоном Павловичем по ялтинской улице. Он худой, сгорбленный, тихо шел, опираясь на палку. Уличные мальчишки прыгали вокруг него, крича:
— Антошка — чахотка! Антошка — чахотка!
А он, ласково улыбаясь, глядел в землю.
Гастроли Художественного театра в Крыму
Константин Сергеевич Станиславский:
Он задумал писать пьесу для нас.
«Но для этого необходимо видеть ваш театр», — твердил он в своих письмах.
Когда стало известно, что доктора запретили ему весеннюю поездку в Москву, мы поняли его намеки и решили ехать в Ялту со всей труппой и обстановкой.
…-го апреля 1900 года вся труппа с семьями, декорациями и обстановкой для четырех пьес выехала из Москвы в Севастополь. За нами потянулись кое-кто из публики, фанатики Чехова и нашего театра, и даже один известный критик С. В. Васильев (Флеров). Он ехал со специальной целью давать подробные отчеты о наших спектаклях.
Это было великое переселение народов. <…>
Крым встретил нас неприветливо. Ледяной ветер дул с моря, небо было обложено тучами, в гостиницах топили печи, а мы все-таки мерзли.
Театр стоял еще заколоченным с зимы, и буря срывала наши афиши, которых никто не читал.
Мы приуныли.
Но вот взошло солнце, море улыбнулось, и нам стало весело.
Пришли какие-то люди, отодрали щиты от театра и распахнули двери. Мы вошли туда. Там было холодно, как в погребе. Это был настоящий подвал, который не выветришь и в неделю, а через два-три дня надо было уже играть. Больше всего мы беспокоились об Антоне Павловиче, как он будет тут сидеть в этом затхлом воздухе. Целый день наши дамы выбирали места, где ему лучше было бы сидеть, где меньше дует. Наша компания все чаще стала собираться около театра, вокруг которого закипела жизнь.
У нас праздничное настроение — второй сезон, все разоделись в новые пиджаки, шляпы, все это молодо, и ужасно всем нам нравилось, что мы актеры. В то же время все старались быть чрезмерно корректными — это, мол, не захудалый какой-нибудь театр, а столичная труппа. <…>
Ждали приезда Чехова. Пока О. Л. Книппер, отпросившаяся в Ялту, ничего не писала нам оттуда, и это беспокоило нас. В вербную субботу она вернулась с печальным известием о том, что А.П. захворал и едва ли сможет приехать в Севастополь.
Это всех опечалило. От нее мы узнали также, что в Ялте гораздо теплее (всегдашнее известие оттуда), что А.П. удивительный человек и что там собрались чуть не все представители русской литературы: Горький, Мамин-Сибиряк, Станюкович, Бунин, Елпатьевский, Найденов, Скиталец.
Это еще больше взволновало нас. В этот день все пошли покупать пасхи и куличи к предстоящему разговению на чужой стороне.
В полночь колокола звонили не так, как в Москве, пели тоже не так, а пасхи и куличи отзывались рахат-лукумом.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Тихо, уютно и быстро прошла страстная неделя, неделя отдыха, и надо было ехать в Севастополь, куда прибыла труппа Художественного театра. Помню, какое чувство одиночества охватило меня, когда я в первый раз в жизни осталась в номере гостиницы, да еще в пасхальную ночь, да еще после ласковости и уюта чеховской семьи… Но уже начались приготовления к спектаклям, приехал Антон Павлович, и жизнь завертелась…
Константин Сергеевич Станиславский:
На следующий день мы с нетерпением ожидали парохода, с которым должен был приехать А.П. Наконец мы его увидели. Он вышел последним из кают-компании, бледный и похудевший. А.П. сильно кашлял. У него были грустные, больные глаза, но он старался делать приветливую улыбку.
Мне захотелось плакать.
Наши фотографы-любители сняли его на сходне парохода, и эта сценка фотографирования попала в пьесу, которую он тогда вынашивал в голове («Три сестры»).
По общей бестактности, посыпались вопросы о его здоровье.
— Прекрасно. Я же совсем здоров. — отвечал A. П. Он не любил забот о его здоровье, и не только посторонних, но и близких. Сам он никогда не жаловался, как бы плохо себя ни чувствовал.
Скоро он ушел в гостиницу, и мы не беспокоили его до следующего дня. Остановился он у Ветцеля, не там, где мы все остановились (мы жили у Киста). Вероятно, он боялся близости моря.
На следующий день, то есть в пасхальный понедельник, начинались наши гастроли. Нам предстояло двойное испытание — перед А.П. и перед новой публикой. <…>
В театре была стужа, так как он был весь в щелях и без отопления. Уборные согревали керосиновыми лампами, но ветер выдувал тепло.
Вечером мы гримировались все в одной маленькой уборной и нагревали ее теплотой своих тел, а дамы, которым приходилось щеголять в кисейных платьицах, перебегали в соседнюю гостиницу. Там они согревались и меняли платья.
В восемь часов пронзительный ручной колокольчик сзывал публику на первый спектакль «Дяди Вани».
Темная фигура автора, скрывшегося в директорской ложе за спинами Вл. И. Немировича-Данченко и его супруги, волновала нас.
Первый акт был принят холодно. К концу успех вырос в большую овацию. Требовали автора. Он был в отчаянии, но все-таки вышел. <…>
«Чайки» Антон Павлович в Севастополе не смотрел, — он видел ее раньше, а тут погода изменилась, пошли ветры, бури, ему стало хуже, и он принужден был уехать. <…>
Все севастопольское начальство было уже нам знакомо, и перед отъездом в Ялту нам с разных сторон по телефону докладывали: «Норд-вест, норд-ост, будет качка, не будет», все моряки говорили, что все будет хорошо, качка будет где-то у Ай-Тодора, а тут загиб, и мы поедем по спокойному морю.
А вышло так, что никакого загиба не было, а тряхнуло нас так, что мы и до сих пор не забудем.
Потрепало нас в пути основательно. Многие из нас ехали с женами, с детьми. Некоторые севастопольцы приехали вместе с нами в Ялту. Няньки, горничные, дети, декорации, бутафория — все это перемешалось на палубе корабля. В Ялте толпа публики на пристани, цветы, парадные платья, на море вьюга, ветер — одним словом, полный хаос.
Тут какое-то новое чувство — чувство того, что толпа нас признает. Тут и радость и неловкость этого нового положения, первый конфуз популярности. Не успели мы приехать в Ялту, разместиться по номерам, умыться, осмотреться, как я уже встречаю Вишневского, бегущего со всех ног, в полном экстазе, он орет, кричит вне себя:
— Сейчас познакомился с Горьким — такое очарование! Он уже решил написать нам пьесу! Еще не видавши нас…
На следующее утро первым долгом пошли в театр. Там ломали стену, чистили, мыли — одним словом, работа шла вовсю. Среди стружек и пыли по сцене разгуливали: А. М. Горький с палкой в руках, Бунин, Миролюбов, Мамин-Сибиряк, Елпатьевский, Владимир Иванович Немирович-Данченко…
Осмотрев сцену, вся эта компания отправилась в городской сад завтракать. Сразу вся терраса наполнилась нашими актерами, и мы завладели всем садом. За отдельным столиком сидел Станюкович, — он как-то не связывался со всей компанией.
Оттуда всем обществом, кто пешком, кто человек по шести в экипаже, отправились к Антону Павловичу.
У Антона Павловича был вечно накрытый стол, либо для завтрака, либо для чая. Дом был еще не совсем достроен, а вокруг дома был жиденький садик, который он еще только что рассаживал.
Вид у Антона Павловича был страшно оживленный, преображенный, точно он воскрес из мертвых. Он напоминал, — отлично помню это впечатление, — точно дом, который простоял всю зиму с заколоченными ставнями, закрытыми дверями. И вдруг весной его открыли, и все комнаты засветились, стали улыбаться, искриться светом. Он все время двигался с места на место, держа руки назади, поправляя ежеминутно пенсне. То он на террасе, заполненной новыми книгами и журналами, то с не сползающей с лица улыбкой покажется в саду, то во дворе. Изредка он скрывался у себя в кабинете и, очевидно, там отдыхал.
Приезжали, уезжали. Кончался один завтрак, подавали другой; Мария Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству.
В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит Антон Павлович и хохочет, помирает от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении. <…>
Антон Павлович, всегда любивший говорить о том, что его увлекало в данную минуту, с наивностью ребенка подходил от одного к другому, повторяя все одну и ту же фразу: видел ли тот или другой из его гостей наш театр.
— Это же чудесное же дело! Вы непременно должны написать пьесу для этого театра. <…>
Горький со своими рассказами об его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами — все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте, говорили даже об устройстве квартир для этого. Словом — весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство — вот атмосфера, в которой мы в то время находились. Такие дни и вечера повторялись чуть не ежедневно в доме Антона Павловича.
Александр Иванович Куприн:
Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то, и другое осталось от «Дяди Вани», с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда А. П-чу постановку его пьесы. Обоими предметами Чехов чрезвычайно дорожил и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра.
Константин Сергеевич Станиславский:
Театр кончил всю серию своих постановок и закончил свое пребывание чудесным завтраком на громадной плоской крыше у Фанни Карловны Татариновой. Помню жаркий день, какой-то праздничный навес, сверкающее вдали море. Здесь была вся труппа, вся съехавшаяся, так сказать, литература с Чеховым и Горьким во главе, с женами и детьми.
Помню восторженные, разгоряченные южным солнцем речи, полные надежд и надежд без конца. Этим чудесным праздником под открытым небом закончилось наше пребывание в Ялте.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Жаль было расставаться и с югом, и с солнцем, и с Чеховым, и с атмосферой праздника… но надо было ехать в Москву репетировать. Вскоре приехал в Москву и Антон Павлович, ему казалось пусто в Ялте после жизни и смятения, которые внес приезд нашего театра, но в Москве он почувствовал себя нездоровым и быстро вернулся на юг.
Женитьба
Мария Павловна Чехова:
В 1900 году Ольга Леонардовна дважды была гостьей в нашем доме в Ялте: во время гастролей Художественного театра и в июле во время театральных каникул.
К этому времени я очень подружилась с Ольгой Леонардовной. Мы постоянно встречались, бывали в театрах, в клубах, иногда она у меня ночевала, часто я бывала у нее в доме. Словом, она стала моей первой и лучшей подругой. В письмах к Антону Павловичу я не скрывала своей восторженной оценки Ольги Леонардовны как талантливой актрисы и как человека. Например, я была однажды вместе с Ольгой Леонардовной в клубе Литературного кружка и потом писала брату: «Книппер в первый раз была в клубе, имела успех, ею любовались, говорили приятные вещи и т. д. А какой она прекрасный человек, в этом я убеждаюсь каждый день. Большая труженица и, по-моему, весьма талантлива». Зная интерес друг к другу брата и Ольги Леонардовны, я иногда в своих письмах невинно подшучивала над ними: «С Книппер видаемся очень часто, я обедала у нее несколько раз и хорошо познакомилась с мамашей, то есть твоей тещей… Твоя Книппер имеет большой успех, Коновицер уже влюблен в нее». В редком письме брату я не упоминала имени Оли, Книппуши, Книпшиц — моего самого близкого друга в то время.
Я как-то никогда не задумывалась, чем могут закончиться отношения между Олей и братом, хотя иногда где-то и мелькала мысль о возможном браке.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Таковы были внешние факты. А внутри росло и крепло чувство, которое требовало каких-то определенных решений, и я решила соединить мою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря на его слабое здоровье и на мою любовь к сцене. Верилось, что жизнь может и должна быть прекрасной, и она стала такой, несмотря на наши горестные разлуки, — они ведь кончались радостными встречами. Жизнь с таким человеком мне казалась нестрашной и нетрудной: он так умел отбрасывать всю тину, все мелочи жизненные и все ненужное, что затемняет и засоряет самую сущность и прелесть жизни.
Мария Павловна Чехова:
В мае 1901 года Антон Павлович уехал в Москву, чтобы показаться там врачу, а потом поехать полечиться на кумыс. И вот получаю я от него из Москвы письмо, в котором он сообщает, что доктор Шуровский велел ему немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию. «Ехать одному скучно, — писал он, — жить на кумысе скучно, а везти с собой кого-нибудь было бы эгоистично и потому неприятно. Женился бы, да нет при мне документа, все в Ялте на столе». <…>
Через день мы в Ялте получили такую телеграмму: «Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше. Антон».
Константин Сергеевич Станиславский:
Однажды Антон Павлович попросил А. Л. Вишневского устроить званый обед и просил пригласить туда своих родственников и почему-то также и родственников О. Л. Книппер. В назначенный час все собрались, и не было только Антона Павловича и Ольги Леонардовны. Ждали, волновались, смущались и наконец получили известие, что Антон Павлович уехал с Ольгой Леонардовной в церковь, венчаться, а из церкви поедет прямо на вокзал и в Самару, на кумыс.
А весь этот обед был устроен им для того, чтобы собрать в одно место всех тех лиц, которые могли бы помешать повенчаться интимно, без обычного свадебного шума. Свадебная помпа так мало отвечала вкусу Антона Павловича. С дороги А. Л. Вишневскому была прислана телеграмма.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
25 мая мы повенчались и уехали по Волге, Каме, Белой до Уфы, откуда часов шесть по железной дороге — в Андреевский санаторий около станции Аксеново. По дороге навестили в Нижнем Новгороде А. М. Горького, отбывавшего домашний арест.
У пристани Пьяный Бор (Кама) мы застряли на целые сутки и ночевали на полу в простой избе, в нескольких верстах от пристани, но спать нельзя было, так как неизвестно было время, когда мог прийти пароход на Уфу. И в продолжение ночи и на рассвете пришлось несколько раз выходить и ждать, не появится ли какой пароход. На Антона Павловича эта ночь, полная отчужденности от всего культурного мира, ночь величавая, памятная какой-то покойной, серьезной содержательностью и жутковатой красотой и тихим рассветом, произвела сильное впечатление, и в его книжечке, куда он заносил все свои мысли и впечатления, отмечен Пьяный Бор.
В Аксенове Антону Павловичу нравилась природа, длинные тени по степи после шести часов, фырканье лошадей в табуне, нравилась флора, река Дема (Аксаковекая), куда мы ездили однажды на рыбную ловлю. Санаторий стоял в прекрасном дубовом лесу, но устроен был примитивно, и жить было неудобно при минимальном комфорте. Даже за подушками пришлось мне ехать в Уфу.
Мария Павловна Чехова:
6 июня я получила от брата первое письмо из Аксенова, написанное 2 июня:
«Здравствуй, милая Маша! Все собираюсь написать тебе и никак не соберусь, много всяких дел, и, конечно, мелких. О том, что я женился, ты уже знаешь. Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановки, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит уже Бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет решительно никаких, все останется по-старому. Буду жить так, как жил до сих пор, и мать тоже; и к тебе у меня останутся отношения неизменно теплыми и хорошими, какими были до сих пор…».
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Кумыс сначала пришелся по вкусу Антону Павловичу, но вскоре надоел, и, не выдержав шести недель, мы отправились в Ялту через Самару, по Волге до Царицына и на Новороссийск. До 20 августа мы пробыли в Ялте. Затем мне надо было возвращаться в Москву: возобновлялась театральная работа.
Борис Александрович Лазаревский:
Женитьба Чехова испугала его родных. Были счастливы его счастьем и мать, и сестра, и братья, но ясно было также видно, как в семью закралась и ревность. Случались на этой почве и слезы, и тягостное молчание.
— Был Антоша наш, а теперь не наш… Однако с течением времени чувства эти улеглись, да и благодаря болезни Чехов не оторвался окончательно от Ялты, где жили его мать и сестра.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Так и потекла жизнь — урывками, с учащенной перепиской в периоды разлуки.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Когда я за границей из «Русских ведомостей» узнал об их браке, я вспомнил почему-то, как в приезд Ольги Леонардовны в чеховский дом весной 1900 года я однажды увидел такую группу: она с Марией Павловной наверху лестницы, а внизу Антон Павлович. Она в белом платье, радостная, сияющая здоровьем и счастьем, в начале блестящей карьеры, первая актриса Художественного театра, в центре внимания не одной Москвы, с громадными возможностями и надеждами в будущем, он — осунувшийся, худой, пожелтевший, быстро стареющий, безнадежно больной. И когда они, повенчавшись, связали свою жизнь, то фатальные последствия не могли заставить себя ждать. Она должна была оставаться в Москве, — он без риска и вредных последствий для здоровья не мог покидать своей «теплой Сибири». И зная Чехова, нетрудно было вперед сказать, чем это кончится.
Дружба с Львом Толстым
Петр Алексеевич Сергеенко:
Так эти два замечательных человека различны во многом, а между тем я никогда не видел, чтобы Лев Николаевич относился еще к кому-нибудь с такой нежной приязнью, как к Чехову. Даже когда Л. Н. Толстой только заговаривал о Чехове, то у него становилось лицо другим — с особенным теплым отсветом. Скупой вообще на внешние знаки нежности и на восторги перед современными явлениями, Лев Николаевич почти всегда в отношении Чехова держал себя, как нежный отец к своему любимому сыну.
— Чехова можно и за глаза хвалить, — говаривал обыкновенно Лев Николаевич, когда при нем заходила речь о Чехове. А когда находился еще в зачаточном положении вопрос об издании А. Ф. Марксом полного собрания сочинений Чехова, то Л. Н. Толстой говорил об этом с таким увлечением, с каким никогда не говорил о собственных делах.
— Передайте, пожалуйста, Марксу, — сказал он, прощаясь с одним из своих гостей, — что я настоятельно советую ему издать Чехова. После Тургенева и Гончарова ему ведь ничего не остается, как издать Чехова и меня. Но Чехов гораздо интереснее нас, стариков. Я сам сейчас же с удовольствием приобрету полное собрание сочинений Чехова, как только оно появится в продаже.
Максим Горький:
О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.
Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.
Алексей Сергеевич Суворин. Из дневника:
11 февраля 1897. Был с Анной Ивановной у Л. Н. Толстого, который не был в Петербурге 20 лет. <…>
О «Чайке» Чехова Лев Николаевич сказал, что это вздор, ничего не стоящий, что она написана, как Ибсен пишет.
— Нагорожено чего-то, а для чего оно, неизвестно. А Европа кричит: превосходно. Чехов самый талантливый из всех, но «Чайка» — очень плоха.
— Чехов умер бы, если б ему сказать, что вы так думаете, — сказала Анна Ивановна — Вы не говорите ему этого.
— Я ему скажу, но мягко, и удивляюсь, что он так огорчился. У всякого есть слабые вещи.
Петр Алексеевич Сергеенко:
Никого из русских писателей так часто не читали вслух у Толстых, как Чехова. <…>
Зимою 1899 г. я как-то пришел в Москве к Толстым с номером «Семьи», в котором была напечатана «Душечка». За вечерним чаем заговорили о литературе. Я сказал о новом рассказе Чехова. Лев Николаевич живо заинтересовался и спросил меня, читал ли я новый рассказ и как нахожу его. Я сказал, что рассказ ничего себе и что если Л.Н. интересуется им, то у меня рассказ этот с собою.
— Новый рассказ Чехова! Хотите слушать? — как бы анонсировал Лев Николаевич.
Все изъявили согласие.
С первых же строк чтения, Л.Н. начал произносить отрывочные междометия одобрительного свойства. А затем не выдержал и во время чтения обратился ко мне с оттенком укоризны:
— Как же это вы сказали: «ничего себе»? Это перл, настоящий перл искусства, а не «ничего себе».
И после чтения Л.Н. с одушевлением заговорил о «Душечке» и цитировал на память целые фразы. <…>
Через некоторое время к Толстым пришли свежие гости. Л.Н. поздоровался и спросил:
— Читали новый рассказ Чехова — «Душечку»? Нет? Хотите послушать?
И Л.Н. опять начал читать «Душечку».
Более всего пленялся Л. Н. Толстой в последнее время чеховской формой, которая в первое время его озадачивала, и Л.Н. никак не мог свыкнуться с ней, не мог понять ее механизма. Но затем уяснил себе ее секрет и восхищался. Как-то во время прогулки в яснополянском парке один из гостей Л.Н. заговорил о новом произведении писателя, которого сравнивали с Чеховым. Лев Николаевич остановился и, заложив руку за пояс блузы, сказал в раздумье:
— Не понимаю, почему его сравнивают с Чеховым. Чехов, по-моему, несравнимый художник. Я недавно вновь перечитал почти всего Чехова. И все у него чудесно. Есть места неглубокие, нет, неглубокие. Но все прелестно. И Чехова, как художника, нельзя даже и сравнивать с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мною. У Чехова своя особенная форма, как у импрессионистов. Смотришь, человек будто без всякого разбора мажет красками, какие попадаются ему под руку, и никакого, как будто, отношения эти мазки между собою не имеют. Но отойдешь, посмотришь — и в общем получается удивительное впечатление. Перед вами яркая, неотразимая картина. И вот еще наивернейший признак, что Чехов истинный художник: его можно перечитывать несколько раз, кроме пьес, конечно, которые совсем не его дело.
Максим Горький:
Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душечкой». Он говорил:
— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.
А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:
— Там — опечатки…
Мария Павловна Чехова:
В апреле 1899 года, когда наступила весна, Антон Павлович приехал в Москву и остановился в моей квартире на углу М. Дмитровки и Успенского переулка. <…>
Как-то днем, когда у Антона Павловича в гостях было несколько знакомых, среди них артисты А. Л. Вишневский и А. И. Сумбатов-Южин, раздался звонок. Я пошла открывать. И вдруг вижу небольшого роста старичка в легком пальто. Я обомлела — передо мной стоял Лев Николаевич Толстой. Я его узнала сразу же, только по портрету Репина он представлялся мне человеком крупным, высокого роста.
— Ох, Лев Николаевич… это вы?! — смущенно встретила я его.
Он ласково ответил:
— А это сестра Чехова. Мария Павловна?
Он вошел в прихожую. Я хотела взять его пальто, но Лев Николаевич отстранил мою руку.
— Нет, нет, я сам.
Я повела Льва Николаевича в кабинет к брату. С порога я не удержалась многозначительно сказать:
— Антоша, знаешь, кто к нам пришел?!
В кабинете брата в это время шел громкий разговор. Вишневский всегда имел обыкновение громко говорить, чуть не кричать. Брат был смущен обстановкой, в которой ему пришлось принимать Л. Н. Толстого.
Александр Леонидович Вишневский:
Как-то весной захожу к Антону Павловичу и застаю там Льва Николаевича Толстого. Я никогда раньше не видал его и, когда А.П. стал меня знакомить, я от волнения забыл свою фамилию. Желая выручить меня из глупого положения, Лев Николаевич обратился ко мне очень ласково и с улыбкой сказал:
— Я вас знаю, вы хорошо играете дядю Ваню. Но зачем вы пристаете к чужой жене? Завели бы свою скотницу.
Так в двух словах он рассказал сюжет «Дяди Вани» — и еще в присутствии автора. Антон Павлович, видимо, очень сконфузился, покраснел и добавил почему-то:
— Да, да, чудесно!
Иван Алексеевич Бунин:
— Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте!
— Серьезно, я его боюсь, — говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.
И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:
— Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер! И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:
— А эти шириной с Черное море! подумает: нахал…
Петр Алексеевич Сергеенко:
В доме Толстых Чехов всегда был милым желанным гостем.
Осенью 1901 г. мне пришлось быть в Крыму у Толстых, когда ждали Чехова, точно какого-нибудь принца. «Сейчас должен приехать Чехов!» Наконец, доложили, что Чехов приехал. Все оживились и обрадовались. И целый день Лев Николаевич провел с Чеховым, как с милым другом, ездил с ним в Алупку, к морю, и с радушным гостеприимством принимал его у себя.
Исаак Наумович Альшуллер:
Известно, с какой особенной любовью относился Чехов к Толстому. Во время серьезной болезни последнего зимой 1901–1902 годов он страшно волновался и требовал, чтобы, возвращаясь из Гаспры, я хоть на минутку заезжал к нему, а если заехать нельзя, то хоть по телефону рассказал о состоянии больного. И Толстой платил ему таким же отношением и говорил о нем с необыкновенно теплым участием. А когда раза два Чехов приезжал со мною в Гаспру, Толстой все время оживленно с ним беседовал и не отпускал. Как-то на мой вопрос, что за книжка у него в руках, он ответил: «Я живу и наслаждаюсь Чеховым; как он умеет все заметить и запомнить, удивительно; а некоторые вещи глубоки и содержательны; замечательно, что он никому не подражает и идет своей дорогой; а какой лаконический язык». Но и тут не забыл прибавить: «А пьесы его никуда не годятся, и «Трех сестер» я не мог дочитать до конца».
Иван Алексеевич Бунин:
И, помолчав (Чехов. — Сост.), вдруг заливался радостным смехом:
— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня», и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»
Николай Дмитриевич Телешов:
— Я боюсь смерти Толстого, — признавался он, когда Лев Николаевич опасно заболел. — Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не сделаешь — не так страшно, так как Толстой делает за всех. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, всякие озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения…
Борис Александрович Лазаревский:
В сентябрю 1903 года, на возвратном пути из Москвы, я заехал в Ясную Поляну. Меня очень интересовало, как относится Л. Н. Толстой к творчеству Чехова. Л.Н. с тревогой в голосе расспрашивал о его здоровье, а потом сказал:
— Чехов… Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти отклик на свое личное переживание, такой же отклик каждый может найти и в повестях Чехова. Некоторые вещи положительно замечательны… Вы знаете, я выбрал все его наиболее понравившиеся мне рассказы и переплел их в одну книгу, которую читаю всегда с огромным удовольствием…
«Вишневый сад»
Константин Сергеевич Станиславский:
Как-то на одной из репетиций, когда мы стали приставать к нему, чтобы он написал еще пьесу, он стал делать кое-какие намеки на сюжет будущей пьесы.
Ему чудилось раскрытое окно, с веткой белых цветущих вишен, влезающих из сада в комнату. Артем уже сделался лакеем, а потом, ни с того ни с сего, управляющим. Его хозяин, а иногда ему казалось, что это будет хозяйка, всегда без денег, и в критические минуты она обращается за помощью к своему лакею или управляющему, у которого имеются скопленные откуда-то довольно большие деньги. Потом появилась компания игроков на бильярде. Один из них, самый ярый любитель, безрукий, очень веселый и бодрый, всегда громко кричащий. В этой роли ему стал мерещиться А. Л. Вишневский. Потом появилась боскетная комната, потом она опять заменилась бильярдной. Но все эти щелки, через которые он открывал нам будущую пьесу, все же не давали нам решительно никакого представления о ней. И мы с тем большей энергией торопили его писать пьесу.
Александр Леонидович Вишневский:
Обычно Антон Павлович тайну наименования пьес берег особливо ревниво. Точно боялся, выдав, сглазить еще не родившееся дитя.
Константин Сергеевич Станиславский:
Осенью 1903 года Антон Павлович Чехов приехал в Москву совершенно больным. Это, однако, не мешало ему присутствовать почти на всех репетициях его новой пьесы, окончательное название которой он никак не мог еще тогда установить.
Однажды вечером мне передали по телефону просьбу Чехова заехать к нему по делу. Я бросил работу, помчался и застал его оживленным, несмотря на болезнь. По-видимому, он приберегал разговор о деле к концу, как дети вкусное пирожное. Пока же, по обыкновению, все сидели за чайным столом и смеялись, так как там, где Чехов, нельзя было оставаться скучным. Чай кончился, и Антон Павлович повел меня в свой кабинет, затворил дверь, уселся в свой традиционный угол дивана, посадил меня напротив себя и стал, в сотый раз, убеждать меня переменить некоторых исполнителей в его новой пьесе, которые, по его мнению, не подходили. «Они же чудесные артисты», — спешил он смягчить свой приговор.
Я знал, что эти разговоры были лишь прелюдией к главному делу, и потому не спорил. Наконец мы дошли и до дела. Чехов выдержал паузу, стараясь быть серьезным. Но это ему не удавалось — торжественная улыбка изнутри пробивалась наружу.
— Послушайте, я же нашел чудесное название для пьесы. Чудесное! — объявил он, смотря на меня в упор.
— Какое? — заволновался я.
— Вишневый сад, — и он закатился радостным смехом.
Я не понял причины его радости и не нашел ничего особенного в названии. Однако, чтоб не огорчить Антона Павловича, пришлось сделать вид, что его открытие произвело на меня впечатление. Что же волнует его в новом заглавии пьесы? Я начал осторожно выспрашивать его, но опять натолкнулся на эту странную особенность Чехова: он не умел говорить о своих созданиях. Вместо объяснения Антон Павлович начал повторять на разные лады, со всевозможными интонациями и звуковой окраской:
— Вишневый сад. Послушайте, это чудесное название! Вишневый сад. Вишневый!
Из этого я понимал только, что речь шла о чем-то прекрасном, нежно любимом: прелесть названия передавалась не в словах, а в самой интонации голоса Антона Павловича. Я осторожно намекнул ему на это; мое замечание опечалило его, торжественная улыбка исчезла с его лица, наш разговор перестал клеиться, и наступила неловкая пауза.
После этого свидания прошло несколько дней или неделя… Как-то во время спектакля он зашел ко мне в уборную и с торжественной улыбкой присел к моему столу. <…>
— Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад. — объявил он и закатился смехом.
В первую минуту я даже не понял, о чем идет речь, но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук «ё» в слове «Вишнёвый», точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: «Вишневый сад» — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого.
Федор Дмитриевич Батюшков:
Антон Павлович отозвал меня в сторону и шепнул: «Заканчиваю новую пьесу». — «Какую? Как она называется? Какой сюжет?» — «Это Вы узнаете, когда будет готова. А вот Станиславский, — улыбнулся Антон Павлович, — не спрашивал меня о сюжете, пьесы еще не читал, а спросил, что в ней будет, какие звуки? И ведь представьте, угадал и нашел. У меня там, в одном явлении, должен быть слышан за сценой звук, сложный, коротко не расскажешь, а очень важно, чтобы было именно то, что я хочу. И ведь Константин Сергеевич нашел, как раз то самое, что нужно… А пьесу в кредит принимает», — снова улыбнулся Антон Павлович. «Неужели это так важно — этот звук?» — спросил я. Антон Павлович посмотрел строго и коротко ответил: «Нужно». Потом улыбнулся: «А Вам сюжет хочется знать. Нет, теперь не буду рассказывать, а только скажу, что театр — ужасная вещь. Так это затягивает, волнует, поглощает…»
Константин Сергеевич Станиславский:
Как раньше, так и на этот раз, во время репетиций «Вишневого сача», приходилось точно клещами вытягивать из Антона Павловича замечания и советы, касавшиеся его пьесы. Его ответы походили на ребусы, и надо было их разгадывать, так как Чехов убегал, чтобы спастись от приставания режиссеров. Если бы кто-нибудь увидел на репетиции Антона Павловича, скромно сидевшего где-то в задних рядах, он бы не поверил, что это был автор пьесы. Как мы ни старались пересадить его к режиссерскому столу, ничего не выходило. А если и усадишь, то он начинал смеяться. Не поймешь, что его смешило: то ли, что он стал режиссером и сидел за важным столом; то ли, что он находил лишним самый режиссерский стол; то ли, что он соображал, как нас обмануть и спрятаться в своей засаде.
— Я же все написал, — говорил он тогда. — я же не режиссер, я — доктор. <…>
Спектакль налаживался трудно; и неудивительно: пьеса очень трудна. Ее прелесть в неуловимом, глубоко скрытом аромате. Чтобы почувствовать его, надо как бы вскрыть почку цветка и заставить распуститься ею лепестки. Но это должно произойти само собой, без насилия, иначе сомнешь нежный цветок, и он завянет.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Работа над «Вишнёвым садом» была трудная, мучительная, я бы сказала, никак не могли понять друг друга, сговориться режиссеры с автором.
Но все хорошо, что хорошо кончается, и после всех препятствий, трудностей и страданий, среди которых рождался «Вишнёвый сад», мы играли его с 1904 года до наших дней и ни разу не снимали его с репертуара, между тем как другие пьесы отдыхали по одному, по два, три года.
«Вишнёвый сад» мы впервые играли 17/30 января 1904 года, в день именин Антона Павловича. Первое представление «Вишнёвого сада» было днем чествования Чехова литераторами и друзьями. Его это утомляло, он не любил показных торжеств и даже отказался приехать в театр. Он очень волновался постановкой «Вишнёвого сада» и приехал только тогда, когда за ним послали.
Первое представление «Чайки» было торжеством в театре, и первое представление последней его пьесы тоже было торжеством. Но как непохожи были эти два торжества! Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее. Не знаю, может быть, теперь эти события окрасились так благодаря всем последующим, но что не было ноты чистой радости в этот вечер 17 января — это верно.
Ненужный триумф
Константин Сергеевич Станиславский:
В первый раз с тех пор, как мы играли Чехова, премьера его пьесы совпадала с пребыванием его в Москве. Это дало нам мысль устроить чествование любимого поэта. Чехов очень упирался, угрожал, что останется дома, не приедет в театр. Но соблазн для нас был слишком велик, и мы настояли. Притом же первое представление совпало с днем именин Антона Павловича (17/30 января).
Назначенная дата была уже близка, надо было подумать и о самом чествовании, и о подношениях Антону Павловичу. Трудный вопрос! Я объездил все антикварные лавки, надеясь там набресть на что-нибудь, но кроме великолепной шитой музейной материи мне ничего не попалось. За неимением лучшего пришлось украсить ею венок и подать его в таком виде.
«По крайней мере, — думал я, — будет поднесена художественная вещь».
Но мне досталось от Антона Павловича за ценность подарка.
— Послушайте, ведь это же чудесная вещь, она же должна быть в музее, — попрекал он меня после юбилея.
— Так научите, Антон Павлович, что же надо было поднести? — оправдывался я.
— Мышеловку, — серьезно ответил он подумав. — Послушайте, мышей же надо истреблять. — Тут он сам расхохотался. — Вот художник Коровин чудесный подарок мне прислал! Чудесный!
— Какой? — интересовался я.
— Удочки.
И все другие подарки, поднесенные Чехову, не удовлетворили его, а некоторые так даже рассердили своей банальностью.
— Нельзя же, послушайте, подносить писателю серебряное перо и старинную чернильницу.
— А что же нужно подносить?
— Клистирную трубку. Я же доктор, послушайте. Или носки. Моя же жена за мной не смотрит. Она актриса. Я же в рваных носках хожу. Послушай, дуся, говорю я ей, у меня палец на правой ноге вылезает. Носи на левой ноге, говорит. Я же не могу так! — шутил Антон Павлович и снова закатывался веселым смехом.
Но на самом юбилее он не был весел, точно предчувствуя свою близкую кончину. Когда после третьего акта он, мертвенно бледный и худой, стоя на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжалось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея, над которым он добродушно смеялся в своих произведениях. Но и тут он не удержался от улыбки.
Василий Иванович Качалов (1875–1948), драматический актер:
Очень скучные были речи, которые почти все начинались: «Дорогой, многоуважаемый или «Дорогой и глубокоуважаемый…» И когда первый оратор начал, обращаясь к Чехову: «Дорогой, многоуважаемый…», то Антон Павлович тихонько нам, стоящим поблизости, шепнул: «Шкаф». Мы еле удержались, чтобы не фыркнуть. Ведь мы только что в первом акте слышали на сцене обращение Гаева — Станиславского к шкафу, начинавшееся словами: «Дорогой, многоуважаемый шкаф».
Помню, как страшно был утомлен А.П. этим чествованием. Мертвенно-бледный, изредка покашливая в платок, он простоял на ногах, терпеливо и даже с улыбкой выслушивая приветственные речи. Когда публика начинала кричать: «Просим Антона Павловича сесть… Сядьте, Антон Павлович!..» — он делал публике успокаивающие жесты рукой и продолжал стоять.
Александр Леонидович Вишневский:
Скромный Антон Павлович стоял перед публикой, приветствовавшей его восторженными аплодисментами. Ему подавали венок за венком. Читали приветствия. Адрес от Малого театра читала Г. И. Федотова. Для нас интереснее всего было приветствие от Художественного театра, которое произнес Вл. Ив. Немирович-Данченко, передавая, вместе с В. В. Лужским, ларец с портретами артистов.
— Милый Антон Павлович! Приветствия утомили тебя, — сказал В. И. Немирович-Данченко, — но ты должен найти утешение в том, что хоть отчасти видишь, какую беспредельную привязанность питает к тебе все русское грамотное общество. Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: это мой театр. Сегодня он ставит твою четвертую пьесу, но в первый раз переживает огромное счастье видеть тебя в своих стенах на первом представлении. Сегодня же первое представление совпало с днем твоего ангела. Народная поговорка говорит: Антон — прибавление дня. И мы скажем: наш Антон прибавляет нам дня, а стало быть, и света, и радостей, и близости чудесной весны.
Василий Иванович Качалов:
Когда опустился наконец занавес и я ушел в свою уборную, то сейчас же услышал в коридоре шаги нескольких человек и громкий голос А. Л. Вишневского, кричавшего: «Ведите сюда Антона Павловича, в качаловскую уборную! Пусть полежит у него на диване». И в уборную вошел Чехов, поддерживаемый с обеих сторон Горьким и Миролюбовым. Сзади шел Леонид Андреев и, помнится. Бунин.
— Черт бы драл эту публику, этих чествователей! Чуть не на смерть зачествовали человека! Возмутительно! Надо же меру знать! Таким вниманием можно совсем убить человека, — волновался и возмущался Алексей Максимович. — Ложитесь скорей, протяните ноги.
— Ложиться мне незачем и ноги протягивать еще не собираюсь, — отшучивался Антон Павлович. — А вот посижу с удовольствием.
— Нет, именно ложитесь и ноги как-нибудь повыше поднимите, — приказывал и командовал Алексей Максимович. — Полежите тут в тишине, помолчите с Качаловым. Он курить не будет. А вы, курильщик, — он обратился к Леониду Андрееву, — марш отсюда! И вы тоже, — обращаясь к Вишневскому, — уходите! От вас всегда много шума. Вы тишине мало способствуете. И вы, сударь. — обращаясь к Миролюбову, — тоже уходите, вы тоже голосистый и басистый. И, кстати, я должен с вами объясниться принципиально.
Мы остались вдвоем с Антоном Павловичем.
— А я и в самом деле прилягу с вашего разрешения, — сказал Антон Павлович. <…>
Послышались торопливые шаги Горького. Он остановился в дверях с папиросой, несколько раз затянулся, бросил папиросу, помахал рукой, чтобы разогнать дым, и быстро вошел в уборную.
— Ну что, отошли? — обратился он к Чехову.
— Беспокойный, неугомонный вы человек, — улыбаясь, говорил Чехов, поднимаясь с дивана. — Я в полном владении собой. Пойдем посмотрим, как «мои» будут расставаться с вишневым садом, послушаем, как начнут рубить деревья.
И они отравились смотреть последний акт «Вишневого сада».
Коистантин Сергеевич Станиславский:
Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе.
Сам спектакль имел лишь средний успех, и мы осуждали себя за то, что не сумели с первого же раза показать наиболее важное, прекрасное и ценное в пьесе.
Зинаида Григорьевна Морозова:
Постановка «Вишневого сада» в Художественном театре ему не нравилась; впрочем, он об этом не любил распространяться. Театр понял «Вишневый сад» не так, как сам Антон Павлович задумал пьесу. В воображении ему представлялось все гораздо шире и грандиознее. Тот же дом, показанный в третьем действии, казался ему величественнее.
Прощание
Константин Сергеевич Станиславский:
Подходила весна 1904 года. Здоровье Антона Павловича все ухудшалось. Появились тревожные симптомы в области желудка, и это намекало на туберкулез кишок. Консилиум постановил увезти Чехова в Баденвейлер. Начались сборы за границу. Нас всех, и меня в том числе, тянуло напоследок почаще видеться с Антоном Павловичем. Но далеко не всегда здоровье позволяло ему принимать нас. Однако, несмотря на болезнь, жизнерадостность не покидала его. Он очень интересовался спектаклем Метерлинка, который в то время усердно репетировался. Надо было держать его в курсе работ, показывать ему макеты декораций, объяснять мизансцены.
Сам он мечтал о новой пьесе совершенно нового для него направления. Действительно, сюжет задуманной им пьесы был как будто бы не чеховский. Судите сами: два друга, оба молодые, любят одну и ту же женщину. Общая любовь и ревность создают сложные взаимоотношения. Кончается тем, что оба они уезжают в экспедицию на Северный полюс. Декорация последнего действия изображает громадный корабль, затертый в льдах. В финале пьесы оба приятеля видят белый призрак, скользящий по снегу. Очевидно, это тень или душа скончавшейся далеко на родине любимой женщины.
Вот все, что можно было узнать от Антона Павловича о новой задуманной пьесе.
Зинаида Григорьевна Морозова:
В последний раз я видела Антона Павловича месяца за два до смерти. Я только что вернулась в Москву. Мне передали, что Антона Павловича увозят за границу лечиться. Я поехала его навестить. Жил тогда Антон Павлович в очень неуютной квартире, в Леонтьевском переулке, на третьем этаже.
Меня встретила Ольга Леонардовна и сказала, что Антон Павлович чувствует себя очень плохо и едва ли он выйдет. Я все-таки просила сказать о себе. Он вышел очень быстрой походкой и начал ходить из угла в угол; первые слова, которые он сказал, были:
— Вы знаете: я очень, очень болен, меня посылают за границу. <…>
Несмотря на болезненное состояние, он спросил меня о здоровье моих девочек; одну из них, Елену, он называл белым грибком.
Он еще два раза повторил: «я очень, очень болен», — и с этими словами ушел в свою комнату.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Когда я вошла в комнату, то была поражена той переменой, которая произошла в Антоне Павловиче за эти четыре месяца после премьеры «Вишневого сада». Лицо его стало бледное, с желтоватым опенком, кожа лица обтянулась. Его добрые глаза были без улыбки, какая была в них всегда раньше. Антон Павлович лежал на постели в белом белье, на высоко поднятых подушках, закрытый до пояса теплым пледом. У меня подступили к глазам готовые прорваться слезы. Антон Павлович попросил меня сесть, указывая на стул у его постели: стул был занят его платьем и еще чем-то, и сесть было негде. Я так расстроилась и так растерялась при виде той перемены, которую произвела болезнь в облике человека, что от жалости к нему, не помня себя от душивших меня слез, я просто опустилась на колени около его кровати. Он молча, ласково провел по моим волосам рукой. Боясь, что не удержусь и разрыдаюсь, если произнесу хоть одно слово, я встала, едва успев взглянуть на него, пожала молча его исхудалую руку и быстро вышла из комнаты, так и не сказав ни одного слова.
Николай Дмитриевич Телешов:
Я уже знал, что Чехов очень болен, — вернее, очень плох, — и решил занести ему только прощальную записку, чтоб не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.
Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться. А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:
— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.
Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем «умирать», которое не хотелось бы сейчас повторить.
«На пустое сердце льда не кладут»
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
В первых числах июня мы выехали в Берлин, где остановились на несколько дней, чтобы посоветоваться с известным немецким профессором Э., который, выслушав и простукав Антона Павловича, не нашел ничего более подходящего в своих действиях, как — встать, пожать плечами, попрощаться и уйти. Не могу забыть мягкой, снисходительной, как бы сконфуженной и растерянной улыбки, с которой Антон Павлович посмотрел вслед уходящей знаменитости.
Конечно, этот визит произвел на него тяжелое впечатление.
Антон Павлович впервые познакомился в Берлине с Г. Иоллосом, много беседовал с ним и сохранил к нему теплую симпатию. Это свидание несколько сгладило неприятный осадок, оставшийся от посещения немецкого профессора.
Григорий Борисович Иоллос (1859–1907), публицист, редактор и корреспондент газеты «Русские ведомости». Член партии кадетов. Из письма В. М. Соболевскому. Баденвейлер, 3(16) июля 1904 г.:
Я лично в Берлине уже получил впечатление, что дни А.П. сочтены, — так он мне показался тяжело больным: страшно исхудал, от малейшего движения кашель и одышка, температура всегда повышенная. В Берлине ему трудно было подняться на маленькую лестницу Потсдамского вокзала; несколько минут он сидел обессиленный и тяжело дыша. Помню однако, что, когда поезд отходил, он, несмотря на мою просьбу оставаться спокойно на месте, высунулся из окна и долго кивал головой, когда поезд двинулся.
Антон Павлович Чехов. Из письма П. Ф. Иорданову. Баденвейлер, 12 (25) июня 1904 г.
С первых чисел мая я очень заболел, похудел очень, ослабел, не спал ночей, а теперь я посажен на диету (ем очень много) и живу за границей. Мой адрес:
Германия, Badenweiler, Herrn Anton Tschechoff или Tschechow — так печатают сами немцы, мои переводчики.
Как будто поправляюсь. Не дает мне хорошо двигаться эмфизема. Но, спасибо немцам, они научили меня, как надо есть и что есть. Ведь у меня ежедневно с 20 лет расстройство кишечника! Ах, немцы! Как они (за весьма <не>большими исключениями) пунктуальны!
Запретили немцы пить кофе, который я так люблю. Требуют, чтобы я пил вино, от которого я давно уже отвык.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Первое время по приезде в Баденвайлер Антон Павлович начал как будто поправляться, гулял около дома. Но его мучила одышка — эмфизема легких. Мы почти ежедневно катались, и Антон Павлович очень любил эти прогулки по великолепной дороге, с чудесными вишневыми деревьями по сторонам, среди выхоленных полей и лугов, с журчащими ручьями искусственного орошения, мимо маленьких уютных домиков с крохотными садиками, где на маленьких клочках земли зеленеют любовно разбитые огороды, а рядом пышно цветут — лилии, розы, гвоздика.
Вся эта мирная панорама природы радовала Антона Павловича. Ему нравилась эта привязанность и любовь людей к земле, к тот, что дает земля, и он с горечью переносился мыслями в Россию, мечтая о том времени, когда и русский крестьянин с такой же бережной любовью будет выхаживать свой клочок земли.
Антон Павлович Чехов. Из письма В. М. Соболевскому. Баденвейлер, 12 (25) июня 1904 г.:
Badenweiler очень оригинальный курорт, но в чем его оригинальность, я еще не уяснил себе. Масса зелени, впечатление гор, очень тепло, домики и отели, стоящие особняком в зелени. Я живу в небольшом особняке-пансионе, с массой солнца (до 7 час. вечера) и великолепнейшим садом, платим 16 марок в сутки за двоих (комната, обед, ужин, кофе). Кормят добросовестно, даже очень. Но, воображаю, какая здесь скука вообще! Кстати же, сегодня с раннего утра идет дождь, я сижу в комнате и слушаю, как под и над крышей гудит ветер.
Немцы или утеряли вкус, или никогда у них его не было: немецкие дамы одеваются не безвкусно, а прямо-таки гнусно, мужчины тоже, нет во всем Берлине ни одной красивой, не обезображенной своим нарядом. Зато по хозяйственной части они молодцы, достигли высот, для нас недосягаемых.
Антон Павлович Чехов. Из письма П. И. Куркину. Баденвейлер, 12(25) июня 1904 г.:
Ноги у меня уже совсем не болят, я хорошо сплю, великолепно ем, только одышка — от эмфиземы и сильнейшей худобы, приобретенной в Москве за май. Здоровье входит не золотниками, а пудами. Badenweiler хорошее местечко, теплое, удобное для жизни, дешевое, но, вероятно, уже дня через три я начну помышлять о том, куда бы удрать от скуки.
Григорий Борисович Иоллос. Из письма В. М. Соболевскому. Баденвейлер, 3(16) июля 1904 г.:
По приезде сюда, в Баденвейлер, он первые дни чувствовал себя бодрее <…>. Аппетит и сон были лучше; но уже на второй неделе здешнего пребывания стали проявляться беспокойство и торопливость — комната ему не нравилась, хотелось другого места. Они переехали в частный дом Villa Frederike, и там повторилось то же самое: пара спокойных дней, затем снова желание куда-нибудь подальше. О. Л. нашла прекрасную комнату с балконом в Hotel Sommer, и здесь он, сидя на балконе, любил наблюдать сцены на улице. Особенно его занимало непрекращающееся движение у дома почты. «Видишь, — говорил он жене, — что значит культурная страна: все выходят и входят, каждый пишет и получает письма».
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
За три недели нашего пребывания в Баденвайлере мы два раза меняли помещение. В отеле «Ремербад» было очень людно и нарядно, и мы переехали на частную виллу «Фридерике», где наняли комнату в нижнем этаже, чтобы Антон Павлович мог по утрам сам выходить, лежать на солнце и ж; гать, всегда с нетерпением, почтальона с письмами и газетами из России. Антон Павлович очень волновался войной с Японией и с большим вниманием следил за развитием военных действий.
Вскоре и на этой вилле стало неуютно — Антон Павлович зяб, мало было солнца в комнате, а за стеной по ночам слышался кашель и чувствовалась близость тяжко больного. Мы переехали в отель «Зоммер» в комнату, залитую солнцем. Антон Павлович стал отогреваться, почувствовал себя лучше, обедал и ужинал ежедневно внизу, в общей зале — за нашим отдельным столиком; много лежал в саду, сидел у себя на балконе и наблюдал жизнь маленького Баденвайлера; особенно его занимала неустанная жизнь на почте.
Антон Павлович Чехов. Е. Я. Чеховой. Баденеейлер, 13 (26) июня 1904 г.:
Милая мама, шлю Вам привет. Здоровье мое поправляется, и надо думать, что через неделю я буду уже совсем здоров. Здесь мне хорошо. Покойно, тепло, много солнца, нет жары. Ольга кланяется Вам и целует. Поклонитесь Маше, Ване и всем нашим. Низко Вам кланяюсь и целую руку. Вчера Маше послал письмо. Ваш Антон.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Из посмертного письма-дневника А. П. Чехову:
11-ое сентября 1904. Еще за несколько дней до твоей смерти мы говорили и мечтали о девчоночке, которая должна бы у нас родиться. У меня такая боль в душе, что не осталось ребенка. Много мы говорили с тобой на эту тему.
Лев Львович (Людвиг-Артур) Рабенек (1883–1972), студент, живший в одном отеле с А. П. Чеховым в Баденвейлере и бывший свидетелем кончины писателя, впоследствии предприниматель:
Вспоминая теперь это далекое прошлое, мне ясно рисуется в памяти маленький приветливый Баденвейлер, расположенный на мягких холмах Шварцвальда, и отель «Зоммер», выходящий своим фасадом на прекрасный бадейвейлерский парк.
Помню, лето 1904 г. было солнечным и очень жарким, во всем чувствовались довольство, покой и радость.
Антон Павлович до нашего приезда прожил в Баденвейлере недолго, но, судя по внешнему виду, как будто очень поправился <…>.
Но это оздоровление было кажущимся, на самом деле процесс его болезни шел своим путем. Когда на следующий день своего приезда я зашел наведаться к Антону Павловичу, меня поразила разница между этим кажущимся оздоровлением и изможденностью всей его фигуры. Хотя цвет его лица был очень хороший и он выглядел сильно загоревшим.
Сидя и беседуя с ним, я видел, что он часто очень кашлял и отплевывал мокроту в небольшую синюю, закрывающуюся наглухо, плевательницу, которую постоянно носил с собой в кармане своего пиджака.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Доктор Шверер, к которому мы обратились в Баденвайлере, оказался прекрасным человеком и врачом. Вероятно и он понял, что состояние здоровья Антона Павловича должно внушать серьезные опасения. С тем большей мягкостью, осторожностью и любовью отнесся он к Антону Павловичу, который обыкновенно тяготился визитами врачей настолько, что даже наш постоянный врач и друг — И. Н. Альтшу<лер> всегда старался, и это ему удавалось, маскировать свои врачебные визиты к Антону Павловичу. С такой же покорностью и без малейшего ропота всегда принимал Антон Павлович и доктора Шверера, который, в свою очередь, умел приходить к нему как-то просто, под видом доброго знакомого.
Лев Львович Рабенек:
Несколько слов об этом немецком враче, на руках которого скончался Антон Павлович. Доктор Шверер был сравнительно молодой, красивый и приятный в обращении человек. Его лицо показывало, что в свои студенческие годы он принадлежал к одной из студенческих корпораций: следы дуэльных порезов сохранились на его щеке. Так как он лечил также моего брата, то я имел возможность присмотреться к нему и убедиться, что он серьезный и знающий врач. Примечательно то, что он был женат на русской, на нашей москвичке Елизавете Васильевне Живаго.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Баденвейлер, 16(29) июня 1904 г.:
Я живу среди немцев, уже привык и к комнате своей и к режиму, но никак не могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука, только в 7 час. утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо талантливее, а про итальянскую или французскую и говорить нечего.
Здоровье мое поправилось, я, когда хожу, уже не замечаю того, что я болен, хожу себе и все, одышка меньше, ничего не болит, только осталась после болезни сильнейшая худоба; ноги тонкие, каких у меня никогда не было. Доктора немцы перевернули всю мою жизнь. В 7 час. утра я пью чай в постели, почему-то непременно в постели, в 7 1/2 приходит немец вроде массажиста и обтирает меня всего водой, и это, оказывается, недурно, затем я должен полежать немного, встать и в 8 час. пить желудевое какао и съедать при этом громадное количество масла. В 10 час. овсянка, протертая, необыкновенно вкусная и ароматичная, не похожая на нашу русскую. Свежий воздух, на солнце. Чтение газет. В час дня обед, причем я ем не все блюда, а только те, которые, но предписанию доктора-немца, выбирает для меня Ольга. В 4 час. опять какао. В 7 ужин. Перед сном чашка чаю из земляники — это для сна. Во всем этом много шарлатанства, но много и в самом деле хорошего, полезного, например овсянка. Овсянки здешней я привезу с собой.
Ольга уехала сейчас в Швейцарию, в Базель лечить свои зубы. В 5 час. вечера будет дома. Меня неистово тянет в Италию.
Лев Львович Рабенек:
Приходил я к Антону Павловичу почти ежедневно, приносил ему русские газеты, зачастую прочитывая их ему вслух. Он страшно интересовался всеми событиями на Дальнем Востоке. Война с Японией его волновала, а наши неудачи на фронте его глубоко огорчали, и он болел за них душой. Тогда казалось, что ничего не предвещает близкой развязки: он строил планы на будущее, решил возвращаться в Крым, к себе в Ялту, пароходом из Неаполя.
Константин Петрович Пятницкий (1864–1938), основатель и руководитель издательского товарищества «Знание». Из письма А. П. Чехову Москва, 17 (30) июня 1904 г.:
Мы с Алексеем Максимовичем (Горьким. — Сост.) просили Вас не выпускать пьесу, проданную в сборник, в другой фирме раньше конца года. Эта просьба вызывалась необходимостью. Мы не думаем о прибыли с данной книги. Но расходы должны быть покрыты: нужно вернуть стоимость бумаги и типографских работ, гонорар авторов и те отчисления в пользу разных учреждений, какие указаны в начале книги. Расходы эти, как Вы знаете, велики… Составляя второй сборник, мы рассчитывали, что его будут покупать, главным образом, из-за «Вишневого сада»… Что же теперь вышло. Не успел второй сборник поступить в магазин, как Маркс выпускает «Вишневый сад» отдельной книгой — по 40 коп. Об этом напечатаны сотни тысяч объявлений в «Ниве» и крупных газетах. Значит, он печатал пьесу одновременно с нами — еще когда мы боролись с цензурой. Пьеса появилась в двух фирмах одновременно. Будут ли теперь покупать сборник из-за «Вишневого сада» — конечно, не будут.
Антон Павлович Чехов. Из письма К. П. Пятницкому. Баденвешер, 19 июня (2 июля) 1904 г.:
Многоуважаемый Константин Петрович, со 2-го мая я был очень болен, все время лежал в постели, и, как теперь понимаю, я не подумал о том, о чем надлежало подумать именно мне, и потому во всей этой неприятной истории, хочешь не хочешь, большую долю вины я должен взять на себя. Убытки я могу пополнить только разве возвратом 4500 р., которые Вы получите от меня в конце июля, когда я вернусь в Россию, и принятием на свою долю тех убытков, которые издание может понести от плохой продажи. Так я решил и убедительно прошу Вас согласиться на это.
Юридически можно решить все дело только таким образом: Вы подаете на меня в суд (на что я даю Вам свое полное согласие, веря, что это нисколько не изменит наших хороших отношений); тогда я приглашаю в качестве поверенного Грузенберга, и он уж от меня ведет дело с Марксом, требуя от него пополнения убытков, которые Вы понесли и за которые я отвечаю.
Итак: или мирным порядком я уплачиваю Вам 4500 и убытки, или же дело решается судебным порядком. Я стою, конечно, за второе. Все, что бы я теперь ни писал Марксу, бесполезно. Я прекращаю с ним всякие сношения, так как считаю себя обманутым довольно мелко и глупо, да и все, что бы я ни писал ему теперь, не имело бы для него ровно никакого значения.
Простите, что я в Вашу тихую издательскую жизнь внес такое беспокойство. Что делать, у меня всегда случается что-нибудь с пьесой, и каждая моя пьеса почему-то рождается на свет со скандалом, и от своих пьес я не испытывал никогда обычного авторского, а что-то довольно странное.
Во всяком случае, Вы не волнуйтесь очень и не сердитесь; я в худшем положении, чем Вы.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Из письма Вл. И. Немировичу-Данченко. Баденвейлер, 27 июня (10 июля) 1904 г.:
В весе теряет. Целый день лежит. На душе у него очень тяжело. Переворот в нем происходит.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
За три дня до кончины Антон Павлович почему-то выразил желание иметь белый фланелевый костюм. Когда я ответила, что в Баденвайлере нельзя исполнить его желания, он как ребенок просил съездить в ближайший городок Фрейбург и заказать по мерке хороший костюм.
Лев Львович Рабенек:
Он просил Ольгу Леонардовну поехать в ближайший город Фрайбург и заказать ему для поездки в Крым два фланелевых костюма — один белый в синюю полоску, другой синий в белую полоску. Ольга Леонардовна решила поехать во Фрайбург и предложила мне сопровождать ее.
Итак, в одно прекрасное утро мы отправились в путь-дорогу, захватив с собой старый костюм Антона Павловича для мерки портному. Доехав до Фрайбурга и заказав оба костюма, мы решили воспользоваться чудным днем и осмотреть этот старый немецкий город и его окрестности.
Антон Павлович Чехов. Из последнего письма М. П. Чеховой. Баденвейлер, 28 июня (11 июля) 1904 г.:
Очень жарко, хоть раздевайся. Не знаю, что и делать. Ольга поехала в Фрейбург заказывать мне фланелевый костюм, здесь в Баденвейлере ни портных, ни сапожников. Для образца она взяла мой костюм, сшитый Дюшаром.
Питаюсь я очень вкусно, но неважно, то и дело расстраиваю желудок. Масла здешнего есть мне нельзя. Очевидно, желудок мой испорчен безнадежно, поправить его едва ли возможно чем-нибудь, кроме поста, т. е. не есть ничего — и баста. А от одышки единственное лекарство — это не двигаться.
Ни одной прилично одетой немки, безвкусица, наводящая уныние.
Лев Львович Рабенек:
Вернулись домой мы около шести часов вечера и застали Антона Павловича мирно прогуливавшимся в обществе: моего брата по саду нашего отеля. В саду сидела большая компания немцев, очень шумных, потных, пьющих бесконечное количество пива. Антон Павлович, увидев нас возвращающимися веселыми и радостными, взглянул на меня через свое пенсне и сказал: «Вы, поди, весь день за моей женой ухаживали», чем поверг меня в большое смущение. А затем, не дожидаясь моего ответа, обратился к Ольге Леонардовне: «А мне, дуся, все время казалось, что эти немцы в конце концов меня поколотят».
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Он остался очень доволен, когда узнал, что костюм будет готов через три дня.
Началась жара, начались грозы. На следующее утро Антон Павлович, идя но коридору, сильно задыхался. Придя в комнату, затревожился, просил переменить эту комнату, окнами на север, и часа через два мы устраивались уже в новой комнате — в верхнем этаже, с прекрасным видом на горы и леса.
Антон Павлович лег в постель, попросил меня написать в Берлин, в банк, о высылке остававшихся там денег. Когда я села за письмо, он вдруг сказал:
— Напиши, чтобы прислали деньги на твое имя… Мне это показалось странным — я засмеялась и ответила, что не люблю возиться с денежными делами — и это Антон Павлович знал, — пусть будет все по-прежнему. В банк я написала, чтобы деньги выслали на имя «Anton Tschechoff».
Когда же я стала разбирать вещи и приводить в порядок комнату, Антон Павлович вдруг спросил:
— А что, ты испугалась?
Возможно, что моя торопливость заставила его так думать.
Лев Львович Рабенек:
Помню радость Антона Павловича, когда я пришел к нему в эту новую комнату. Он сразу как-то успокоился и повеселел.
Отто Брингер, владелец гостиницы «Зоммер» в Баденвейлере. Из письма Фидлеру, 13 июля 1904 г.:
В немецких газетах встречается ошибочное утверждение, будто господин Чехов выезжал на прогулку. Господин Чехов все время оставался дома и выходил из комнаты только для того, чтобы поесть, пользуясь при этом лифтом. По прибытии сюда он в самые первые дни был очень тих и немногословен; однако вскоре под целительным воздействием воздуха он, казалось, значительно ожил, и даже лицо его стало выразительней.
Григорий Борисович Иоллос. Из письма В. М. Соболевскому. Баденвейлер, 3(16) июля 1904 г.:
А.П. производил впечатление серьезного больного, но никто не думал, что конец так близок. Д-р Шверер (Schwörer), превосходно относившийся к пациенту, на мой вопрос, была ли кончина для него неожиданной, ответил утвердительно: до наступления кризиса в ночь с четверга на пятницу он думал, что жизнь может еще продлиться несколько месяцев, и даже после ужасного припадка во вторник состояние сердца еще не внушало больших опасений, потому что после впрыскивания морфия и вдыхания кислорода пульс стал хорош, и больной спокойно заснул.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Из письма М. П. Чеховой. Баденвейлер, 30 июня (13 июля) 1904 г.:
Вчера он так задыхался, что и не знала, что делать, поскакала за доктором. Он говорит, что вследствие такого скверного состояния легких сердце работает вдвое, а сердце вообще у него не крепкое. Дал вдыхать кислород, принимать камфару, есть капли, все время лед на сердце. Ночью дремал сидя, я ему устроила гору из подушек, потом два раза впрыснула морфий, и он хорошо уснул лежа.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
После трех тревожных, тяжелых дней ему стало легче к вечеру. Он послал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась от него эти дни, и когда я пришла, он все беспокоился, почему я не иду ужинать, на что я ответила, что гонг еще не прозвонил. Гонг, как оказалось после, мы просто прослушали, а Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая необычайно модный курорт, где много сытых, жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, краснощеких англичан и американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катанья, с пешеходной прогулки — одним словом, отовсюду собираются с мечтой хорошо и сытно поесть после физической усталости дня. И туг вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого нет, — и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях. Я сидела, прикорнувши на диване после тревоги последних дней, и от души смеялась. И в голову не могло прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова!
Григорий Борисович Иоллос. Из письма В. М. Соболевскому. Баденвейлер, 5 июля 1904 г.:
Проснувшись в первом часу ночи, Антон Павлович стал бредить, говорил о каком-то матросе, спрашивал об японцах, но затем пришел в себя и с грустной улыбкой сказал жене, которая клала ему на грудь мешок со льдом: «На пустое сердце льда не кладут».
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ощущение чего-то огромного, надвигающегося придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто-то уверенно вел меня. Помню только жуткую минуту потерянности: ощущение близости массы людей в большом спящем отеле и вместе с тем чувство полной моей одинокости и беспомощности. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты — два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас среди давящей тишины июльской мучительно душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку…
Лев Львович Рабенек:
В ночь на 2/15 июля мы с братом спали крепким сном, вернувшись поздно вечером после большой экскурсии по горам. Сквозь сон я вдруг услышал сильный стук и голос Ольги Леонардовны, которая звала меня. Вскочив с кровати и подбежав к двери, я увидел ее взволнованное лицо. Она была в капоте:
— Очень прошу вас, голубчик, одеться поскорее и сбегать за доктором, — Антону плохо.
Я сейчас же наскоро оделся и побежал к доктору, который жил в минутах го ходьбы от гостиницы. Ночь была теплая, мягкая, в доме у доктора все спали с открытыми окнами. Доктор, услыхав звонок у калитки из своей спальни, спросил: «Кто там?» Я ему прокричал, что прибежал по поручению «фрау Чехов» и что мужу ее плохо. Доктор сейчас же зажег свет в своей комнате, подошел к окну и сказал мне, что будет через несколько минут в гостинице, и просил меня по дороге в отель взять в аптеке сосуд с кислородом. Я от доктора побежал к аптекарю, разбудил и его и получил от него требуемый кислород.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Пришел доктор. <…> Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): «Ich sterbe…»[24]
Доктор Шверер. В передаче Г. Б. Иоллоса:
Когда я подошел к нему, он спокойно встретил меня словами: «Скоро, доктор, умру». Я велел принести новый баллон с кислородом. Чехов остановил меня: «Не надо уже больше. Прежде, чем его принесут, я буду мертв».
Лев Львович Рабенек:
Когда я вернулся в отель, доктор был уже в комнате Антона Павловича. Я вошел в нее и передал ему кислород. Антон Павлович сидел на постели, подпертый подушками и поддерживаемый Ольгой Леонардовной; он тяжело, с трудом дышал. Доктор стал давать ему кислород. Через несколько минут доктор шепотом попросил меня спуститься вниз к швейцару и принести бутылку шампанского и бокал. Я снова исчез и вернулся через некоторое время с бутылкой шампанского. Доктор налил почти полный бокал и дал его Антону Павловичу выпить. Антон Павлович с радостью взял бокал шампанского, улыбнулся своей милой улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского», и по-молодецки опорожнил бокал. Доктор принял от него пустой бокал, передал его мне, я поставил его на стол рядом с бутылкой.
В тот самый момент, когда я ставил на стол бокал, повернувшись спиной к Антону Павловичу, послышался какой-то странный звук, исходящий из его горла, что-то похожее, что происходит в водяном кране, когда в него попадает воздух, — заклокотало что-то. Когда я повернулся, то увидел, что Антон Павлович, поддерживаемый Ольгой Леонардовной, перелег на бок и тихонько опускается на свои подушки. Мне показалось, что ему захотелось прилечь после тяжелого приступа дыхания. В комнате было тихо, никто не говорил, а притененный свет лампы придавал обстановке жуткое впечатление. Доктор не отходил от Антона Павловича и молча держал его за руку. Мне не приходило в голову, что он следит все время за пульсом. Прошло несколько минут полного молчания, и мне казалось (я был так далек от мысли возможной смерти Чехова), что теперь все, слава Богу, успокоилось и пережитые волнения уже являются делом прошлого.
Григорий Борисович Иоллос. Из письма В. М. Соболевскому. Баденвейлер. 5 июля 1904 г.:
Последние его слова были: «Умираю», и потом еще тише, по-немецки, к доктору: «Ich sterbe»… Пульс становился все тише… Умирающий сидел в постели, согнувшись и подпертый подушками, потом вдруг склонился на бок, — и без вздоха, без видимого внешнего знака, жизнь остановилась. Необыкновенно довольное, почти счастливое выражение появилось на сразу помолодевшем лице.
Лев Львович Рабенек:
В это время доктор тихо опустил руку Антона Павловича, отошел от него, приблизился ко мне (я стоял в ногах кровати), отвел меня в глубь комнаты и вполголоса сказал:
— Alles ist zu Ende, Herr Tschechoff ist gestorben, wollen Sie bitte das der Frau Tschechoff mitteilen![25]
Я был поражен и мог только вымолвить:
— Ist das wahr Herr Doktor?
— Leider. Ja![26] — ответил он, сам, видимо, превозмогая свое волнение и глубоко переживая происшедшее.
Весь наш этот разговор велся полушепотом. Ольга Леонардовна не обращала на нас внимания и продолжала лежать поперек своей кровати, все еще поддерживая Антона Павловича, не догадываясь, что все уже кончено. Я тихонько подошел к ней, тронул ее за плечо и сделал знак, чтобы она поднялась. Она осторожно освободила свои руки из-под спины Антона Павловича, поднялась и подошла ко мне. Я, с трудом удерживая свои внутренние переживания, полушепотом сказал ей: «Ольга Леонардовна, голубушка моя, доктор сказал, что Антон Павлович скончался»…
Бедная Ольга Леонардовна в первую минуту как бы окаменела, таким страшным и неожиданным оказался удар, а затем в каком-то исступлении набросилась на доктора, схватила его за воротник пиджака, начала его грясти что есть сил и сквозь слезы повторяла по-немецки:
— Doktor es ist nicht wahr, sagen Sie doch Doktor, dass ist nicht wahr![27]
С большим трудом нам с доктором удалось мало-помалу ее успокоить и привести в себя. Доктор оставался еще какое-то время в комнате, затем, ухода и сознавая, как Ольга Леонардовна тяжко принимает смерть своего мужа, просил меня убрать со стола все острые вещи, наподобие ножей, и не оставлять ее одну, а побыть с ней вместе до утра. Рано утром он обещал вернуться со своей женой и увезти Ольгу Леонардовну к себе домой, пока покойник не будет вымыт и одет.
Григорий Борисович Иоллос. Из письма редактору газеты «Русские ведомости» В. М. Соболевскому. Баденвейлер, 3 июля 1904 г.:
Сквозь широко раскрытое окно веяло свежестью и запахом сена, над лесом показывалась заря. Кругом ни звука — маленький курорт спал; врач ушел, в доме стояла мертвая тишина; только пение птиц доносилось в комнату, где, склонившись на бок, отдыхал от трудов замечательный человек и работник, склонившись на плечо женщины, которая покрывала его слезами и поцелуями.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.
Лев Львович Рабенек:
Влетевшую большую черную ночную бабочку помню очень ясно, только сейчас не смогу сказать, влетела ли она в комнату до смерти Антона Павловича или сейчас же после его кончины.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Ушел доктор, среди тишины и духоты ночи со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского… Начало светать, и вместе с пробуждающейся природой раздалось, как первая панихида, нежное, прекрасное пение птиц, и донеслись звуки органа из ближней церкви. Не было звука людского голоса, не было суеты обыденной жизни, были красота, покой и величие смерти…
Лев Львович Рабенек:
С уходом доктора я уговорил Ольгу Леонардовну выйти и сесть на балкон. Я вынес из комнаты два кресла. Мы сели. Ночь была теплая, приятная. Заря уже сильно занялась, птички начали перекликаться в парке. Надвигался чудный рассвет, затем наступило утро.
Мы сидели молча, потрясенные происшедшим, иногда только перебрасывались своими недавними воспоминаниями об Антоне Павловиче. Ольга Леонардовна вдруг заметила: «А ведь знаете, Левушка, мы с вами Антону не костюмы, а саваны заказывали». Рано утром пришли доктор с женой, чтобы увезти к себе Ольгу Леонардовну. С трудом удалось настоять, чтобы она покинула комнату покойного. Я обещал ей присмотреть за всем и прийти за ней, когда все будет кончено.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
И деньги, и костюм были присланы на другой день после его смерти.
Лев Львович Рабенек:
Примерно около пяти часов вечера я пришел к доктору за Ольгой Леонардовной, и мы вместе пошли в отель.
Мы вошли в комнату покойного. Вечерний солнечный свет едва проникал в нее через спущенные на окнах и балконной двери жалюзи.
Покойный лежал на постели, уже обложенный цветами, со скрещенными руками на груди и с выражением полного покоя на лице.
Григорий Борисович Иоллос. Из письма редактору газеты «Русские ведомости» В. М. Соболевскому. Баденвейлер, 3 июля 1904 г.:
В виде особой любезности к berühmter russischer Schriftsteller хозяин отеля согласился оставить тело в комнате, но в следующую ночь его тайком, через задние коридоры, вынесли в часовню, где оно останется до отхода поезда в Россию.
Лев Львович Рабенек:
В ночь на 3/16 июля тело Антона Павловича должно было быть перенесено из гостиницы в местную маленькую часовню, причем это должно было произойти поздно ночью, когда все в отеле уже спят. Ночной швейцар пришел известить нас с братом, что носильщики пришли. Мы вошли в комнату Антона Павловича. При нас эти люди внесли вместо обычных носилок большую, длинную бельевую корзину. Я помню, как брата и меня этот способ перенесения глубоко оскорбил. Мы безмолвно должны были смотреть, как останки нашего любимого русского писателя переносятся в бельевой корзине.
Переносчики бережно подняли тело и стали укладывать его в корзину, но, к удивлению, длина этой корзины все же не оказалась достаточна, чтобы тело могло лечь вполне горизонтально и пришлось его пристроить в полулежачем положении. Наблюдая за переносчиками, укладывавшими тело покойного, мне одну минуту показалось, что я вижу на лице Антона Павловича едва заметную улыбку, и мне стало чудиться, что он ухмыляется тому, что судьба и на этот раз не смогла разлучить его с юмором, устроив перенос его тела не по-обычному, а в бельевой корзине. Мы вынесли корзину с телом Антона Павловича на улицу. Ночь была темная. Переносчики стали двигаться по дороге к часовне. Путь освещали два идущие по бокам факельщика. Придя в часовню, мы с братом уложили тело Антона Павловича на место, уготовленное для покойного, обложили его цветами и, молитвенно простившись с ним, пошли домой. <…>
Через несколько дней мы провожали гроб Антона Павловича из Баденвейлера на станцию железной дороги. Вагон с гробом был прицеплен к пассажирскому поезду, отходящему в Берлин, и с этим поездом, провожая покойного, отбыли в Россию Ольга Леонардовна и Елена Ивановна (Книппер, жена брата О. Л. Книппер-Чеховой. — Сост.), чтобы предать Антона Павловича земле в родной Москве, в Новодевичьем монастыре.
Максим Горький:
Гроб писателя <…> был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц».
Краткая летопись жизни и творчества А. П. Чехова
1860, 17 (29)января. Родился А. П. Чехов в Таганроге в семье купца второй гильдии Павла Егоровича Чехова. Мать — Евгения Яковлевна Чехова (урожденная Морозова).
1867–1868. Обучение в греческой церковной школе г. Таганрога.
1868–1879. Обучение в таганрогской классической гимназии.
1876. Отец Чехова закрывает свою торговлю и переезжает с семьей в Москву. Чехов остается один в Таганроге.
1879. Окончание гимназии, переезд в Москву и поступление на медицинский факультет Московского университета.
1880, 9 (21) марта. Публикация первого рассказа «Письмо донского помещика Степана Владимировича N к ученому соседу доктору Фридриху» в журнале «Стрекоза», № го за подписью «…въ» и юморески «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?» за подписью «Антоша».
1880, 11 (23) мая. Публикация первого рассказа за подписью «Чехонте» — «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», в журнале «Стрекоза» 500 № 19.
1880–1884 Многочисленные публикации рассказов и фельетонов в юмористических журналах «Стрекоза», «Будильник», «Зритель», «Москва», «Мирской толк», «Свет и тени», «Спутник», «Развлечение», «Русский сатирический листок», «Сверчок», «Осколки» под псевдонимами: Антоша Чехонте, Человек без селезенки. Брат моего брата, Рувер, Улисс и др.
1883, октябрь. Н. С. Лесков дарит Чехову «Сказ о тульском Левше и о стальной блохе» и «Соборяне» с дарственными надписями.
1883. Попытка издания первого сборника рассказов «На досуге», из печати не вышел.
1884. Окончание медицинского факультета Университета. Начало медицинской практики.
1884, лето. Работа в г. Воскресенске в качестве врача, в Чикинской земской больнице и Звенигородской больнице.
1884, первая половина июня. Выходит в свет первый сборник рассказов «Сказки Мельпомены» под псевдонимом А. Чехонте.
1884, 15 (27) сентября. Советом Московского университета утвержден в звании уездного врача.
1884, декабрь. Первое заболевание (нетуберкулезное кровохарканье).
1884–1885. Работа над диссертацией «Врачебное дело в России».
1885, лето. Живет в усадьбе Киселевых. Бабкино, под Москвой около г. Воскресенска.
1886, 25 марта. Получает приветственное письмо от Д. В. Григоровича.
1886, апрель. Появляется сильное кровохарканье туберкулезного характера.
1886, конец апреля — начало мая. Знакомится в Петербурге с А. С. Сувориным и Д. В. Григоровичем.
1886, май. Выходит сборник «Пестрые рассказы» под псевдонимом А. Чехонте.
1886, лето. Живет на даче в Бабкине.
1887, август. Выходит сборник «В сумерках. Очерки и рассказы» под именем Ан. П. Чехова.
1887, конец сентября — начало октября. Пишет пьесу «Иванов».
1887, 27 октября (8 ноября). Выходит сборник «Невинные речи».
1887, 19 ноября (2 декабря). Премьера спектакля по пьесе «Иванов» в театре Ф. А. Корша в Москве.
1888, март. Публикация повести «Степь» в журнале «Северный вестник» № 3.
1888, май — июнь. Выходит сборник «Рассказы». Публикация повести «Огни» в журнале «Северный вестник» № 6.
1888, лето. Проводит в имении Линтваревых, Лука, Сумского уезда Харьковской губ. Совершает поездки по Украине (Лебедянь, Гадяч, Сорочинцы), в Севастополь, Ялту, Феодосию, затем на Кавказ и в Закавказье (Новый Афон, Батум, Сухуми, Тифлис, Баку).
1888, 30 августа. Публикация в «Новом времени» водевиля «Медведь».
1888, октябрь. Присуждение Академией наук Пушкинской премии за сборник «В сумерках». Отдельное издание водевиля «Медведь».
1888, декабрь. Знакомство в Петербурге с П. И. Чайковским.
1889, 12 февраля (31 января). Постановка пьесы «Иванов» в новой редакции в Александрийском театре в Петербурге.
1889, 17 (29) июня. Умер от чахотки брат Николай. Чехов совершает поездки в Крым, в Одессу.
1890. Выходит сборник «Хмурые люди».
1890, апрель-май. Подготовка к поездке на Сахалин по маршруту: Ярославль, Казань, Пермь, Тюмень и далее на лошадях до Тихого океана.
1890, 11 (23) июля. Прибытие на Сахалин. В течение трех месяцев Чехов обследовал остров, работал по переписи всего населения.
1890. 13 (25) октября. Отбыл с Сахалина пароходом и через Индию (был на Цейлоне) и Суэцкий канал вернулся в Одессу.
1891, март — апрель. Поездка в Европу по маршруту: Вена, Венеция, Флоренция, Рим. Неаполь, Ницца, Париж. Лето проводит в усадьбе Богимово Калужской губ.
1891, декабрь. Выходит отдельное издание повести «Дуэль» (на книге указан 1892 год).
1892, январь. Принимает участие в борьбе с голодом: собирает пожертвования, совершает поездку в Нижегородскую губернию. В журнале «Север» выходит рассказ «Попрыгунья».
1892, февраль. Покупает под Москвой в Серпуховском уезде усадьбу Мелихово и позднее переезжает туда на жительство.
1892, август — октябрь. Участвует в борьбе с эпидемией холеры, заведует холерным участком.
1892, ноябрь. Публикация в журнале «Русская мысль» повести «Палата № 6».
1893. Работа над книгой «Остров Сахалин», публикация отдельных глав в журнале.
1894. Ухудшение здоровья. Поездка весной в Крым.
1894, сентябрь — октябрь. Поездка по Европе: Вена, Аббация, Милан, Генуя, Ницца.
1894. Пишет повесть «Черный монах». Выходит сборник «Повести и рассказы».
1895, август. Первая поездка в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому. Работа над пьесой «Чайка».
1895, октябрь — ноябрь. Работа над пьесой «Чайка».
1895. Выходит отдельное издание книги «Остров Сахалин».
1896, февраль. Чехов у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.
1896, август — сентябрь. Поездка на Кавказ и в Крым.
1896, 17 (29) октября. Премьера спектакля по пьесе «Чайка» в Александринском театре в Петербурге; провал пьесы.
1896. Пишет повесть «Дом с мезонином».
1897. Работа по народной переписи: заведование переписным участком.
1897, март. Резкое ухудшение здоровья. Пребывание в клинике Остроумова в Москве. Официально диагностирован туберкулез. Посещение Чехова в клинике Л. Н. Толстым.
1897, сентябрь — 1898, май. Поездка и проживание с целью лечения на юг Франции через Париж в Биарриц, Байону. Ниццу.
1897. Публикация повести «Мужики». Выход сборника пьес; среди них впервые напечатана пьеса «Дядя Ваня».
1898, сентябрь. Вынужденное, из-за продолжающегося ухудшения здоровья, переселение на жительство в Ялту. Покупка участка и постройка дачи под Ялтой в Аутке.
1898, 12 (24) октября. Смерть отца.
1898. 17 (29) декабря. Премьера спектакля по пьесе «Чайка» в Московском Художественном театре, имевшая исключительный успех.
1898. Пишет рассказы «Человек в футляре». «Случай из практики».
1899. Подписание договора с книгоиздателем А. Ф. Марксом на издание полного собрания сочинений.
1899. 26 октября (7 ноября). Премьера спектакля по пьесе «Дядя Ваня» в Московском Художественном театре.
1899–1901. Подбор своих сочинений, разбросанных в разных изданиях, работа по тщательному редактированию этих произведений и издание 10-томного собрания сочинений.
1900, январь. Избрание в почетные члены Российской Академии наук.
1900, апрель. Сильное ухудшение здоровья.
1900. Пишет повесть «В овраге», пьесу «Три сестры».
1901, 31 января (13 февраля). Премьера спектакля по пьесе «Три сестры» в Московском Художественном театре.
1901, весна — лето. Работа над рассказом «Архиерей».
1901, 25 мая (4 июня). Венчание с О. Л. Книппер, артисткой Московского Художественного театра. Поездка на лечение в Уфимскую губернию.
1901, Живет в Ялте. Часто навещает Л. Н. Толстого в Гаспре, близ Ялты. Чехова посещают писатели, живущие в Крыму: М. Горький. А. Куприн, И. Бунин, С. Елпатьевский и др.
1902, август. Отказывается от звания академика в ответ на исключение из состава академиков М. Горького.
1903. Пишет пьесу «Вишневый сад».
1904, 17 (30) января. Премьера спектакля по пьесе «Вишневый сад» в присутствии автора. Чествование Чехова в Художественном театре по случаю 25-летия его литературной деятельности.
1904, весна. Положение со здоровьем катастрофическое. Врачи рекомендуют поездку на лечение за границу.
1904. 3 (16) июня. Отъезд на лечение в Баденвейлер в Шварцвальде (Германия).
1904, 2 (15) июля, в три часа ночи, Чехов умер.
1904, 9 (22) июля. Погребен в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря.
Библиографическая справка[28]
О Чехове. Воспоминания и статьи. М., 1910.
А. П. Чехов в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текстов и коммент. Н. И. Гитович и И. В. Федорова. М.: ГИХЛ, 1960.
А. П. Чехов в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текстов и коммент. Н. И. Гитович. М.: Худож. лит., 1986.
Вокруг Чехова / Сост., вступ. ст. и примеч. Е. М. Сахаровой. М.: Правда. 1990.
Литературное наследство. Т. 68. А. П. Чехов. М.: Изд-во АН СССР. 1960.
Гитович Н. И. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова, М.: ГИХЛ, 1955.
Андреев-Туркин М. Чехов в Таганроге // А. П. Чехов и наш край. Ростов н/Д. 1935. С. 25–45.
Белоусов И. Л. Чехов — рыболов // Тридцать дней. 1929. № 7. С. 78–79.
* Вишневский A. Л. Воспоминания артиста Художественного театра // Сегодня. Рига, 1929. № 55–60.
Дроздова М. Т. Из воспоминаний об А. П. Чехове // Новый Мир. 1954. № 7. С. 21 1–222.
Довженко А. Л. Воспоминания родственников об Антоне Павловиче Чехове // А. П. Чехов. Сб. статей и материалов. Вып. I. Ростов-на-Дону: Ростовское кн. изд-во, 1959., с 335–346.
Зеленко В. В. Отрывки воспоминаний // А. П. Чехов. Сб. статей и материалов. Вып. I. Ростов-на-Дону: Ростовское кн. изд-во, 1959. С. 347–380.
Кугель А. Р. Листья с дерева. Л.: Время, 1926.
* Ладыженский В. Н. Памяти Чехова // Современный мир. 1914. № 4. С. 111–119.
* Лазаревский Б. А. Чехов // Последние известия. Ревель, 1924. N 209 (1-е августа).
Морозова 3. Г. Воспоминания об А. П. Чехове //А. П. Чехов. Сб. статей и материалов. Вып. II. Ростов-на-Дону: Ростовское кн. изд-во. 1960. С. 304–308.
* Первухин М. Шутка Чехова // Слово. Рига, 1926. № 370 (24 декабря).
* Плещеев А. А. Чехов. Из воспоминаний // Сегодня. Рига, 1927. № 86 (17 апреля).
Рабенек Л. Л. Воспоминания // Чеховиана. «Звук лопнувшей струны». К 100-летию пьесы «Вишневый сад». №1.: Наука, 2005. С 566–577.
Солнце России. Чеховский выпуск. К 10-летию со дня смерти. СПб.,1914. № 25.
Суворин А. С. Дневник / Текст. Расшифровка Н. А. Роскиной. Подгот. текста Д. Рейфилда и О. Е. Макаровой. М.: Независимая газета, 1999.
Терентьева Ю. И. Знакомство с Чеховым //А. П. Чехов. Сб. статей и материалов. Вып. II. Ростов-на-Дону: Ростовское кн. изд-во, 1960. С. 300–303.
* Тан (Богораз) В. Г. На родине Чехова // Современный мир. 1910. C. 163–185.
Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения / Вступ. ст., гост., пер. с нем., примеч. К. М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2008. (Ук.)
* Чириков Е. И. Встречи с Чеховым и другими писателями (Отрывки воспоминаний) // Сегодня. Рига, 1927. № 9.
Шаврова-Юст Е. М. Мои встречи с Антоном Павловичем // А. П. Чехов. Сб. статей и материалов. Вып. II. Ростов-на-Дону: Ростовское кн. изд-во, 1963. С. 267–309.
* Шмидт И. Я. Из далекого прошлого (Поездка с А. П. Чеховым по Сибири) // Наша газета. Ревель, 1927. №166–167 (7–8 октября).
Задняя обложка
…Громадный талант и тончайший ум совмещались в нем с великою душою, беспредельною сердечностью без фраз и громких слов, с твердым и ясным характером, красота которого будет раскрываться с годами все в новых и в новых светах. Потому что при жизни истинный Чехов был спрятан от громадного большинства своих поклонников (не говорю уже о врагах!) за тою, знающею себе цену, скромностью мудрого наблюдателя-молчальника, которая создавала ему среди близоруких людей репутацию человека замкнутого, скрытного, гордого, даже сухого.
Заглянуть в нее, и не заметишь, как напишешь целую статью.
Александр АмфитеатровО Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко… Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя. Хорошо вспомнить о гаком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.
Человек — ось мира.
А — скажут — пороки, а недостатки его?
Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.
Максим ГорькийПримечания
1
В этой своей художественно-научной, почти исследовательской деятельности Чехов очень напоминает другого русского доктора-писателя — Владимира Ивановича Даля, всю жизнь проведшего в разъездах и собиравшего слова и пословицы, которые в итоге составили уникальный «Толковый словарь живого великорусского языка».
(обратно)2
Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука. 1974–1988.
(обратно)3
Кое-что (от фр. quelque chose).
(обратно)4
«Красненькие» и «синенькие» — разговорные названия десяти- и пятирублевых купюр, но цвету ассигнаций. — Сост.
(обратно)5
У меня нет денег (нем.).
(обратно)6
Петр Ионович Губонин (1825–1894), купец I гильдии, строитель железных дорог, промышленник и меценат, владелец виноградников в Гурзуфе.
(обратно)7
Со всеми онерами (фр. honneur, букв, почет; шутл.) — со всеми необходимыми принадлежностями, со всем тем, что полагается.
(обратно)8
«Ругань Кадиллака» (фр.).
(обратно)9
Прямая кишка (лат.).
(обратно)10
Григорий Антонович Захарьин (1829–1898. по новому стилю), выдающийся русский врач-терапевт, основатель московской клинической школы, почетный член Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук (1885).
(обратно)11
Сколько? (ит.)
(обратно)12
Десять (ит.).
(обратно)13
Пять (ит.).
(обратно)14
Фис — сын, от фр. fils. Суворин-фис — Алексей Алексеевич Суворин (1862–1937). журналист, издатель газеты «Русь». Сын А. С. Суворина.
(обратно)15
Очевидно, ошибка мемуаристки, скорее всего, Чехов назвал не Флоренцию, а Венецию. — Примеч. сост.
(обратно)16
Танец живота (фр.).
(обратно)17
Взморье (фр.).
(обратно)18
Прекрасная Елена.
(обратно)19
Красное и белое (фр.).
(обратно)20
Я вас очень благодарю. (фр.).
(обратно)21
Подниматься (фр.).
(обратно)22
Спускаться (фр.).
(обратно)23
Мыслю — значит, существую (лат.).
(обратно)24
Я умираю… (нем.).
(обратно)25
Все кончено, г-н Чехов скончался, будьте добры сказать об этом r-же Чеховой! (нем.)
(обратно)26
— Неужели это так, господин доктор? (нем.)
— К сожалению, да! (нем.)
(обратно)27
Доктор, это неправда, доктор, скажите, что это неправда! (нем.)
(обратно)28
Публикации, отмеченные * взяты из самодельных сборников, составленных А. Жуковым и находящихся в книжном собрании Государственного Литературного музея.
(обратно)
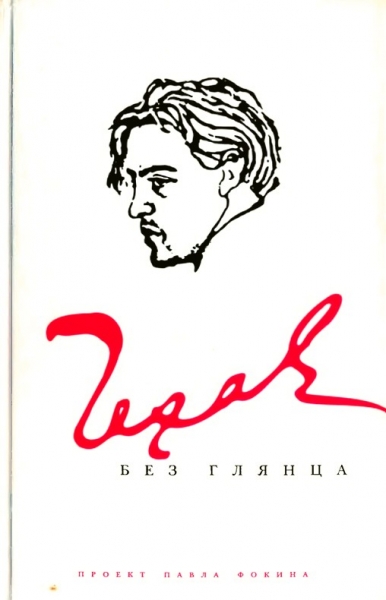

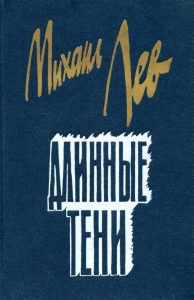


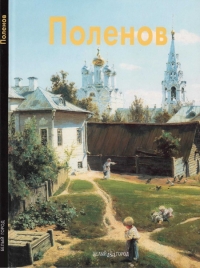
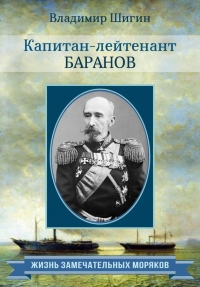

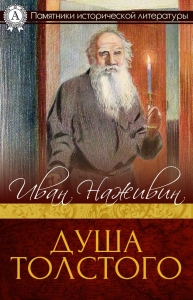


Комментарии к книге «Чехов без глянца», Павел Евгеньевич Фокин
Всего 0 комментариев