Николай Раевский Пушкин и призрак Пиковой дамы
Фикельмоны
I
Среди архивов, в которых, по всей вероятности, были материалы, так или иначе относящиеся к Пушкину, литературоведов издавна интересовали бумаги австрийского посла в Петербурге графа Шарля-Луи Фикельмона и его жены, графини Дарьи Федоровны, которая в литературе о Пушкине более известна под своим английским уменьшительным именем Долли.
В 1942 году я решил попытаться найти этот несомненно ценный архив. Задача была нелегкой, так как Фикельмон скончался в 1857 году, его жена умерла в 1863 году, и никаких данных о местонахождении их бумаг в известной мне литературе не было*.
В то же время, зная, как тщательно сохраняются в архивах западноевропейской знати бумаги не только своей семьи, но и давно вымерших близких ей родов, я был уверен в том, что архив Фикельмонов можно отыскать, если только он случайно где-нибудь не погиб за восемь десятилетий, прошедших после смерти Дарьи Федоровны.
Надо было отыскать конец нити. Я нашел его далеко не сразу. Помешала война. Надо, кроме того, сказать, что гитлеровцы, продержав меня в 1941 году два месяца в тюрьме, запретили мне затем выезжать из Праги. Таким образом, мои возможности были очень и очень ограничены. Приходилось искать неизвестно где находящийся архив, сидя в зале докторов Национальной и Университетской библиотек.
Я знал давно, что в 1911 году в Париже некий граф Ф. де Сони издал письма графа и графини Фикельмон к сестре Дарьи Федоровны графине Екатерине Тизенгаузен[1].
По-видимому, в Россию попало очень мало экземпляров этой интересной книги. Пушкинисты ее почти не использовали. Я рассчитывал на то, что де Сони, вероятно, знал, где хранится архив Фикельмонов, и, быть может, упомянул об этом в изданном им сборнике. К сожалению, в богатых книгохранилищах Праги нужной мне книги не оказалось. Тщетны были и мои попытки что-либо узнать о ее составителе. Ни в одном из французских справочников фамилии де Сони я не нашел. По всей вероятности, это псевдоним.
Один ключ не подошел. Я стал искать другой.
Граф Фикельмон с пятнадцати лет состоял на австрийской военной службе, но по происхождению он француз из старинного лотарингского рода. Возможно, что во Франции или в Бельгии и сейчас проживают какие-либо потомки его родственников, но я не пытался узнать, кто именно. Все равно во время войны списаться с ними из Праги невозможно. Надо поискать, не осталось ли родственников и в Центральной Европе.
Одну за другой беру книги по пушкиноведению, но нужных мне данных не нахожу. Позже я убедился в том, что плохо искал, – кой-какие сведения все же были.
Прошло несколько недель. Однажды, сидя дома, я вдруг вспомнил о том, что где-то читал о дочери графини Фикельмон. Кажется, она вышла замуж за какого-то австрийского князя. Да, несомненно читал, но где? Силюсь вспомнить – не удается. Еще и еще раз напрягаю память. И вдруг ясно нижу перед собой толстый поблекший том – «Старую записную книжку» друга Пушкина П. А. Вяземского.
Скорее в библиотеку! «Старая записная книжка» в «Полном собрании сочинений князя П. А. Вяземского» – это не один том, а три (VIII, IX, X). Перелистываю их, заглядывая в указатели, и почти сразу нахожу то, что мне нужно. Запись 12 ноября 1853 года, сделанная в Венеции.
«12. Вечер у Стюрмер. Первый в Венеции. <…> Принцесса Клари белоплечная с успехом поддерживает плечистую славу бабушки своей Елизы Хитровой. Красива и мила»[2].
У Елизаветы Михайловны Хитрово, друга Пушкина, дочери фельдмаршала М. И. Кутузова, была только одна замужняя дочь. Вторая, фрейлина Екатерина Федоровна Тизенгаузен, замуж не вышла. Итак, принцесса Клари… Фамилия звучала по-итальянски. А вскоре я нахожу еще одну обрадовавшую меня запись без даты:
«Графиня Хотек, бабушка нынешнего принца Клари, который владеет Теплицем и женат на нашей полусоотечественнице графине Фикельмон, оставила по себе записки».
Есть и еще несколько записей, а в двенадцатом томе – стихотворение «Notturno»[3], написанное в 1863 году и посвященное «принцессе Клари, урожденной графине Фикельмон». Старческая бледная лирика (Вяземскому 71 год)*, но чувствуется, что былой поклонник матери неравнодушен и к дочери. Девятью годами раньше он писал (по-французски) графу А. Орлову: «Мне доставило большое удовольствие ее видеть прежде всего потому, что она была она, и затем еще потому, что для меня она была ее мать».
Я прочел все упоминания о «принцессе Клари», как ее именует Вяземский (теперь принято писать княгиня Кляри), но запоздалые чувства старого поэта мне неинтересны. Важно то, что дочь Д. Ф. Фикельмон найдена и ее мужу лет восемьдесят тому назад принадлежал замок в городе Теплице, по-чешски Теплице-Шанове. Может быть, бумаги Фикельмонов и сейчас хранятся там? Это очень недалеко от Праги, но, к сожалению, поездка в Теплиц для меня сейчас невозможна. К тому же за восемьдесят лет все могло измениться. Живя в Праге, я ничего не слышал о князьях Кляри. Где их искать, и существует ли сейчас этот род?.. Мог и вымереть за столько лет. Но о княжеской фамилии Кляри разузнать будет нетрудно. Для этого есть справочники, и прежде всего Готский альманах. Если изучить родословную, можно догадаться и о том, куда мог попасть архив.
На следующий день я занял с утра в «зале докторов» Национальной библиотеки один из специальных столов для читателей книг большого формата. Передо мной строй толстых томов – несколько чешских справочников, французская Большая энциклопедия, темно-малиновый с золотом том новой итальянской, Британская энциклопедия, сборник австро-венгерских биографий и, конечно, маленький по формату, но очень нужный Готский альманах. Служащие библиотеки посматривают на мой стол с интересом. Они приблизительно знают, чем заняты постоянные посетители, а я работаю в этом великолепном зале уже много лет. Сначала подбирал материалы для диссертации по анатомии насекомых, потом увлекся пушкиноведением. Как я уже упомянул, здесь, в Славянской библиотеке, хранится и все, что уцелело от петербургской библиотеки Смирдина.
Один из библиотекарей подходит ко мне, шепотом спрашивает:
– Нашли что-нибудь, господин доктор?[4]
Я улыбаюсь:
– Надеюсь найти…
Кое-что я уже установил. Дочь графини Фикельмон в честь императора Александра I и его жены, императрицы Елизаветы Алексеевны, была названа Елизаветой-Александрой. Ее муж носил титул князя Кляри-и-Альдринген.
Беру то один том, то другой. Выясняю, кто на ком и когда женился, где жил, когда умер, что сталось с детьми. Мелькают передо мной Прага, Венеция, Рим, Вена, Лондон, Париж, дворцы, имения, замки… Стараюсь не упустить ни одного возможного варианта.
Через два дня задача теоретически решена. Князья Кляри-и-Альдринген здравствуют и поныне. Их основная резиденция – по-прежнему замок в Теплице. Там проживает старший в роде, правнук Дарьи Федоровны, князь Альфонс. Если архив Фикельмонов не погиб в восьмидесятых годах во время одного из пожаров в Лондоне, то с наибольшей вероятностью его надо искать именно в теплицком замке. На втором месте стоит дворец Кляри в Венеции, на третьем – имение одного престарелого итальянского генерала где-то близ Рима.
Начинать, конечно, надо с Теплица. Опять, как и в истории с Бродянами, встает вопрос о рекомендации. Из энциклопедий узнаю, что Альфонс Кляри-и-Альдринген знатный и очень богатый магнат. До земельной реформы, проведенной в Чехословакии после 1918 года, ему принадлежало более десяти тысяч гектаров – по западноевропейским масштабам цифра огромная. Библиотека теплицкого замка пользуется европейской известностью.
В альманахе сказано, что Кляри – сын чешской княжны. От знакомых узнаю, что до войны он вообще держался больше чешской, чем немецкой линии. Это очень облегчает дело, но рекомендация все же необходима. На этот раз, просмотрев Готский альманах, вижу, что получить ее будет нетрудно. Мой хороший знакомый, Карл Шварценберг, правнук фельдмаршала, который считается победителем Наполеона в битве под Лейпцигом, оказался родным племянником Кляри. (Надо сказать, что национальность аристократов Средней Европы – зачастую вопрос убеждения, а не происхождения: оно почти у всех крайне смешанное.) Шварценберг неплохо знает русский язык, перевел на чешский блоковских «Скифов». На мое французское письмо он отвечает по-русски – не совсем правильно, но вполне понятно. Его дядя не помнит, есть ли у него интересующие меня материалы. Просит сообщить подробно, о каких именно бумагах идет речь. Стороной узнаю, что по обстоятельствам военного времени владелец замка лишился своего заведующего архивом.
Посылаю в Теплиц очень подробное письмо. Запрашиваю между прочим, нет ли в замке дневника прадеда Кляри, Шарля-Луи Фикельмона, и альбома графини. Прикладываю серию фотокопий – образцы почерка Пушкина и его жены,
Вяземского, Александра Ивановича Тургенева и других лиц, которых близко знала Долли Фикельмон. Особенно прошу поискать письма поэта. Чтобы заинтересовать владельца замка, сообщаю ему о том, что подвиг его прапрадеда, отца Дарьи Федоровны, увековечен Толстым в «Войне и мире». Под Аустерлицем флигель-адъютант граф Фердинанд – Федор Тизенгаузен повел со знаменем в руках в контратаку сильно поредевший батальон, был тяжело ранен, взят в плен и после трехдневных страданий скончался.
В настоящее время мы имеем возможность уточнить дату смерти Ф. Тизенгаузена. В алтаре соборной церкви города Таллина (б. Ревель) находится, как мне сообщила Т. П. Милютина, обелиск с барельефом Тизенгаузена и надписью (на немецком языке):
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО
ГРАФ ФЕРДИНАНД ФОН ТИЗЕНГАУЗЕН,
КАВАЛЕР ОРДЕНОВ МАРИИ-ТЕРЕЗИИИ СВ. АННЫ.
ОН УМЕР СМЕРТЬЮ ГЕРОЯ ОТ РАНЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ НАКАНУНЕ ПОД АУСТЕРЛИЦЕМ.
MDCCCV (1805)
В моей книге «Если заговорят портреты» я высказал предположение о том, что это не могила, а лишь мемориальный памятник – кенотаф, но оно оказалось ошибочным. Чешская исследовательница Сильвия Островская (Sylvie Ostrovskà)* сообщила мне, что на месте временного погребения Тизенгаузена близ Аустерлица (по-чешски в деревне Силнична (Штрасендорф) был установлен постамент с крестом. В конце XIX века сохранился только постамент.
Лев Толстой воспользовался опубликованным в печати рассказом о подвиге Тизенгаузена, создавая знаменитую сцену ранения князя Андрея*.
Как будто все сделано… Остается ждать ответа. Жду с нетерпением. Я решил уравнение со многими неизвестными, но совсем не уверен в том, что нашел правильное решение.
Письмо, датированное 22 ноября 1942 года[5], приходит лишь недели через три. Кляри просит извинить его за задержку с ответом. Идет война, он очень занят. Дальше, дальше… От волнения четкие строки расплываются у меня перед глазами. Мне будет выслана копия письма Пушкина к Дарье Федоровне Фикельмон! Дневника прадеда не существует, но есть петербургский дневник прабабушки и в нем длинная запись о дуэли и смерти поэта, сделанная в день его кончины. Текст записи я также получу.
Итак, уравнение решено правильно. Архив Фикельмонов найден, и в нем есть неизвестное письмо Пушкина. Существует дневник графини, о котором до сих пор не знал решительно никто.
Один из счастливейших дней моей жизни!..
Вскоре наступает другой, еще более счастливый. Мне подают заказной пакет с немецким штемпелем «Теплиц-Шенау». Сейчас там Третий рейх. Почтальон-чех удивлен: вместо обычной кроны я даю ему двадцать. Осторожно вскрываю конверт. На стол падают копия французского письма Пушкина к графине Фикельмон от 25 апреля 1830 года из Москвы и еще одна машинопись. С волнением читаю неизвестные строки поэта. Потом принимаюсь за дневниковую запись: «Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина…» Сто пятьдесят строк французского текста. Сразу же вижу, что передо мной документ большой важности: нового в нем мало, но уже известное подтверждает независимая свидетельница, близко знавшая поэта. Рано или поздно биографы Пушкина, наверное, используют ее запись.
В тот же день пишу в Теплиц. Благодарю князя Кляри-и-Альдринген за услугу, которую он, дальний потомок Кутузова, оказывает науке о Пушкине. Благодарю от имени всех, кому дорога память нашего великого поэта.
С тех пор прошло более четверти века. Оба документа, машинописные копии которых мне удалось получить, опубликованы в наших академических изданиях. Обстоятельства сложились так, что принять участие в их изучении мне в свое время не пришлось. Точный текст письма Пушкина установлен теперь по фотокопии, присланной в Пушкинский дом из Чехословакии, и приводится во всех новых изданиях сочинений поэта. Подлинник хранится в одном из государственных архивов ЧССР. Две тетради дневника Фикельмон, принадлежавшие ранее Кляри, вошли в состав филиала Государственного архива в городе Дечине (Decin). В 1959 и 1960 годах в Праге и Вене вышли (на русском языке) работы профессора А. В. Флоровского, в которых довольно подробно изложено содержание дневника и приведен ряд выдержек, касающихся Пушкина[6].
Н. В. Измайлов дал русский перевод приведенных А. В. Флоровским выдержек, относящихся к поэту[7].
Наконец, в 1968 году итальянская исследовательница Нина Каухчишвили опубликовала в Милане почти полный текст первой тетради французского дневника графини с обширной вводной статьей «Дарья Федоровна Фикельмон-Тизенгаузен» (на итальянском языке)[8].
Давно изданные в Париже письма супругов Фикельмон к Е. Ф. Тизенгаузен остаются по-прежнему почти неиспользованными, хотя они очень интересны и хорошо дополняют петербургский дневник. В Праге мне в конце концов удалось получить это очень редкое издание из одной частной библиотеки, и я сделал из него много выписок.
Однако читатель, вероятно, уже давно подумал: кто же она такая, эта графиня Фикельмон, внучка Кутузова, супруга австрийского посла? Какова ее роль в жизни Пушкина?
Дарья Федоровна – дочь флигель-адъютанта Александра I штабс-капитана инженерных войск графа Фердинанда – Федора Ивановича Тизенгаузена (1782–1805) и Елизаветы Михайловны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, любимой дочери полководца.
Мы знаем, как геройски погиб совсем еще молодой Тизенгаузен, но о его жизни не известно почти ничего. Судя по барельефу на надгробии в Таллинском соборе, он был красивым офицером с крупными, но очень правильными чертами лица. Не портит профиля и довольно большой нос. Принятая тогда пышная прическа с напуском на лоб и александровские бачки делают Тизенгаузена значительно старше его 23 лет. Он выглядит в общем привлекательным и кажется энергичным человеком.
В одном из писем Кутузова к дочери, Елизавете Михайловне[9], мы находим ласковый отзыв полководца о своем молодом зяте:
«Любезного Фердинанда благодарю за приписку, или лучше сказать за большое письмо».
«Если бы быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанд».
Судя по воспоминаниям современников, смерть Тизенгаузена была большим личным горем для Кутузова, который его очень любил. Об этом несчастье он упоминает в нескольких письмах к своей жене и дочери-вдове, к сожалению, очень кратких и не содержащих фактических данных[10].
Матери Долли Фикельмон, Елизавете Михайловне, посвящено немало обстоятельных работ. Она родилась 19 сентября 1783 года[11] и была на год моложе своего первого мужа. Потеряла его в 22 года. Свое горе, видимо, переносила очень тяжело. Кутузов не раз пробовал ее утешать. Вскоре после Аустерлица он пишет Елизавете Михайловне: «Лизанька, мой друг сердечный, у тебя детки маленькие, я лучший твой друг и матушка; побереги себя для них. Жаль очень, что я не могу с тобой сейчас видеться. Я пойду с армией по другой дороге через Венгрию, куда тебе никак в теперешнее время доехать нельзя[12]. Поезжай поскорее к своим деткам и к матушке <…>».
15 января 1806 года в письме из Брод Михаил Илларионович сообщает: «Слышу, что ты поехала в Ревель. Жаль, душенька, что там. будешь много плакать. Сделаем лучше так: без меня не плакать никогда, а со мной вместе <…>».
Горе, однако, не утихало долго. В этом отношении многозначительно письмо Кутузова из Киева от 27 мая (1807 года?)[13]: «Лизанька, решаюсь наконец тебя пожурить: ты мне рассказываешь о разговоре с маленькой Катенькой, где ты ей объявляешь о дальнем путешествии, которое ты намереваешься предпринять и которое все предпримем, но желать не смеем, тем более когда имеем существа, привязывающие нас к жизни». Можно думать, что публикатор ошибся, отнеся это письмо к 1807 году – Катеньке в это время было четыре года, и вряд ли мать могла ей говорить о своем желании умереть. Впрочем, все могло статься: Елизавета Михайловна – женщина умная и добрая, но странности у нее были немалые…
Почитатели Пушкина знают ее под фамилией второго мужа – Хитрово. Всю жизнь она была стойкой русской патриоткой, хотя, как и многие светские дамы ее круга, с трудом писала по-русски (а по-французски, к слову сказать, с грубыми ошибками, чем, однако, грешили тогда не только русские, но и некоторые аристократки-француженки). Славу своего великого отца Елизавета Михайловна любила так сильно, что не совсем по праву подписывалась иногда «урожденная княжна Кутузова-Смоленская», хотя полководец получил этот титул, когда его дочь была уже замужем.
Любила она и отечественную литературу. Лично знала и постоянно принимала у себя некоторых русских писателей – В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, В. А. Соллогуба, А. И. Тургенева, поэта-слепца И. И. Козлова…[14] Познакомившись (вероятно, летом 1827 года) с Пушкиным, Елизавета Михайловна Хитрово вскоре стала одним из самых преданных друзей поэта. О ее патриотизме и дружбе с Пушкиным надо помнить и в повествовании о Долли Фикельмон. За исключением немногих лет мать все время жила вместе с дочерью.
Старшая из сестер, Екатерина Тизенгаузен, родилась в 1803 году; младшая, Даша, 14 октября 1804 года. О раннем детстве Долли мы знаем только по письмам Кутузова к Елизавете Михайловне и по немногим упоминаниям в дневнике Дарьи Федоровны. Первые одиннадцать лет своей жизни будущая графиня Фикельмон провела вместе с сестрой в Ревеле у бабушки Тизенгаузен, урожденной Штакельберг (1753–1826), которую она очень любила и считала своей второй матерью. Обстановка, в которой росли девочки, была далеко не роскошной – Долли впоследствии вспоминает в дневнике о простых и однообразных нравах и обычаях маленького города, или северной деревни[15]. Что это за «северная деревня», мы не знаем, – вероятно, эстляндское имение Тизенгаузен. Мать подолгу живала вместе с дочерьми у родственников покойного мужа. Лето проводила у них либо ездила с девочками на дачу в Стрельну под Петербургом. Порой предпринимала и далекие поездки: в Бухарест к отцу, в Крым, но дочери в это время оставались у бабушки.
С раннего детства они знают и французский и немецкий. В свои русские письма к старшей внучке Кутузов то и дело вставляет отдельные фразы на этих языках. Иногда пишет ей целиком по-немецки. Впоследствии обиходный язык Фикельмон главным образом французский, но хорошее знание немецкого языка, несомненно, помогало ей лучше понимать жизнь Центральной Европы. Из писем Кутузова видно, что девочки учатся и родному языку. Однако будем помнить, что Даша Тизенгаузен с детства жила в нерусской среде и, кроме Ревеля и Петербурга с окрестностями, кажется, нигде больше в России не бывала.
В 1811 году, через шесть лет после смерти Ф. И. Тизенгаузена, ее мать выходит вторично замуж за генерал-майора Николая Федоровича Хитрово (1771–1819). Елизавете Михайловне 28 лет.
Пытаясь проследить жизненный путь Дарьи Федоровны, приходится пока постоянно делать оговорки – «по-видимому», «вероятно», «может быть». Очень многого мы о ней не знаем точно или совсем не знаем. Мало что известно и о ее отчиме, но все же значительно больше, чем об отце.
Отвечая на письмо дочери, которая, видимо, известила его о предстоящей свадьбе, Кутузов, находившийся в это время в Бухаресте, пишет ей 13 августа 1811 года: «С каких пор, дорогое мое дитя, считаешь ты меня тираном своих детей? Как ты могла считать меня способным сказать: не делай этого и оставайся несчастной? и что мог бы я возразить против брака с г. Хитровым? <…> Я долго соображал, кто же мой зять, и наконец разыскал его в своей памяти: молодой человек[16], статный, немножко хилый, очень умный и очень порядочный человек, впрочем насмешник. Я хорошо представляю себе г. Хитрова, и если когда-нибудь вернусь к вам, то отлично уживусь с ним. Если у тебя есть обычай его целовать, сделай это от меня. Да почему он мне не напишет?»
Несмотря на заочный поцелуй, переданный новому зятю, в письме Кутузова не чувствуется, однако, той сердечности, которая ощущается в нескольких известных нам строках, где Михаил Илларионович говорит о «любезном Фердинанде».
Довольно подробную характеристику Хитрово дает П. А. Вяземский[17]. Надо сказать, что она лишь отчасти совпадает с мнением Кутузова. Вяземский считает, что «он был умен, блистателен и любезен; товарищи и молодежь очень любили его. Он был образован и в своем роде литературен». Офицеру-гусару приходилось, однако, тщательно скрывать свои литературные интересы от гуляк товарищей по полку. Вяземский, со слов Алексея Михайловича Пушкина, повествует о том, как испугался Хитрово, когда во время офицерской пирушки Алексей Михайлович обнаружил в его гусарской сумке (ташке) томик элегий Парни. «Ради бога молчи и не губи меня, – сказал он, – <… > как скоро проведают они (товарищи по полку. – Н. Р.), что занимаюсь чтением французских книг, я человек пропадший, и мне в полку житья не будет».
Николай Федорович, несомненно, умел нравиться людям – и притом людям очень разным. «Хитров был очень любим великим князем Константином Павловичем, который умел ценить ум и светскую любезность». По словам Вяземского, к нему благоволил и Александр I. Весьма, правда, склонный к преувеличениям граф Ф. Г. Головкин утверждает, со слов Хитрово, что царь «всегда был его другом»[18].
Все эти сведения говорят скорее в пользу Хитрово – обходительность, да и житейскую ловкость, если она не переходит в непорядочность, вряд ли можно считать недостатком. Если же переходит… Кутузов – не знаем, искренне или нет – считал своего нового зятя «очень порядочным». От воспоминаний Вяземского остается в этом отношении впечатление несколько неясное. По его словам, Хитрово был «чем-то вроде Дон-Джовани» и «на разные проделки в этом роде был не очень совестлив». «Не удастся ему, например, достигнуть где-нибудь цели в своих любовных поисках, он вымещал неудачу, высылая карету свою, которая часть ночи и стоит неподалеку от жительства непокорившейся красавицы. Иные подмечали это, выводили из того заключения свои; с него было и довольно».
В начале XX века за такого рода проделку (если, конечно, речь шла о «порядочной женщине») суд чести мог предложить офицеру уйти из полка, но в конце XVIII столетия нравы были иные… В связи с любовными историями российский «Дон-Джовани» служебным неприятностям, по-видимому, не подвергался.
Он тем не менее мог попасть под суд, но совсем по другой линии – против него было возбуждено редкое по тем временам дело по обвинению в жестоком обращении с крепостными крестьянами.
11 мая 1794 года императрица Екатерина писала Н. П. Архарову[19]: «Дошло до сведения нашего, что гвардии Преображенского полку поручик Николай Хитрово и сестры его девицы Катерина и Наталия, живущие в Москве, владея деревнею <…> отягощают крестьян своих выше меры продажею на выбор их порознь по душам, отпуском таковых же на волю со взятием с каждой души по триста рублей и что сверх того в нынешнем году выбрано с деревни и выслано в Москву к сущему разорению семейств их тридцать девок и одна вдова с дочерью, намереваясь и всех годных распродать порознь <…>».
Императрица, «желая положить преграду подобным поступкам», повелела Архарову «во всей подробности осведомиться под рукой и нам обстоятельно донести, справедлив ли вышесказанный слух, до нас дошедший, также в каком состоянии теперь находятся крестьяне сих помещиков и в коликом числе душ». Из дальнейшего текста письма можно, однако, заключить, что царица намеревалась выкупить в казну и деревню и крестьян. Наказание для жестоких помещиков, надо сказать, не очень серьезное…
Чем это дело закончилось, мы не знаем. На будущей карьере Н. Ф. Хитрово оно, во всяком случае, не отразилось*.
Судя по всем отзывам, он действительно был человеком не глупым, но никакими выдающимися способностями не обладал. Не был причастен и к подвигам воинским. В Отечественной войне по слабости здоровья не участвовал, о чем его тесть, Кутузов, упоминает с некоторой иронией. «Что поделывает Хитров, с его несчастным здоровьем?» (письмо к Елизавете Михайловне от 2 октября 1812 года).
В книге «Если заговорят портреты» я посвятил отчиму Д. Ф. Фикельмон лишь несколько строк, так как не было никаких сведений о том, какую роль он играл в ее жизни. Меня побудило ближе присмотреться к его облику появление труда Н. Каухчишвили, в котором автор приводит выдержку из письма Долли к мужу от 7 апреля 1823 года из Флоренции[20]. Об умершем четыре года назад Н. Ф. Хитрово Дарья Федоровна говорит: «Образ отчима (bon-papa)[21], которого мы так любили и которого потеряли здесь, не покидает меня. Я вспоминаю все эти ужасные моменты».
9 апреля 1829 года[22] она пишет в дневнике о своем муже, что он является одним из тех редких людей, у которых «есть нечто, что возвышает их над ничтожеством нашего мира. Я знала трех людей, наделенных Богом этим благом, которое Он, как кажется, бережет так ревниво и раздает так скупо, – это папа[23], царь Александр и Фикельмон».
Итак, Дарья Федоровна, безусловно, любила отчима и приписывала ему достоинства необыкновенные – так же, как и недавно умершему царю. Об Александре I речь будет впереди.
В 1815 году сорокачетырехлетний генерал Хитрово назначается российским поверенным в делах при герцоге Тосканском. Семья переезжает во Флоренцию. Даше в это время одиннадцать лет. Для девочки начинается новая жизнь, совсем уже далекая от России и скромных ревельских нравов. В дневнике она вспоминает о внезапном переезде «в среду самого высшего света и самых элегантных обычаев», где она провела «молодость, полную праздников, самых блестящих удовольствий – все это на юге, ах! какой сон!» (запись 23 марта 1833 года)[24].
Во Флоренции проходит конец детства и юность Даши Тизенгаузен. Мы увидим в дальнейшем, что и в зрелые годы Долли Фикельмон была необыкновенно восприимчива ко всему прекрасному в жизни. Можно думать, что эта чуткость развилась у нее именно в столице Тосканы, где так много художественных сокровищ. Искусство там издавна срослось с повседневной жизнью. Чуть не каждая церковь расписана великими мастерами эпохи Возрождения. На улицах и площадях сколько-нибудь внимательный глаз не пропустит статуй, созданных в эту эпоху художественного расцвета Италии. Картинные галереи полны творений мирового значения.
Чудесный город. По вечерам золотистый полусвет скрадывает линии старинных зданий, терпко пахнут разогревшиеся за день кипарисы, и от мутной реки Арно тянет влажным теплом. В ноябре Флоренция еще полна роз, в феврале ее сады окутаны розовыми облаками цветущего миндаля.
Легко себе представить, как жизнь там влияла на подраставшую девочку. Так и видишь ее вместе с матерью и сестрой в галерее Уффици перед знаменитой «Весной» Боттичелли или в церкви Сан-Лоренцо перед гробницами герцогов Лоренцо и Джульяно Медичи, изваянными Микеланджело, или просто на улице, любующейся порталом храма Санта-Мария дель Фьоре.
И пусть читатель не посетует на меня за эти флорентийские подробности – мы увидим, что в духовном облике Долли Фикельмон навсегда осталось многое от Италии, ее любимой, по-настоящему родной страны.
П. И. Бартенев, хорошо знавший многих современников графини, говорит, что обе сестры «получили отличное образование во Флоренции»[25]. Учились девочки, надо думать, дома у гувернанток и приходящих учителей разных национальностей. Так учился маленький граф М. Д. Бутурлин, живший в то время с родителями во Флоренции. У Бутурлина был русский учитель[26], но обучал ли он и девочек Тизенгаузен, неизвестно. Во всяком случае, живя за границей, Дарья Федоровна, как мы увидим, совсем забыла разговорный русский язык, но когда началось это забвение, сказать трудно, – может быть, во Флоренции, может быть, позже, во взрослые годы. Удивляться этому не приходится. Современницы Пушкина, никуда из России не выезжавшие, и те, по его словам:
Не все ли, русским языком Владея слабо и с трудом, Его так мило искажали, И в их устах язык чужой Не обратился ли в родной?У Долли Тизенгаузен, как ее стали звать во Флоренции, к тому же прибавилось там еще два иностранных языка – английский и итальянский. Дома, по дворянскому обычаю того времени, наверное, говорили по-французски. Была ли в семье Хитрово русская прислуга, неизвестно (переехав с господами границу, крепостные по закону становились вольными)*.
Семейства Бутурлиных и Хитрово очень сблизились. Можно поэтому думать, что многие подробности быта тогдашних русских флорентийцев, которые приведены в записках Бутурлина, относятся и к семье русского поверенного в делах[27]. По словам автора, русских, постоянно живших во Флоренции, было очень мало. Наезжали иногда из России знатные путешественники[28]. Жизнь проходила по-иностранному. При дипломатической миссии не было и церкви. Отец Бутурлина устроил крошечную домашнюю церковку в занимаемом им доме, но служил в ней священник-грек, исповедовавший русских по-итальянски.
Немудрено было Долли Тизенгаузен разучиться русскому языку.
Н. Каухчишвили, подробно изучавшая флорентийский период жизни Долли Тизенгаузен, отмечает, однако, что, начиная с 1818 года, приток русских путешественников в столицу Тосканы заметно усилился.
В своей книге[29] Ф. Г. Головкин подробно говорит о русской флорентийской колонии 1810 и 1817 годов. Как и Н. Каухчишвили, он называет многочисленных представителей русской знати, проживавших тогда во Флоренции. Перечислять их целиком было бы излишне. Назовем лишь некоторых: обер-гофмаршал А. Л. Нарышкин, его дочь княгиня Е. А. Суворова; известный адмирал П. В. Чичагов; граф (впоследствии князь) B. П. Кочубей; отец будущего декабриста московский богач C. М. Лунин с многочисленной семьей; граф Аркадий Иванович Марков (он же Морков), состоявший во времена Наполеона русским послом в Париже, и многие другие. Проездом были во Флоренции дамы, перешедшие в католичество, княгини Е. П. Гагарина и Е. Н. Толстая.
Процветавшая в то время сравнительно благоустроенная Флоренция, по-видимому, была излюбленным городом русских путешественников.
Через несколько лет (в 1823 году) Шарль де Флао (de Fla-haut) писал из Петербурга своей флорентийской приятельнице, графине д’Альбани: «Я не чувствую себя иностранцем в этом огромном городе. Здесь очень мало людей хорошего общества, которые не побывали бы в вашем салоне <…> Я никогда не кончу, если стану перечислять всех особ на «of», которые имели честь вас знать. Я нахожу, что петербургское общество в действительности все побывало в Италии»[30].
Долли Тизенгаузен, несомненно, видела многих из этих знатных путешественников в апартаментах русской миссии.
Несмотря на свой скромный пост поверенного в делах, генерал Хитрово, как мы узнаем из воспоминаний Ф. Г. Головкина, жил очень широко и нерасчетливо. Приехав во Флоренцию, Головкин в первом же письме к двоюродной сестре г-же Местраль д’Аррюфон (10 ноября 1816 года) сообщает: «Русский посланник умен и приятен в обращении, но он большею частью бывает болен, а страшный беспорядок в его личных делах налагает на него отпечаток меланхолии и грусти, которые он не может скрыть. Его образ жизни лишен здравого смысла. По вторникам и субботам у него бывает весь город, и вечера заканчиваются балом или спектаклем. По поводу каждого придворного события он устраивает праздник, из коих последний ему стоил тысячу червонцев[31]. При таком образе жизни он задолжал Шнейдеру за свою квартиру и во все время своего пребывания во Флоренции берет в долг картины, гравюры, разные[32] камни. Его жена скорее некрасива, чем красива, но она романтически настроена, не мажется, в моде, хорошо играет трагедию[33] и горюет о своем первом муже, покойном графе Тизенгаузене <…> а также о своем славном старике-отце Кутузове. <… > Словом, все в этом открытом доме преувеличено, хотя и вполне прилично». В доме Хитрово устраивались любительские спектакли, в которых участвовала также Елизавета Михайловна и (по-видимому) ее старшая дочь Екатерина. «Г-жа Хитрово поочередно должна изображать то г-жу Жорж, то г-жу Дюшенуа[34], и после впечатления, которое она производила своим талантом, публике приходится не меньше удивляться переменам ее костюмов для каждой сцены, а также силе ее легких»[35]. Среди многочисленных временных флорентийцев было немало знакомых и родственников Бутурлиных, особняк которых стал своего рода русским центром Флоренции. «Открытый дом» русского поверенного в делах, в котором, по словам Головкина, бывал «весь город», по-видимому, носил более международно-европейский характер, хотя иностранцы бывали и у Бутурлиных.
Однако девочкам Тизенгаузен, если бы они того хотели, было с кем и дома поговорить по-русски – прежде всего, конечно, с родителями. Почти наверное они не хотели… И родные и знакомые – частица русского большого света, перенесенная в Италию, и говорили и писали по-французски. Надо, однако, сделать оговорку – лишь немногие русские, подобно Пушкину, владели этим трудным, синтаксически очень сложным, веками разрабатывавшимся языком, как образованные французы. Приходится согласиться с Н. Каухчишвили – Долли Тизенгаузен слышала во Флоренции не живую речь Франции того времени, а, скорее, международный язык высшего общества XIX века…
Круг знакомых ее родителей и самой Долли был, естественно, шире, чем у Бутурлиных. Альбом, хранящийся в фонде Фикельмонов в городе Дечине, показывает, например, что среди подруг юных сестер Тизенгаузен было немало итальянских аристократок. Были и знатные польки – в том числе дочь тогдашнего русского министра иностранных дел князя Адама Чарторийского. Для дочерей русского посланника не существовало «пропасти, которая отделяла иностранцев от тосканцев»[36].
Среди посетителей салона родителей двенадцатилетняя Долли, несомненно, видела в 1816 году и, можно думать, навсегда запомнила М-me де Сталь. Знаменитая писательница во время своего пребывания во Флоренции познакомилась с семьей русского поверенного в делах. В одном из писем к своей тамошней приятельнице, графине Луизе д’Альбани, она просит ее рекомендовать некую леди Джерсей супругам Хитрово, которые «должны хорошо принять в своем салоне эту очаровательную особу»[37]. Недавно чешская исследовательница Мария Ульрихова[38] опубликовала в Праге небольшое любезное письмо М-me де Сталь к генералу Хитрово, в котором содержится подобная же просьба:
«Его Превосходительству генералу Хитрово,
посланнику Русского Императора во Флоренции.
Я вам писала из Болоньи, дорогой генерал, и вы мне не ответили – таковы русские, в тысячу раз более легкомысленные, чем французы. Несмотря на свое злопамятство, я рекомендую вам господина и госпожу Артур, моих знакомых ирландцев, которые год тому назад собирали в своем салоне в Париже самое приятное общество – попросите госпожу Хитрово, у которой столько любезной доброты, хорошо их принять ради меня и постарайтесь вспомнить о моих дружеских чувствах к вам, чтобы оживить ваши. До свидания. Все, окружающие меня[39], вспоминают о вас и, – на самом деле, – это очень нужно.
С дружеским приветом Н(еккер) де Сталь Г(ольштейн)».
Коппе[40], 22 августа 1816.
Генерал Хитрово, очевидно, умел нравиться и некоторым известным людям в Европе. Письмо М-me де Сталь показывает, что между ней и русским генералом существовали если и не дружеские, то все же очень хорошие отношения. В противном случае знаменитая и уже очень немолодая писательница[41] не обратилась бы снова к человеку, который не потрудился ей ответить.
Очень рано – лет с четырнадцати, если не с тринадцати, Долли начала «выезжать в свет» вместе с матерью и сестрой. Во Флоренции, надо сказать, единого высшего общества не было. Католическая итальянская аристократия держалась особняком. Иностранцев там принимали неохотно. Очень замкнутая, чинная и довольно скучная среда, особенно старшее поколение. Был во Флоренции и двор. Не бог весть какой государь великий герцог Тосканский, но жил Фердинанд III в своей резиденции, дворце Питти, как монарх великой державы. Английская путешественница, леди Кемпбелл, побывавшая в 1817 году на придворном празднестве, пишет в своем дневнике: «Устройство дворцовой службы, число прислуги и стражи намного превосходит то, что видишь при наших дворах»[42]. Возможно, что во Флоренции на протяжении веков сохранялась по традиции пышность Лоренцо Великолепного.
Семья русского поверенного в делах не только бывала во дворце, но и близко познакомилась с родными герцога. Молодая наследная принцесса Анна-Каролина (1799–1832), для Долли Тизенгаузен просто «Нани», стала ее любимой старшей подругой. Впоследствии, когда Анна-Каролина, с 1824 года великая герцогиня Тосканская, мучительно умирала, Дарья Федоровна записала в дневнике 16 декабря 1831 года: «Столько лет уже я люблю ее, как сестру <…> дня не проходит, чтобы я мысленно не была с ней. Это подлинная любовь, а для нее не существует ни времени, ни разлуки»[43].
Для нас эта дружба, завязавшаяся в те годы, когда Долли была еще девочкой-подростком, интересна тем, что, по всему судя, будущая австрийская посольша почти с детства привыкла обходиться запросто с «высокими» и «высочайшими» особами и видеть в них просто людей.
Нам еще придется вернуться к этому качеству графини Дарьи Федоровны Фикельмон по поводу одной необыкновенной страницы ее жизни, которая только сейчас становится известной.
Сестра Долли, Екатерина, по-видимому, несмотря на свою молодость, была в приятельских отношениях с мужем Анны-Каролины, наследником тосканского престола, герцогом Леопольдом (1797–1870). В письмах 1848 года к сестре графиня Фикельмон не раз называет его «ton ami de Florence» – «твой флорентийский друг». Однако сама Долли почему-то относилась к этому герцогу довольно неприязненно.
Мне думается поэтому, что при всей своей любви к «Нани» она не очень охотно бывала в пышном дворце Питти с его все же стеснительным этикетом.
Вероятно, молоденькой девушке веселее было в другом кругу. Его составляли знатные и, во всяком случае, богатые туристы разных национальностей, главным образом англичане и американцы. На балу и в этом международном обществе Долли увидел однажды французский путешественник Луи Симон, судья взыскательный и строгий. В своей книге[44] он находит манеры молодых англичанок и американок чересчур развязными. Зато падчерицей русского дипломата он не налюбуется. «Видите, сказал я в свою очередь синьору Фаббрини <…> эту молодую особу, которая не менее прекрасна, чем предмет ваших сарказмов, но, по-видимому, сама этого не замечает. Она вернулась к матери после танца и, как кажется, боязливо колеблется, принять ли ей руку подошедшего кавалера. С одной стороны, у нее откровенное желание продолжить, а с другой – страх за то, не слишком ли много она танцевала, но ни малейшей степени расчета. Она непосредственна и восприимчива – один нежный и встревоженный взгляд матери заставляет ее решиться и отклонить самым любезным образом обращенное к ней приглашение. Видите, она набрасывает шубку и собирается уезжать».
Луи Симон замечает дальше, что русская барышня очень напоминает ему по своему облику англичанку, но англичанку хорошо воспитанную.
В начале 1817 года генерала Хитрово постигла служебная и денежная катастрофа; возможно, что та и другая были связаны между собой. До сих пор мы знали о них очень мало. Все тот же Ф. Г. Головкин, подружившийся с русским дипломатом и принимавший большое участие в упорядочении его донельзя запутанных дел, сообщает об этой печальной истории ряд подробностей, которые, по-видимому, соответствуют истине.
25 марта этого года он пишет своей французской кузине Местраль д’Аррофон: «В один прекрасный день ко мне является генерал Хитрово, в страшно расстроенном виде <…> он сознался, что в том отчаянном положении, в котором находятся его дела, и в тот момент, когда он ожидал помощи[45], ставшей для него необходимой, он получил ошеломляющее известие о потере своего места; что это место совсем упразднено[46], и что ему отказывают в какой-либо помощи; и, наконец, что немилость эта, по-видимому, решена бесповоротно, так как ему предоставляют маленькую пенсию, но с условием, чтобы он оставался жить в Тоскане».
Н. Ф. Хитрово, очевидно, впал в Петербурге в немилость. Возможно, что она была вызвана тем, что до столицы дошли сведения о его неразумных тратах и безнадежном финансовом положении. Поверенному в делах, должность которого упразднялась, не только не предоставили другой пост, но – мало того (если не ошибается Головкин) – поставили условием для получения пенсии жить по-прежнему в Тоскане. Эта совершенно необычная мера, быть может, имела целью побудить Хитрово уплатить свои крайне неуместные для дипломата долги.
Выяснением их занялся Головкин[47]. 21 апреля 1817 года Федор Гаврилович пишет своей французской кузине: «Генерал Хитрово переносит свое несчастие мужественно <…> Он все продает и рассчитывается со своими кредиторами; свое хозяйство он упразднил и нанял маленькую квартиру».
Таким образом, совсем еще девочкой (ей было 12 лет), Долли Тизенгаузен после «открытого дома», где постоянно устраивались (в долг) роскошные приемы, снова попала в очень скромную обстановку. Об этой флорентийской катастрофе семьи в известных нам записках Дарьи Федоровны упоминаний нет. Впрочем, придворные круги и высокопоставленные знакомые, узнав о несчастии, постигшем генерала, от семьи Хитрово не отвернулись. По словам Головкина, «все устроилось как нельзя лучше <…> Двор и общество выказали еще больше участия, чем мог ожидать этот бедняга. Для меня это было большое утешение…».
Головкин сообщает также: «Далее было решено, что г-жа Хитрово поедет в Петербург, чтобы отыскать какие-нибудь средства и предотвратить полное разорение <…>».
Долли Тизенгаузен и ее сестра, несмотря на все, что произошло, сохранили все свои знакомства. Прекратились домашние приемы, но в остальном жизнь юных графинь шла по-прежнему.
Через два года семью постигла тяжкая утрата. Давно уже прихварывавший Николай Федорович Хитрово после долгой и мучительной болезни скончался 19 мая 1819 года. Похоронили его в Ливорно. В жизни Долли смерть любимого отчима была первым большим горем.
Овдовев вторично, Елизавета Михайловна не покинула Флоренции. По словам А. Я. Булгакова, после смерти Николая Федоровича она одно время даже осталась «в прежалком положении, с долгами и без копейки денег»[48].
Если вспомнить то, что недавно писал о денежных делах покойного ныне генерала хорошо его знавший Ф. Г. Головкин, придется признать, что, вероятно, и Булгаков говорит правду. Тем не менее, будучи вдовой генерал-майора, Елизавета Михайловна вскоре должна была получить полагающуюся ей по закону небольшую пенсию. Ее, конечно, не хватило бы для далеких разъездов, а между тем в 1820 году Е. М. Хитрово побывала с дочерьми в Неаполе*. По крайней мере, однажды – когда именно, пока неизвестно, – совершила с ними большую поездку в Центральную Европу. Несомненно, побывала в Вене, где прозвали Долли «Сивиллой флорентийской» – в дальнейшем мы узнаем почему. По всей вероятности, в эти трудные для нее годы Елизавета Михайловна получала поддержку от родных из России.
Духовно привлекательная и житейски опытная Е. М. Хитрово сумела создать себе и прежде всего подросшим дочерям блестящее положение в европейском «большом свете». Славное имя Кутузова знали, конечно, и иностранцы, но вряд ли оно производило на них большое впечатление. Истинную роль великого полководца в победе над Наполеоном и у нас ведь поняли много позже. Графы Тизенгаузен – древний немецкий род, но и только. В толстой «Справочной книжке графских домов» таких семей множество. Еще меньше могла говорить иностранцам стародворянская, но не титулованная фамилия Хитрово. Между тем среди личных друзей Елизаветы Михайловны и ее дочерей в начале двадцатых годов мы находим прусского короля Фридриха-Вильгельма III*, герцога Леопольда Саксен-Кобургского, впоследствии бельгийского короля, и много других членов королевских и владетельных домов Германии, Австрии и Италии, не говоря уже о многочисленных представителях самых верхов аристократии.
Эти дружеские отношения «высочайших», «высоких» и просто знатных особ с Е. М. Хитрово и ее юными дочерьми возникли, конечно, не по признаку знатности и богатства последних.
II
Вряд ли их можно объяснить и замужеством Долли. Мы знаем немало претендентов на руку ее старшей сестры, как известно, оставшейся незамужней. Одно время в числе их считали и прусского короля Фридриха-Вильгельма III.
О том, как проходила жизнь сердца юной «Сивиллы флорентийской», мы не знаем пока ничего, – быть может, потому, что ее судьба определилась очень рано – 3 июня 1821 года, не достигнув еще и семнадцати лет, Дарья Федоровна вышла замуж за только что назначенного австрийского посланника при короле Обеих Сицилии графа Шарля-Луи Фикельмона, выдающегося кавалерийского генерала и опытного дипломата. Позже, в преклонных годах, он стал плодовитым и интересным политическим писателем. Постепенно мы ближе присмотримся к облику этого, несомненно, незаурядного человека.
О происхождении Фикельмонов можно сказать то же самое, что и о Тизенгаузенах: не богатый, но очень старинный бельгийско-лотарингский род. Их предок, крестоносец, еще в 1138 году, уезжая в Палестину, подарил участок земли одному монастырю.
Дед Шарля-Луи и его отец Христиан-Максимилиан, оставаясь французскими подданными, служили, по семейной традиции, в Австрии – в XVIII веке это бывало нередко[49]. Шарль-Луи первоначально учился в коллеже в Нанси. В 1792 году его отец эмигрировал и взял сына с собой. В Австрии юноша, почти мальчик (ему было 15 лет), поступил в драгунский полк Лятура и с тех пор до конца жизни состоял на военной службе. Шарль-Луи (по-немецки Карл-Людвиг) Фикельмон стал со временем выдающимся кавалерийским начальником. Командовал в Испании полком в армии генерала Костаньоса (Costagnos), присоединившегося к англичанам. Много лет спустя герцог Веллингтон говорил, что он не знал лучшего кавалерийского генерала, чем Фикельмон.
После того как Австрия в 1813 году присоединилась к коалиции против Наполеона, граф вернулся из Испании. В 1815 году он командовал конницей корпуса австрийского генерала Фримона и дошел с ним до Лиона[50]. Позднее Фикельмон, оставаясь военным, перешел на дипломатическую службу. Состоял военным атташе в Швеции[51], а в 1819 году был назначен австрийским посланником во Флоренцию.
Здесь Фикельмон и познакомился с шестнадцатилетней Долли Тизенгаузен. Разница лет между ними была огромная. Посланник, родившийся 23 марта 1777 года, был на 27 лет старше Долли и на шесть лет старше ее матери.
Мы не знаем, когда именно состоялось их знакомство – в 1819 или, скорее, в 1820 году (предыдущий в семье Хитрово был траурным). Не знаем и того, как развивался этот не совсем обычный роман. Несомненно одно – не позднее 2 января 1821 года (скорее всего накануне – в день Нового года) во Флоренции Шарль-Луи Фикельмон сделал предложение Долли Тизенгаузен, которой было 16 лет и 2 месяца. Предложение сразу же было принято.
Об этом мы узнаем из письма графа к бабушке невесты, княгине Екатерине Ильиничне Голенищевой-Кутузовой-Смоленской, от 2 января 1821 года, которое хранится в Пушкинском доме[52]. Приведу его почти полностью:
«Княгиня!
Нет на свете для меня ничего более счастливого и более лестного, чем событие, которое накладывает на меня, Княгиня, обязанность вам написать; я исполняю ее с величайшей поспешностью. Ваша дочь и ваша внучка одним своим совместно сказанным словом только что закрепили мое счастие, и мое сердце едва может выдержать испытанное мною волнение. Я удивлен, найдя у них обеих такое соединение достоинств, столько очарования, добродетелей, естественности и простоты. Неодолимая сила увлекла меня к новому существованию. Теперь его единственной целью будет счастие той, чью судьбу доверила мне ее мать. Все дни моей жизни будут ей посвящены и, поскольку воля сердца могущественна, я надеюсь на ее и на мое счастие.
Как военный, Madame la Maréchale[53], я горжусь больше, чем могу это выразить, тем, что мне вручена рука внучки маршала Кутузова, и я имею честь принадлежать к вашей семье <…>».
Е. М. Хитрово давно знала Александра I. В юности она была фрейлиной его матери. Когда Долли стала невестой, Елизавета Михайловна сейчас же (10 января) сочла нужным известить царя о предстоящей свадьбе. Он ответил любезным письмом из Лайбаха:
«…Примите мои искренние поздравления и пожелания брачному союзу, который ваша младшая дочь вскоре заключит с генералом Фикельмоном. Он мне известен с самой хорошей стороны. Вы имеете, таким образом, полное основание надеяться на то, что этот брак будет счастливым <…>»[54].
Пушкинисты не раз задавались вопросом о том, была ли счастлива в замужестве Долли. Решали его по-разному. Н. В. Измайлов считает, что «это был, вероятно, брак по рассудку, а не по любви с ее стороны и, быть может, расстроенные денежные обстоятельства играли в нем не последнюю роль…». Однако исследователь делает оговорку: «Ум и чувство графа Фикельмона сумели сделать этот брак, насколько возможно, прочным и даже счастливым»[55].
Л. Гроссман, наоборот, говорит о Долли Фикельмон, как о женщине, «видимо, несчастной»[56]. То же отношение к замужеству Дарьи Федоровны чувствуется и у некоторых других литературоведов. Почти девочка, выданная матерью за пожилого мужчину, вероятно, из-за денежных расчетов. Несмотря на несходство положений, вспоминается рассказ Татьяны:
…Неосторожно, Быть может, поступила я: Меня с слезами заклинаний Молила мать; для бедной Тани Все были жребии равны… Я вышла замуж.Читатель, знакомый с историей создания «Евгения Онегина», быть может, подумает: а в самом деле, не рассказ ли это графини Фикельмон о своем замужестве? Ведь восьмая глава «Онегина» была написана тогда, когда поэт уже был знаком с женой австрийского посла…
Предположение заманчивое, но, несомненно, неверное. Пушкин описал встречу своей героини с ее будущим мужем в предыдущей главе. Помните эту строфу:
– Взгляни налево поскорей. — «Налево? где? что там такое?» – Ну, что бы ни было, гляди… В той кучке, видишь? впереди, Там, где еще в мундирах двое… Вот отошел… вот боком стал… — «Кто? толстый этот генерал?»Судьба Татьяны предрешена, но седьмая глава закончена в ноябре 1828 года, когда Долли еще не было в Петербурге. Пушкин был уже тогда хорошо знаком с ее матерью, но совершенно невероятно, чтобы Елизавета Михайловна рассказала поэту о том, как ради денег ей пришлось выдать дочь замуж за нелюбимого человека. Против этого говорит все, что мы знаем о матери Долли, особе в высшей степени романтической, очень ценившей и культивировавшей всякое чувство. Нет, вообще не верится, чтобы она могла выдать замуж любимую дочь по расчету!
История этой свадьбы неизвестна, но, на мой взгляд, шестнадцатилетняя девушка легко могла увлечься блестящим боевым генералом, которому было тогда всего сорок три года, человеком во всех отношениях привлекательным, немалого ума, тонким и остроумным и, вероятно, горячо ее полюбившим.
Ранние браки были тогда в обычае не только у русских крестьян (вспомним, как будущую няню Татьяны «с пеньем в церковь повели» в 13 лет!), но и в аристократических семьях России и Западной Европы. Рано начинали взрослую жизнь знатные девушки того времени. Учились обычно лет до пятнадцати, а там вскоре и замужество и материнство.
Большая разница в летах между мужем и женой тоже не была редкостью.
Необычный по нынешним временам брак Долли Фикельмон вполне мог быть заключен по взаимной любви.
Я высказал это предположение в 1965 году, зная лишь поздние письма Долли к сестре, ранее не изученные пушкинистами. То и дело она с несомненной любовью и нежностью говорит в них о своем старом уже муже. О молодости Дарья Федоровна вспоминает не часто, но всегда радостно – особенно о семи годах, проведенных в Неаполе.
«Помнишь ли ты Радта, который доставлял нам столько удовольствия в Неаполе, в первые годы <…>; мы часто говорим с ним и с Менцем об этом прекрасном времени нашей молодости» (6. XI. 1847)[57].
«…Наш бедный Менц <…> умер, не приходя в сознание. Это был верный друг, который напомнил мне мои прекрасные неаполитанские годы» (ll.XII.1847)[58].
«Сохранив все письма Фикельмона с тех пор, как мы поженились, я делаю из них извлечения, переписываю все места, замечательные по стилю, по мыслям, по сюжету <…>
Я ничего до конца не забыла, но эта живая картина нашего прошлого, твоей и моей радости с разными эпизодами – ты бы тоже не смогла читать о них без умиления и трепета» (15.XII.1852)[59].
Кажется, именно там, в Неаполе, когда генерал Фикельмон еще не был стар, Долли была счастливее, чем когда-либо. Во всяком случае, любовное отношение к тогдашним письмам мужа, которые трогают и волнуют даже тридцать лет спустя, неоднократные упоминания о счастливых неаполитанских годах – все это позволяет думать, что Дарья Федоровна вышла замуж никак не по расчету.
Накопившиеся за последние годы материалы и, главным образом, книга Н. Каухчишвили, прочитавшей всю сохранившуюся переписку супругов, еще определеннее говорят в пользу брака по взаимной любви.
В письмах к Е. И. Кутузовой за 1821–1823 годы[60] Фикельмон говорит о юной невесте и жене с трогательной нежностью. Некоторые его эпитеты, быть может, покажутся сейчас выспренними и книжными, но нельзя забывать, что пишет человек, воспитавшийся еще в XVIII веке.
«Я очень счастлив, что снова вижу Долли, – обращается Фикельмон к бабушке невесты, – она прекрасна, как никогда; это ангел красоты и доброты, и каждодневно я благодарю Бога, позволившего, чтобы моя судьба была соединена с судьбой девушки столь замечательной во всех отношениях; это существо с совершенным характером и умом» (Неаполь, 16 мая 1821 г.). 10 декабря следующего года граф пишет Кутузовой из Вероны: «Я уезжаю обратно в Неаполь через несколько дней и очень рад, что снова соединюсь с Вашей Долли, лучшим и прелестнейшим существом на свете; разлучаться с ней – это самое большое огорчение, которое я могу испытать, а вновь с ней увидеться – самое большое счастье».
Так говорит муж. Прислушаемся теперь к дошедшим до нас словам жены.
«До свиданья, дорогой, любимый папочка!» – пишет ему Долли из Сорренто в июле 1824 года. Н. Каухчишвили считает, что, судя по этому обращению (по-итальянски «рара-riello»), у нее еще остались тогда некоторые детские черты[61]. Мне думается скорее, что это лишь проявление очень юного, очень нежного чувства к немолодому уже мужу (Фикельмону 47 лет).
«Какое счастие снова быть с тем, кого любишь всей душой, после месяцев одиночества, возбуждения и беспокойства» (дневниковая запись 28.IV.1829, сделанная в Вене)[62].
«Вчера, 3 августа, Фикельмон нас покинул. Его отъезд – это всегда траурный и скорбный день для меня. В течение всей моей жизни я чувствую пустоту, когда Фикельмона здесь нет. Я вдвойне избалована его заботами обо мне, прелестью его близости, такой нежной, доброй и такой умной» (3. VIII. 1832, Петербург)[63].
Ограничимся этими тремя цитатами. В дневниках и письмах графини подобных высказываний много. Своего мужа она, несомненно, любила на протяжении всех тридцати шести лет супружеской жизни (1821–1857).
На замужестве Дарьи Федоровны я остановился подробнее не случайно. Для истории ее отношений с Пушкиным, как мы увидим, далеко не безразлично, была ли она счастлива в семейной жизни.
Итак, счастливая супруга австрийского посланника, по возрасту почти что девочка (ей нет еще и семнадцати лет), начинает свою взрослую жизнь в Неаполе[64]. Предоставим слово Н. Каухчишвили, изучившей архивные материалы этого времени. Их, по-видимому, сохранилось значительно меньше, чем от флорентийских лет, но все же немало.
«Ответственность юной Дарьи Федоровны в связи с ее новым положением, несомненно, была большой, она должна была принимать послов, именитых граждан (нотаблей), принцев разных стран, ей приходилось соперничать со знаменитыми домами, многоопытными хозяйками дома, а также с двором. Соседство матери было для нее в этих условиях большой поддержкой, благодаря помощи, которую последняя могла оказывать, основываясь на личном опыте»[65].
Елизавета Михайловна и сестра Долли Екатерина оставались с ней после замужества почти пять лет. У нас нет сведений о том, жили ли они в австрийской миссии, но, судя по всему, это представляется очень вероятным.
Е. М. Хитрово с дочерью вернулись в Россию лишь в начале 1826 года[66]. К этому времени Дарья Федоровна, можно думать, приобрела уже житейский и светский опыт. Жаль, что мы ничего не знаем о том, какой она была в семье первые неаполитанские годы. Она совсем еще недавно вышла из того возраста, когда девочки-подростки потихоньку от взрослых и от прислуги нередко продолжали играть в куклы, и вот – супруга посланника великой державы, хозяйка дома, особа дипломатически неприкосновенная…
Вряд ли только Долли вначале понимала сложную и трудную роль своего мужа, аккредитованного при Фердинанде I (1751–1825), который в 1816 году принял титул короля Обеих Сицилий[67]. Этот бесхарактерный, но злобный и жестокий монарх был неистовым реакционером, не раз уже нарушавшим данное своим подданным слово. Он всецело находился под влиянием своей жены, Каролины Австрийской, у которой жестокость и католический фанатизм сочетались с волевым, властным характером.
Не раз уже Фердинанду приходилось бежать из Неаполя, но, используя политическую обстановку, он при помощи иностранных войск возвращал себе престол и затем зверски расправлялся с «изменниками». Неаполитанские порядки даже в то далекое время вызывали немалое возмущение в Европе.
В июле 1820 года в связи с успехами революции в Испании в Неаполе произошло восстание, организованное военными, к которым присоединилась либеральная буржуазия и организации карбонариев, связанные с масонами. Возглавлял восстание генерал Пепе, человек весьма умеренных взглядов, который добивался лишь восстановления конституции, но не свержения династии.
Перепуганный Фердинанд поспешил согласиться с требованиями восставших, назначил Пепе главнокомандующим, но сам уехал в Лайбах (Любляну), где собрались на конгресс монархи – руководители Священного Союза. По их решению австрийская армия генерала Фримона перешла 5 февраля 1821 года реку По и двинулась на Неаполь. Армия Пепе, не поддержанная народными массами, была разбита. Неаполь капитулировал 23 марта и на следующий день был занят австрийцами. Вслед за ними вернулся в свою столицу Фердинанд.
В начале апреля Пушкин написал послание В. Л. Давыдову (известен только черновик), в котором упомянул и о неаполитанских событиях:
Но те в Неаполе шалят, А та едва ли там воскреснет… Народы тишины хотят, И долго их ярем не треснет.Поэт, по-видимому, не надеялся на успех неаполитанской вспышки, но, живя в Кишиневе, в это время, вероятно, еще не знал, что в Неаполе все кончено. Больше там никто не «шалит»…
Снова, как и раньше, вернувшийся король начал жестокие репрессии.
Во время похода армии Фримона и подавления неаполитанской революции вновь назначенный посланник генерал Фикельмон состоял при штабе этой армии и таким образом являлся военным участником событий. В Неаполе он также находился в постоянных контактах с австрийским командованием.
Жестокости Фердинанда I, несомненно, осложняли положение Фикельмона как дипломатического представителя Австрии, которому необходимо было установить добрые отношения с неаполитанским обществом. По всей вероятности, именно благодаря его донесениям Меттерниху император Франц I, либерализмом отнюдь не отличавшийся, все же настоятельно советовал королю Обеих Сицилии умерить репрессии. Эти советы, несомненно, передавались через посланника, с мнением которого Фердинанд I, обязанный Австрии троном, не мог не считаться.
Отношения между самолюбивым королем и тактичным, но настойчивым Шарлем-Луи Фикельмоном, вероятно, были чисто официальными. Нет никаких указаний на то, чтобы граф и его семья стали «своими людьми» во дворце неаполитанского деспота, как это было с семьей Хитрово при великом герцоге Тосканском.
Зато, по словам Н. Каухчишвили, «несмотря на довольно натянутые отношения между австрийцами и итальянцами, Долли и ее мать очень скоро приобрели расположение всего неаполитанского общества и вполне хорошо себя чувствовали среди оживленного разговора людей юга»[68].
Русских, постоянно живших в Неаполе, было гораздо меньше, чем во Флоренции. Дарья Федоровна и ее мать встречались чаще всего с посланником графом Густавом Оттовичем Штакельбергом и его многочисленной семьей. Путешествующие соотечественники наезжали только зимой и весной по окончании карнавала в Риме[69].
Из дипломатов, аккредитованных в Неаполе, человеком более или менее незаурядным был, как кажется, лишь англичанин Джон Фейн[70], генерал и музыкант, которого Долли знала раньше как посланника во Флоренции. Он получил назначение на тот же пост в Неаполь в 1825 году.
Вообще же среди посетителей ее неаполитанского салона, о которых упоминает Долли Фикельмон, выдающихся людей, кажется, не было. Нельзя к ним причислить ни очень заурядного литератора Карло Меле, посвятившего ей несколько стихотворений, ни епископа Капечелатро, ни некоего князя Камальдоли. Остальные имена ее тамошних друзей уже совсем ничего не говорят исследователю. Искать их в справочнике не имеет смысла.
Однако графиня Долли чувствовала себя отлично и в обществе людей, ничем не выдающихся, но ей лично симпатичных. Она любила Неаполь не меньше, чем Флоренцию, – может быть, даже сильнее. Солнца, цветов и тепла там еще больше, чем в Тоскане, дождливая зима проходит быстро, и снова сияет лазоревое море, белой дымкой цветущего миндаля окутываются сады древнего города.
Известно, что Долли живала в неаполитанские годы летом на морском побережье – в Сорренто, Кастелламаре, Исхии. Вероятно, верхом на ослике поднималась с родными или друзьями на Везувий в его спокойные дни – поднималась не до кратера, но все же высоко. Побывала, надо думать, и в Помпее – тогда погибший город не был еще как следует откопан. Занимался раскопками кто хотел и как хотел. Шла «самодеятельная» охота за ценными вещами, которые сбывали богатым туристам, но все же было что посмотреть и в королевском музее. Вероятно, Фикельмоны всей семьей хоть раз ездили и на остров Капри – не знаем только, ходили ли туда пироскафы или надо было плыть на парусной лодке.
«Я начинаю здесь это письмо перед тем как покинуть с тоской в душе и стесненным сердцем Неаполь, мой возлюбленный рай…»[71] – писала Дарья Федоровна мужу много лет спустя, 15(27) апреля 1839 года, снова побывав в дорогом ей городе.
Живя в «раю», посланница, должно быть, не замечала или старалась не замечать ни узких, грязных улиц, где ютилась неаполитанская беднота, ни множества нищих, ни десятилетних проституток, ни детей, почти круглый год ходивших совершенно нагими. Впрочем, на такие улицы жена австрийского посланника, наверное, не заглядывала – там слишком скверно пахло…
Была в счастливой неаполитанской жизни графини Фикельмон и обратная сторона. До появления книги Каухчишвили мы о ней ничего не знали, но теперь кое-что знаем.
В первый же год после свадьбы Долли очень огорчала необходимость надолго расставаться с мужем. Посланнику нередко приходилось уезжать из Неаполя – «по делам службы», как прежде говорили у нас в России. В январе 1822 года Фикельмона вызвали в Вену, и он вернулся домой только в апреле. Осенью того же года он снова уехал – на конгресс в Верону и принужден был там задержаться до конца февраля 1823 года. Совсем бы истосковалась Долли, не будь с нею матери и сестры.
Была и другая, очень интимная причина, мешавшая полноте семейного счастья: детей у супругов Фикельмон не было в течение ряда лет. Дарья Федоровна даже взяла на воспитание итальянскую девочку и посвящала немало времени заботам о ней[72].
III
Как мы знаем, мысль о необходимости Елизавете Михайловне съездить в Россию возникла давно – еще в 1817 году. Осуществить ее тогда не удалось из-за отсутствия средств на это далекое и дорогое путешествие.
В 1822 году Е. М. Хитрово собиралась отправиться с дочерьми в Верону, где Фикельмон должен был присутствовать на конгрессе. Однако, как он сообщает Е. И. Кутузовой 10 декабря этого года, ряд причин, в том числе нездоровье К. Тизенгаузен, «побудили ее (Елизавету Михайловну) остаться в Неаполе и пожертвовать бывшим у нее намерением встретиться с царем Александром и представить ему дочерей, а Долли не захотела расстаться с матерью <…>».
О себе посланник пишет, что он, к сожалению, не сможет располагать временем, «чтобы привезти Долли в Петербург и засвидетельствовать вам там мое уважение»[73].
Наступил 1823 год – очень памятный год в жизни неаполитанской посланницы и ее матери. Задуманное шесть лет тому назад путешествие наконец состоялось[74]. Долли было в это время 18 лет, ее сестре – 19, а самой успевшей дважды овдоветь Елизавете Михайловне шел сороковой год[75]. Читатель, я надеюсь, вскоре увидит, что эта справка о возрасте трех путешественниц не является неуместной.
Фикельмон оставался на своем посту в Неаполе.
Мы не знаем точной даты прибытия Е. М. Хитрово и ее дочерей на пироскафе в Ревель, где во время короткой остановки Долли встретилась с любимой бабушкой Тизенгаузен, тетками и кузинами. Оттуда путешественницы отправились в Петербург. Там их ожидала многочисленная родня во главе с бабушкой Екатериной Ильиничной Голенищевой-Кутузовой-Смоленской и теткой Дашей – Дарьей Михайловной Опочининой, сестрой Е. М. Хитрово. Их Долли, во всяком случае, повидала уже во Флоренции, где они гостили в 1821 году.
С остальными петербургскими родственниками Дарья Федоровна либо встретилась впервые, либо успела их основательно позабыть за восемь итальянских лет. На первых порах она, видимо, была совсем не в восторге от этих родственных встреч в столице. 15 (27) июня она пишет мужу, что у обеих сестер весь день проходит в «показах то одному, то другому, точно мы любопытные звери. Иногда меня возмущает эта манера демонстрировать меня, как будто я занимательное четвероногое»[76].
Быть может, и Татьяне Лариной не очень были по сердцу визиты к неведомым родным:
И вот по родственным обедам Развозят Таню каждый день Представить бабушкам и дедам Ее рассеянную лень…Но Татьяна была тогда попроще, чем ее неаполитанская современница, и, вероятно, меньше с ней было хлопот, чем с графиней Долли.
О пребывании Елизаветы Михайловны и ее дочерей в Петербурге летом 1823 года известно немало. Мне, однако, предстоит вкратце рассказать теперь об одной многозначительной истории, разыгравшейся тогда в Царском Селе и других окрестностях невской столицы, истории, о которой исследователи до сих пор не знали решительно ничего. Начнем с цитат.
«Царское Село, 16 июня.
«Как вы любезны <…>, что подумали о прелестных рисунках. Конечно, они будут бережно сохранены. Но каким выражением мне следует воспользоваться, чтобы сообщить вам о том удовольствии, которое доставила мне наша первая встреча, и то, как вы ко мне отнеслись? Я думаю, что вы сами прочли это на мне лучше, чем я смог бы вам выразить. Я постарался как мог лучше исполнить ваши поручения, и у вас уже должно быть доказательство этого.
……………………………………………………………….
Ожидаю с нетерпением счастия снова вас увидеть».
«Будьте спокойны – вас не будут бранить, прежде всего потому, что ваше письмо прелестно, как прелестны вы сами <…>».
«Я был очень обрадован, встретив вас только что у моей свояченицы, и что меня особенно очаровало, это свобода и естественность, которые никогда вас не покидают и еще более усиливают присущую вам обеим прелесть.
Что касается упрека в недоверии, который вы мне делаете, я вам скажу, что там, где есть уверенность, основанная на фактах, там не может больше существовать недоверия.
Желаю вам тихой и спокойной ночи после ваших дневных треволнений».
«Вечерние маневры прошлого дня продолжались так долго <…>, что я смог вернуться в Царское Село только в час ночи и уже не решился приехать к вам».
……………………………………………………………….
«Весь день я провел, будучи прикован к письменному столу, и не вставал из-за него до глубокой ночи.
Вы поймете, насколько я был огорчен. Но это огорчение не было единственным. Вы, действительно, подвергли меня Танталовым мукам – знать, что вы так близко от меня и не иметь возможности прийти вас повидать; ибо таково мое положение!»
«Что касается новых брошюр, то у меня их почти нет. За неимением лучшего посылаю вам несколько довольно интересных путешествий. На все остальное вы получите устные ответы при нашей встрече. В ожидании ее я должен нам сказать, что очень тронут привязанностью, о которой вы мне говорили, и искренне вам отвечаю тем же».
«Мне совершенно невозможно выйти, не вызвав, благодаря здешним наблюдателям, род скандала, несмотря на мое крайнее желание вас повидать.
Постарайтесь остаться здесь еще до вторника, когда я смогу беспрепятственно прийти вас повидать».
……………………………………………………………….
«Вы уже меньше нас любите?! Неужели я заслужил подобную фразу? За то только, что из чистой и искренней привязанности, исполнил по отношению к вам долг деликатности! За то, что подверг себя очень чувствительному лишению только ради того, чтобы вас не компрометировать или подвергать нескромным пересудам, которые всегда неприятны для женщин. И вот мне награда!»
……………………………………………………………….
«Тысячу раз благодарю за подарок. Он драгоценен для меня и будет тщательно сохранен.
Весь ваш <…>».
«Будьте уверены в том, что в любое время и несмотря на любое расстояние, которое нас разделит, вы всегда снова найдете меня прежним по отношению к вам. Я бесконечно жалею о том, что необходимость заставляет нас расстаться на такое долгое и неопределенное время».
Для читателя, который еще не догадался о том, кто же автор этих писем к графине Долли, автор, несомненно, возымевший к ней весьма нежные чувства, пора назвать его имя. Это – Александр I, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая…
Скажу прежде всего, что эти письма, несколько выдержек из которых я только что привел, – никак не мое открытие. Об открытии здесь вообще говорить не приходится, так как в книге поступлений Рукописного отдела Пушкинского дома за 1924–1929 годы эти письма записаны 31 декабря 1929 года под № 1059, с примечанием: «Дар неизвестного». Установить сейчас, кто же было это лицо, пожелавшее остаться неизвестным, и какие у него были на то основания, не представляется возможным. Нельзя выяснить и предысторию царских писем[77].
Приехав с дочерьми в Петербург, Елизавета Михайловна Хитрово не теряя времени обратилась с частным письмом к царю. Текста его мы не знаем, но короткий ответ Александра приведу полностью:
«Госпоже Хитрово
(A Madame de Hitrof).
Ваше письмо, Madame[78], я получил вчера вечером. Приехав сегодня в город, я спешу сказать вам в ответ, что мне будет чрезвычайно приятно быть вам полезным и познакомиться с М-me Фикельмон и М-lle Тизенгаузен. – Итак, сообразуясь с вашими намерениями, я буду иметь удовольствие явиться к вам в среду в шесть часов пополудни.
Пока примите, Madame, мою благодарность за ваше любезное письмо, а также мою почтительную признательность.
Александр.
Каменный остров. 9 июня 1823 г.».
Об этом визите царя, с точки зрения придворного этикета, надо сказать, весьма необычном, Дарья Федоровна подробно рассказала в письме к мужу. Впервые она увидела царя в среду 11 (23) июня, 15 (27) она описывает эту встречу в выражениях весьма восторженных[79]:
«…Я от нее совсем без ума («Jen suis tout à fait folle») и никогда не видала ничего более любезного и лучшего <…>
Он начал с того, что расцеловал маму и поблагодарил ее за то, что она ему сразу же написала. Он пробыл у нас два часа, неизменно разговорчивый, добрый и ласковый и как будто он всю жизнь провел с нами. Екатерина и я, мы сейчас же попросили у него разрешения обращаться с ним как с частным лицом, что привело его в восхищение. Он повторил нам, по крайней мере, раз двадцать, чтобы мы не усваивали здешних привычек и оставались такими, как есть – без всякой искусственности. Он говорил о тебе и о твоей репутации военного. Царь сказал, что прусский король обрисовал ему нас и отозвался о нас с таким дружеским чувством, что ему (Александру. – Н.Р.) трудно было дождаться встречи с нами. Словом, я нахожу его прелестным».
Вероятно, опытный дипломат Фикельмон, читая в Неаполе эти излияния юной жены, умно и добродушно посмеивался. Он-то знал отлично, какой простой и добрый человек император Всероссийский, которого Наполеон называл «лукавым византийцем»…
Внимание, которое оказывала русская царская семья жене, теще и свояченице австрийского посланника при дворе одного из многочисленных итальянских государей, вероятно, было приятно Фикельмону и как человеку, и как дипломату, естественно рассчитывавшему на дальнейшую служебную карьеру.
А внимание действительно оказывалось исключительное.
О двухчасовом визите царя к «генерал-майорше Хитрово», каковой бывшая фрейлина Елизавета Михайловна числилась со времени своего второго замужества, мы уже говорили подробно. 27 июня (9 июля) Дарья Федоровна пишет мужу[80]: «Вчера мы получили приглашение от императрицы Елизаветы, чтоб быть ей представленными в Царском Селе, что не делается ни для кого. Это устроил император. Сегодня приехал великий князь Михаил Павлович; он пробыл три битых часа (trois grandes heures) и все время болтал. Итак, завтра мы едем в Царское Село, к императрице Елизавете, оттуда в Павловск, чтобы быть представленными императрице-матери и великой княгине Александре Федоровне»[81].
Позднее, 7 (19) сентября, Долли писала мужу из Петербурга, что жена великого князя Николая «обращается» с ней и с Екатериной «как с сестрами»[82].
По словам Н. Каухчишвили, граф Фикельмон в своем Неаполе «читал эти, полные энтузиазма, описания с известными опасениями – он полагал, что для чрезвычайно роскошного русского двора не будет приятен простой и безыскусственный характер его жены»[83].
При дворе и в высшем обществе России начала двадцатых годов, которую Фикельмон, вероятно, считал прежде всего душевно холодной и церемонной страной, обе молодые графини имели, однако, необычайно большой успех, – может быть, именно потому, что в то время они по своему облику были больше итальянками, чем русскими или немками. О впечатлении, которое они произвели в обеих столицах, мы еще будем говорить.
Нравилась многим и совсем еще не старая, жизнерадостная и эксцентричная Елизавета Михайловна, тоже мало похожая на тогдашних русских, и в особенности петербургских, дам.
Зато с дочерьми у нее всегда было много общего. Быстро и близко познакомившийся со всеми тремя дамами[84], царь Александр прозвал их «любезным Трио» («l’aimable Trio»).
Не раз он упоминает о «Трио» в своих письмах, а два послания относятся к нему непосредственно. 21 июня (3 июля) – через десять дней после начала знакомства – Александр пишет из Царского Села:
«…Я получил прелестное письмо Трио вчера, когда ложился спать. Рано утром я уехал в Гатчину, а затем в Красносельский лагерь. Оттуда я вернулся недавно. Сегодняшний дождь помешал учению, которое должно было состояться. <…> Благодаря этому я надеюсь вас увидеть только в воскресенье, если вы по-прежнему собираетесь здесь переночевать, чтобы утром поехать в Павловск,
Два цветочка, полученных с благодарностью, старательно сохраняются, как драгоценное воспоминание. Очень прошу Трио оставить для меня место в своей памяти.
А.
Царское Село, в понедельник вечером 21 июня».
Второе письмо, хотя касается «Трио» в целом, адресовано Дарье Федоровне:
«Графине Фикельмон.
Я покорно подчиняюсь упрекам и даже наказаниям, которые Трио соблаговолит на меня наложить. Прошу разрешения прийти, чтобы им подвергнуться сегодня, между одиннадцатью и двенадцатью часами, так как это единственное время, которым я могу располагать.
Только покорно подвергнувшись наказаниям, к которым меня приговорят, я возвышу свой скромный голос, чтобы доказать свою невиновность, и, надеюсь, она окажется настолько очевидной, что справедливость моих любезных судей полностью меня оправдает <…>.
А.
Я вошел бы во двор, если вы позволите.
Каменный остров. Понедельник вечером».
Странное чувство испытывал автор этой книги, когда он впервые вчитывался в бледно-голубые листки царских писем. Совсем недавно в ленинградском Русском музее долго стоял он перед моделью памятника Александру I в Таганроге работы знаменитого И. П. Мартоса. Театрального вида самодержец, воин и законодатель с неким свитком в руке – таким постарался изобразить его скульптор.
И вот передо мной его письма, в которых ничего театрального нет. Хорошо знаю, что и речам и писаниям Александра I весьма часто верить нельзя. Но и у самых неискренних людей бывают приступы искренности. Кто знает, быть может, автор голубых писем говорил Долли Фикельмон, ее матери и Екатерине Тизенгаузен то, что он на самом деле думал. Маловероятно, но утверждать, что это не так, я не берусь… Во всяком случае, в письмах внутренняя близость чувствуется со всеми тремя женщинами – даже с Екатериной Тизенгаузен, которой адресована всего одна короткая, вероятно, прощальная записка:
«Для Екатерины.
Я очень признателен за любезный подарок и строки, которые вы мне прислали. Поверьте, что мне многого стоило отказаться от [возможности] вас повидать, в особенности когда мы были так близко. Однако важные соображения вменили мне это в обязанность.
Прошу вас помнить обо мне.
Сердечный привет матушке».
И все же мне кажется, что ласковые слова, которые царь адресовал «любезному Трио», большое внимание и очень серьезные услуги (если только можно их назвать «услугами»), оказанные им Елизавете Михайловне – о них речь впереди, – даже эта малозначительная, но любезная записка к Тизенгаузен, – все это в конечном счете лишь маскировка большого увлечения Александра I Долли Фикельмон.
Я уже привел ряд выдержек из писем царя, которые вряд ли можно считать, говоря по-современному, флиртом – светской игрой в любовь, которой в действительности нет.
Объясняя Долли, почему он не может навестить ее в Красном Селе, куда она, не подумав, приехала во время маневров, царь пишет: «По окончании маневров мне нужно уехать, потому что в Царском Селе меня ждут другие занятия. К тому же я вас слишком люблю, чтобы таким образом привлекать к вам все взгляды, что неминуемо случилось бы, если бы я явился здесь, где я и шагу не могу ступить без сопровождения адъютанта, ординарцев и т. д.».
«К тому же я вас слишком люблю…» («D’ailleurs je vous aime trop»). Очень интимные слова, но в этом контексте по-французски их все же нельзя понимать как объяснение в любви. «Je vous aime trop» – скорее, «я к вам слишком привязан…». Во всяком случае, слова, которые зря не говорят. Они обязывают.
И говорит их Александр I по серьезному поводу. Еще в одном письме, во второй или третий раз (последовательность писем определить трудно) он предупреждает Долли, что во избежание сплетен ей следует быть сдержаннее: «Вы выбрали очень неудачный день, чтобы приехать сюда, так как в среду я буду отсутствовать – отправляюсь в Красносельский лагерь[85]. <…> Но если я могу вам дать совет, будет много лучше, если вы совершите поездку в Царское Село после того, как я побываю в городе. Лагерь тогда уже будет закончен, и я смогу пожить здесь. В ожидании этого не забывайте меня и скажите себе, что я искренне отвечаю вам той же доброй привязанностью, о которой вы мне пишете. Передайте привет Екатерине».
Судя по тому, что царь вовсе не упоминает об Елизавете Михайловне, она куда-то уехала, может быть, к матери, Е. И. Кутузовой, которая жила на даче где-то в окрестностях Петербурга. Долли, видимо, осталась одна и решила быть совсем самостоятельной – съездить в Царское в надежде повидаться – не знаем, с царицей и царем или только с царем… По-французски такое молодое, немного озорное и неожиданное приключение лучше всего передается словом «escapade», вошедшим и в русский язык. Как и многие чисто французские понятия, точному переводу оно не поддается. Во всяком случае, ничего предосудительного для чести той, которая совершает такое экстравагантное деяние – «эскападу» – здесь нет.
Но дневника Долли за эти петербургские недели у нас нет, а перечитывая серию писем царя, можно предположить, что эта ее выходка не была первой.
Я уже упоминал о том, что жизнь молодой женщины сложилась так, что никакого священного трепета перед особами, которых принято именовать «высокими» и «высочайшими», она не испытывала. С императором всероссийским, конечно, была вежлива – так же вежлива, как с любым влюбленным в нее офицером или атташе посольства, но, вероятно, не больше… Царь ведь сам при первой же встрече настаивал на том, чтобы с ним обращались как с частным лицом. Долли так с ним и обращалась. Приходилось его величеству не раз извиняться перед восемнадцатилетней графиней (19 лет ей исполнилось 14 октября этого года).
Ряд этих извинений, большей частью шуточных, я уже процитировал. Однако среди писем царя есть одно[86], которое в виде исключения я привожу полностью. По-видимому, между Александром и Долли произошла более или менее серьезная размолвка – все из-за той же неосторожной поездки Долли и Царское Село в совсем для этого не подходящее время маневров. В ответ на очень деликатное по форме, но настоятельное по существу напоминание царя о необходимости быть осторожнее графиня, кажется, всерьез обиделась на своего коронованного поклонника.
На этот раз он не оправдывается, только просит понять – и снова довольно настойчиво, что частным лицом он может все же оставаться только до известного предела.
В письме нет ни обращения, ни адреса, оно написано частью в третьем лице, но, судя по концовке («Передайте привет маменьке»), все же обращено в первую очередь к Долли. Вот его текст:
«Только в данный момент я освободился, чтобы написать вам эти строки.
Итак, я сказал Екатерине, что я ничуть не отношусь к ней с недоверием и что, со своей стороны, я вполне искренне питаю к ней ту же дружбу, что и она ко мне.
Что касается Долли, я бы ее спросил, чем я навлек на себя бурю, которая бушует против меня в ее письме? Если бы она лучше меня знала, она бы поняла, что я придаю очень мало цены осуществлению какой бы то ни было власти; что я всегда смотрел на нее как на бремя, которое, однако, долг заставляет меня нести. Так как я никогда не думал расширять эту власть за пределы тех границ, которые она должна иметь, то тем более [я не хотел] стеснять мысль. Когда эта мысль касается меня и притом принадлежит существу столь любезному, как она. Ничуть не думая ее отталкивать, я принимаю с благодарностью все проявления ее интереса. Однако моему характеру и, в особенности, моему возрасту свойственно быть сдержанным и не переступать границ, которые предписывает мое положение. Вот почему Долли ошибается, считая меня несчастным. Я ничуть не несчастен, так как у меня нет никакого желания выйти из того положения, в которое меня поставила власть всемогущего. Когда человек умеет обуздывать свои желания, он кончает тем, что всегда счастлив. Это мой случай. Я счастлив; и, кроме того, я не хотел бы позволить себе ни одного шага вне воли всевышнего.
Если вы спокойно и последовательно подумаете над тем, что я вам здесь говорю, это объяснит вам многое, что должно вам казаться во мне странным.
До встречи завтра вечером. Передайте привет маменьке».
Что сказать об этом, во всяком случае, многозначительном письме? Оно, несомненно, адресовано одной из дочерей Елизаветы Михайловны. Я предполагаю, что адресатка – Долли, но полной уверенности у меня в этом нет. Эта своеобразная исповедь царя, по существу во всяком случае, обращена к ней, а не к Екатерине Тизенгузен[87].
Когда читаешь уверения Александра I в том, что в глубине души он тяготится властью, возложенной на него, как он считает, свыше, этому можно поверить, – не одной Долли Фикельмон он так говорил.
Еще 21 февраля 1796 года девятнадцатилетний князь Александр Павлович писал своему недавно уволенному воспитателю Лагарпу: «Дорогой друг! Как часто я вспоминаю о вас и о всем, что вы мне говорили. Но это не могло изменить принятого мною намерения отказаться впоследствии от носимого мною звания».
Весной того же года он писал своему приятелю В. П. Кочубею: «Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что рожден не для того сана, который ношу теперь, и еще меньше для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом»[88].
Это настроения юноши, но они возобновлялись по временам у царя на протяжении всей его жизни. Не раз он говорил близким ему людям о своем намерении отречься от престола. В 1819 году сказал брату Николаю и его жене Александре Федоровне: «Я решил сложить с себя мои обязанности <…> и удалиться от мира»[89].
Итак, когда Александр пишет о своем взгляде на царскую власть как на тяжелое бремя, его искренности поверить можно. Зато когда он лицемерно пытается уверить графиню в своем уважении к свободе мысли (какой бы то ни было), как не вспомнить лишний раз пушкинские стихи:
Недаром лик сей двуязычен. Таков и был сей властелин: К противочувствиям привычен, В лице и в жизни арлекин.Мы не прочли и, вероятно, никогда не прочтем писем Долли к царю. Только одну ее фразу Александр сохранил в своем ответе: «Вы уже меньше нас любите?»
Но и этих нескольких слов достаточно, чтобы почувствовать «климат» посланий графини Фикельмон к царю.
О первой встрече с ним она с трогательной откровенностью писала мужу: «Я от нее совсем без ума». То же впечатление остается и от всей серии писем Александра, когда он говорит о настроениях и поступках Долли. Не узнаем мы в ней до предела благовоспитанной барышни, которой немного лет тому назад любовался во Флоренции французский путешественник Луи Симон. Помните, как он говорил своему приятелю синьору Фаббрини: «Видите <…> эту молодую особу <…> она вернулась к матери после танца и, как кажется, боязливо колеблется, принять ли ей руку подошедшего кавалера».
А теперь восемнадцатилетняя графиня, жена австрийского посла, повторим еще раз – несомненно любящая мужа, никого не боится, ни с кем не считается, держит себя так, что Александру I явно не по себе… Она совсем без ума от этой встречи.
А может быть, дело обстоит иначе – попав в совсем ей, по существу, неведомую Россию, страну, где ею восхищаются и балуют напропалую, очень еще юная, очень самоуверенная женщина считает, что здесь иногда уместно то, что и неуместно и невозможно во дворцах Флоренции, Вены или Неаполя…
По-своему графиня Фикельмон отчасти и права – с высокими особами за границей она не раз обращалась запросто, но, наверное, все же никто из них не просил у нее разрешения «войти во двор», как попросил русский царь.
Во всяком случае, Александру I приходилось порой увещевать Долли, напоминать о своем нежелании ее «компрометировать или подвергать нескромным пересудам, которые всегда неприятны для женщин».
Ни дать ни взять Евгений Онегин, читающий нравоучение Татьяне:
Учитесь властвовать собою; Не всякий вас, как я, поймет; К беде неопытность ведет.Но в 1823 году еще ни одна глава «Онегина» не вышла в свет, а четвертая не была и написана…
Следует, однако, нам в этом «штатском» деле вспомнить простой и ясный вопрос, который, разбирая самые сложные военные операции, полковник Фош, будущий маршал Франции, неизменно ставил своим слушателям в Высшей военной школе:
– De quoi s’agit-il? (В чем дело?)
В чем дело? Что перед нами – ни к чему в конце концов не обязывающий светский флирт, игра в любовь – и только? Или, наоборот, мы идем по следам далеко зашедшего романа царя и графини Долли, разыгравшегося в эти летние месяцы 1823 года?
Я лично не думаю ни того ни другого. Есть такое французское выражение, с трудом передаваемое по-русски, – «ami-tié amoureuse» – влюбленная дружба – понятие, равно далекое и от флирта, и от интимной связи. Оно родилось позднее, но, на мой взгляд, этот очень французский термин лучше всего передает характер тогдашних отношений Александра I и Долли Фикельмон – большое взаимное увлечение.
Прибавим еще, что у юной женщины (приходится все время не забывать о ее юности) увлечение царем, на мой взгляд, сильнее и бездумнее, чем чувство Александра.
Однако и в его не очень долгой, но сложной жизни встреча с графиней Фикельмон вряд ли была только занимательным приключением. Я убежден в том, что вряд ли кому из ровесниц Долли Александр I писал такие серьезные и искренние письма, как ей.
И еще одно впечатление – этот роман 1823 года, как кажется, закончился хотя и не разрывом, но охлаждением – не берусь судить, взаимным или нет. Во всяком случае, дневниковые записи графини Фикельмон, посвященные Александру после его смерти, так же восторженны, как и впечатление от первой встречи с ним, а последнее письмо царя из Серпухова от 31 августа (Александр I куда-то надолго уезжал) грустно, но довольно сухо:
«Нужно иметь большую охоту исполнить ваши желания, чтобы набросать эти строки при тех занятиях, которые одолели меня в дороге. Я хотел бы, чтобы вы однажды стали воочию их свидетельницей, и вы приобрели бы уверенность в том, что у меня остается не много времени для частных писем. Благодарю вас за все любезное, что вы мне говорите. Поверьте, что я бесконечно жалею о том, что не имел возможности повидать вас перед отъездом.
Кланяйтесь маме и Екатерине и от времени до времени вспоминайте обо мне.
31 августа 1828 г.».
Показала ли Долли, вернувшись в Неаполь, царские письма мужу? Думается, что не показала… Это не письма любовника, но, сколько оговорок ни делай, все же это послания влюбленного в нее человека.
О матери и сестре Дарьи Федоровны говорится почти в каждом письме Александра. Елизавета Михайловна, член «любезного Трио», была, по крайней мере отчасти, соучастницей сближения своих дочерей с царем. Думается, что от матери и сестры у Долли в этом отношении тайн почти или совсем не было, но больше никто и никогда голубых листков не увидал… Своей дочери, княгине Елизавете Александровне Кляри-и-Альдринген, к которой перешла большая часть семейного архива[90], писем Александра I Дарья Федоровна, во всяком случае, не оставила.
Я подробно рассказал о посланиях царя к Долли и «любезному Трио», но из писем, официально адресованных «Madame de Hitrof», привел только одно. Может быть, и остальные письма этой серии когда-либо используют ученые-историки – материал все же совершенно новый, – но, на мой взгляд, они по сравнению с перепиской с Фикельмон относительно малоинтересны. Помимо светских любезностей речь и них идет главным образом о просьбе Елизаветы Михайловны оказать ей материальную помощь.
Содержания письма Е. М. Хитрово мы не знаем, но из ответа царя видно, что он поспешил сделать соответствующие распоряжения: «Очень сожалею о том, что вчера у меня не было времени ответить на ваше письмо и заверить вас, что я очень желаю облегчить ваше положение, поскольку это совместимо с возможностью и соображениями благопристойности, нарушать которые я не могу. Я тотчас же займусь данным вопросом и надеюсь в скором времени известить вас на этот счет».
Перед самым отъездом надолго (куда именно, мы не знаем) царь, жалуясь на массу дел, которые заставляют его проводить бессонные ночи, передает Елизавете Михайловне, Долли и Екатерине прощальный привет и сожаление о том, что не смог еще раз их повидать.
Житейски говоря, самыми существенными являются, конечно, заключительные строки этого письма: «Ваши дела устроены единственным способом, который мне представился подходящим. Я поручил графу Нессельроде вас об этом известить».
О том, что именно Александр I нашел уместным сделать для Елизаветы Михайловны, мы узнаем из других источников. 21 августа (2 сентября) графиня Фикельмон пишет мужу из Петербурга: «Надеюсь, что тебя очень обрадовал способ, которым царь устроил дела! Все в один голос говорят, что 6000 десятин земли в Бессарабии – это отличная вещь! Те, которые работали с царем, – передают, что он никогда не был таким взволнованным, как в эти три дня, когда он старался устроить дела мамы. У нового министра финансов совершенно не было денег, чтобы их дать, тем не менее император хотел сделать нечто прочное. Мама была очень возбуждена и обеспокоена». 7 (19) сентября графиня прибавляет: «До сих пор невозможно было получить денег от казны»[91].
По-видимому, речь здесь идет о пенсии, пожалованной Елизавете Михайловне помимо бессарабских земель. Наполеоновский генерал и дипломат Шарль де Флао (de Flahaut), приехавший в это время в Петербург и, по-видимому, хорошо информированный о тамошних делах, писал: «Я всего на несколько дней опоздал встретиться с госпожой Хитрово. Она так же, как и Долли, пользовалась поразительным успехом. Она сделала все, что хотела. Двор принял их единственным в своем роде и необычным способом. В Санкт-Петербурге об этом только и говорят. Госпожа Хитрово воспользовалась этим, чтобы получить пенсию в семь тысяч рублей, возмещение за прошлое время (arréarages) и довольно большие земли в Бессарабии, которые она сможет выгодно продать»[92].
Насколько точны сведения де Флао о размерах пенсии, пожалованной Е. М. Хитрово, мы не знаем. Других данных на этот счет мне встретить не пришлось.
Несомненно одно, – по существу, Александр I одарил Елизавету Михайловну за счет государственных средств бессарабскими землями (надо думать – черноземом, а не песками) и пожаловал ей немалую пенсию не в память ее великого отца*, а ради дочерей; скажем точнее – ради Долли…
Необходимое приличие, по всей вероятности, было все же соблюдено – официально вдова генерал-майора Е. М. Хитрово получила земли и пенсию как дочь своего отца. Соответствующие документы, возможно, когда-либо найдутся.
IV
Прервем теперь повествование о путешествии Е. М. Хитрово с дочерьми в Россию – нам предстоит еще позднее к нему вернуться, – забудем также на время о «влюбленной дружбе» графини Долли Фикельмон с царем Александром I и отправимся в ее любимый Неаполь.
Дарье Федоровне предстояло там провести еще около шести лет[93].
Итак, неаполитанская жизнь супругов Фикельмон продолжалась. Детей у них по-прежнему не было. Дарья Федоровна воспитывала маленькую итальянку Магдалину, но с течением времени, кажется, стала посвящать ей меньше внимания. По словам Н. Каухчишвили, «…воспитание девочки не заставило ее пренебрегать светскими обязанностями; наоборот, ее неаполитанский салон все более оживлялся, и в последние годы помимо официальных гостей мы встречаем в нем многочисленных друзей <…> которые, в свою очередь, становились добрыми друзьями ее русских знакомых»[94].
Подробности светской жизни графини Фикельмон в Неаполе для нас неинтересны, тем более, что, как я уже упоминал, особенно выдающихся людей в столице королевства Обеих Сицилии в это время, по-видимому, не было.
В 1825 году Дарья Федоровна Фикельмон после четырех лет замужества стала матерью. В конце этого года родилась ее единственная дочь, будущая княгиня Кляри-и-Альдринген. Ее назвали Елизаветой-Александрой в честь записанных крестной матерью и крестным отцом императрицы Елизаветы Алексеевны и императора Александра Павловича[95]. Но знатной католичке полагается иметь больше имен. К двум уже названным прибавили еще Марию и Терезу.
В петербургском дневнике и письмах Дарьи Федоровны о ее дочери упоминается множество раз, но никаких документов, связанных с рождением Елизаветы-Александры, мы не знаем.
Читатель может спросить – а что же сталось с итальянской девочкой Магдалиной, которая, по позднейшим словам Долли[96], «была первым ребенком, которого я любила, потому что Елизалекс[97] еще не родилась».
В 1825 году она была «вверена попечению» одной из сестер Шарля-Луи, Марии-Франсуазе-Каролине, которая впоследствии (в 1841 году) основала монастырь «Святого сердца» в Нанси*.
Счастливые итальянские годы графини Долли близились к концу. По-видимому, еще в 1823 году, когда Елизавета Михайловна с дочерьми гостила в России, у Фикельмона возникла надежда или, во всяком случае, желание занять пост австрийского посла в Петербурге. Действительно, из его письма к жене мы узнаем, что в конце этого года он запросил своего петербургского коллегу Людвига Лебцельтерна, намеревается ли тот покинуть свой пост и когда именно[98]. Лебцельтерн, однако, оставил русскую столицу лишь в 1826 году, возможно, в связи с тем, что он и декабрист Сергей Петрович Трубецкой были женаты на родных сестрах, урожденных Лаваль. Поверенным в делах оставался граф Зичи.
По словам Н. Каухчишвили, изучившей документы Венского государственного архива, «…в конце 1828 года, когда международное положение потребовало присутствия в Петербурге лица, способного сгладить вероятные недоразумения, которые могли возникнуть вследствие положения, создавшегося на Востоке, выбор Меттерниха пал на Фикельмона»[99].
Мне представляется очень вероятным, что русское происхождение жены графа и ее не столь давние успехи при дворе и в среде русской царской семьи, о которых в свое время столько говорили в Петербурге, сыграли немалую роль в решении канцлера. «В январе 1829 года он (Фикельмон) был послан в Петербург с чрезвычайным поручением выяснить возможность сближения России и Австрии, сделать попытку проломить брешь в новом тройственном согласии, которое сблизило Россию с Англией и Францией».
В официальной петербургской газете, издававшейся на французском языке, было помещено следующее сообщение о приеме царем графа Фикельмона, прибывшего в столицу 29 января ст. ст.:
«Придворные новости от 30 января. Государь император приняли сегодня утром в частной аудиенции графа Фикельмона, действительного статского советника и генерал-майора на службе его королевского и апостолического величества, присланного его монархом с чрезвычайной миссией к его имп. величеству»[100].
Предоставим опять слово итальянской исследовательнице: «Фикельмону удалось блестяще исполнить поручение к удовлетворению обеих сторон: почва для возможного сближения обеих великих держав была подготовлена. В марте Долли узнала, что Татищев[101] представил в Вене от имени Николая I его пожелание видеть послом в Петербурге графа Фикельмона (23 марта н. ст. 1829 года), пожелание, которое было окончательно подтверждено в июне того же года»[102].
Фикельмоны провели несколько месяцев в Вене и затем, проехав через Варшаву, прибыли в Петербург. Временно они поселились на Черной Речке в доме Лавалей. Официальное сообщение о приеме царем нового посла гласило: «Придворные новости от 17 июля. Сегодня утром посол Его Величества австрийского императора граф Фикельмон имел честь получить в Елагинском дворце первую аудиенцию у Его Вел. Императора и Ее Вел. Императрицы, вслед за чем имели честь быть представленными графиня Фикельмон и леди Хейтсбери, супруга английского посла, а также его дочь»[103].
По рассказу Дарьи Федоровны, в покой императрицы ее ввели «обер-церемониймейстер граф Литта[104] и граф Станислав Потоцкий». «Увидев меня, она воскликнула: «Долли посольша!» Затем она прибавила: «Эту посольшу мне надо расцеловать!» – нежно меня обняв, императрица сказала мне много добрых и ласковых слов. Должна признаться, что я была тронута до слез»[105].
Не зная прежних (1823 года) писем Долли к мужу, было бы непонятно, откуда вдруг такая нежность у императрицы Александры Федоровны к жене нового австрийского посла. В действительности встретились старые знакомые. Напомним, что когда-то жена великого князя Николая Павловича обращалась с дочерьми Елизаветы Михайловны «как с сестрами».
Долли записывает: «Императрица мне напомнила так много; я не видела, будучи молодой (так!)[106], когда розовые очки, через которые видишь все, готовы разбиться, но еще полностью наслаждаешься всеми удовольствиями, которые видишь через них. Она напомнила мне нашего обожаемого бессмертного императора Александра и все доброе, что он для нас сделал».
«После обеда, в день моей аудиенции, я встретила императрицу верхом в сопровождении императора; она была в самом деле прелестна в таком виде. Император подъехал ко мне и сказал, что ему очень приятно видеть меня здесь надолго; он прибавил: «разрешите вам показать свою внешность», и, сняв шляпу[107], он дал мне возможность увидеть целиком свою замечательную красивую голову. Он пополнел, и в его облике есть нечто, напоминающее императора Александра» (22.VII.1829)[108].
Итак, Шарль-Луи Фикельмон начинает свою деятельность австрийского посла в Петербурге в очень благоприятных условиях. Он назначен сюда по желанию Николая I, на которого, очевидно, произвел благоприятное впечатление еще во время своего приезда в столицу с чрезвычайной миссией.
Близость Дарьи Федоровны с императрицей Александрой Федоровной, ее давнишнее знакомство с Николаем Павловичем (иначе царь, очевидно, не счел бы возможным говорить жене иностранного посла о своей внешности) – все это, несомненно, способствовало близости между Зимним дворцом и австрийским посольством, далеко не бесполезной и для служебной работы дипломата.
Изучение этой работы в мою задачу не входит, и я в дальнейшем коснусь ее лишь вкратце. Наше внимание будет сосредоточено на личности Фикельмон, ее русских литературных связях и – прежде всего – на роли Дарьи Федоровны в жизни и творчестве Пушкина.
Предварительно я должен все же вкратце рассказать и о дальнейшей служебной карьере ее мужа, итальянский период которой нам уже достаточно известен. Коснусь отчасти и его литературной деятельности, которая когда-то имела немалую известность.
В следующих очерках я не раз буду возвращаться к обстоятельствам петербургской жизни супругов Фикельмон. Упомяну пока о том, что, вернувшись в 1826 году в Россию, Елизавета Михайловна Хитрово и после приезда Долли с мужем в Петербург некоторое время жила отдельно со старшей дочерью Екатериной на Моховой улице в доме Мижуева[109]. Весной 1831 года она переехала в арендованный австрийским посольством обширный особняк кн. Салтыковых (современный адрес – Дворцовая набережная, 4), но занимала там, как мы увидим, отдельную квартиру. В ней Е. М. Хитрово прожила восемь лет и здесь же скончалась (3 мая 1839 года). Ее дочь, Екатерина Федоровна Тизенгаузен, стала личным другом императрицы Александры Федоровны. В мае 1833 года она в качестве камер-фрейлины переехала в Зимний дворец[110].
Свой ответственный пост граф Фикельмон занимает в течение целых одиннадцати лет, получив в 1830 году чин фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии[111]. Изредка посол уезжает из столицы. Летом 1833 года он отправляется в Чехию, которая тогда называлась Богемией. Осенью 1837 года граф был в Крыму, но Дарья Федоровна, насколько нам известно, в этом путешествии его не сопровождала.
В первые годы пребывания Фикельмона на посту посла в Петербурге князь Меттерних, несомненно, был доволен его деятельностью, хотя судить об этом приходится лишь по косвенным данным – документов мы не знаем[112].
В Вене были довольны до поры до времени. У Николая I благоволение к Фикельмону сохранялось в течение всего пребывания графа в Петербурге. Об этом свидетельствуют, между прочим, и высокие награды, полученные им в России.
В ноябре 1833 года (запись Дарьи Федоровны 10.XI) ему был пожалован высший русский орден – Андрея Первозванного, который иностранным послам давали в очень редких случаях. При отъезде из России он получил еще более редкое отличие – бриллиантовые знаки к этому ордену[113].
Впоследствии автор одного из некрологов Фикельмона писал, что покойный «благодаря своему долгому пребыванию в России, получил особое пристрастие к этой северной стране и питал большую привязанность к особе императора Николая, который относился к нему с особой благосклонностью»[114].
Действительно, в сочинениях и письмах Фикельмона мы находим ряд отзывов о России, необычных для образованного иностранца того времени, особенно для австрийского сановника, каковым все же был Шарль-Луи (Карл-Фридрих), несмотря на свое французское происхождение. Достаточно привести, например, отзыв Фикельмона о цивилизаторской роли России в Азии, имеющийся в его посмертно изданной книге[115]: «…ни в какой период истории Европы не было столь блистательного факта, как приобщение к цивилизации бесконечных пространств русской территории <…>, призванных к тому волею Петра Великого».
О знаменитой книге французского путешественника маркиза Кюстина[116], наделавшей много шума в Европе и запрещенной в России, и о ее авторе он отзывался крайне резко: «Он пишет, таким образом, что, будь я молодым русским, я бы его разыскал и дал ему единственный ответ, которого он заслуживает, и надеюсь, что это с ним случится». «В его книге, несомненно, есть кой-какая правда; так, я согласен с ним, когда он говорит, что любовь к людям занимает недостаточно большое место в истории России, но его всегда грязная и всегда враждебная мысль бесчестит то подлинно хорошее, что он мог встретить на своем пути <…>». «Не стоит она того, чтобы ею заниматься, она умрет как пасквиль <…>. Автор – безвестное насекомое <…> время его раздавит своею поступью, и ничего не останется от его обломков. Это грязь, которая возвращается в грязь, из которой она вышла, его укус не причинит никакой боли <…>»[117] и т. д.
Обычно очень корректный граф Фикельмон в отзыве о Кюстине и его книге не скупится на эпитеты. В его письме к тому же чувствуется автор комедий для домашнего театра, которые имели успех, но, насколько известно, напечатаны не были.
Сейчас, через сто с лишним лет, приходится признать, что Фикельмон ошибся. Памфлет Кюстина на Россию Николая I выдержал испытание временем лучше, чем умные и сдержанные книги Шарля-Луи. Они почти забыты, хотя и не заслуживают этого.
Не можем мы согласиться и с благоговейным отношением Фикельмона к личности Николая I, в котором он видел своего рода воплощение непреклонной воли, – качество, которым этот царь, к несчастью для России, действительно обладал.
Но к политике императора Николая I в восточном вопросе, которую он в своих книгах хотя и в корректной форме, но резко и обоснованно критикует, Фикельмон всегда относился отрицательно[118]. Однако когда Восточная война разразилась, он не менее резко возражал против попыток тогдашней английской и французской печати представить Россию как варварское государство, грозящее гибелью западной культуре.
Все это происходило многим позже петербургского периода деятельности Фикельмона, периода, который нас преимущественно интересует, но его взгляды на Россию и русских, по всему судя, сложились давно и, вероятно, послужили причиной крушения его дипломатической карьеры.
В 1839 году граф был вызван в Вену и временно замещал Меттерниха, что, конечно, не говорит о том, что посол впал в немилость. Затем Фикельмон вернулся в Петербург, но в июле 1840 года был окончательно отозван из русской столицы. Он покинул ее 20 июля этого года.
Судя по грустному обращению к Екатерине Федоровне Тизенгаузен, написанному перед самым отъездом, ему пришлось оставить свой пост неожиданно и, во всяком случае, не по своей воле:
«Петербург, 20 июля 1840.
Я пишу вам, дорогой друг, в тревожный и волнующий момент <…> Через час я уезжаю, и мое сердце полно вашей матерью, Долли и вами. Это трио[119], которое организовало мою жизнь и так долго составляло мое счастие, было разорвано, а остатки его разделены.
Поэтому я с большой грустью в душе покидаю этот дом <…> Одна жизнь кончена, а я слишком немолод, чтобы начинать другую».
Подлинной причины отозвания Фикельмона мы не знаем. Н. Каухчишвили считает, что недовольство Меттерниха могли вызвать два продолжительных отпуска (первый из них длился полгода), которые посол испросил в 1838 и 1839 годах. Действительно, Дарья Федоровна, привыкшая с одиннадцати лет к итальянскому солнцу и теплу[120], плохо переносила хмурый и холодный климат Петербурга. Головными болями она страдала и раньше, но, как сообщал Фикельмон в письме к Меттерниху от 4 января 1838 года (23 декабря 1837 г), «…страдания М-mе Фикельмон, которые ей причинил в течение двух лет ревматизм головы, были очень сильными; начиная с минувшего лета они стали настолько острыми и постоянными, что все, что я мог бы сказать по этому поводу, еще не соответствовало бы действительности. Она может лишь надеяться на то, что ей поможет перемена климата и ванны»[121].
Отпуск был разрешен, и в мае 1838’ года супруги Фикельмон с дочерью и сопровождавшая их Елизавета Михайловна уехали за границу. В Дечине хранится дневник, который Долли вела во время этого путешествия. Из него известны пока только отрывки, приведенные в книге Н. Каухчишвили. Проведя два месяца в Баден-Бадене, путешественники через Швейцарию направились в Италию. Уже в Камподольчино (Итальянская Швейцария) Дарья Федоровна записывает 26 августа: «…сразу воздух стал мягким, бархатным, и между двух гор видишь ослепительный свет, сверкающую даль. Это моя любимая Италия, которую я снова вижу и узнаю после десяти лет разлуки и беспрерывных сожалений. Во время моей долгой и мучительной болезни во мне преобладало желание вернуться в Италию и тайный страх за то, что мне это не удастся»[122].
К Долли понемногу возвращается радость жизни, хотя временами она еще очень страдает. Однако на нее надвигается тяжкое горе. В Генуе она прощается с Елизаветой Михайловной, которая торопится в Россию. Ни мать, ни дочь не думали, конечно, что это расставание навеки… В своей любимой Флоренции Дарья Федоровна разлучается и с мужем, у которого отпуск подходит к концу.
Весной 1839 года Елизавета Михайловна тяжело заболела. По-видимому, заболевание было внезапным, так как впоследствии в некрологе было сказано, что «жестокая болезнь только что унесла ее в возрасте 56 лет, но еще полную жизни, здоровья и молодости духа»[123]. Зная, что конец неизбежен, и предвидя, как тяжело будет больная Дарья Федоровна переживать смерть любимой матери, граф Фикельмон снова обратился 21 апреля (9 мая) 1839 года к князю Меттерниху с просьбой об отпуске.
Елизавета Михайловна, как мы знаем, скончалась 3 мая старого стиля. Долли получила известие о смерти матери, возвращаясь из Неаполя, где она провела с дочерью весенние месяцы.
24 мая Фикельмон обратился к одному из ее близких друзей – И. И. Козлову. Он писал поэту-слепцу: «…вчера, или сегодня, или завтра, или, наконец, на днях жена должна получить известие, которое разобьет ее сердце. <…> Напишите ей, сударь, – вы облегчите ее горе <…> слова тех, которые счастливы, никогда не произвели бы на нее такого действия, как ваши»[124].
Похоронив тещу, с которой Фикельмон был очень дружен, он уехал за границу и встретился с женой во французском курорте Экс ле Бен (Aix les Bains)[125].
Таким образом, длительная болезнь Дарьи Федоровны и смерть Е. М. Хитрово, действительно, на довольно продолжительное время нарушили дипломатическую работу Фикельмона, и Меттерних имел основание быть этим недовольным. Очень возможно также, что, как предполагает Н. Каухчишвили, канцлеру могла не понравиться в письме-прошении о вторичном отпуске ссылка на мнение Николая I, который спросил посла: «Разве вы не съездите к вашей жене и дочери? Они будут в вас нуждаться. Прошу вас не приносить мне этой очень большой жертвы»[126].
Я тем не менее не могу согласиться с мнением автора о том, что эти отпуска по семейным обстоятельствам и промах, допущенный послом со ссылкой на мнение русского царя, послужили причиной краха дипломатической карьеры Фикельмона.
Я уже упомянул о том, что временное исполнение графом обязанностей канцлера в 1839 году никак нельзя считать признаком немилости. Кроме того, трудно понять, почему наказание последовало так поздно – прошел целый год, прежде чем Фикельмона отозвали с поста посла в Петербурге и фактически отстранили от всякой сколько-нибудь государственной работы. По приезде из России он был назначен на почетный пост, приблизительно соответствующий министру без портфеля (Staats und Konferenzminister) и до революции 1848 года выполнял разные, главным образом дипломатические, поручения. По существу, Фикельмон, однако, оказался не у дел, в полуотставке – письма Дарьи Федоровны и самого Шарля-Луи не оставляют на этот счет никакого сомнения. По словам Долли (письмо к сестре от 5 сентября 1851 года)[127], Меттерних в течение десяти лет перед революцией старался, как только мог, свести его значение на нет (l’annuler). В другом письме (29 декабря 1852 года)[128] Дарья Федоровна утверждает, что ее мужа «удерживали здесь под тем предлогом, что пользуются его услугами, тогда как в действительности его держали вдали от всех дел».
Упорная неприязнь Меттерниха к Фикельмону, как я думаю, объясняется не мелкими промахами графа в прошлом, а его последовательным русофильством и общеполитическими взглядами, которые, видимо, казались либеральными в то чрезвычайно реакционное время. 25 июня 1842 года он пишет, например, Е. Ф. Тизенгаузен: «То, что делают в России, не может привести ни к какому хорошему результату, и я об этом очень жалею, так как будущее целиком зависит от этой проблемы дворян и крестьян. Земли в России так много, что ее достаточно для всех, и право государства ею владеть является иллюзорным, так как оно не в состоянии ее обрабатывать. Раздать ее крестьянам, при условии установления соответствующего налога, было бы наиболее простым способом управления, и земледелие сделало бы больше успехов, так как у крестьянина никогда не будет интереса к приобретению нужных земледельцу знаний, раз он уверен в том, что никогда ничем владеть не будет»[129].
Конечно, необходимым условием для осуществления предлагаемой Фикельмоном реформы явилась бы отмена крепостного права, но он об этом умалчивает и в письме, и в своих сочинениях.
В печатных трудах Фикельмона встречаются и более оригинальные мысли. Он пишет, например: «Демократия, в том виде, как ее сейчас добиваются, не может быть осуществлена иначе, как через коммунизм, только он может сделать демократию основой государства. Демократия, если она подлинная, должна ввести коммунизм и цивилизацию <…> Заменить другую, которая до настоящего времени является идеалом без прецедентов»[130].
Сам Фикельмон, по своим взглядам, конечно, чрезвычайно далек и от «подлинной демократии» и от коммунизма, но его политическая мысль работает все же весьма самостоятельно, и это не могло нравиться его бывшему начальнику, реакционнейшему Меттерниху.
В привычном климате Италии и Средней Европы здоровье Дарьи Федоровны, по-видимому, более или менее восстановилось. В известных нам письмах сороковых и пятидесятых годов она на него жалуется редко. 28 декабря 1850 года княгиня Кляри пишет тетке: «…мама всех удивляет, она прекрасна, молода и свежа, находят, что она помолодела, и ее салон приятен, как всегда»[131].
По заказу Дарьи Федоровны в Италии было изготовлено в 1841 году прекрасное надгробие в виде стелы из белого мрамора с барельефом Елизаветы Михайловны и фигурами ее скорбящих дочерей. Оно было привезено в Россию и установлено на могиле покойной в церкви Св. Духа[132].
Сама Долли, насколько мы знаем, на родину больше не возвращалась. Сестра время от времени навещала ее в Австрии. Супруги жили главным образом в Вене, а теплое время года проводили в Теплицком замке у дочери, которая в 1841 году, как и мать, вышла замуж по любви в шестнадцать лет. Ее муж, князь Эдмунд Кляри-и-Альдринген (3.II.1813–1894), очень богатый австрийский помещик, был старше жены на двенадцать лет.
13 октября 1842 года у Елизаветы-Александры родился первый ребенок – девочка Эдмея-Каролина*. Дарья Федоровна, таким образом, стала бабушкой ровно в 38 лет. В 47 у нее уже четверо внучат.
Большая политическая карьера ее мужа возобновилась было во время революции 1848 года, но вскоре оборвалась окончательно. 18 марта Фикельмон, считавшийся человеком умеренных взглядов, вошел в состав первого конституционного кабинета в качестве министра двора и иностранных дел, а после отставки графа Коловрата короткое время замещал председателя совета министров. Министерский пост Фикельмон занимал всего сорок пять дней. Революционная демонстрация студентов, направленная не только против министра, но и против его русской жены, заставила Фикельмона выйти в отставку.
В нескольких письмах к сестре Дарья Федоровна рассказывает, как подготовлялось и произошло это тягостное для нее событие[133].
«Сейчас думают, что Фикельмон принадлежит к старой школе князя[134]. Если бы люди знали все, что он говорил, все, что он писал в течение двух лет, и сколько раз князь пренебрегал его мудрыми словами и отвергал их <… > Фикельмона обвиняют в том, что он слишком друг России, и я все время боюсь, что способствую укреплению этого мнения» (15 апреля). «Посылаю тебе листовку, из которой ты увидишь, каким преследованиям я здесь подвергаюсь. Люди не боятся оскорблять благородный характер Фикельмона и предполагать, что мы оба продались России. Эта глупая история о двенадцати миллионах разглашена здесь болтуном Оболенским, и благожелательная публика, которая постоянно обвиняет Фикельмона в том, что он друг русских, подхватила эту болтовню. Вообще, я не в состоянии сказать, как я страдаю от этой ненависти ко всему русскому. Если бы я не была убеждена, что приношу пользу Фикельмону <…> я бы уехала, чтобы не предполагали, что мое влияние может внушить ему пристрастие к России. Это стесняет меня в повседневной жизни, я едва решаюсь видеться со здешними русскими, настолько у меня велика боязнь ему навредить» (22 апреля).
В длинном письме от 4 мая Дарья Федоровна подробно рассказывает о том, как вечером и ночью 2.V.1848 года делегации революционно настроенных студентов являлись к Фикельмону на дом, требуя его отставки, а под окнами бушевала толпа молодежи, распевая оскорбительную для графа песню. На следующий день Фикельмон вручил императору прошение об отставке. 8 мая Долли сообщает, что причиной, побудившей ее мужа принять это решение, были не крики студентов, а полная инертность властей и национальной гвардии, оставивших председателя правительства один на один со студентами с девяти часов вечера до двух часов ночи. Войска он заранее запретил вызывать во избежание кровопролития.
Можно думать, что перепуганная администрация и руководители буржуазной национальной гвардии были рады отделаться от неприемлемого для оппозиционных кругов русофила.
Во время событий 1848 года Дарье Федоровне, прежде чем вернуться к мужу в Вену, пришлось перенести немало волнений и неприятностей – в особенности в Венеции, где ее дважды арестовывала гражданская гвардия. В конце концов она с трудом выбралась из города вместе с дочерью, зятем и внучатами на английском военном корабле.
Граф Фикельмон к политической деятельности больше не возвращался. Энергичный и бодрый старик всецело отдается своим литературным работам, которыми занимался и прежде. О содержании его книг, неизменно благожелательных к России, я уже говорил. Написаны они несколько старомодным (и для того времени) языком, но читаются легко.
В начале 1855 года Фикельмоны пополам с князем Кляри покупают дворец в Венеции (palazzo Clary и поныне принадлежит потомкам теплицкого магната). Поселяются там вместе с зятем, дочерью и внучатами.
Граф Шарль-Луи скончался в Венеции 6 апреля 1857 года восьмидесяти лет от роду. Дарья Федоровна, рано начавшая болеть, ненадолго пережила мужа. Она умерла в Вене 10 апреля 1863 года, несколькими месяцами раньше Н. Н. Пушкиной-Ланской.
V
Я набросал только схему не очень долгой (59 лет) жизни Долли, причем остановился главным образом на годах ее молодости и том времени, когда ее знал Пушкин. В начале их знакомства Долли 25 лет, в пору дуэльной драмы – 32. Сейчас этот интервал – взрослая молодость, в эпоху Пушкина – возраст уже немолодой. Нам нелегко себе это представить, но так было…
Как мы видели, жизнь Долли внешними событиями не богата. Только революция 1848 года ненадолго прервала ее размеренный, на вид спокойный ход.
Схема жизни Фикельмона – сына эмигранта, воина, дипломата, государственного деятеля, писателя гораздо сложнее, но сколько-нибудь подробное изложение ее в мою задачу не входит.
Шарль-Луи Фикельмон для нас интересен главным образом как муж Долли и близкий знакомый Пушкина.
П. И. Бартенев, знавший многих современников Фикельмона, пишет: «В нем не было ни немецкой тяжеловесности, ни себе-наумелого французского легкомыслия. Подобно графу С. Р. Воронцову, считал он, что лукавство вовсе не надежное орудие дипломата, который больше выиграет в делах своих, коль скоро успеет снискать уважение в обществе качествами ума и сердца своего. Фикельмона полюбили в Петербурге, и мы уверены, что Пушкин, обворожавший его супругу, находил большое удовольствие в беседе с ним, человеком многосторонним и даровитым»[135].
Присмотримся теперь ближе к облику Дарьи Федоровны Фикельмон. Новые источники позволяют сейчас восстановить его многим полнее, чем он был известен раньше.
В первом приближении этот облик определяется одним словом – очарование. Очарование внешнее, очарование духовное – на этом сходятся все, при ее жизни и после смерти.
О внешности Фикельмон свидетельств немало, но, к сожалению, никто не описал ее подробно. Можно быть, однако, уверенным в том, что некий генерал Эссен без зазрения совести польстил Кутузову, уверяя старого полководца, что маленькая Даша очень на него похожа. И в детстве и в ранней юности она была уже красавицей удивительной. Граф М. Д. Бутурлин, впервые встретивший Долли во Флоренции, вспоминает, что «молодые графини Екатерина и Дарья (Долли) Федоровны Тизенгаузен только что начинали выезжать в свет и были во всем блеске красоты; но особенно поражала даже меня, десятилетнего мальчугана, пятнадцатилетняя графиня Дарья Федоровна» (в действительности Долли тогда было всего тринадцать).
Точно так же молодой князь Д. И. Долгоруков, видевший супругу австрийского посланника в Неаполе в 1822 году, пишет отцу из Рима: «… г-жа Фикельмон прекрасна, ее сестра очень хороша собой…». Появление восемнадцати-девятнадцатилетней Долли в петербургском и московском обществе в 1823 году производит, видимо, очень сильное впечатление. Будущий декабрист А. А. Бестужев сообщает матери из Петербурга 3 сентября этого года, что на Петергофском празднике «первая красавица была графиня Фикельмон, дочь Хитровой и внучка Кутузова – в самом деле прекрасная женщина»[136].
В свою очередь, П. В. Вяземский пишет А. И. Тургеневу из Москвы: «И нашу старушку вскружила Фикельмон. Все бегают за ней; в саду дамы и мужчины толпятся вокруг нее; Голицын празднует. Впрочем, она в обращении очень мила»[137]. Впоследствии, в 1831 году, О. С. Павлищева, сестра Пушкина, считает, что Фикельмон не менее красива, чем ее невестка Наталья Николаевна[138], а Вяземский в письмах к А. И. Тургеневу обычно называет графиню «австрийской красавицей».
Эпитет «красавица» неотделим от имени Долли Фикельмон, причем красота ее, как кажется, была ласковой, чарующей.
Вероятно, не раз Долли писали и рисовали знавшие ее художники. Может быть, где-то хранятся и ее скульптурные изображения. Долгое время, однако, не было известно ни одного портрета Дарьи Федоровны. За последние десятилетия и в Советском Союзе и за рубежом их обнаружено несколько, но, насколько я знаю, вплоть до 1930 года был опубликован лишь набросок Пушкина, определенный А. М. Эфросом[139]. По его мнению, этот рисунок следует датировать концом 1832 или началом 1833 года[140]. Он был сделан Пушкиным на полях черновика, использованного затем в «Медном всаднике».
На первый взгляд рисунок несколько разочаровывает. Он может показаться, как сейчас принято называть, «дружеским шаржем». А. Эфрос справедливо замечал:
«Рисунки (Пушкина) отличаются тем особым, почти утрированным сходством, которое подводит все пушкинские наброски к схематизму, очень часто достигает границ карикатуры и нередко переступает их». Сравнивая этот набросок портрета с акварелью неизвестного художника (несомненно, малоодаренного любителя), которая послужила автору для идентификации рисунка поэта, А. Эфрос, однако, говорит: «Пушкин же, свободно изобразив резкую удлиненность профиля, крупный изогнутый нос <…> в то же время сумел передать то, что его модель была красавицей, одной из прекраснейших женщин петербургского общества 1830-х годов
Акварель, использованная А. Эфросом и, несомненно, изображающая Д. Ф. Фикельмон, впервые была экспонирована на юбилейной выставке 1937 года в Москве. В настоящее время она хранится в фондах Всесоюзного музея А. С. Пушкина. По словам того же А. Эфроса, в ней «сказывается откровенный дилетантизм; это – домашняя копия более художественного оригинала, пока не обнаруженного и где-то залежавшегося или пропавшего; поэтому копиист хотя старательно воспроизводит в акварели типичность черт, однако не справился с их характерной прелестью».
С разрешения покойного ныне профессора А. В. Флоровского я опубликовал в 1965 году фотокопию с портрета (акварель, белила) работы английского художника Т. Уинса (T. Wins, 1782–1857), исполненного в Неаполе в 1826 году. Этот портрет был обнаружен в Вене у букиниста Яковлевым и позднее принесен им в дар Всесоюзному музею А. С. Пушкина. В настоящее время портрет находится в экспозиции в г. Пушкине. Графине 21–22 года, но выглядит она старше. Красота у нее сочетается с величавой наружностью дамы большого света. Пушкин познакомился с Долли Фикельмон, когда она была несколько старше; Александр I знал ее совсем молодой.
Сильвия Островская[141], не раз уже оказывавшая мне очень ценные литературные услуги, предоставила в мое распоряжение фотокопию, которую она случайно приобрела в Праге. По мнению художников, снимок сделан с акварели. Она изображает трех молодых красивых женщин, очень похожих между собой.
Предоставляем теперь слово Сильвии Островской, которая охотно и почти правильно пишет по-русски: «Пожалуйста, примите, как маленький сувенир копию одной старой фотографии, которую случайно купила с одной книгой в антиквариате. Когда в 1962 году в Ленинграде увидела в квартире Пушкина малый портрет графини – стало ясно, что незнакомая на фото – это она. Предполагаю, что эти двое – Екатерина Тизенгаузен и Адель Штакельберг <…> Почти забыла написать – у Долли на лбу диадема (первая направо)», – письмо из Праги от 6 апреля 1967 года.
По мнению С. Островской, средняя из «трех красавиц», как их называет исследовательница, – это сестра Долли, Е. Ф. Тизенгаузен, слева от нее – их любимая кузина, Адель (Аделаида) Павловна Штакельберг, урожденная Тизенгаузен.
Т. Г. Цявловская, ознакомившись со снимком, разрешила мне упомянуть о том, что, по ее мнению, атрибуция С. Островской в отношении Д. Ф. Фикельмон правильна. Действительно, на предполагаемом ее портрете мы видим те же характерные особенности лица, которые выявили у Дарьи Федоровны Пушкин, Уинс и неизвестный художник-копиист.
Сбоку снимка ясно читается подпись: «Е. Peter 1832».
Находка С. Островской представляет несомненный интерес – датированный портрет Фикельмон относится ко времени ее близкого знакомства с Пушкиным. Кроме того, мы, возможно, получаем представление о внешности А. П. Штакельберг за год до ее ранней смерти. 29 ноября 1833 года Пушкин отметил в своем дневнике: «Молодая графиня Штакельберг (урожд. Тизенгаузен) умерла в родах. Траур у Хитровой и у Фикельмон». Если предположение Островской верно, то мы знакомимся и с двадцатидевятилетней фрейлиной Е. Ф. Тизенгаузен. Другой ее портрет экспонировался на юбилейной выставке 1937 года.
В отношении правильности атрибуции этой работы Е. Петеру (1799–1873) возникает, однако, существенное затруднение. Искусствовед А. Н. Савинов (Ленинград) сообщил мне, что, по наведенным им справкам, художник Е. Peter в 1832 году в Россию не приезжал. С другой стороны, известно, что Д. Ф. Фикельмон в этом году не ездила за границу. Тем не менее возможно, что очень модному тогда венскому миниатюристу были посланы из Петербурга какие-либо портреты Дарьи Федоровны, ее сестры и кузины, пользуясь которыми художник и скомпоновал заочно свою изящную группу. Местонахождение оригинала неизвестно.
Сильвия Островская обогатила иконографию Д. Ф. Фикельмон еще одной находкой. В Дечинском архиве она обнаружила и опубликовала в своей краткой статье[142] небольшую фотографию графини. Этот портрет, помещенный в многотиражном журнале, для репродукции не годится. С. Островская прислала мне, однако, очень хорошую фотокопию найденного ею портрета.
Пожилой женщине на вид пятьдесят с лишним лет. Она, по-видимому, в трауре, – возможно, по мужу, скончавшемуся, как мы знаем, в 1857 году, когда Дарье Федоровне было 52 года. Хотя снимку более ста лет, но он, видимо, сделан очень хорошим по тому времени фотографом. Впервые мы ясно видим близкое к старости, но все еще прекрасное, умное лицо той, которой любовались современники Пушкина. Не портит его ни крупный нос, должно быть, унаследованный от отца, ни довольно большой, но красивый рот.
Итак, мы теперь до некоторой степени знаем, какова была внешность Долли Фикельмон. Надо, однако, сказать, что молодой мы видим ее пока неясно. Даже лучшие, на мой взгляд, изображения – прелестный, но очень схематичный рисунок Пушкина и портрет Уинса – лишь отчасти передают необыкновенную красоту Долли. Не производит впечатления и профессионально искусная, но какая-то бездушная акварель Е. Петера. Характерно, что лица, которым я показал найденный С. Островской групповой портрет, единодушно находят, что старшая сестра кажется красивее младшей. Современники «трех красавиц» столь же единодушно отдавали предпочтение Долли.
В конце тридцатых годов в Праге мне удалось увидеть в обширном собрании художника Николая Васильевича Зарецкого, страстного и удачливого коллекционера, несколько экземпляров очень хорошей литографии с портрета Д. Ф. Фикельмон кисти венского художника, фамилию которого я, к сожалению, не помню.
Пожилая женщина, лет сорока пяти. По общему облику похожа на мать, совсем не отличавшуюся красотой, но все черты Елизаветы Михайловны как бы исправлены и облагорожены художницей-природой. Долли Фикельмон – брюнетка с необыкновенно красивыми бархатистыми глазами. Прекрасные волосы, очень открытые по моде того времени плечи. Умный, серьезный и в то же время оживленный взгляд. Глядя на эту литографию, понимаешь, почему двадцатью годами раньше Дарья Федоровна считалась одной из самых красивых женщин николаевского Петербурга.
Упомянем еще о том, что на надгробной стеле Елизаветы Михайловны итальянский скульптор, несомненно, изобразил ее скорбящих дочерей. Коленопреклоненная, очень стройная фигура справа – вероятно, Долли, более полная молодая женщина, простирающая руки к изображению матери, – ее старшая сестра. Ваятель, можно думать, верно передал общий облик обеих, но портретного сходства я не вижу.
Иконография Д. Ф. Фикельмон, как мы видели, бедна – мы не знаем пока ни одного ее портрета работы первоклассного художника. Что касается графа Шарля-Луи, то я должен еще раз и, как всегда, с благодарностью упомянуть имя моей пражской корреспондентки, все той же Сильвии Островской, которая прислала мне репродукцию портрета Фикельмона, помещенную в книге Иозефа Полишенского[143]. Подлинник портрета находится в данное время в художественной галерее г. Теплица*. По-видимому, чешскому автору не удалось разыскать более ранних изображений графа – в 1820 году генерал-майору Фикельмону было всего 43 года, а на портрете мы видим старика лет семидесяти с лишними*. У него умное, добродушное лицо, но фельдмаршал-лейтенант, несмотря на сохранившуюся военную выправку, выглядит хилым, болезненным человеком. Таким он, видимо, и был в старости, даже не очень глубокой. 1 июля 1845 года Дарья Федоровна пишет В. А. Жуковскому из Карлсбада: «На днях я говорила о вас с Фикельмоном, которого вы видели, – для мужчины у него очень болезненный вид <…>»[144]. Графу в это время 68 лет, его жене – 41.
В Москве на юбилейной выставке 1937 года была экспонирована литография Вагнера с какого-то портрета Фикельмона[145]. Ознакомиться с ней мне не удалось.
Хотя у нас нет пока хорошего портрета Дарьи Федоровны Фикельмон, но ее очаровательная красота сомнению не подлежит.
Не меньше очарования и в ее духовном облике. Этому очарованию поддавались почти все, кто был с ней знаком. Об этом говорит и самый ранний известный нам документ о жизни графини Долли – письмо ее жениха генерала Фикельмона к бабушке невесты, Е. И. Кутузовой, которое я уже цитировал.
П. А. Вяземский и А. И. Тургенев, близкие друзья Фикельмон, в своих письмах не раз вспоминают Долли. Надо сказать, что их огромная переписка очень интимна. Об общей своей приятельнице, не в меру восторженной Е. М. Хитрово, они порой отзываются язвительно и довольно-таки резко. Но как только речь заходит о ее дочери Долли, эти уже немолодые, много видевшие люди пишут тепло, задушевно, а более чувствительный Тургенев даже восторженно. 28 июля 1833 года он обращается к Вяземскому из Женевы[146]: «Неужели я не писал из Рима и не благодарил милую посолыпу за письма в Неаполь? Жаль, что теперь поздно! Но ты объясни, как я мог – не забыть об этом, а пропустить случай сказать ей все, что она зажгла в душе моей и своими глазами, и своими умными разговорами, и поэтическими строками в письме о поэтической Италии. Как ее все помнят и любят в Неаполе! Как она к лицу этому земному раю! Там бы взглянуть на нее! В цветниках виллы Reale[147], при плеске волн Соррентских! У грота Виргилия!..»
«Милая красавица посольша», «прекрасная посольша», «милая посольша» – Тургенев с глазу на глаз с Вяземским не перестает повторять ласковые слова об общем их петербургском друге.
Всех восторженнее отзывается о графине разбитый параличом слепец-поэт И. И. Козлов, никогда ее воочию не видевший, но очарованный ее лаской и добротой. Для него она та, «кто, взору и сердцу на радость, улыбкою небес дана».
Попытаемся проверить отзывы друзей по дневнику Долли Фикельмон, первую часть которого мы теперь знаем почти полностью, а вторую – по выдержкам, приведенным А. В. Флоровским. Используем и ее многочисленные письма к сестре, когда-то опубликованные в Париже. Последними, конечно, надо пользоваться с осторожностью. Нас интересует прежде всего та Долли Фикельмон, которую знал Пушкин, а переписка с сестрой относится ко временам послепушкинским (1840–1854 годы). Однако в Петербург Долли приехала уже вполне сложившимся человеком. В своей основе ее душевный строй, особенно в первые годы после смерти поэта, несомненно, оставался тем же, что был раньше[148].
В петербургском дневнике очень много жизнерадостной светской болтовни, в письмах меньше радости (и чем дальше, тем меньше), но великосветских новостей, для нас сейчас неинтересных, тоже много. Однако не в рассказах о бесконечных развлечениях большого света ценность и прелесть записок Долли. Можно эти рассказы выпустить почти целиком, а то, что останется – характеристики людей и событий, отзывы о виденном и прочитанном, вдумчивые размышления о государственных делах, – позволят нам яснее себе представить Дарью Федоровну Фикельмон.
Графиня Долли, несомненно, добра и отзывчива. В письмах, вообще более содержательных, чем дневниковые записи, это особенно чувствуется. Дневник – прежде всего светская хроника, письма – задушевная беседа с любимой сестрой. Нечего и говорить о том, что своих близких она любит самоотверженно и сильно. Порой ей даже кажется, что в этой любви есть нечто греховное. Любит, но страшится вечной разлуки – «это приковывает меня к земле…»[149] – пишет она сестре 11.IV.1851 года.
Всю жизнь Долли Фикельмон старалась быть полезной людям, с которыми встречалась. Постоянно она за кого-нибудь хлопочет, то и дело просит сестру помочь – то новому австрийскому послу, незнакомому с петербургскими светскими обычаями, то испанскому генералу, то русской девице, просрочившей заграничный паспорт. В Милане во время революции 1848 года, оставшись одна, ухаживает вместе с хирургом за смертельно раненным поваром-французом. Знакомых у нее множество. У них неудачные увлечения, неудачные браки, болезни, смерти близких – обо всем этом Долли неизменно пишет в Петербург и для всех находит участливое слово. Нередко переживает чужое горе как свое собственное. Она грустит не только о случившихся несчастьях, но и о тех, которые могут произойти. Особенно тревожится за судьбу талантливых людей. Она, например, с восторгом слушает девочек-скрипачек Миланолло, но старшей из них пророчит близкую смерть. Графине кажется, что «ее игра и ее лицо <…> не предназначены к тому, чтобы долго оставаться на земле» (26. V. 1843). Впрочем, предчувствие Дарьи Федоровны не оправдалось: старшая Миланолло прожила долго, а младшая, судьба которой, казалось ей, должна была быть безмятежной, умерла шестнадцати лет.
Итак, доброта Фикельмон и ее любовь к людям несомненны, но надо сказать, что они обращены почти всегда лишь на своих – титулованных, знатных, хорошо воспитанных людей большого света. Только для больших артисток она зачастую делает исключение; вообще же в свой узкий круг Дарья Федоровна замыкается вполне сознательно.
Дарья Федоровна порой грубо ошибалась, но ум у нее все же, несомненно, был выдающимся. Не надо забывать, что такие почитатели ее, как Вяземский и Тургенев, – люди большой культуры и широкого ума, и идти с ними вровень в духовном отношении молодой женщине было не так-то просто. Хранитель пушкинской традиции П. И. Бартенев, лично знавший многих современников и друзей Фикельмон, издавна считал ее женщиной «отменного ума»[150]. Этот ум, несомненно, углублялся и зрел с годами. Автор писем, особенно поздних, мудрее и грустнее той Долли Фикельмон, которая писала петербургский дневник и которую знал Пушкин, но основные качества ее интеллекта, конечно, остались те же.
Была умна и ее мать, дочь умнейшего Кутузова, но ум у нее довольно беспорядочный. У Дарьи Федоровны он строен, точен, организован. «Мой логический ум», – говорит она сама о себе, и нельзя с ней в этом отношении не согласиться. Всегда ясна ее мысль (верная или ошибочная – другой вопрос), стройны и точны многочисленные и длинные рассуждения о политических, исторических, литературных и иных вопросах. То же самое надо сказать и о ее отлично построенных французских фразах (пражские и венские корректоры журналов местами их порядком исковеркали). Словоупотребление у Фикельмон не всегда правильное – сказывается влияние немецкого и итальянского языков, но писать она все же мастер, и следить за ходом ее мысли легко.
Самая сильная и своеобразная сторона ее мышления – это способность до некоторой степени предугадывать будущее. Недаром в свое время австрийская императрица прозвала совсем юную девушку «Сивиллой флорентийской». Она думала, несомненно, о вещих девах, которым древние греки и римляне приписывали дар прорицания.
Ничего сверхъестественного в Долли Фикельмон, конечно, не было. Была та удивительная интуиция, которая зачастую позволяет большим шахматистам, всмотревшись в расположение фигур, предвидеть исход партии тогда, когда для игроков послабее он еще совсем неясен.
Конечно, многолетнее общение с мужем, опытным и умным дипломатом, очень помогло ей в этом отношении. В политике Долли Фикельмон, в общем, внимательная ученица и последовательница своего мужа. Данные, которые приводит Н. Каухчишвили, не оставляют сомнений в том, что, выйдя замуж очень юной, она много и добросовестно работала над собой. Изучив многочисленные письма Долли к мужу, хранящиеся в Дечине и в печати неизвестные, исследовательница замечает: «В Неаполе происходит медленное превращение характера Долли. Девушка, подготовленная к тому, чтобы занять очень видное положение в высшем обществе, была еще мало знакома с проблемами своего времени. Под руководством мужа, человека выдающегося ума, ей удается расширить свой духовный кругозор и за сравнительно короткое время, в молодом еще возрасте, достигнуть полной зрелости»[151].
Вместе с тем, при всем своем восхищении духовным богатством мужа, Долли Фикельмон сохраняет все же известную самостоятельность мысли и в политических, и в философских, и, в особенности, в литературных вопросах. Было бы ошибкой считать, что Долли – лишь интеллектуальная тень умного мужа. Однако самостоятельность политического мышления, так сказать, проявляется у нее в более зрелые годы. В Петербурге супруга посла, по-видимому, мыслит и оценивает мир в полном согласии с мужем. Н. Каухчишвили, изучавшая в Вене донесения Фикельмона Меттерниху, пишет: «Сравнивая страницы дневника с дипломатическими донесениями Фикельмона, поражаешься сходству, существовавшему между супругами: их оценки людей и событий почти совпадают»[152]. Впоследствии, в заграничных письмах к сестре, Долли, насколько можно судить, высказывает нередко взгляды более самостоятельные. Самостоятельны и многие ее предвидения. Она предугадала, например, австро-прусскую войну 1866 года и франко-прусскую 1870 года, которые разыгрались уже после ее смерти.
И в молодые еще годы у «красавицы посольши», несомненно, были серьезные духовные интересы. В дневнике они чувствуются не часто – говорить сама с собой о «материях важных и высоких» Фикельмон, видимо, не любила. 18.XII. 1830 она отмечает: «Я почти не пишу дневника. В обществе все так печально, что нечего о нем сказать, а я вовсе не хочу создавать здесь сборник размышлений <…>».
Надо, однако, сказать, что размышлений, порой серьезных и глубоких, в дневнике все же немало. Тем не менее графиня, несомненно, предпочитала обсуждать серьезные вопросы в письмах и главным образом в дружеской беседе. К сожалению, лишь очень немногие из ее собеседников упомянули об этих разговорах, касавшихся вопросов, которые волновали в то время русское и европейское общество.
Одним из вопросов такого рода было «дело Чаадаева». В 1836 году близкий друг Пушкина, отставной гусарский офицер Петр Яковлевич Чаадаев, смелый и оригинальный философ, напечатал в журнале «Телескоп» отрывок из своего первого «Философического письма», должно быть, по недоразумению пропущенный цензурой[153]. В нем автор в крайне пессимистическом тоне говорил об истории России и ее участии в духовной жизни человечества. Письмо, за которое автор, по приказанию царя, был объявлен душевнобольным, вызвало большие споры среди русских образованных людей. Граф Фикельмон в донесении канцлеру Меттерниху от 7 (19) ноября 1836 года сообщает, что, по мнению Чаадаева, все беды России следует приписать «гибельному решению заимствовать религию и цивилизацию из Византии, падавшей от гнилости, вместо того чтобы примкнуть к римской церкви, которая так высоко вознесла цивилизацию на всем Западе». Посол считает, что это письмо «упало, как бомба, посреди русского тщеславия и тех начал религиозного и политического первенствования, к которым весьма склонны в столице»[154].
Из дневника А. И. Тургенева мы узнаем, что 6 декабря 1836 года он, будучи у Фикельмон, много говорил с ней и ее мужем о Чаадаеве[155]. Дарья Федоровна, как и граф Шарль-Луи, вероятно, ознакомилась с содержанием знаменитого письма по французскому тексту, опубликованному, как сообщает Н. Каухчишвили, еще в 1830 году[156]. Долли едва ли разделяла мнение своего мужа, который соглашался с утверждением Чаадаева о пагубной роли византийского христианства в истории России, так как она все же до конца жизни оставалась православной. Точнее ее взглядов на историко-философскую концепцию Чаадаева мы не знаем. Еще одна дневниковая запись А. И. Тургенева (27 ноября 1836) показывает, что разговоры о Чаадаеве велись в салоне Фикельмон в течение ряда дней.
8 января 1837 года Тургенев послал Дарье Федоровне какое-то сочинение Ламеннэ – бывшего главы французских неокатоликов (в 1834 году он порвал с церковью). Консерваторы во Франции считали этого христианского социалиста революционером-якобинцем. Как мы увидим, идеями Ламеннэ Фикельмон интересовалась издавна[157].
Я уже упомянул о том, что почти все опубликованные до сих пор письма Дарьи Федоровны относятся к послепушкинскому времени, когда ей было 36–50 лет. Однако и в пору знакомства с поэтом, в 25–32 года, ее взгляды и интересы уже вполне сложились. Надо думать, например, что, как и впоследствии, она много и внимательно читала французскую историческую литературу своего времени. Особенно интересовала ее история революций и причины их возникновения. Следует сказать, что у нее, убежденного консерватора, все же было, говоря современным языком, сильно развито сознание необратимости исторических процессов: «…нельзя остановить потока; что может сделать один человек против духа своего времени?» – писала она 14 июня 1848 года.
О широте ее духовных интересов отчасти можно судить и по довольно скудным в этом отношении дневниковым записям. Поговорив в Дерптском университете со знаменитым астрономом Струве, она замечает, например: «Если бы я стала ученой, то непременно стала бы астрономом». Фикельмон объясняет и причину своего выбора: эта наука «должна быть наиболее отрешенной от земли»[158]. Записывает она и свои впечатления от речи Гумбольдта на заседании, устроенном в честь знаменитого ученого Российской Академии наук 11 ноября 1829 года. В речи президента Академии наук С. С. Уварова ее удивила высокопарная фраза: «…войдите, боги здесь. Да, боги разума и мысли повсюду те же». Она отмечает скромность Гумбольдта, который в заключительной речи, «довольно длинной, но очень интересной», подчеркнул заслуги своих спутников по русскому путешествию, профессора Эренберга и Розе. «Все, что он сказал о России, было поучительно, интересно и могло бы стать полезным».
В этот же день Гумбольдт обедал в австрийском посольстве.
Можно быть уверенным в том, что Долли Фикельмон не робела, беседуя с великим ученым. Естествознания она, как кажется, не изучала, но, помимо природного ума, обладала ко времени приезда в Петербург постепенно накопленными серьезными познаниями в истории, международной политике, литературе.
Есть основание думать, что Дарья Федоровна была несколько знакома и с философией. После смерти мужа она, как свидетельствует Барант, «переписала и собрала» заметки мужа по разным вопросам, зачастую набросанные карандашом[159]. Возможно, что Барант не только составил биографический очерк Фикельмона, но и окончательно отредактировал эти записи. Однако, если бы Долли не разбиралась в их содержании, она не смогла бы выполнить своей части работы – в конце жизни у Фикельмона почерк был крайне неразборчивый. Между тем второй раздел книги целиком посвящен философии (о системе Гельвеция, об эклектизме и т. д.). Что касается религиозно-философских вопросов, то петербургский дневник, несомненно, свидетельствует о том, что в духовной жизни Дарьи Федоровны они занимали большое место.
VI
Да, очень незаурядным человеком была Долли Фикельмон, но не будем чересчур отяжелять умными разговорами и умными книгами прелестный образ «посланницы богов – посланницы австрийской», как назвал ее Вяземский. Она была, конечно, много умнее и образованнее большинства дам петербургского большого света, но никак нельзя применить к ней пушкинские стихи:
Не дай мне бог сойтись на бале Иль при разъезде на крыльце С семинаристом в желтой шале Иль с академиком в чепце!Несмотря на грустный порой строй мыслей, характер у Фикельмон – особенно в молодости – был очень жизнерадостный. Веселиться она любила и умела.
В тридцатых годах светская жизнь в Петербурге была очень интенсивной. Читая мемуары и дневники современников, порой удивляешься, как только у них хватало сил ездить без конца на балы, рауты, приемы, а днем еще делать бесчисленные визиты. Только в 1831 году уход всей гвардии на польскую войну и, в особенности, холерная волна, докатившаяся до столицы в половине июня этого года, на много месяцев прервали светские развлечения. Наконец, 6 октября на Марсовом поле было отслужено «благодарственное молебствие» по случаю окончания войны в Польше. В конце октября балы возобновились.
Само собой разумеется, что в развлечениях высшего общества дипломатический корпус принимал участие. Знатные русские семьи (правда, не все) издавна любили принимать иностранцев. Нередки были и официальные приемы и балы во дворцах у царя и великих князей. Австрийского посла с женой приглашали и на интимные вечера царской семьи. Это считалось большой честью, и ее удостаивались очень немногие дипломаты.
Долли с несомненным интересом относилась к светским визитам, пока не начала страдать постоянными жестокими головными болями. За границей, когда ее заболевание утихло, Дарья Федоровна снова надолго оказалась, подобно Александре Осиповне Смирновой-Россет, «в тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора» – на этот раз австрийского. В поздних письмах Фикельмон, как и в петербургском дневнике, светская жизнь занимает, на мой взгляд, утомительно много места. Как проходил венецианский закат жизни графини, мы не знаем…
В Петербурге больше всего балов бывало на святках[160] и на масленице. Опубликованная часть дневника Долли позволяет установить некоторые цифры «бальной статистики». Возьмем для примера 1830 год, когда светскую жизнь ничто не нарушало. С 11 января по 16 февраля (36 дней) Фикельмон упоминает о 15 балах, на которых она присутствовала. Раньше трех часов ночи они не кончались, а некоторые продолжались и до шестого часа утра. Танцевали, можно сказать, не щадя сил. Сохранилось, например, письмо фрейлины Анны Сергеевны Шереметевой[161], в котором она сообщает, что на балу в министерстве уделов 5 марта 1834 года танцевали следующие танцы: 2 мазурки, 3 вальса, 12 кадрилей (!), 1 галоп, 1 «буря», 1 попурри, 1 гросфатер (всего 21 танец).
В дневнике, опубликованная часть которого, не забудем, охватывает всего два с половиной года, графиня Фикельмон описывает множество балов, но большинство этих описаний для нас сейчас неинтересно. Остановимся все же на нескольких – ведь на таких же балах, порой весьма скучных, порой веселых и оживленных, по двойной своей обязанности – мужа прелестной жены и камер-юнкера двора его величества – бывал несколько позднее и Пушкин. Для одного из них он, как известно, написал своего «Циклопа», короткое стихотворение, которое графиня Екатерина Тизенгаузен продекламировала в Аничковом дворце у великой княгини Елены Павловны 4 января 1830 года[162]. Сам поэт там не был, не была из-за австрийского придворного траура и Фикельмон. Очевидно, со слов сестры она так описывает 8 января это довольно странное действо, в котором пришлось принять участие и И. А. Крылову, изображавшему музу Талию: «Здесь принц Альберт Прусский, младший сын короля[163] <…> Несколько дней тому назад был устроен для императрицы сюрприз, который очень удался, – это был род шуточного маскарада; весь Олимп в карикатуре, женщины представляли богов, мужчины – богинь. Граф Лаваль, старый, замечательно безобразный и сильно подслеповатый[164], был Грацией вместе с Анатолием Демидовым и Никитой Волконским. Станислав Потоцкий, громадного роста и ширины, изображал Диану; князь Юсупов, весьма некрасивый, фигурировал в качестве Венеры. Женщины все были хорошенькие: Екатерина в виде Циклопа, Аннет Толстая – Нептуна, обе очаровательные. Великая княгиня в виде Урании танцевала менуэт с Моденом – Большой Медведицей[165]. Я видела многие костюмы у Модена, где собирались участвовавшие».
Иногда на балах разыгрывались целые сцены, требовавшие сложной подготовки. Такие репетиции, вероятно, проходили весело.
4 февраля 1830 года Долли записывает: «Утром я была у императрицы по поводу приготовления костюмов для костюмированного бала 14. Она хотела, чтобы я участвовала в ее кадрили, заимствованной из оперы Фердинанд Кортец»[166].
Этот бал у министра двора князя П. М. Волконского состоялся через десять дней – 14 февраля. Сначала выступило полтора десятка «розовых и белых летучих мышей» в масках – в том числе императрица и графиня Фикельмон. Затем в одном из салонов собрались все участники оперной кадрили, надо думать, тщательно разученной. Подождав, пока «мыши» с императрицей во главе переодевались, они торжественным кортежем вошли в зал: Монтезума – обер-церемониймейстер граф Станислав Потоцкий, его дочь – императрица, Фердинанд Кортец – принц Альберт и т. д. и т. д. Замыкали процессию жрицы Солнца, среди них – Долли, ее сестра и пятнадцатилетняя москвичка Ольга Булгакова, которая в этот вечер необычайно понравилась царю. Николай I велел ей снять маску; девочку отправили домой переодеться, и затем император и один из великих князей с ней танцевали.
Дарья Федоровна по этому поводу замечает: «Здесь контрасты во всем, но контрасты столь поразительные, что иногда действительно не знаешь, не грезишь ли ты. Наряду с этикетом и чопорностью порой видишь такую большую, такую полную непринужденность и такой моментальный эффект, что ничего нельзя предусмотреть. Это царство молодости и первых импульсов».
Как видим, Дарья Федоровна Фикельмон в 1830 году далеко не та увлекающаяся юная супруга австрийского посла, какой она была семь лет тому назад.
Прошло еще три года. Масленица 1833 года. Все по-прежнему, все то же самое. П. А. Вяземский пишет А. И. Тургеневу: «… вот и блинная неделя, и мы с бала на бал катимся как по маслу»[167].
6 февраля в австрийском посольстве состоялся бал, на котором присутствовала царская фамилия. Два дня спустя графиня на маскараде все у того же министра двора князя П. М. Волконского танцевала вместе с другими дамами кадриль в костюмах XVIII века. На следующий день, 9 февраля, К. Я.Булгаков сообщает брату: «Как тебе описать вчерашний праздник? Я право не знаю; но ты возьми «Тысячу и одну ночь», прочитай «la lampe merveilleuse»[168], и что там описано, так сказать, во сне, то мы видели у князя Волконского наяву»[169]. П. А. Вяземский пишет тому же адресату (А. Я. Булгакову) проще, но выразительнее: «Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный, томительный, продолжительный <…> Старофранцузский кадриль графини Фикельмон был также очень хорош, совершенно в духе того времени, и мог дать понятие, как деды влюблялись в наших бабушек с пудрою, мушками, фижмами и проч. Очень хороши были в этом кадриле сама графиня Долли и Толстая, фрейлина великой княгини. Бал продолжался до шестого часа <…>»[170].
Маскарады, где можно вволю посмеяться, пофлиртовать, поинтриговать знакомых и незнакомых, Долли Фикельмон особенно любила, как любили их и многие другие. Однако в «свете» все друг друга знали, постоянно встречались и, несмотря на всяческие ухищрения – измененные жесты, умение говорить не своим голосом, на что Дарья Федоровна была, видимо, большая мастерица, ее не раз узнавали, и светский маскарад сразу становился неинтересным. Хотелось чего-то нового.
Такой новостью явились собрания в «Филармоническом зале» дома Энгельгардта на Невском проспекте. Приятель Пушкина, бывший член общества «Зеленая лампа», близкого к декабристам, Василий Васильевич Энгельгардт приобрел это здание в 1828 году и после капитальной перестройки превратил бывший растреллиевский дворец в доходный дом. Отставной гвардии полковник оказался удачливым дельцом. В нижнем этаже его дома помещалось несколько магазинов, в следующих трех – дорогие квартиры, а в большом зале[171] и смежных апартаментах устраивались общественные балы, маскарады, концерты.
«Северная пчела» описывает первый такой маскарад 5 февраля 1830 года в выражениях весьма восторженных: «Вот храм вкуса, храм великолепия открыт для публики. Все, что выдумала роскошь, все, что изобрела утонченность общежития, соединилось здесь. Тысячи свеч горят в богатых бронзовых люстрах и отражаются в зеркалах, в мраморах и паркетах; отличная музыка гремит в обширных залах…»[172]
Обстановка, как мы видим, далеко не демократическая, но все же эти «народные» маскарады были доступны для каждого, кто мог заплатить за вход, и церемонностью не отличались. В то же время Долли записывает 13 февраля того же 1830 года: «Эти маскарады в моде, потому что там бывает император и великий князь, а дамы общества решились являться туда замаскированными».
Долли, видимо, увлекло это необычное развлечение. Первый ее опыт был, впрочем, неудачен. Явилась замаскированной в зал с матерью, сестрой Екатериной и Аннет Толстой, начала успешно интриговать, но императрица, сидевшая в ложе, послала за посольшей, царь привел к ней Долли под руку, и инкогнито было нарушено.
15 февраля опять запись о маскараде в доме Энгельгардта. Фикельмон поговорила, не будучи узнанной, с царем и с великим князем. Уверяет, что с ней, как с незнакомой, любезничал и собственный муж, но мы позволим себе в этом усомниться. Вероятно, граф Шарль-Луи просто хотел позабавить жену, прикинувшись введенным в заблуждение.
Хотя графине уже 25 лет, но молодости в ней еще много, очень много, и по-прежнему она склонна к довольно-таки озорным эскападам. 23 февраля того же года, встретившись со знакомой, которую не видела со времени своей свадьбы, посольша рассудительно записывает: «… я была такой юной, таким ребенком по уму, когда она меня знала, мои мысли так радикально изменились, что от прошлого у меня осталась только дружба, которую я питаю к людям».
Дарья Федоровна несомненно искренна, но также несомненно неправа. Изменилась она далеко не полностью – нас это интересует, чтобы выяснить, какова же в самом деле была графиня Фикельмон в пору ее знакомства с Пушкиным. 26 февраля (год все тот же) Долли и Екатерина Тизенгаузен заехали к генеральше Екатерине Петровне Голенищевой-Кутузовой, чтобы переговорить с ее сыном Борисом. Молодому человеку захотелось прокатиться с ними в санях, но места не было. Тогда сестры предложили ему сопровождать их в качестве ливрейного лакея. Сын петербургского генерал-губернатора стал на запятки в ливрее, проехался по Английской набережной и Невскому проспекту, где прогуливались в это время люди «большого света». Инкогнито раскрыто не было. Никто не обратил внимания на лакея. По словам Долли, «к счастью, было очень холодно и каждый был занят больше самим собою, чем другими».
Под 14 февраля 1833 года мы читаем в дневнике Фикельмон такую запись: «Бал-маскарад в доме Энгельгардта (в который раз! – Н. Р.). Императрица захотела туда съездить, но самым секретным образом, и выбрала меня, чтобы ее сопровождать. Итак, я сначала побывала на балу с мамой, через час оттуда уехала и вошла в помещение Зимнего дворца, которое мне указали. Там я переменила маскарадный костюм и снова уехала из дворца вместе с императрицей в наемных санях и под именем М-lle Тимашевой. Царица смеялась, как ребенок, а мне было страшно; я боялась всяких инцидентов. Когда мы очутились в этой толпе, стало еще хуже – ее толкали локтями и давили не с большим уважением, чем всякую другую маску. Все это было ново для императрицы и ее забавляло. Мы атаковали многих. Мейендорф, модный красавец, который всячески добивался внимания императрицы, был так невнимателен, что совсем ее не узнал и обошелся с нами очень скверно. Лобанов тотчас же узнал нас обеих, но Горчаков, который провел с нами целый час и усадил нас в сани, не подозревал, кто мы такие. Меня очень забавляла крайняя растерянность начальника полиции Кокошкина – этот бедный человек очень быстро узнал императрицу и дрожал, как бы с ней чего не случилось. Он не мог угадать, кто же такая эта М-lle Тимашева, слыша, как выкликают ее экипаж. Кокошкин не решался ни последовать за нами, ни приблизиться, так как императрица ему это запретила. Он, действительно, был в такой тревоге, что жаль было на него смотреть. Наконец, в три часа утра я отвезла ее целой и невредимой во дворец и была сама очень довольна, что освободилась от этой ответственности»[173].
Много еще было увеселений – санная поездка великосветской компании в знаменитый «Красный кабачок» (у Долли «Krasnoi kabak»), катание с русских ледяных гор (очень страшное для южанки Фикельмон), поездка на пироскафах в Кронштадт – всего не перечислить, да и нельзя же без конца рассказывать об увеселениях… Были у графини Долли и другие интересы.
Музыку любила страстно.
Услышав снова в Вене свою любимую певицу-итальянку Паста, Долли замечает 6.III.1829 г: «Слушать ее – это настоящее наслаждение, и я при этом убеждаюсь больше чем когда-либо в том, что существует прямая связь между музыкой и всем, что есть наиболее таинственного в душе; никто не может отрицать, что она вызывает какой-то трепет. У тех, которые не чувствуют и не понимают музыки, одной душевной способностью меньше»[174].
Дарья Федоровна музыку, несомненно, чувствовала и понимала. Соглашалась слушать даже посредственное исполнение любимых опер. Бывала Фикельмон и в концертах – в Петербург приезжали такие выдающиеся артисты того времени, как певицы Генриетта Зонтаг, Розальбина Карадори Аллен, знаменитый виолончелист Ромберг. Были и среди русских светских женщин отличные исполнительницы, например, певица фрейлина А. Н. Бороздина. Выдающейся пианисткой была сестра воспетой Некрасовым княгини Е. И. Трубецкой Зинаида Лебцельтерн. П. А. Вяземский слышал ее игру в салоне Е. М. Хитрово. 2. VII. 1832 г. он пишет жене: «Играет она прелестно, с искусством, выражением, вкусом, душою. Вот, Пашенька[175], так играй. Слушая, как она играет целые места из опер, точно кажется, что сидишь в оперном представлении»[176].
Музыкальные вечера бывали и в австрийском посольстве, но, по-видимому, Дарья Федоровна особенно ценила собрания в доме графа Михаила Юрьевича Виельгорского, композитора-любителя и мецената музыки[177]. В них участвовал и брат Виельгорского, известный виолончелист Матвей Юрьевич.
Русской музыкой графиня Фикельмон, по-видимому, не интересовалась. А. В. Флоровский, изучивший весь текст дневника, пишет: «Доносились ли до австрийской «посольши» и звуки русской песни? Не знаем. <…> Дневник за 1836 год, к сожалению, совершенно молчит о взволновавшей весь Петербург постановке «Жизни за царя» Глинки»[178].
Дарья Федоровна, несомненно, любила театр – во всех его видах – лишь бы он был хорошим. В дневнике упоминаний о театральных представлениях мало, но все же они есть. Очень часто супруги Фикельмон бывали, например, на спектаклях французского театра на Каменном Острове, но там, по словам Фикельмон, был скорее салон, чем театр. Зато впоследствии, живя за границей, Долли нередко сообщает сестре о своих впечатлениях от ряда больших артистов. Великая трагическая актриса Рашель, певица Полина Виардо, балерина Фанни Эльснер, знаменитый актер-негр Олдридж – всем им посвящены четкие, вдумчивые, порой любовные строки. Особенно увлекает Фикельмон прекрасная шведская певица Женни Линд, с которой она познакомилась в 1847 году, так же, как много раньше (в 1830 году) с Генриеттой Зонтаг, гастролировавшей тогда в Петербурге. «На днях она (Линд) у нас обедала <…> Она так же восхитительна вблизи, как и на сцене. Ничто не сравнится с ее манерой быть простой и скромной, с ее вдохновенным взором, когда она говорит о своем искусстве, с этой прирожденной чистотой, которая окутывает ее словно ореолом»[179].
Любовь к театру у Долли – лишь одно из проявлений ее глубокой любви ко всему прекрасному. Немолодую уже, болезненную женщину радостно волнуют и лунные ночи в Венеции, и дворец Лихтенштейнов, и картинные галереи Мюнхена и Дрездена, и голубые умные глаза Жени Линд.
А в петербургские годы она, хотя и не любит Севера, с восторгом пишет о красоте островов в весеннем уборе, о великолепии ночей над Невой… Тихая грусть чувствуется в ее описании тепличных цветов зимой: «В моей гостиной камелия в цвету, а на окне гиацинты и бедные тюльпаны, но у этих растений страдальческий, чахлый вид, и на них жалко смотреть» (14 декабря 1829 года).
Это искреннее и сильное чувство красоты и искание ее – одна из самых привлекательных душевных черт Долли.
По-видимому, она сама отлично рисовала. Данных о ее работах пока очень мало. Известно, что при первом же знакомстве с Александром I поднесла царю какие-то свои рисунки, которые он нашел «прелестными». А. В. Флоровский упоминает о том, что в дневнике Фикельмон имеются две зарисовки молодого персидского принца Хозрев-Мирзы, приезжавшего в Петербург принести извинения шаха за убийство Грибоедова (как известно, Пушкин упоминает о встрече с принцем в главе первой «Путешествия в Арзрум»).
В своей книге Н. Каухчишвили поместила фотокопии двух отлично нарисованных портретов (П. А. Вяземского и М. Ю. Виельгорского) с надписями, несомненно сделанными почерком Д. Ф. Фикельмон. Если это действительно ее работы, то, по мнению художников, которым я показал репродукции портретов, их автор обладал вполне профессиональным мастерством.
С юных лет Дарья Федоровна уделяла много времени чтению. О ее интересе к историческим трудам мы уже говорили. Однако не меньше, если не больше, она любила художественную литературу. О том, что она читала до замужества, сведений нет, зато сохранился в ее бумагах ряд списков прочитанного в позднейшие годы и многочисленные выписки из самых разнообразных книг. По очень вероятному предположению Н. Каухчишвили, в первые годы после свадьбы граф Фикельмон руководил чтением юной жены. Судя по ее заметкам, Долли Фикельмон, в противоположность своему современнику Евгению Онегину, не читала ни Гомера, ни Феокрита, хотя последний, на мой взгляд, созвучен ее душевному строю, не читала, по крайней мере в юности, и глубокомысленного Адама Смита. Зато прочла много других книг, которые, можно поручиться, если и были известны кое-кому из ее русских ровесниц, то только понаслышке.
В неаполитанские годы она, по словам Н. Каухчишвили, «во-первых, посвящает свое внимание классикам, вероятно, по совету мужа, который считал необходимым для жены посла историко-политическую подготовку, и читает поэтому Саллюстия, Цицерона, Вергилия, некоторые работы об Оттоманской империи; из современных историков она предпочитает Тьера и Тьерри. Затем она дополняет свои литературные познания, читая знаменитых итальянских писателей: Данте, Петрарку, Полициано, Манцони; немецких – Гёте, Шиллера, Виланда, Клопштока, Новалиса, Жан-Поля, Э.-Т.-А. Гофмана. Она, наоборот, упоминает лишь немногих английских писателей, среди которых фигурируют только Мильтон и Байрон, в то время как французские авторы представляют чрезвычайно обширную картину: Фенелон, Ларошфуко, М-mе де Жанлис, Шатобриан, М-mе де Сталь, Ламартин, Виктор Гюго, Бенжамен Констан, Ламеннэ, Монталамбер и некоторые второстепенные авторы».
В примечании Н. Каухчишвили упоминает, что этот список, несомненно, не полон. Однако, если бы Долли прочла лишь то, что перечислено в ее реестрах, пришлось бы сказать, что в нашу столицу Фикельмон поехала уже весьма начитанной в литературе главных европейских стран. С русскими писателями и в начале пребывания в Петербурге ей было о ком и о чем поговорить… за исключением только русской литературы, внучке Кутузова тогда, видимо, совершенно неизвестной.
Император Карл V как-то сказал, что, изучая новый язык, мы приобретаем и новую душу. Мне думается – не новую душу, а ключ к пониманию чужой психики. У Долли была целая связка таких ключей. Пользоваться ими она умела. В ее писаниях мы находим немало верных и глубоких отзывов о прочитанном, многое из того, что нравилось когда-то Долли Фикельмон, выдержало испытание временем.
Читала она большею частью по-французски, но нередко, как мы уже видели, и на других доступных ей европейских языках – немецком, английском и итальянском.
Одно из писем А. И. Тургенева[180] позволяет думать, что Долли снабжала своих петербургских друзей французскими книгами, которые она, как жена посла, получала без цензуры.
Во время пребывания в Петербурге Дарья Федоровна, несомненно, прочла те произведения французских авторов, о которых Пушкин упоминает в письмах к ее матери, – стихотворения Сент-Бева и Виктора Гюго, знаменитую драму последнего – «Эрнани», постановка которой в Париже явилась окончательной победой романтической школы, а несколько позднее – не менее знаменитый «Собор Парижской богоматери». Очень внимательно отнеслась она к «Красному и черному» Стендаля. «Долли чувствует особое влечение к этому автору, который любит Италию больше всех других стран, и начинает в своей тетради заметки о Стендале эпиграфом «Увидеть Неаполь и после умереть»[181]. В 1831–1832 годах Долли прочла ряд романов Бальзака – «Деревенский врач», «Евгения Гранде», «Шагреневая кожа», «Сцены частной жизни». Тогда же, в 1832 году, ей очень понравился роман Альфонса Карра «Под липами», о котором с похвалой отозвался и Пушкин.
Все это, конечно, чтение весьма серьезное, но Дарья Федоровна не чуждалась и произведений чисто развлекательных, вроде Александра Дюма и даже Мариво.
Переписка с сестрой показывает, что и в немолодые годы Фикельмон следила за французской литературой внимательно, читала ее вдумчиво и любила побеседовать о своих впечатлениях. Из больших писателей она снова упоминает о Жорж Санд, Гюго, Бальзаке, Сент-Беве, Ламартине, Шатобриане. Интереснее всего ее, к сожалению немногочисленные, замечания о французских писателях. Они обнаруживают у нее верный и тонкий литературный вкус. В своих суждениях Фикельмон весьма независима. Несомненно любя писателей-романтиков и в частности Гюго, она, например, очень неодобрительно относится к его драмам. «Что ты скажешь о «Burgraves»? «Какая великолепная нелепость», – говорит наш приятель Сюлливан. Но, кроме нескольких тирад, можно было бы сказать просто нелепость», – пишет она сестре 14 мая 1843 года.
Очень меток ее отзыв о «Memoires d’Outre-Tombe» («Замогильные записки») Шатобриана: «…есть там прелестные страницы, есть и интересные, но они тонут в океане тщеславия и непомерного самолюбия. Как жаль, что такой талант не сумел восторжествовать над самой жалкой мелочностью человеческого духа»[182].
Хотя Дарья Федоровна кроме французского знала еще три иностранных языка (английский, по-видимому, меньше других) и в ее неаполитанских реестрах значится целый ряд прочитанных ею немецких и итальянских авторов, в более поздние годы мы находим в ее дневнике и письмах лишь очень редкие упоминания о нефранцузских писателях. Останавливаться на них я не буду. Упомяну только, что в библиотеке Пушкина нашлась принадлежавшая графине французская книга о Байроне[183].
Дарью Федоровну, судя по отзывам друзей, можно было счесть за женщину хотя и деятельную, но очень мягкую, мечтательную и, вероятно, склонную поддаваться чужим влияниям.
На французского путешественника Луи Симона, видевшего Долли, когда ей было лет 14–15, она, как мы знаем, произвела впечатление образцово послушной, благонравной девочки-подростка. Совсем другой она представляется нам спустя три-четыре года, судя по письмам Александра I. Волевая, напористая, порой вежливо-бесцеремонная и, во всяком случае, ничуть не боящаяся самодержца всероссийского, которому она отважилась писать весьма сердитые письма… Чувствуется у нее еще и недостаток должной выдержки, которой жена посла впоследствии овладела в совершенстве.
Ее письма к мужу мы, к сожалению, знаем только по кратким выдержкам, приведенным Н. Каухчишвили. Поздние (1840–1854 гг.) письма к сестре, опубликованные Ф. де Сони, показывают, что, несмотря на свою несомненную доброту, Долли, безусловно, обладала твердым, очень самостоятельным характером и, по-видимому, немалым личным мужеством. Внучка Кутузова сама сознает, что воля у нее есть, и очень ценит это качество в других.
Сама она, насколько можно судить по живым и очень интересным описаниям революционных дней в Венеции и Вене, в трудные минуты держалась спокойно и мужественно. Не страшила ее и мысль о возможности лишиться всего, если революция победит: «Я заранее приучаю себя к этой мысли, и если когда-нибудь придется потерять все, кроме чести, я, по крайней мере, скажу это весело, и убежденность будет моим счастьем» (18 мая 1848 года).
Казалось бы, что в Петербурге Дарья Федоровна могла быть довольна и своей судьбой, и тем светским обществом, в котором она занимала такое блестящее положение. Молода, прекрасна собой. У нее любимая мать и любящий, заботливый муж. Он не богат, но по должности посла получает огромное содержание. Врагов у Долли, кажется, нет, друзей много.
В петербургском дневнике графиня Фикельмон действительно не раз говорит о том, что она счастлива.
В начале первой зимы, проведенной в Петербурге, записывает: «Влияние севера на настроение человека должно быть очень сильным, потому что посреди такого счастливого существования, как мое, я испытываю постоянную потребность бороться со своей грустью и меланхолией» (1 декабря 1829 года). Но в эту же зиму молодую мать трогательно радуют «светские успехи» совсем еще маленькой дочери: «Я еще очень глупа, когда вожу ее в гости, это так меня волнует и умиляет, что я сама не знаю, что делаю. Быть может, я привыкну к этому удовольствию» (6 февраля 1830 года). Через несколько месяцев она отмечает: «Годовщина моей свадьбы: девять лет постоянного счастья, без единого мучительного дня, без единого облака, в самом совершенном согласии. Действительно, это больше, чем многие женщины могли бы насчитать, соединяя вместе счастливые дни всей своей жизни <…> Меня печалит лишь одно обстоятельство, так как я убеждена, что Фикельмон не так совершенно счастлив, как я, – трудно, чтобы два существа одновременно испытывали в такой мере чувство блаженства и уюта» (22 мая – 3 июня 1830 года).
Приведем еще одну запись накануне наступления 1831 года: «…У счастливых сжимается сердце, они боятся, что счастье не продолжится, и в то же время у них глубокое чувство благодарности! Я принадлежу к этой категории, и мы с Фикельмоном сказали друг другу одно и то же: нам нечего желать, нечего просить для себя, кроме продолжения блага, которое нам ниспослал Бог. Вот, однако, двое счастливцев посреди светского вихря!» (2 февраля 1831 года)[184].
Итак, в семейной жизни Долли до конца счастлива или, по крайней мере, старается себя убедить в этом. И только ли себя – ведь дневник она оставила дочери… Чем больше в него вчитываешься, тем яснее чувствуешь, что это не «Journal intime», как говорят французы, а длинный ряд большею частью искренних, но всегда хорошо обдуманных записей. Калитку в свой духовный сад Долли Фикельмон только приотворяет.
Отношение к окружающему светскому обществу… Конечно, жена посла умела быть любезной и обходительной со всеми, с кем ей приходилось встречаться, независимо от того, нравились ей эти люди или нет. Привыкла держать себя соответствующим образом почти с детства. Можно сказать с уверенностью, что графу Фикельмону никогда не приходилось краснеть за жену.
Светскую жизнь она, несомненно, любила, но в то же время порой ясно чувствовала пустоту «тревоги пестрой и бесплодной». В такие дни хотелось ей чего-то иного…
Вернувшись с полюбившейся ей Черной Речки в город, Долли пишет 11 сентября 1830 года: «Я жалею о более независимой, более спокойной жизни на даче; здесь светские обязанности возобновляются в полной мере. Не понимаю, почему Бог сделал меня посольшей, я действительно не была рождена для этого».
В следующем году по тому же самому поводу Фикельмон пишет, вспоминая о даче: «Я виделась почти исключительно с людьми, которых мне хотелось видеть, и не выходила из своей гостиной. Здесь (в Петербурге. – Н. Р.) все принимает более чопорные формы <…>» (14 сентября 1831 года).
По мнению Н. Каухчишвили, которое кажется мне совершенно справедливым, «муж понимал, что жена предпочитает спокойную жизнь, и писал ей в 1834 году из Москвы в слегка ироническом тоне: «Я вижу тебя в твоем кабинете, одетой в кацавейку («katzaveika»), бранящей погоду и все же опечаленной возвращением в город, где ты почти что перестанешь гулять»[185].
Да, немало двойственности было в натуре Долли… Двойственным было и ее отношение к светскому обществу. Пока не задумывалась над тем, что делает, она спокойно и весело блистала в гостиных и бальных залах Флоренции, Неаполя, Петербурга, Вены. Но задумывалась, по-видимому, нередко, и тогда на бумагу ложились грустные, а порой и гневные строки.
12 декабря 1831 года двадцатисемилетняя «посолыпа» пишет П. А. Вяземскому: «Как я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называется обществом! Как Адольф (ваш приемыш)[186] прав, когда он говорит, что «обществу нечего нас опасаться: оно так тяготеет над нами, его глухое влияние так могуче, что оно немедленно перерабатывает нас в общую форму».
В своем письме Фикельмон почти точно процитировала соответствующие фразы Бенжамена Констана. Французский подлинник, несомненно, был у нее перед глазами. Однако взгляды Адольфа, которые она полностью разделяет, не были для нее новыми*. Еще в тетради с записями 1822–1825 гг.[187] она, комментируя мысли François de Sales[188] (1567–1622), пишет: «…так быстро и так легко теряется привычка к ней (светской жизни. – Н. Р.), что одно это доказывает уже, насколько гомон большого света, вихрь обязанностей, которые не дают никакого удовлетворения, – насколько они противоречат, по существу, природе человека. Мы нуждаемся, без сомнения, в обществе <…> Но общество могло бы быть таким простым, можно было бы дать имя простым привычкам, кругу подходящих к вам людей; но у нас так сильно тяготение к рабству (несмотря на все, что об этом говорят), что мы его ищем повсюду!»
Так думала юная Долли, и тридцать лет спустя, 22 марта 1851 года уже начинающая стареть Дарья Федоровна (ей 47 лет) пишет сестре почти то же самое, что в свое время Вяземскому:
«Свет, надо сказать, это соединение низостей и моральных ничтожеств, к которому проникаешься глубоким отвращением по мере того как становишься старше. Сама тогда удивляешься всем жертвам, которые еще ему приносишь».
Нет, эти мысли о светском обществе – не случайное настроение и не дань романтической литературе, которую Долли Фикельмон усердно читала.
Мы видели, что графиня Фикельмон разделяла многие мнения, убеждения и предубеждения окружавшей ее великосветской среды, но в ней она все-таки не растворилась, будучи духовно значительным человеком. Со многими светскими людьми ей, вероятно, было тоскливо – по крайней мере, при долгом общении, однако она, несомненно, любила свой уютный петербургский салон, где собирались главным образом те, кого она в самом деле хотела видеть.
И еще одна мысль рождается, когда перечитываешь ее письма и дневники. Была, видимо, у Долли какая-то чисто личная душевная трещина – одним недовольством обществом ее приступы грусти, мне думается, объяснить нельзя…[189]
Но кто же, в конце концов, эта внучка Кутузова, приятельница Пушкина, австрийская подданная, влюбленная в Италию, – русская или иностранка?
Ответить на этот вопрос не очень легко. Мы уже знаем, что, живя долгое время в Италии, Фикельмон забыла русский язык. Приехав в 1829 году в Петербург, посольша, по крайней мере первое время, говорить по-русски не могла. Даже митрополиту Филарету, который, по желанию матери, стал ее духовным наставником, она отвечала по-французски на его русские вопросы и поучения. Друг друга собеседники, очевидно, понимали (запись 15.X.1829). Мы знаем также, что в 1830 году известный литератор О. М. Сомов давал графу и графине уроки русского языка.
На Россию Дарья Федоровна тогда, несомненно, смотрела глазами вдумчивой иностранки. О петербургской публике (не о «простом народе» – его туда не допускали), которую она наблюдала в загородных парках, графиня писала: «У толпы всегда такой вид, точно она развлекается не по собственному желанию, а по приказанию или по обязанности» (29 августа 1882 года). Не нравилось ей и времяпрепровождение русского светского общества. Терпеть не могла столь любимых тогда карт, которые «здесь лишают общество движения и веселья». Огорчала ее пустота светских женщин, «созданий из газа, цветов и лент». Скучными и всегда боящимися казались ей русские девицы: «Похоже на то, что они считают беседу светским грехом, так как в этом отношении строгость у них поучительная, что придает гостиным печальный и совершенно бесцветный оттенок» (21 июля 1832 года)[190].
Добавим от себя: все в николаевском Петербурге иначе, чем в милой сердцу Долли Фикельмон Италии, хотя светской пустоты и там, конечно, было немало.
Есть в дневнике Фикельмон и более глубокие замечания о русском «большом свете» тридцатых годов. Несмотря на свои монархические убеждения и личную близость с царской семьей, графиня и о ней порой отзывается довольно резко. Побывав на одном из царских балов, она пишет о том, что всюду были цветы, но и они казались ей ненастоящими, и все там ненастоящее (31 января 1832 года).
В данном случае согласимся с Долли, – почти не зная России, наблюдательная женщина умела порой видеть то, чего не замечали вполне русские гости царя.
Будучи дипломатически неприкосновенной, она могла безбоязненно записывать в свои петербургские тетради все, что хотела. Но нет в ее дневнике ни слова о том, чего она не могла не знать, – о забивании людей насмерть шпицрутенами, о торговле крепостными, о многих других ужасах николаевской России, которых на Западе все же давно не было. Эти русские дела, видимо, оставались вне круга непосредственных наблюдений Дарьи Федоровны. Ничего она не говорит и о декабристах, хотя была знакома со многими родственниками и друзьями сибирских узников.
Несмотря на постоянное общение в Петербурге с нашими писателями, ни в дневнике, ни в письмах упоминаний о русской литературе почти нет. Можно только предполагать, что Фикельмон все же прочла «Клеветникам России», «Бородинскую годовщину», уже упомянутое письмо Чаадаева[191] и какую-то, видимо, русскую, биографию Кутузова. О русской музыке, как я уже упоминал, у нее нет ни слова.
Итак, почти иностранка, весьма равнодушная к русским делам?
Нельзя прежде всего забывать, что до самой смерти матери она почти все время жила вместе с ней, а Елизавета Михайловна, как мы знаем, любила родину горячо. Несомненным русофилом был и муж графини. Можно думать, что и годы, проведенные в Петербурге, все же заставили ее в какой-то мере снова обрусеть.
Из дневника и других источников мы узнаем, например, что в течение ряда лет она вместе с матерью бывала в русском театре и восхищалась игрой знаменитого Каратыгина в ролях Ермака (1829) и Отелло (1836). Отмечает Фикельмон и открытие Александрийского театра в 1832 году. О «Жизни за царя» («Иване Сусанине»), поставленной в 1836 году, она не упоминает, но за этот особенно интересный для нас год, когда началась последняя драма Пушкина, записей в дневнике из-за болезни графини, к сожалению, вообще почти нет.
Дарья Федоровна внимательно читает сочинения иностранцев о России и принимает близко к сердцу их зачастую легкомысленные и лживые повествования: «… они возбуждают во мне бешенство против тех, которые их пишут, не потрудившись даже собрать сведений» (15 декабря 1840 года)[192]. Книгу Кюстина «Россия в 1839 году» супруги Фикельмон читают «с удивлением и сожалением». По мнению Д. Ф. Фикельмон, «невозможно в одной книге вместить столько желчи и горечи». Однако этого автора легкомысленным она не считает: «…он строг, часто несправедлив, склонен к преувеличению, непоследователен и недоброжелателен, но правда там есть» (28.VI.1843)[193]. Надо сказать, что это, несомненно, собственные мысли Дарьи Федоровны – отзыв ее мужа о книге французского аристократа, как мы знаем, гораздо резче, хотя и он не отвергает ее целиком.
В русско-турецкую кампанию 1829 года наши боевые успехи – взятие Эрзерума и Адрианополя, подписание там победоносного мира радовали Долли, во всяком случае, не как иностранку. Яснее же всего ее русские чувства проявились в 50-е годы, во время Восточной войны и Крымской кампании, хотя Дарья Федоровна уже давно и окончательно обосновалась за границей. Узнав об объявлении войны Турции, она пишет сестре: «…русская часть моего полурусского, полуавстрийского сердца в волнении», и позже: «Мы узнали о победе русского флота при Синопе, поздравляю тебя и не могу тебе сказать, какую радость доставила мне эта новость». Крайне враждебная позиция Австрии по отношению к России во время Восточной войны и Крымской кампании заставляют ее скорбеть: «…когда у тебя два отечества, их любишь, как отца и мать, и глубоко огорчаешься, если они не могут действовать вместе». За ходом войны Фикельмон следит очень внимательно, постоянно смотрит на карту. Приготовления союзников ее глубоко волнуют. «Русская половина сердца» все больше и больше дает себя знать. «Я читаю с ужасом и в то же время и с интересом о громадных приготовлениях Англии и Франции, и этот колоссальный флот для Балтийского моря стал моим кошмаром. Я уже боюсь за мой бедный Ревель».
Неудачи русских глубоко огорчают Дарью Федоровну. В одном из последних известных нам писем 1854 года мы уже ясно слышим голос русской патриотки, внучки Кутузова: «Третьего дня мы получили ложное известие о взятии Севастополя и были от него больны, но вчера известие было опровергнуто. Все мои мысли с вами с тех пор, как враг на русской земле» (5 октября 1854 года).
Пусть читатель сам решит, можно ли считать графиню Фикельмон иностранкой…
И, думаю, он согласится со мной, что среди множества женщин, которых знал Пушкин, она была одной из самых незаурядных.
Сложна и полна противоречий ее натура. Она добра, но способна остро ненавидеть тех, кого считает врагами. Она умеет наблюдать, но порой не замечает того, что видят люди гораздо менее наблюдательные. Дама «большого света» вдруг начинает грустно и гневно бранить то общество, в котором ее положение так блестяще. Все у нее, кажется, есть, – большего желать нечего, но недовольна она, мечется, не находит себе покоя… Тесно ей в великосветской оранжерее, в которую Дарья Федоровна сама себя заперла.
Переписка друзей
«Боюсь графини Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге. Говорят, что у Канкрина ты при особых поручениях и настоящая твоя служба при ней», – писал Пушкин 2 мая 1830 года своему другу П. А. Вяземскому.
Долли Фикельмон была приятельницей обоих поэтов. Ее отношениям с Пушкиным посвящен следующий очерк.
Чтобы жизнеописание Пушкина было как можно полнее, в некоторых случаях небезынтересно выяснить и то, как его друзья относились друг к другу. Я думаю, что, в частности, это можно сказать о Долли и князе Вяземском.
Петр Андреевич Вяземский – большой талантливый поэт, литератор и мемуарист. Облик Дарьи Федоровны Фикельмон до конца еще не ясен, но несомненно одно – она была женщиной во многих отношениях незаурядной.
О взаимоотношениях Вяземского и Долли известно немало – частые упоминания о Фикельмон мы встречаем в письмах Петра Андреевича; есть они в его переписке с А. И. Тургеневым, в «Старой записной книжке»[194]. Многократно перепечатывалось блестящее описание петербургского салона Фикельмон-Хитрово, данное в свое время Вяземским[195].
В свою очередь, отзывы Долли о ее приятеле имеются в отрывках из дневника, опубликованных А. В. Флоровским, к сожалению, в труднодоступном для советских читателей ежегоднике[196].
В книге итальянской исследовательницы Н. Каухчишвили, которую я уже неоднократно цитировал, помимо почти полного текста дневника Д. Ф. Фикельмон за 1829–1831 годы, имеется специальная глава, посвященная ее отношениям с П. А. Вяземским.
Непосредственные эпистолярные беседы Фикельмон и Вяземского до сих пор были известны очень мало. Более восьмидесяти лет назад сын Вяземского, Павел Петрович, опубликовал в своей большой работе о Пушкине[197] отрывки из двух писем Долли к своему отцу, в которых упоминалось о поэте. Эти переведенные с французского тексты уже десятки лет цитируются во всех биографиях поэта, но, насколько мне известно, за исключением одного вновь опубликованного письма[198] переводы не были сверены с подлинниками. Не были изучены и другие письма графини к Вяземскому, хранившиеся в Остафьевском архиве, который включен в настоящее время в Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ).
Что касается писем П. А. Вяземского к Долли, то в отечественных источниках они не публиковались. Имелось лишь в сочинениях Петра Андреевича несколько упоминаний об отсылке его писем Фикельмон[199].
В 1961 году Сильвия Островская (Sylvie Ostrovska) опубликовала в чешском переводе несколько выдержек из обнаруженных ею в архиве Фикельмонов французских писем Вяземского к Дарье Федоровне[200]. Находка была упомянута в советской печати, но дальнейшего освещения не получила.
В настоящее время малоизвестную «переписку друзей» можно значительно пополнить. Из ЦГАЛИ я получил отличные фотокопии всех хранящихся там писем Д. Ф. Фикельмон и ее родных к П. А. Вяземскому. Я смог таким образом ознакомиться со следующими эпистолярными документами:
1. Писем графини Д. Ф. Фикельмон к князю П. А. Вяземскому – 14.
2. Ее записок к нему же – 67.
3. Письмо и записка графини Д. Ф. Фикельмон к княгине В. Ф. Вяземской – 2.
4. Записка графини Д. Ф. Фикельмон к ее матери Е. М. Хитрово – 1.
5. Писем Е. М. Хитрово к князю П. А. Вяземскому – 2.
6. Писем графа Ш.-Л. Фикельмона к князю П. А. Вяземскому – 5.
7. Записка графини Е. Ф. Тизенгаузен к князю П. А. Вяземскому – 1.
Всего 92 отправления.
Кроме того, к одной из записок графини приложен подробный план романа (canevas d’un roman), который Д. Ф. Фикельмон составила для Вяземского. Все отправления на французском языке.
Судя по тому, что наряду с длинными содержательными письмами Долли сохранились и совершенно незначительные ее записки из нескольких слов, можно думать, что Вяземский сберег решительно все, что когда-либо ему написала Долли Фикельмон.
Благодаря любезному содействию Сильвии Островской я получил из Государственного архивного управления Чехословакии хороший микрофильм шести писем Вяземского, хранящихся в Дечине. Все они относятся к 1830–1831 гг.[201]. Эти письма, несомненно, составляют лишь часть переписки Вяземского с Долли. В ее ответах упоминается о ряде писем князя, которые остаются неизвестными[202]. На некоторые из записок Дарьи Федоровны Вяземский, несомненно, также отвечал, но этих отправлений мы не знаем.
Полученные мною из ЧССР материалы заслуживали бы, как мне думается, научного издания с приведением французского текста писем и соответствующими комментариями. Н. Каухчишвили в своей книге опубликовала полностью французский текст 9 писем Д. Ф. Фикельмон к Вяземскому, хранящихся в ЦГАЛИ, и 6 писем князя из архива Дечина. В обширной вводной статье «Дарья Федоровна Фикельмон-Тизенгаузен» на итальянском языке исследовательница подробно прокомментировала многие отрывки из писем.
Я сверил установленную мною по фотокопиям транскрипцию писем с текстом Каухчишвили. Расхождений почти не оказалось, так как почерки обоих корреспондентов (в особенности Вяземского) при наличии некоторого навыка читаются легко.
Многочисленные записки Д. Фикельмон, а также письма ее мужа, матери и сестры исследовательница не изучала. Зато в своей вводной статье она широко использовала источник, до сего времени остававшийся совершенно неизвестным в печати, – переписку супругов Фикельмон, хранящуюся в Дечине[203], и отчасти – донесения графа Шарля-Луи канцлеру Меттерниху.
В этом очерке я могу привести лишь ряд отрывков из писем Фикельмон и Вяземского с самыми необходимыми пояснениями.
Из двух главных участников «переписки друзей» Долли я охарактеризовал в предыдущем очерке.
Нет, конечно, необходимости пересказывать здесь историю долгой жизни Петра Андреевича Вяземского (1792–1878). Сейчас нас интересует главным образом его духовный облик в те годы, когда Вяземский одновременно знал Пушкина и Долли Фикельмон, то есть в 1829–1837 годах.
Потомок удельных князей, «Рюрикович», он родился в богатой помещичьей семье, но еще в ранней молодости сильно расстроил свое состояние благодаря большим карточным проигрышам. У него тем не менее оставалось подмосковное имение Остафьево с прекрасным особняком, который сохранился до наших дней, и суконная фабрика, ранее убыточная, но в начале тридцатых годов XIX века уже дававшая доход. Было у него имение и в Саратовской губернии, был в Москве дом в Большом Чернышевском переулке.
Тем не менее в эти же годы, по существу, семья Вяземских с трудом сводила концы с концами. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть, например, письмо Петра Андреевича к жене из Петербурга от 8 мая 1830 года, где сообщение о затрате 800 рублей на карету соседствует с просьбой пересмотреть «все летние панталоны», чтобы выбрать те, «которые могут быть представительны»[204]. Средств у Вяземского было, конечно, много больше, чем у Пушкина, но обоим поэтам приходилось жить не по средствам…
Девятнадцати лет Петр Андреевич женился на красивой и умной княжне Вере Федоровне Гагариной, которая была на два года старше его. Несмотря на свои многочисленные увлечения Вяземский дружно прожил с ней всю свою долгую и нелегкую жизнь[205].
Еще до начала переписки с Д. Ф. Фикельмон Петра Андреевича и его жену постиг ряд семейных несчастий. Одного за другим они потеряли четверых сыновей – Андрея и Дмитрия в очень раннем возрасте; в 1825 году скончался на седьмом году Николай, в начале следующего года умер трехлетний Петр. 10 мая 1826 года Вяземский писал Пушкину: «…Потом мы опять имели несчастие лишиться сына трехлетнего. Из пяти сыновей остается один. Тут замолчишь по-неволе»[206].
Те же несчастья продолжались и позже, как при жизни Пушкина, так и после его смерти. В 1835 году скончалась в Риме от чахотки семнадцатилетняя Полина (Прасковья) – Пашенька Вяземская[207]. В 1840 году умерла от той же болезни ее восемнадцатилетняя сестра Надежда. Мария Петровна Вяземская, в замужестве Валуева (1813–1849) тоже прожила всего 36 лет (умерла от холеры). Из восьми детей только один Павел Петрович (1820–1888) пережил отца.
Фикельмон, надо сказать, ближе всего знала Вяземского в тот период его жизни, когда горе, вызванное смертями младших детей, видимо, уже утихло (он очень редко упоминает о них в письмах к жене), а здоровье Полины и Надежды еще не вызывало серьезных опасений. Жизнерадостный от природы Вяземский, как мы увидим, казался порой друзьям-женщинам значительно моложе своих уже не очень молодых лет – не забудем, что он был на семь лет старше Пушкина. Долли Фикельмон познакомилась с Вяземским в трудное для него время, трудное во многих отношениях. О постоянных материальных затруднениях семьи я уже упоминал, но у Петра Андреевича были тогда и другие тяготы – более глубокие и морально тяжелые…
В молодости его политические убеждения были чрезвычайно радикальными. Хотя широко известный рассказ о том, что вечером 14 декабря 1825 года Вяземский встретился с Пущиным и принял от него на сохранение портфель с политически опасными бумагами, оказался легендой, но близость Петра Андреевича к декабристам не подлежит сомнению. Н. Кутанов (С. Н. Дурылин) не без основания назвал его «декабристом без декабря»[208].
Надо, однако, сказать, что еще задолго до 1825 года резко оппозиционные настроения, которые привели его друзей на Сенатскую площадь, у Вяземского приняли другую форму. Его близость к декабристам была скорее личной, чем политической. В русскую революцию он не верил и от участия в конспиративных организациях отказался, – отказался не из-за трусости – доброволец Отечественной войны, участник Бородинского боя, Петр Андреевич был человеком большого гражданского мужества.
Для его отношения к революции характерно письмо Вяземского к Н. И. Тургеневу от 27 марта 1820 года: «Я за Гишпанию рад, но, с другой стороны, боюсь, чтобы соблазнительный пример Гишпанской армии не ввел бы в грех кого-нибудь из наших. У нас, что ни затей без содействия самой власти, – все будет Пугачевщина»[209].
Однако, отвергая революционный путь преобразования российской действительности, Вяземский в то же время искренне ненавидел отечественную реакцию. В конце царствования Александра I, потеряв веру в мнимоконституционные намерения царя, он резко разошелся с правительственными кругами. Его пребывание в Варшаве, где Вяземский с 1817 года состоял на службе при императорском комиссаре Н. Н. Новосильцеве, было признано нежелательным. В апреле 1821 года Новосильцев сообщил своему подчиненному, что по приказанию царя ему воспрещается вернуться к месту службы. Оскорбленный этим, Вяземский подал прошение об отставке из камер-юнкеров. В июле того же года он был вовсе уволен от службы и поселился в Москве. Прямым преследованиям он не подвергался, но Александр I, а затем и Николай I не сомневались в антиправительственном образе мыслей опального князя. Николай I сказал по поводу неучастия Вяземского в декабрьском восстании, что «отсутствие имени его в этом деле доказывает, что он был умнее и осторожнее других».
Опальное положение Вяземского продолжалось целых девять лет. В 1828 году оно осложнилось клеветническим доносом на якобы непристойное поведение Петра Андреевича. От имени царя московскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну было приказано: «…внушить князю Вяземскому, что правительство оставляет собственно поведение его дотоле, доколе предосудительность оного не послужит к соблазну других молодых людей и не вовлечет их в пороки. В сем же последнем случае приняты будут необходимые меры строгости к укрощению его безнравственной жизни»[210].
Это «высочайшее» оскорбление было тем более обидным, что непосредственным поводом к нему послужил донос о том, что Вяземский намерен издавать под чужим именем некую «Утреннюю газету», о которой он не имел никакого понятия[211].
Петр Андреевич воспринял официальное бесчестие болезненно. В письме к Д. В. Голицыну он заявил: «…если я не добьюсь почетного оправдания <…> мне останется лишь покинуть родину с риском скомпрометировать этим поступком будущее моих друзей»[212]. По-видимому, Вяземский собирался покинуть Россию легально. Его мать была ирландкой, и он обратился с просьбой к жившему в это время за границей А. И. Тургеневу разузнать о своих ирландских родственниках. Однако от мысли об эмиграции Вяземский, по всему судя, вскоре отказался. У него была семья и хронически не хватало денег. Кроме того, убежденный враг реакции, оппозиционер по натуре, он, употребляя английское парламентское выражение, принадлежал к «оппозиции его величества». Как мы видели, в русскую революцию он не верил, крестьянского бунта боялся. Скрепя сердце Вяземский пошел по пути примирения с царем и правительством – считал, что иного выхода у него нет.
В течение декабря 1828 года – января 1829 года он составил свою «Исповедь» – обширный документ, который впоследствии Вяземский назвал в печати «Записка о князе Вяземском, им самим составленная». Написана она с большим достоинством, но все же эта записка являлась тягостным для автора актом раскаяния в некоторых своих ошибках.
«Исповедь» была в феврале 1829 года отослана Жуковскому в Петербург и через Бенкендорфа представлена Николаю I. Первоначально она не удовлетворила царя. От Вяземского потребовали еще извиниться перед великим князем Константином Павловичем, к которому он в свое время в Варшаве якобы отнесся без должного уважения. Пришлось пойти и на это…
Больше года тянулась тяжелая и обидная для Петра Андреевича волокита. Наконец 18 апреля 1830 года по повелению Николая I он был назначен чиновником по особым поручениям при министре финансов Канкрине, хотя сам выражал желание служить по министерству народного просвещения. Через год (5 августа 1831 года) Вяземский получил звание камергера двора его величества, а 21 октября 1832 года был назначен вице-директором департамента внешней торговли. Царь, по-видимому, был доволен тем, что на строптивого Рюриковича удалось надеть прочный государственный хомут. Я остановился подробнее на этом морально тяжелом для Вяземского переходном периоде, так как он совпал с началом его знакомства с Долли Фикельмон.
Петр Андреевич приехал устраивать свои дела в Петербург 28 февраля 1830 года. Его семья более года по-прежнему оставалась в Москве. 14 марта у своей приятельницы Елизаветы Михайловны Хитрово он впервые встретился с ее дочерью. В ближайшие дни Вяземский, несомненно, побывал, как это было принято, с визитом в австрийском посольстве, а 27 марта он уже пишет жене: «Я сегодня обедал с нею [Е. М. Хитрово] у Фикельмон, которые мне очень нравятся. Муж и жена учтивы, ласковы до крайности, и дом их по мне здесь наиприятнейший»[213].
Спустя шесть недель Вяземский, по всему судя, уже близкий знакомый Долли. 26 апреля, упомянув о том, что Е. М. Хитрово, «предобрая и превнимательная, ссужает меня книгами и газетами и всегда рада оказать услугу», – он продолжает: «То же и посланница, с которою мне ловко и коротко, как будто мы век вековали вместе. Вообще петербургские дамы так холодны, так чопорны, что, право, не нарадуешься, когда найдешь на них непохожих. А к тому же посланница и красавица и одна из царствующих дам в здешнем обществе и по моде, и по месту, и по дому, следовательно, простодушие ее еще более имеет цены»[214].
Итак, наблюдательный Вяземский быстро заметил, что «посланница» во многом отличается от петербургских дам, отличается в выгодную сторону. Думаю, однако, что он ошибался, приписывая Долли «простодушие», которого у этой духовно сложной женщины не было. Было не «простодушие», а великолепная простота, которая далеко не всем дается…
В 1830 году Вяземский вел дневник, который начинается 26 мая[215]. Из него мы видим, что в июне[216] Петр Андреевич был частым гостем семьи Фикельмон-Хитрово. В дневнике отмечено за месяц шесть посещений, но из позднейшей переписки Вяземского с Дарьей Федоровной явствует, что до отъезда в Москву он был неизменным гостем Фикельмонов во все их приемные дни – три раза в неделю.
Посмотрим теперь, что говорит в начале знакомства с Вяземским сама Фикельмон в своем дневнике, выдержки из которого были опубликованы А. В. Флоровским, а почти полный текст записей 1829–1831 гг. – Ниной Каухчишвили.
18 марта 1830 года Дарья Федоровна записывает: «Познакомилась с князем Вяземским – он поэт, светский человек, волокита (homme à bonnes fortunes), некрасивый, остроумный и любезный». 29 марта она снова отмечает, что «князь Вяземский, которого я теперь часто вижу, очень любезен; он говорит умно, приятно и легко, но он так некрасив». 30 апреля Долли записывает: «Мы продолжаем часто видеть князя Вяземского, знакомство с ним очень приятно, так как он умный (и образованный) человек (без всякого педантизма и писательских претензий)»[217].
В одном из писем к жене (14 марта 1830 года) Петр Андреевич упоминает о том, что Е. М. Хитрово «пописывает ко мне утренние цидулочки».
Почти семьдесят таких же записок и записочек, полученных в разное время Вяземским от Долли, сохранились в Остафьевском архиве. На фотокопиях видно, что обычно они заклеивались, как было принято, облатками. Невольно вспоминается, как у Татьяны:
Письмо дрожит в ее руке; Облатка розовая сохнет На воспаленном языке.Но большинство «цидулочек» Д. Ф. Фикельмон важных вестей не содержит, и запечатывала она их, можно думать, не волнуясь и не давая высохнуть облатке…
Итак, знакомство завязалось, переписка началась, но, прежде чем перейти к ее содержанию, мне кажется полезным привести хронологическую схему знакомства и переписки князя Вяземского и Долли Фикельмон – это избавит нас от неизбежных иначе повторений.
Как уже было упомянуто, знакомство состоялось 14 марта 1830 года. 10 августа Вяземский уехал в длительную служебную командировку в Москву. До этого – тем же летом 1830 года – он ездил в Ревель и провел там около трех недель. Таким образом, первый период непосредственного общения продолжался четыре с небольшим месяца. Петр Андреевич отсутствовал в Петербурге 16 месяцев (он вернулся в столицу около 25 декабря 1831 года). К этому времени относятся 8 из 14 писем Долли.
До переезда княгини Веры Федоровны с детьми в Петербург на постоянное место жительства (около 15 октября 1832 года) Вяземский снова жил в столице на положении «соломенного вдовца» в течение десяти месяцев.
По-видимому, пока он оставался в Петербурге без семьи, графиня Долли, не связанная в этом отношении светскими условностями, писала своему приятелю два-три раза в месяц. До сих пор мне удалось более или менее точно датировать по содержанию 25 из ее 67 записок (все они без дат). Из них 14 (56 процентов) относятся к 1830 и 1832 годам. С некоторой вероятностью можно поэтому считать, что всего за 17 месяцев пребывания в столице без семьи Вяземский должен был получить около 40 записок.
С прибытием В. Ф. Вяземской в Петербург начинается третий период знакомства, который закончился с отъездом Д. Фикельмон за границу.
Зимой 1837/38 года приступы невралгии, которой Дарья Федоровна страдала уже в течение двух лет, настолько усилились, что, по совету врачей, в мае 1838 года она, как уже сказано, отправилась лечиться за границу и больше в Россию не возвращалась. «Знакомство домами» продолжалось, таким образом, более пяти лет, но с неоднократными и длительными перерывами.
В 1833 году Д. Ф. Фикельмон дважды ездила в Дерпт. В 1834–1835 гг. Вяземские провели девять месяцев за границей – с 11 августа 1834 до 16 (?) мая 1835 года. Осенью 1835 года Петр Андреевич снова уехал на два с половиной месяца в Германию. Тогда же (в сентябре и октябре) Фикельмоны вместе с дочерью побывали в Теплице, где присутствовали при свидании Николая I с союзниками.
Можно поэтому считать, что период «знакомства домами» фактически вряд ли продолжался более трех лет.
После отъезда Дарьи Федоровны за границу друзья первое время изредка переписывались. Сохранились очень интересные и содержательные письма графини Долли к Вяземскому от 26 июля 1838 года из Баден-Бадена и от 7 января 1839 года из Рима.
Четвертый период непосредственного общения Д. Ф. Фикельмон с П. А. Вяземским был очень краток. Летом 1852 года Вяземский вместе с женой провели (по-видимому, дважды) несколько дней в Теплице. Это было последнее свидание друзей.
Их «очное» знакомство продолжалось, по моему подсчету, в общем, несколько более четырех лет, а переписка (с очень большими перерывами) – 22 года.
К огорчению исследователей, Д. Ф. Фикельмон, аккуратно и точно датируя письма, посылаемые по почте или с оказией, в записках чаще всего указывала лишь день недели, много реже – число и месяц, а года не проставила ни в одной из них. Датировка записок, с которых мы и начинаем обзор переписки друзей, поэтому нередко трудна, а зачастую и совершенно невозможна.
В виде примера приведу текст двух записок Долли, несомненно относящихся к первым месяцам знакомства:
«Вы принадлежите к числу тех, которые оплакивают отъезд М-mе Мейендорф; хотите вы еще раз ненадолго повидать ее у меня сегодня вечером? В таком случае приходите после 10 часов, и ваши старые друзья этим тоже воспользуются».
Баронесса Елизавета Васильевна Мейендорф, с которой мы еще встретимся в следующем очерке, уехала вместе с мужем из Петербурга в последних числах апреля 1830 года[218], т. е. примерно через шесть недель после начала знакомства Вяземского с Фикельмон. Мы снова убеждаемся в том, что за этот короткий срок князь, видимо, стал уже «своим человеком» в доме Фикельмон. О том же говорит и подпись «Долли Фикельмон». Супруга посла, несомненно, видела в Вяземском прежде всего человека своего круга, а не чиновника по особым поручениям при министре финансов.
Еще более интимна другая записка:
«Прочту Шенье внимательно и с удовольствием.
Вот ваш портрет – не знаю, вполне ли он похож; я вас недостаточно знаю; но мне непонятно, почему вы пренебрежительно относитесь к доброму лицу?
Доброе лицо внушает доверие и дружбу – и мне кажется, что это очень приятно.
Д.».
Это послание можно датировать первыми месяцами знакомства («я вас недостаточно знаю») до отъезда Вяземского в Москву (10 августа 1830 года). Подпись в виде одной начальной буквы уменьшительного имени говорит об очень коротких дружеских отношениях. Большинство записок графини подписано «Долли».
Вяземский, несомненно, сберег набросанный Дарьей Федоровной карандашный (?) портрет. Возможно, что он и сейчас хранится в Остафьевском архиве.
Очень любопытна следующая записка, относящаяся к более позднему времени:
«Вот Temps, дорогой Вяземский – как ваша нога? Екатерина чувствует себя довольно хорошо и не утомлена после вчерашнего. Я говею и оплакиваю свои грехи, это значит, что до понедельника я не принадлежу здешнему миру. Но, в качестве доброго соседа, вы всегда можете постучаться в мою дверь, – быть может, она для вас и откроется.
Долли».
Попытаемся установить, когда же была послана эта приятельская записка. Записка тем более показательна, что говение, предшествовавшее исповеди и причащению, – важный религиозный акт.
Как видно из дневника графини, в семье Хитрово-Фикельмон говели дважды в году – на Страстной неделе (последняя неделя Великого поста) и перед Рождеством (25 декабря).
В 1830 году Пасха была 6 апреля. Фикельмон вместе с матерью и сестрой причащалась в страстной четверг (3 апреля). Трудно предположить, чтобы, познакомившись с Вяземским 14 марта этого года, Долли уже через 2–3 недели послала ему такую доверительную записку. В ней, кроме того, есть вопрос о состоянии больной ноги князя, а несчастный случай с ним произошел 4 июня 1830 года. Нога, сильно ушибленная при падении экипажа, долго давала о себе знать. Рождество этого года и весь следующий, 1831 год Вяземский провел в Москве. Судя по тону записки, она адресована Петру Андреевичу до переезда в Петербург его жены (октябрь 1832 года). С большой вероятностью ее можно датировать последней великопостной неделей 1832 года (4–9 апреля). Вяземский в это время жил на Моховой улице (ныне Моховая, 41) недалеко от дома Салтыковых.
Рискуя утомить читателя, я привел это довольно длинное рассуждение как пример розысков, которые приходится производить, чтобы, по возможности, установить даты записок Долли.
Об отношениях Вяземского с сестрой Дарьи Федоровны, Екатериной Федоровной Тизенгаузен, мы знаем мало, но знакомство с ней Петра Андреевича, можно думать, вскоре также перешло в довольно тесную дружбу.
В письме без даты[219], которое комментатор М. С. Боровкова-Майкова относит к маю 1830 года, Вяземский спрашивает жену:
«Есть ли у тебя два браслета одесские? В таком случае, подари мне один, но без золотой оправы, a in naturalibus[220]. Я хочу подарить его г-же Тизенгаузен, сестре Фикельмон и дочери Елизы. Не бойся, он не будет на руке соперницы. Я совершенно не влюблен в нее, но она милая и умная девица и в летах довольно зрелых»[221].
Таким образом, к этому времени, т. е. в мае 1830 года, Вяземский знает Екатерину уже настолько, что может себе позволить сделать ей подарок-сувенир[222].
6 июня 1832 года он упоминает о болезни Тизенгаузен, а 2 июля того же года пишет жене[223]: «Часто бываю по вечерам у Долли. Они все довольно напуганы нездоровьем Екатерины Тизенгаузен. У нее кашель упорный, боль в боку и под сердцем, все это продолжается уже около двух месяцев, если не более. Мать и две дочери образуют точно одну душу, и страх разрыва, если не вечного, то, по крайней мере, временного, отъездом в чужие края матери с больной дочерью расстраивает их спокойствие и единство[224]. Можно простить Елизе многие проказы за любовь, почтительность и привязанность, которые она сумела в дочерях своих поселить к себе, и за согласие, которым она связала семейство свое. Без нравственной доброты не сделаешь этого».
Вероятно, к этому же тревожному времени относится одна из записок Остафьевского архива:
«Мама больна и лежит в постели, Екатерина нездорова, а я их сиделка. Все трое мы просим вас, дорогой друг[225], прийти немного нас развеселить сегодня вечером к маме – но не очень поздно!
Долли Ф».
Сохранилась в этом архиве и шутливая записка Долли, которая лишний раз свидетельствует о том, что Петр Андреевич вполне свой в дружеском родственном кружке, собиравшемся в особняке Салтыковых:
«Мой дорогой Вяземский!
Хотя вы – гадкое чудовище без всякой доброты ко мне, я приглашаю вас прийти к нам завтра вечером, если вы хотите зараз повидать всех моих кузин[226].
Вы видите, что я рассчитываю на них, а не на себя, чтобы вы набрались храбрости и пожертвовали мне немного времени.
Понедельник».
Эта записка, вероятно, также относится к 1830 или 1832 году и, во всяком случае, послана при жизни Адели Штакельберг, скончавшейся, как мы знаем, 29 ноября 1833 года.
В Остафьевском архиве хранится единственная записка Екатерины Тизенгаузен к Вяземскому. Прочесть ее было нелегко, так как размашистый почерк сестры Фикельмон очень своеобразен:
«Графиня Тизенгаузен, по мнению князя Вяземского, довольно хорошенькая, надеясь (надеется? – Н. Р.)[227], что, несмотря на эти новые узы, князь остается для наших кузин другом, повесой взбалмошным и любезным и в особенности что мы будем его видеть повсюду каждый день.
Напишите нам, дорогой князь, вы как-то на днях были нездоровы и вчера вас не видели в театре. Мама мне поручила вам сказать, что у нас [ложа] номер 3, и мы надеемся, что вы там сегодня будете.
Екатерина Тизенгаузен».
Судя по довольно официальному обращению и подписи графини, вряд ли она писала Вяземскому сколько-нибудь часто, но это не исключает их близкого знакомства. Иначе трудно объяснить, как Тизенгаузен решилась назвать взбалмошным «повесой» (mauvais garçon) сорокалетнего отца четверых детей, камергера царского двора и т. д. «Новые узы» к тому же, вероятно, являются намеком на предстоящий в ближайшее время приезд жены Вяземского, Веры Федоровны, с детьми. Такой намек был бы, конечно, бестактностью, не будь у автора письма дружеских отношений с адресатом. Об этом же свидетельствует и кокетливое упоминание о своей внешности – мы знаем, что Екатерина Тизенгаузен действительно была очень красива.
Перейдем теперь к наиболее интересной части «переписки друзей» – серии писем Фикельмон и Вяземского, которыми они обменялись во время шестнадцатимесячного пребывания Петра Андреевича в Москве в 1830 и 1831 гг. Чиновник по особым поручениям при министре финансов коллежский советник князь Вяземский был командирован туда для устройства выставки.
Эти долгие месяцы были сложным и трудным для России периодом, главными событиями которого явились польское восстание и жестокая эпидемия холеры, сопровождавшаяся народными возмущениями. Естественно, что в письмах мы находим немало откликов на государственные и личные тревоги тех волнующих дней.
Очень большое место занимают в них личные отношения графини и князя. Нельзя забывать, что пишут друг другу люди, вообще настроенные весьма романтически. Пишут они, кроме того, в период самого расцвета романтизма, и это, несомненно, придает взаимным излияниям большого поэта и любящей литературу молодой женщины очень далекий от нашего реалистического времени характер.
Обсуждать подробно в рамках этой книги письма Фикельмон и Вяземского в хронологическом порядке мы не можем – это потребовало бы очень многих страниц.
Поступим поэтому иначе – наметим основные линии переписки и, излагая их, извлечем из текста писем лишь то, что представляется наиболее существенным.
Все, что так или иначе касается общего друга обоих корреспондентов – Пушкина, для единства изложения я переношу в следующий очерк.
Начнем с личных отношений Фикельмон и Вяземского, которым, как уже было сказано, в их переписке посвящено немало страниц.
Два первых письма, посланных Вяземским из Москвы, Е. М. Хитрово от 2 сентября 1830 года и Д. Ф. Фикельмон, по-видимому, отправленное в начале октября, пока остаются неизвестными[228].
11 октября 1830 года Долли пишет:
«Дорогой князь, ваше письмо пришло, как нарочно, чтобы успокоить нас на ваш счет. Мы с беспокойством думали о том, что с вами среди этой cholera morbus. He было бы ли много лучше остаться в Петербурге и вызвать сюда всех, кого вы[229] любите. Теперь одному богу известно, когда мы снова увидимся. Между тем мы бы очень нуждались в вашем любезном обществе в это время столь общей меланхолии, когда всех нас, как кажется, окружает атмосфера печали <…>
Сообщите нам ваши новости, дорогой князь, которые всегда будут для меня полны интереса, и верьте в мою искреннюю дружбу.
Гр. Долли Ф.».
Это первое письмо Фикельмон, надо сказать, очень сдержанно (оно, вероятно, было отправлено по почте). Подписав его своим именем и начальной буквой фамилии, она прибавила и титул, что впоследствии делала очень редко.
23 октября Вяземский отвечает длинным и сердечным посланием из Остафьева, куда он уехал вместе с семьей, укрываясь от московской холеры:
«Мне нет необходимости говорить Вам, графиня, насколько я был тронут тем, что Вы так любезно и по-дружески обо мне вспомнили. Вы должны это понять. Ваше письмо – такое же доброе и любезное, как и Вы сами, почему я его бесконечно ценю. Нужно ли мне говорить, что оно произвело на меня впечатление одной из ваших интимных вечеринок[230], впечатление, которое отвечает тому, что есть самого благожелательного и сердечного в улыбке. Вы должны вспомнить об особенностях этой симпатии, которую Вы мне разрешите рассматривать как доказательство Вашей дружбы. Да, Ваше письмо переносит меня в Ваш салон, разделенный на несколько федеральных государств, но управляемый одной и той же конституцией, основанной на любезной и разумной свободе[231] и оживляемой Вашим присутствием. Мне кажется, что я вхожу туда, покашливая, что я стремлюсь приблизиться к кружку, в котором Вы преимущественно председательствуете, что я там обосновываюсь, принимаю тамошнее подданство и приношу присягу на верность и преданность. Эти приятные иллюзии позволяют мне забыть, что cholera morbus нас разделяет и лишает меня возможности узнать, когда же я смогу явиться и возобновить приятную привычку к понедельнику, четвергу и субботе <…>».
Н. Каухчишвили считает, что «эти письма увеличивают интерес к богатой переписке Вяземского, подтверждая, что его французские письма так же живы, стилистически совершенны и богаты тонкими оттенками, как и русские»[232].
В этом отношении я не могу в полной мере согласиться с талантливой итальянской исследовательницей. Обнаруженные в дечинском архиве письма Вяземского, несомненно, важны и интересны. Искусно построенные и грамматически безупречно правильные французские фразы Петра Андреевича, конечно, много теряют в переводе. С другой стороны, надо, однако, сказать, что и в подлиннике они производят нередко впечатление несколько вычурных.
Несмотря на отличное знание языка, Вяземскому, на мой взгляд, все же далеко до блестящего и непринужденного стиля французских писем Пушкина. Этого вопроса Н. Каухчишвили не затрагивает, но вряд ли она права, считая, что французские письма Петра Андреевича стилистически равноценны русским. Написаны они с большим искусством, но последние все же – повторим снова – на наш взгляд, обычно много живее и естественнее, хотя и в его русских письмах нередко чувствуется надуманность.
Фикельмон ответила не сразу (7 декабря), и снова она скупа на слова, поскольку речь идет о ее личном отношении к Вяземскому.
«Не знаю, дорогой князь, доставит ли вам некоторое удовольствие получить это письмо – мне нужно сейчас многое вам сказать; мы продолжаем сожалеть о вас и желать вашего присутствия с настоящим чувством дружбы».
Дарья Федоровна сообщает Вяземскому, что часто говорит о нем с общими знакомыми. Дружески прибавляет: «Кого вы обожаете в данный момент? – До свидания, дорогой князь, – не забывайте меня, оставайтесь моим другом и рассчитывайте на мою дружбу».
Подпись уже без титула: «Долли Ф.».
В письме Долли сообщает еще о своей встрече с поэтом И. И. Козловым: «Я говорила о вас с Козловым. Мы кокетничаем, хотя он меня и не видит»[233].
25 декабря Вяземский отвечает из Остафьева длинным письмом, о котором трудно сказать, чего там больше – искреннего чувства или литературного мастерства крупного писателя:
«Повторяю – Вы так же добры, как и прекрасны. Постоянство, с которым Вы уделяете благосклонное внимание отсутствующему, отделенному от остального человечества пропастью в сто лье шириной и заразой, и всегда находите время, чтобы ему написать среди вихря большого света и событий, то оглушающих, то заставляющих задыхаться, – это, действительно, нравственное чудо, которое было Вам дано осуществить. Так как мы больше не живем в век чудес, по крайней мере, благодетельных (но самое большее, в век египетских язв), я признаю больше, чем когда-либо, справедливость того, что Вы говорили – в Вас есть две графини Фикельмон: утренняя и вечерняя. Ваше письмо – это утренняя эманация, и поэтому оно для меня тем более драгоценно. Действительно, несмотря на все то лестное, что Вы мне говорили, я не настолько ослеплен, чтобы поверить, что мое отсутствие в Вашем салоне оставляло бы малейшую пустоту в глазах блистательной победоносной вечерней графини Фикельмон. Но как только Вы вернулись к себе, в часы, когда Вы отрекаетесь от своей власти, в эти спокойные и тихие часы, когда ничто из того, что истинно, не теряется для сердца, мне хочется верить, что воспоминание обо мне может и должно иногда быть с Вами, как память о человеке, который питает к Вам очень искреннюю и очень глубокую привязанность».
Самохарактеристика Фикельмон, которую воспроизводит Вяземский, поэтична и удачна. Она хорошо согласуется со всем, что мы знаем о Долли, но, читая изощренно-сложные фразы писателя, невольно вспоминаешь:
Любовь Элизы и Армана, Иль переписка двух семей — Роман классический, старинный, Отменно длинный, длинный, длинный…В этом же письме Вяземский подробно и с откровенной иронией говорит о своем отношении к женщинам: «Вы меня спрашиваете, кого я обожаю в данный момент? Свои воспоминания <…> И хорошо, чтобы Вы знали, что я постоянен в любви – по-своему, разумеется. Мое сердце не похоже на те узкие тропинки, где есть место только для одной. Это широкое, прекрасное шоссе, по которому несколько особ могут идти бок о бок, не толкая друг друга. Раз только дорожная пошлина заплачена, ты уверен в том, что рано или поздно можно будет туда вернуться. Вы видите, что это почти похоже на сердца, подобные многоэтажным дворцам; но что в них неприятно, это то, что иногда, в тот момент, когда вы всего менее этого ожидаете, вас отсылают сверху вниз, чтобы очистить место для новых жильцов. Вы согласитесь с тем, что в моем случае больше равенства. Договоримся, однако, – у моего сердца, как оно ни похоже на шоссе, есть узкий тротуар, нечто вроде священной дороги, которая предназначена только для избранных, в то время как невежественная чернь идет и толпится на большой дороге. Вся эта топографическая часть мужского и, в частности, лично моего сердца, будет разъяснена в романе, который пока является лишь историей и который докажет, что можно быть одновременно влюбленным в четырех особ, быть постоянным в своем непостоянстве, верным в своих неверностях и незыблемым в постоянных изменениях. Одним словом, мой исторический роман[234], если бы таковой вообще существовал, сможет послужить дополнением к книге того аббата, которая имела название «История двадцать седьмой революции вернейшего народа Неаполя»[235].
Возможно, что Долли, одолев эти остроумные, но довольно витиеватые строки, перечла в своем дневнике запись, сделанную на другой день после отъезда Петра Андреевича в Москву (11 августа 1830 года): «Вяземский, несмотря на то, что он крайне некрасив, обладает в полной мере самоуверенностью красавца мужчины (bel homme); он ухаживает за всеми женщинами и всегда с надеждой на успех. Но ему желаешь добра, так как у него приятные манеры и он осторожен, несмотря на некоторый налет педантизма».
Как видно, за немногие месяцы знакомства Д. Ф. Фикельмон изменила свое мнение о том, что Петр Андреевич «человек без всякого педантизма» (дневниковая запись от 30 апреля 1830 года).
Фикельмон не спешила с ответом на это очень длинное послание (всего две с половиной страницы, но почерк мельчайший). Только 25 мая 1831 года она пишет просто и ласково:
«Не судите, пожалуйста, дорогой князь, по моему долгому молчанию о дружбе, которую я к вам питаю, – она, уверяю вас, очень искренняя и полна нетерпения вас увидеть! Так как ваша выставка закончена, не приедете ли вы к нам наконец? Мы вас ждем и хотим видеть; ваше место в моей гостиной остается пустым, и еще более оно пусто на маленьких интимных вечерах, которые в этом году бывают чаще. Большой свет почти не существовал зимой и вовсе не существует сейчас. Есть время повидать друзей и насладиться их любезностью. Вот почему я так жалею о вашем отсутствии <…> Приезжайте, дорогой Вяземский, и привезите нам несколько розовых и свежих мыслей, чтобы обновить наши, всецело проникнутые печалью![236]
Привезите с собой все ваше любезное остроумие и, в особенности, вашу дружбу, на которую я рассчитываю и отвечаю на нее от всего сердца».
Вероятно (и даже наверное), это письмо не осталось без ответа, но нам он неизвестен.
Письмо Вяземского от 5 июля 1831 года, всецело посвященное холерным тревогам, содержит настоятельную просьбу писать:
«К кому же мне обратиться, чтобы иметь о Вас известие, но сердце придает храбрости, и, как ни наглы мои претензии в подобный момент, умоляю Вас написать мне Вашей рукой строчку, которая известила бы меня о том, что Вы и все Ваши хорошо себя чувствуете, так хорошо, как только может быть в теперешнее время. Хочу верить, что Вы мне не откажете в этом благодеянии…»
Фикельмон ответила сейчас же (13 июля). Ее длинное письмо также полно тревоги и грустных рассуждений по поводу эпидемии, но содержит все же несколько ласковых фраз по адресу Вяземского:
«Я была очень тронута, дорогой князь, вашим письмом, таким добрым и сердечным. Я, однако, достаточно полагалась на вашу дружбу, чтобы быть уверенной в том, что вы за нас беспокоитесь <…>
Мы о вас очень сожалеем. Какое удовольствие доставило бы нам ваше присутствие здесь! В особенности сейчас, когда живешь в очень сузившемся кругу и имеешь возможность видеть только своих друзей.
Какой эгоисткой вы меня сочтете за то, что я отваживаюсь желать вашего присутствия здесь, когда мы все находимся на поле битвы?
<…> Я остановлюсь только на мысли о вашей дружбе, дорогой князь, которую люблю, которой дорожу и на которую рассчитываю. Примите уверение в вашей привязанности и скажите мне, что скоро мы вас увидим».
26 июня Долли сообщает Вяземскому ряд петербургских и заграничных новостей, но в плане личных отношений интересны только последние строки:
«Если бы я дала себе волю, я бы беседовала с вами часами. Вы знаете, дорогой князь, что у меня всегда была эта слабость. Не скрою от вас, что для меня очень досадно ваше такое долгое отсутствие.
Я сожалею о вас, как о любезном и остроумном человеке и, в особенности, как о друге, так как я очень на вас рассчитываю в этом отношении».
Письмо Вяземского от 4 августа и ответ Фикельмон, датированный 10 августа 1831 года, содержат немало политических и личных новостей, к которым мы вернемся, но только у Вяземского вкраплены отдельные фразы, говорящие о его отношении к Долли. Он пишет: «Я был очень счастлив получить два Ваших любезных письма, написанных на поле битвы, и в этом отношении вдвойне драгоценных – во-первых, как удостоверение о том, что Вы живы и здоровы, и затем, как проявление сердечной памяти, которую не колеблют шумные развлечения, памяти, неизменной среди бурь и потрясений нашего времени. О петербургских новостях, действительно, можно сказать, что они полны захватывающего интереса в данный момент, а те, которые я получил от Вас, в моих глазах, полны вечного интереса, так как таково и мое чувство к Вам».
В краткой записке от 13 августа, пересланной с кем-то в Москву, Фикельмон просит: «Покиньте, ради бога, вашу Москву и приезжайте.
Я приберегаю для вас наши самые интимные домашние вечеринки – у говоруньи (parleuse) их не было ни одной».
Свой ответ от 24 августа Вяземский начинает с резкого на вид, но по существу шутливого упрека. Дело идет о каком-то письме Долли к молодому атташе австрийского посольства графу Литта, который ненадолго приехал в Москву. Фикельмон просила Петра Андреевича позаботиться об этом ее протеже: «Кстати, я счастлив, что гадкие вещи, спрыснутые розовой водицей, которые Вы ему выложили на мой счет в Вашем письме, дошли до него лишь за несколько часов до отъезда: немного раньше они испортили бы его мнение обо мне, и он смотрел бы на меня только Вашими глазами, тогда как сейчас он ускользнул из-под Вашего влияния, и я взываю к его беспристрастию, чтобы заставить Вас покраснеть за Вашу клевету или отказаться от Ваших предубеждений, если Вы не ошибаетесь».
Вяземский был довольно обидчив, но в данном случае перед нами только дружеская пикировка. В конце письма есть строки достаточно интимные и несколько рискованные, поскольку они обращены к замужней женщине и к тому же жене посла:
«Почему Вы уговариваете меня вернуться в Петербург ради бога (pour l’amour du Ciel)? Для меня это слишком аскетическое приглашение. Нет, – если бы Вы мне сказали – ради меня (pour l’amour de moi)![237] – призыв был бы безусловным и все препятствия были бы преодолены».
Я уже упоминал, что к романтическим фразам того времени нельзя подходить с современной мерой. На мой взгляд, этот риторический вопрос Вяземского – всего лишь «изящная словесность». По всей вероятности, его так и поняла Долли.
Гораздо искренне и теплее заключительные строки письма Вяземского:
«Я на самом деле не сумею Вам достаточно выразить мою горячую благодарность за пользу, которую мне приносят Ваши письма. Они так напоминают Вас, что я не устаю ими восхищаться и их любить: иногда мне кажется что я вижу, как они зевают, но эта зевота не переходчива, не заразительна; наоборот, мое сердце при виде их расцветает, улыбается, и благодарит провидение за то, что оно однажды поставило меня на Вашем пути, потому что я рассчитываю на Вашу дружбу, а дружба, такая, как Ваша, это, несомненно одна из радостей жизни».
Здесь у Вяземского не замысловатое литературное построение, а простое, искреннее чувство…
Письмо Фикельмон от 13 октября – одно из самых интересных. Мы будем к нему возвращаться, но пока приведем лишь заключительные строки:
«До свидания, дорогой Вяземский, с тех пор, как началась наша переписка, мне кажется, что я вас знаю с детства! Думаю также, что иногда я вам говорю немало глупостей! По своей дружбе сохраните их в тайне и не открывайте даже мне самой. Я, быть может, сама себе покажусь слишком экстравагантной <…> Возвращайтесь поскорее, больше я вам не напишу ни строчки!
Долли».
Последнее письмо Вяземского из Москвы от 23 ноября 1831 года подводит итог всем его размышлениям о Фикельмон. Вяземский сам назвал его «исповеданьем веры».
«Только Вы умеете сохранять спокойствие и свежесть одиночества среди жизни, сплошь состоящей из движения, среди треска и толкотни, которые ее окружают. Вы принадлежите к этому свету или к этому большому рауту только в силу очарования, которое Вы там проявляете, но сфера Вашего интимного существования находится в более Возвышенной области, недоступной для мелких интересов, которые клубятся внизу. Это не фразы и не так называемая поэзия, которую я здесь сочиняю. Это исповеданье веры. Это то, чем я больше всего восхищаюсь в Вас, даже больше, чем Вашим божественным правом на звание прелестной женщины, звание, в моих глазах всемогущее и такое, которое имеет во мне самого крайнего, самого меттернихоподобного, самого абсолютного ревнителя. Именно это необычайное свойство, которое преобладает в Вас в высшей степени, придает Вам аромат простоты, добродушия, который так привлекателен в Вас и так заметен среди тех ярких красок, которыми расписано Ваше общественное бытие. Больше чем когда-либо я ценю и люблю в Вас это свойство, потому что ему я обязан Вашей ободряющей и драгоценной дружбой. Именно оно инстинктивно послужило Вам для того, чтобы узнать меня, различить в толпе и привлечь к себе. Без него я прошел бы незамеченным, и если бы остановился перед Вами, что, впрочем, наверное бы произошло, я смог бы лишь любоваться Вами издали и молча, тогда как сейчас я имею счастье Вам это сказать и надеюсь, что Вы мне не откажете поверить в то, насколько мои чувства к Вам исполнены уважения, привязанности и преданности».
Транскрибируя и переводя это «исповеданье веры», я снова подумал – слов нет, умеет князь Петр Андреевич владеть французской фразой, отлично умеет… Очень сложные конструкции хорошо уравновешены, ясны, логичны, но как жаль, что свои мысли и чувства он почему-то счел нужным изложить здесь языком, напоминающим рассуждения даже не XVIII, а XVII века. Вероятно, это наследие его учителей – эмигрантов, воспитанных на классической французской прозе времени Людовика XIV…
Долли ответила 12 декабря, по обыкновению, просто и искренне:
«Но прежде всего тысячу раз благодарю вас, дорогой Вяземский, за все милые и добрые вещи, которые вы мне говорите. Хотя я вполне сознаю, что вы судите обо мне лишь сквозь снисходительную призму дружбы, и что я далеко не то, что вы думаете, тем не менее мне было чрезвычайно приятно прочесть ваше письмо!
Не думайте, однако, что инстинкт побудил меня сблизится с вами и искать в вас друга! Это мой добрый Гений, я твердо в это верю, так как всегда считала даром провидения дружбу с выдающимся человеком. Теперь я разрешаю вам предпочитать мне всех хорошеньких женщин, ухаживать за ними всеми, вовсе не замечать меня даже в моей гостиной, потому что я рассчитываю на хороший уголок в вашем сердце, откуда я не хочу, чтобы меня выжили и где я останусь вопреки вам самому»[238].
В двух последних письмах Вяземский и Фикельмон как бы подводят итог своим отношениям того времени.
Попытаемся подвести его и мы.
Что перед нами? Переписка влюбленных? «Роман классический, старинный» сорокалетнего поэта и молодой жены стареющего посла?
С полной уверенностью можно ответить – нет. Это не любовь – ни с той, ни с другой стороны. Достаточно вспомнить иронические слова Вяземского о том, что его сердце подобно широкому шоссе, где есть место для многих. Женщине, которую любят, таких слов не говорят.
Нет оснований сомневаться и в искренности Фикельмон, которая множество раз повторяет слово «дружба». Да, большая, настоящая дружба с умным, талантливым человеком, который ее заинтересовал. Дружба, но – как и у Вяземского – не любовь. Вспомним дневниковую запись графини о том, что Вяземский, хотя он и очень некрасив, обладает самоуверенностью «красавца мужчины» – «ухаживает за всеми дамами и всегда с надеждой на успех». О любимом человеке так тоже не пишут – даже для себя…
Итак, дружба, но все же необычно близкая, необычно глубокая – особенно со стороны графини Долли (Вяземский, несмотря на все свои нежные слова, суше и рассудочнее). От такой дружбы недалеко и до любви. «Amitié amoureuse» – «влюбленная дружба», – говорят французы, и я думаю, что таковы именно были в это время отношения Фикельмон и Вяземского.
Перейдем теперь к другим «лейтмотивам» их переписки 1830–1831 гг.
Cholera morbus… Этим научным термином, принятым медициной того времени, страшную болезнь, проникшую в Россию с Востока, обозначали тогда и в частных письмах.
Я уже цитировал тревожные упоминания о холере в письме Фикельмон от 11 октября 1830 года и Вяземского от 23 октября. В конце года поблизости от Остафьева, куда Вяземский уехал вместе с семьей, холеры еще нет, и 25 декабря он упоминает об эпидемии только вскользь. В свою очередь, 25 мая 1831 года Фикельмон сообщает лишь, что зимой совсем не было больших светских собраний (очевидно, из-за опасности заражения, а также из-за войны в Польше). 26 июля Долли посвящает холере немало строк, но, быть может, не желая волновать своего приятеля, умалчивает о самом главном – холерном бунте на Сенной площади. Живя в Петербурге, она не могла о нем не знать[239]. Дарья Федоровна сообщает Вяземскому, что она посылает ему это письмо с графом Литта «для того, чтобы у вас были вести о нас и чтобы вы знали, что мы живем, сохраняя мужество и здоровье среди холеры, которая, впрочем, хвала Богу, со дня на день уменьшается. Но так как нам, по-видимому, назначена судьбой длительная пора меланхолии, то, по мере того, как устраняется одна причина, рождаются другие – волнения в поселениях и, дальше, в Кенигсберге, которые доказывают, что эпидемия холеры влечет за собой для народов новую нравственную[240] эпидемию – все это размышления, которые стремительно прогоняют все радостные мысли, готовые возродиться. У нас еще нет подробностей о Кенигсберге кроме того, что там произошло восстание из-за карантинов, и в возмутившихся граждан стреляли картечью».
Уже по этому письму мы видим, что и в молодые годы (в это время ей было 27 лет) Долли, как и впоследствии, интересовали и волновали вопросы, связанные с возникновением народных возмущений. Однако для Дарьи Федоровны эти события – пока лишь материя для историко-философских размышлений. Вяземский и особенно Елизавета Михайловна Хитрово воспринимают их гораздо непосредственнее. 5 июня Петр Андреевич пишет:
«Вы должны в какой-то мере воздать мне должное, чтобы не сомневаться в том, что прискорбные и ужасные новости, которые приходят из Петербурга, еще чаще, чем когда-либо, направляют мои мысли и интересы моего сердца к Вам и ко всем, кто Вам дороги. Я горячо желаю, чтобы эти испытания и потрясения не принесли ни малейшего вреда Вашему здоровью. Что касается самой холеры, не бойтесь ее: она поражает только тех, кто ею слишком бравирует или слишком ее боится. Это враг, с которым надо поступать без фанфаронства и без малодушия, как, впрочем, всегда разумно поступать со своими врагами. Оградите себя благородной безопасностью и пассивной храбростью. Но в бурных и сложных обстоятельствах, среди которых мы находимся, следовало бы не иметь ни сердца, ни нутра, ни нервов, чтобы быть защищенной от всех неожиданностей. Я бы хотел знать, что против этих натисков Вы вооружены безропотностью и достаточным запасом физических сил, чтобы быть ко всему готовой. Как тягостно среди этой бури пребывать еще в тумане неизвестности, и это как раз моя участь».
Что можно сказать об этом длинном абзаце письма Вяземского?.. Конечно, он искренне взволнован бунтом на Сенной площади. Вероятно, видит в нем призрак новой пугачевщины, которой князь опасался в молодости. Взволнован и эпидемией, которая может не пощадить его приятельницу и ее близких.
Все это верно, но как много неисправимой риторики в рассуждениях Вяземского!
Через неделю (12 июля) Е. М. Хитрово написала ему трагическое и довольное сумбурное письмо – одно из самых трагических в ее небольшом эпистолярном наследии. Писала она вообще много, но друзья Елизаветы Михайловны, в том числе и Пушкин, лишь изредка сохраняли ее письма, а семейная переписка Хитрово неизвестна. Привожу поэтому остафьевский документ почти полностью:
«Вы меня достаточно знаете, дорогой князь, чтобы не сомневаться в том, что мое молчание должно иметь очень серьезные основания. Смерть великого князя Константина, холера, которая нас жестоко удручала (первое время мы теряли до восьмисот человек в день), и больше всего этого – три дня бунта, которые привели меня в негодование, – так подействовали на мои нервы, что я была совершенно неспособна думать и после нескольких дней борьбы с собой заболела судорожной лихорадкой (fèvre des crampes). Я пролежала в постели неделю, и от этого осталась нервозность, столь же неприятная для меня, как и для моих друзей.
Но каково это было для такой впечатлительной особы, как я, – достаточно трех дней, какие мы пережили, чтобы болеть от этого годами.
Не желать подчиниться очевидности, – верить в яд – когда он находится в воздухе, убивать врачей, когда их нам не хватает, нападать на несчастных, безобидных поляков – все это так жестоко, что можно лишь плакать над столь отсталым народом и действительно можно только удивляться терпению государя. Я увидела предел всех наших несчастий, дорогой князь, – это прелестное платье, эта ваша память[241], было, я думаю, надолго моей последней приятной мыслью.
Болезнь является здесь чисто аристократической – бедный граф Ланжерон[242] заразился ею несмотря на все принятые им (вполне бесполезные) меры предосторожности. Но среди обскурантов (?)[243] не проходит дня, чтобы не оплакивали кого-нибудь из знакомых.
Впрочем, болезнь уменьшается, и благодаря этому все [неразборчиво] мы заняты платьями, и бывают моменты, когда забывают о том, что даже вдыхать воздух для нас опасно!»
В эти же дни (13 июля) Фикельмон писала Вяземскому о холере со скорбным мужеством:
«Мы прошли через очень мрачное и горестное время – независимо от ужаса, который внушали народные волнения, это постоянное беспокойство за всех, кого любишь, за всех, кого знаешь, это каждодневная скорбь при известии о смерти кого-либо, кого накануне видели здоровым, – все это вносило в душу тревогу и ни с чем не сравнимую печаль! Мы начинаем понемногу успокаиваться и утихать; болезнь сильно уменьшилась, но нас еще окутывает пелена меланхолии – и множество черных одеяний, которые видишь повсюду, печально напоминает обо всех пролитых слезах. Из нашего общества мы потеряли княгиню Куракину и бедного господина Ланжерона, остроумного, любезного и настоящего друга своих друзей <…> Мы, благодарение богу, очень счастливо прошли через это горестное время – никто из членов семьи и даже из наших слуг не заболел холерой – да поможет бог, чтобы и дальше так продолжалось! Без чрезмерного страха и ничуть не запираясь, мы принимаем большие предосторожности в отношении еды и старательно избегаем простуды – впрочем, в нашем образе жизни ничего не изменилось, и мы даже пытаемся развлекаться и быть веселыми, поскольку сейчас это возможно! Я полна мужества, но иногда меня охватывает род мучительной тоски, когда я останавливаюсь на мысли о том, что среди этой ужасной эпидемии находятся все мои сокровища – мама, сестра, муж и моя девочка!
У нас прекрасная и постоянно жаркая погода – небо, как кажется, посылает нам свои лучшие улыбки, чтобы нас утешить и сказать, что на этой земле страдания так же преходящи, как и радости. Острова, как никогда, прекрасны, полны цветов, радуют взор. Граф Станислав Потоцкий[244] был окружен цветами – вскоре они окружили лишь его гроб. Эта смерть тоже повергла нас в грусть, хотя я и не особенно его жалею – я никогда его близко не знала; но видеть, как умирает человек, который так сильно любил жизнь, и видеть его конец в то время, когда он меньше всего об этом думал, – это настраивает на очень серьезные размышления. Сегодня я не в состоянии заняться ни одной мыслью, которая была бы более спокойной или окрашенной в более радостный цвет».
10 августа Дарья Федоровна с облегчением сообщает:
«Она (эпидемия холеры. – Н. Р.), как бы то ни было, начинает нас покидать, хотя еще третьего дня было десять умерших. Но время тревог наконец прошло, и это большое счастье! Можно привыкнуть ко всему, но не к ужасу дрожать 24 часа в сутки за всех, кого любишь».
Теперь тревожная пора наступает для Вяземского. 24 августа он пишет из Остафьева:
«Чтобы вернуться к нашему разговору, или, скорее, к апокалипсическому зверю, скажу Вам, что мы со всех сторон окружены холерой, которая обделывает свои мелкие злые делишки в соседних деревнях. Наша пока, слава богу, не затронута. Однако теперь мы настолько втянулись в боевую жизнь, что, посреди эпидемии, у нас такой вид, точно мы находимся в своей стихии. Я совершенно не могу себе представить, что может со временем заменить на балу достойным образом котильон, и, по его примеру, другие танцы, ни холеру morbus и восстания в наших заботах и газетах».
Петр Андреевич остается верен себе – и среди холерных тревог он не может обойтись без острого словца…
Для семьи Вяземских эпидемия также закончилась благополучно.
Вперемежку с тоскливым лейтмотивом cholera morbus в переписке друзей слышатся грозные раскаты другой тревоги. Польское восстание… Оно началось варшавскими событиями 17, 18 и 19 ноября 1830 года. Первое печатное известие о событиях в Варшаве появилось 28 ноября. В переписке первое упоминание о восстании мы находим в письме Д. Ф. Фикельмон от 7 декабря 1830 года:
«Вот мы мрачнее, печальнее, меланхоличнее, чем когда-либо! Мы горевали по поводу холеры, по поводу событий в Европе и мы поражены событиями в Польше! Вы некоторое время жили в Варшаве и привезли оттуда достаточно воспоминаний, чтобы быть глубоко опечаленным этой прискорбной историей. Здесь, как вы легко себе это представите, нет речи ни о чем другом! Кроме того, во всех умах полностью отсутствуют все иные мысли, кроме политических, так как в этот печальный век политика настолько связана со всеми личными интересами, что она стала для каждого, так сказать, семейным делом и, не будучи ни розовой, ни радостной, уносит последние следы радости.
Что делает наша М-me Вансович[245], я уверена, что она одна из самых фанатичных?»
25 декабря Вяземский отвечает из Остафьева:
«Вы правы, полагая, что варшавские события должны меня занимать. Они действительно глубоко опечаливают мое сердце. Я нахожу в этой кровавой драме столько знакомых и дружеских имен среди жертв и главных участников, которые не замедлят стать жертвами, что чтение газет заставляет трепетать мое сердце так, как если бы я присутствовал при ужасном спектакле. Я вижу там лишь печальную неизбежность, которая толкает эту столь несчастную страну к окончательной гибели. Очень боюсь, чтобы наша дама (Вансович. – Н. Р.) не бросилась в свалку, тем более что я вижу фамилию ее мужа среди участников. Впрочем, это соображение, которое может скорее успокоить, так как наша приятельница не очень-то принадлежит к числу тех, о которых можно сказать: жена и муж составляют одно целое».
Напомним, что взгляды Пушкина в течение всего восстания были очень отличными от настроений Вяземского и Фикельмон.
Мысли Д. Ф. Фикельмон, вызванные польскими событиями, несомненно, близки к взглядам Вяземского. 25 мая 1831 года она пишет Петру Андреевичу:
«У нас май, такой же прекрасный и блестящий в воздухе и в небе, как он печален, беспокоен и тревожен на земле, – я не знаю, разделяете ли вы в вашей спокойной Москве все болезненное волнение, которое причиняет здесь эта несчастная и такая длительная польская история; что касается нас, мы всецело ею заняты».
В семье Фикельмон-Хитрово, несомненно, разделяли широко распространенный тогда взгляд на политику великого князя Константина Павловича как на одну из главных причин польского восстания. 24 февраля 1831 года Дарья Федоровна записывает:
«Великий князь Константин, все поведение которого непостижимо, после того как он послужил причиной таких ужасных несчастий, благодаря своему малодушию и отсутствию энергии в момент взрыва, а также благодаря придирчивому и тираническому нраву в течение пятнадцати последовательных лет, присутствует теперь при этих ужасных битвах. Он находится там и видит, как истребляют эту самую польскую армию, его детище и кумир, которую он, однако, столько же мучил, сколько, по его словам, любил! Его присутствие в армии непристойно и оскорбительно во всех отношениях!»[246]
Вряд ли можно сомневаться в том, что Долли в данном случае пересказывает мнение мужа и матери, хотя и не называет их.
Когда Константин Павлович умер, Е. М. Хитрово писала Вяземскому 12 июля 1831 года: «Наш несчастный великий князь за эти последние месяцы искупил все, за что он должен был себя упрекать».
Роль австрийского посла при русском дворе в это время была, конечно, особенно сложной и деликатной, но конкретных данных о ней мы пока знаем очень мало.
Н. Каухчишвили сообщает в своей книге, что в Венском Государственном архиве «одна папка фонда Russland целиком посвящена польскому вопросу и почти вся корреспонденция Фикельмона по этому вопросу извлечена из других папок и собрана здесь»[247]. По словам автора, «во время русско-польского конфликта австрийцы придерживались осторожного нейтралитета; они делали вид, что не знают о присутствии в Галиции многочисленных поляков, несмотря на повторные настояния Нессельроде, требовавшего выдачи «военных преступников»[248], укрывшихся на австро-польской территории. Фикельмон старался при наличии этих требований вести дело с искусной осторожностью, чтобы не нанести ущерба ни той, ни другой стороне».
В своем дневнике Долли Фикельмон польскому восстанию отводит немало страниц, но политических взглядов мужа по этому вопросу ни в дневнике, ни в своих письмах того времени не касается вовсе. То же самое надо сказать и о Е. М. Хитрово.
В Польше войска после многих неудач перешли под начальством нового главнокомандующего фельдмаршала И. Ф. Паскевича-Эриванского[249] к решительным действиям, и 27 августа после ожесточенного двухдневного штурма Варшава сдалась.
24 августа Вяземский в осторожной форме (видимо, по почте, а не с оказией) пишет Фикельмон о польской войне, очевидно, в связи с прениями во французской палате депутатов, где ряд ораторов настаивал на вооруженной помощи полякам:
«Вы находитесь на авансцене и знаете уже больше, чем мы, о решениях великих вопросов, вынесенных и разбираемых в последнее время на (французской. – Н. Р.) трибуне, которая является ящиком Пандоры или современным храмом Януса[250]. Я думаю, однако, что мир перевесит. Я читаю с дрожью и скорбя душой о том, что делается в Варшаве. Боюсь подтверждения и в то же время нетерпеливо хочу узнать точно, что же там происходит».
Письмо Д. Ф. Фикельмон от 13 октября по поводу «Бородинской годовщины» Пушкина мы рассмотрим в следующем очерке.
Приведем еще те строки Вяземского, в которых он говорит о смерти княгини Лович, вдовы великого князя Константина Павловича. 23 ноября Петр Андреевич пишет Долли:
«Последние празднества (в Москве. – Н. Р.), которые должны были состояться, отменены по случаю кончины княгини Лович. Говорят, что это известие очень огорчило императрицу, и она много плакала. Итак, предназначение судьбы свершилось. Она умерла в годовщину польского восстания. Это античная трагедия по всем правилам. Там были налицо рок, ужас и жалость, и единство времени было соблюдено. Я очень огорчен тем, что не повидал княгиню еще раз на этой земле перед развязкой драмы».
Многочисленные предшествующие упоминания о княгине Лович в переписке Вяземского и Фикельмон я опускаю. Приведу лишь слова его в письме от 4 августа 1831 года:
«Я всегда очень ее уважал и был к ней привязан, а моя жена была с ней в дружеских отношениях, переживших все изменения, которые произошли в ее положении, а также и в нашем по отношению к великому князю»[251].
Косвенно к польским делам относится также упоминание Долли (в записке, пересланной Вяземскому в Москву и датируемой 13 августа 1831 года) об отъезде французского посла: «Мы теряем <…> господина Мортемара, который, к нашему большому сожалению, через два дня уезжает во Францию».
Идя навстречу общественному мнению страны, настаивавшему на вмешательстве в пользу повстанцев, король Луи-Филипп отправил в январе 1831 года Мортемара в Петербург со специальной миссией. Он уже состоял в 1828–1830 гг. послом в России и заслужил уважение. Ему было поручено добиваться прекращения военных действий против поляков. Миссия успеха не имела. В половине августа Мортемар уехал во Францию – по некоторым сведениям, вследствие недовольства Николая I его демаршами, воспринятыми как вмешательство во внутренние дела России. Долли Фикельмон, судя по ее записке, считала, что в Петербург Мортемар больше не вернется.
В действительности Мортемар, вернувшись в Россию, оставался послом до 1833 года[252].
По всей вероятности, Мортемар, которому Дарья Федоровна очень симпатизировала, бывая во время польского восстания в ее салоне, поддерживал полонофильские настроения хозяйки, хотя прямых указаний на это в ее дневнике нет. Возможно также, что Пушкин встречался в ее доме с Мортемаром после возвращения Мортемара в Петербург.
Другие внешнеполитические вопросы в переписке Фикельмон и Вяземского за 1830–1831 гг. затрагиваются лишь изредка. Только события, связанные с образованием Бельгии, совсем недавно отделившейся от Голландии, очень интересуют Дарью Федоровну. На это у нее есть личные основания – дружеские отношения семьи Хитрово с первым бельгийским королем Леопольдом I, который, будучи герцогом Саксен-Кобургским, встречался с Елизаветой Михайловной и ее дочерьми. В письмах к ней герцог называл молодых графинь Тизенгаузен «своими милыми приятельницами», а младшую из них – «графиней Доллинькой» (la comtesse Dolline)[253].
26 июля 1831 года Дарья Федоровна сообщает:
«Пока что мы читаем бельгийские сообщения о короле Леопольде и его восшествии на престол. Все было хорошо со стороны нации, равно как и впечатление, которое производит новый монарх; посмотрим, как к этому отнесется Голландия. В былое время мы в нашей семье близко знали этого короля Леопольда – у него красивое, благородное лицо, достойная осанка; он разбирается в больших делах; всегда был очень честолюбив. Что касается остальных черт характера, то трон всегда вызывает в нем такие большие изменения, что трудно заранее судить, каким король станет в будущем. Ему понадобится твердость и удачные замыслы. Пусть Бог ему их пошлет, чтобы по крайней мере с одной стороны восстановилось спокойствие!»
10 августа Фикельмон снова возвращается к бельгийским событиям, опасаясь, как бы они не вызвали большой европейский пожар:
«Что вы скажете о новых событиях в Европе? О внезапном вторжении Оранского с 50 000 солдат в Бельгию и о еще более быстром марше французов, прибывших, словно по волшебству, на помощь королю Леопольду? В данный момент эта война, возможно, окончена или же она является первой искрой длинной и ужасной серии битв! Все теперь совершается так быстро, и чрезвычайные события следуют одно за другим с такой скоростью, что в самом деле кажется, будто бы и политика превратилась в паровую машину!»
Было бы интересно выяснить, насколько в данном случае самостоятельны политические мысли молодой «посольши», но, к сожалению, мы не знаем, что думал в это время о волнующих ее событиях граф Шарль-Луи.
В письмах Вяземского мы не находим откликов на бельгийские тревоги Долли. В области политики он был тогда всецело занят польскими делами. Петр Андреевич зато живо отозвался на увлечение (можно думать, временное) своей приятельницы идеями аббата де Ламеннэ (1782–1854). Этот французский священник стал главой своеобразного направления в католицизме, сторонники которого, группировавшиеся вокруг газеты «L’Avenir» («Будущее»), выдвинули лозунг «бог и свобода». Принимая революцию, они пытались примирить католическую религию с идеей политической и религиозной свободы.
Движение, возглавляемое Ламеннэ, было тогда заметным явлением в идейной жизни католического Запада. Ламеннэ был известен и Пушкину. Поэт мельком упоминает о нем в письме к Вяземскому от 2 января 1831 года и несколько обстоятельнее в письме к Е. М. Хитрово от 26 марта того же года. С газетой «L’Avenir» Пушкин, находясь в Москве, ознакомиться не смог.
Орган радикально настроенного аббата, пытавшегося совместить идеи утопического социализма с учением Христа, существовал недолго (с октября 1830 года до ноября 1831-го).
По требованию папы Григория XIII газета перестала выходить. В 1834 году Ламеннэ порвал с церковью, а в 1848 году был избран в Национальное собрание, где примкнул к крайней левой оппозиции.
Долли Фикельмон, как известно, до конца жизни оставалась православной, но ее симпатии к неокатолицизму не должны нас удивлять, так как догматическим различиям между православием и католичеством она придавала мало значения.
Вернемся теперь к письмам Долли к Вяземскому. 25 мая 1831 года она сообщает:
«Я дам вам прочесть «L’Avenir» – газету, которую редактирует аббат де Ламеннэ и которая является эпохальной. Там совсем молодой Монталамбер, мыслящий, как ангел, и пишущий в замечательном для этой семьи духе[254]. Это вам будет интересно».
10 августа Фикельмон снова возвращается к неокатоликам:
«Приезжайте же, чтобы я дала вам прочесть «L’Avenir», который редактируют очень, очень замечательные люди, красноречивый и мужественный голос которых снимает покровы со всех тайн этого времени, такого бурного, но и такого чреватого будущим! Господа Лакорден и де Монталамбер находят пророческие, глубокие и полные вдохновения слова! Они молоды, и кажется, что провидение избрало их такими для того, чтобы их душа, полная энергии, силы и еще чистая, была лучше способна выражаться правдиво, убежденно и с увлечением.
Вы, несомненно, читали описание празднеств по случаю трех славных июльских дней[255]. Лакордер говорит по поводу празднества в Пантеоне, где было все, кроме религиозных чувств и того, что могло их разбудить: «шуты, которые желают при помощи небытия изобразить вечность».
Не берусь утверждать, что утопический социализм сам по себе некоторое время воодушевлял Долли Фикельмон. Она воспринимала его по Ламеннэ в своем уже утопическом сочетании с католицизмом – получалась своего рода утопия в квадрате. Однако знакомство, хотя бы и поверхностное, с ранним социализмом, несомненно, обогатило ее в интеллектуальном отношении.
На это письмо Вяземский 24 августа ответил довольно подробно, как всегда вежливо, но не без наставительной иронии:
«Я ничего не читал в «L’Avenir», но я знаю талант его редакторов благодаря процессу «L’Avenir»[256] и разделяю Ваше восхищение перед их красноречием, не разделяя в то же время их доктрин. Мне кажется, что они приписывают католицизму то, что принадлежит всему христианству, из дела человеческого рода они делают дело Рима. Кроме того, признаюсь Вам, что я не люблю мистицизма в политике.
Он вырождается в мистификацию. Мир погубили фразы. «Боже, избави нас от лукавого и от образной речи! Иисусе Спасителю, спаси нас от метафоры!» – говорил добрый виноградарь Поль-Луи Курье[257]. Науки, политика, дипломатия, религия, все они создали для себя соответственный жаргон, и народ в нем ровно ничего не понимает. Однако именно он является главным собеседником, и вот почему так часто он отвечает невпопад. Сейчас мы присутствуем при крупном разговоре: диалог ужасающе оживленный, а ответы быстрые и кровавые. Посмотрим, за кем останется последнее слово»[258].
Должно быть, Дарья Федоровна немало размышляла над этим письмом своего друга, где религия поставлена в один ряд с наукой, дипломатией и политикой…
Я остановился подробнее на этом эпистолярном обмене мнениями между Фикельмон и Вяземским, так как он может служить прообразом тех политических споров, которые велись в салоне Долли и ее матери. Об их конкретном содержании мы знаем очень немного, а между тем и для биографии Пушкина эти разговоры представляют несомненный интерес, так как поэт наряду с Вяземским и Александром Ивановичем Тургеневым принимал в них участие в течение ряда лет. Судя по разбираемой нами переписке, диапазон «дискуссий», как мы бы сказали сейчас, был очень широк. Возможно, что завсегдатаи салона говорили порой в экстерриториальном посольстве и о такой небезопасной тогда материи, как утопический социализм…
Временное увлечение Дарьи Федоровны идеями Ламеннэ интересно для нас и в другом отношении. Красноречивый аббат в своей газете не только защищал всеобщее избирательное право, свободу печати, союзов и преподавания, а также считал необходимым отделение церкви от государства.
Вяземскому Фикельмон писала только в общей форме о религиозных и историко-философских взглядах Ламеннэ и его сотрудников. Петр Андреевич, как мы видели, с ними в корне не согласен. К католицизму он относился с интересом и уважением, но все же эта форма христианства оставалась для него идейно чуждой. Несмотря на весь свой европеизм Вяземский прежде всего человек убежденно русский (но не славянофил). Он к тому же знатный барин, коренной москвич. В этом отношении характерно его письмо к Фикельмон от 23 ноября 1831 года – последнее письмо из Москвы:
«У нас здесь был ряд довольно блестящих праздников. В этих случаях Москва принимает торжественный вид. Всегда в таких зрелищах есть нечто национальное и народное. Этот Кремль, который господствует над городом, так же как все воспоминания и впечатления, эти волны народа, которые буквально днем и ночью приливают и отливают, следуя за всеми передвижениями царя и царицы, эта связь с землей, этот русский дух, который всюду чувствуется, уносят зачастую мысль за тесные пределы дворца и салона. Здесь чувствуется, что существует неизменная сила, вовсе не искусственная, не вызванная обстоятельствами, и если придают так много значения тому, что ты русский, то, плохо это или хорошо, но ты себя чувствуешь именно в Москве, а не в ином месте».
Вяземский не любил Николая I. Добиваясь ради семьи принятия на государственную службу, с очень тяжелым чувством писал ему незадолго до этого свою покаянную «Исповедь». Республиканцем он в 1831 году, конечно, не был, как не был им и раньше, но было бы ошибкой в его описании народных толп, стремящихся взглянуть на царя и царицу, видеть внезапный прилив верноподданнических чувств. Петр Андреевич только излагает Долли свои впечатления. Зато его, несомненно, искренние строки о Москве – это «исповеданье веры» русского патриота, участника Бородинского боя. Не знаем, какое впечатление они произвели на адресатку…
Однако для Долли Фикельмон Москва, Кремль, соборы, – наверное, и Иван Великий, а может быть, и царь-колокол и царь-пушка – не были только словами. Все это она однажды видела и, конечно, не забыла.
До сих пор едва ли не единственное упоминание о том, что во время путешествия в Россию в 1823 году Е. М. Хитрово с дочерью побывали в Москве, имелось в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 1 октября 1823 года[259].
21 октября Долли Фикельмон пишет оттуда мужу[260]:
«Мы здесь с позавчера, со дня рождения моей милой бабушки[261]3. Мы совершили сюда очень долгое и очень скучное путешествие из Петербурга: долгое, потому что дороги ужасны, а ночи так темны, что продолжать путь нет возможности и приходится ложиться спать. Мы потратили ровно неделю на этот печальный путь, потому что расставание (с родственниками. – Н.Р.) было крайне грустным, и мы до сих пор подавлены и удручены».
Таким образом, получилось у Елизаветы Михайловны с дочерьми нечто похожее на путешествие Лариных:
И наша дева насладилась Дорожной скукою вполне: Семь суток ехали оне.В Петербург, как видно из контекста, путешественницы больше не возвращались. С разрешения своего министра Фикельмон выехал им навстречу в Вену. К сожалению, из России маршрута матери и дочерей мы не знаем (может быть, через Киев?), но ясно одно – Долли Фикельмон однажды все же побывала в Москве, совершила очень большое и не очень комфортабельное путешествие по России…
Вернемся снова к переписке Фикельмон и Вяземского в 1830–1831 гг.
В тревожное для обоих корреспондентов холерное время мы, естественно, находим в их письмах лишь немного упоминаний о том, что они читали в эти печальные месяцы. Некоторые из интересных упоминаний я уже попутно привел.
С окончанием эпидемии, пощадившей ее семью, но унесшей немало знакомых людей, Долли снова принимается за книги. Читает и, по обыкновению, философствует: «Мы поглощаем каждую новость, что касается книг. В данное время я читаю то, чего раньше совсем еще не знала, – письма Курье, которые я нахожу остроумнее и лучше написанные, чем письма М-mе де Севинье[262], – эти, надо сказать, легкомысленны, но принято считать, что в наш век можно все читать без стеснения. События нравственного порядка, правда, сейчас настолько серьезны, настолько значительны, что не остается возможности увлечься легким чтением.
Благоразумие укрепилось в тени скорби, потому что какой человек с душой живет сейчас не скорбя» (13 октября 1831 года).
«Знаете ли вы, что Виктор Гюго написал премилые стихи, полные прелести, гармонии, религиозного чувства? Это молитва, обращенная к его ребенку; в них глубокая набожность, как у Ламартина, но с оттенком горести земной, светской, отчего они еще трогательнее. Я бы вам их послала, если бы не надеялась увидеть вас вскоре здесь – удивительно, что автор, любимый молодой Францией[263], говорит о Боге, как следует говорить о нем» (12 декабря 1831 года)[264].
Интересен отзыв Фикельмон о романе Бенжамена Констана «Адольф», но он тесно связан с вопросом об изучении Дарьей Федоровной русского языка, к которому мы теперь и обратимся. До сих пор по этому поводу было известно лишь часто цитируемое указание Е. М. Хитрово в письме к Пушкину от 9 мая 1830 года: «Г. Сомов[265] дает уроки послу и его жене <…>». Речь шла, несомненно, об уроках русского языка, незнакомого графу и забытого графиней за долгие годы пребывания в Италии[266].
В письмах 1831 года изучению русского языка Долли посвящено немало строк. 4 августа Вяземский в свое, как всегда, французское письмо вставляет три слова по-русски («житье-бытье подмосковное»). Затем он продолжает – снова по-французски:
«После представленных Вами мне доказательств Ваших успехов в изучении русского языка, о которых я мог судить по стилю надписанного по-русски адреса, я ничуть не раскаиваюсь в том, что позволил себе эту двуязычную смесь, которую Вы отлично поймете. Должен Вас все же предупредить, для неприкосновенности моего родового имени, что я не Сергеевич, а Андреевич, а для чести нашего квартала, что Тверская – это не переулок, а улица, и притом еще одна из самых нарядных; что же касается моего дома, то он скромно приютился в Чернышевском переулке[267]. За исключением этих маленьких ошибок, все остальное – верх изящества и орфографии. Я могу только удивляться рассудительности, с которой Вы употребляете букву «ять», этого сфинкса, недоступного для многих наших писателей и для большинства наших государственных мужей. Воздадим за это хвалу Вашей понятливости и отеческим заботам господина Сомова. Если бы я мог раздавать места, я бы сразу назначил Вас министром народного просвещения, будучи твердо уверен в том, что Вы не скомпрометируете ни наших ученых, ни нашу орфографию, за что я не мог бы поручиться в отношении других. Говорят, что император Александр, чтобы избежать трудностей, самодержавно исключил эту букву из своего императорского алфавита: это также значило разрубить Гордиев узел».
Неисправимый насмешник, князь Вяземский не удержался от искушения пустить шпильку по адресу покойного царя, хотя, несомненно, знал, что Дарья Федоровна, как и ее мать, относится к памяти Александра I с благоговением…
В записке, посланной в Москву 13 августа, она сообщила: «Ваш адрес был неправильно написан благодаря маме, которая неверно сказала ваше отчество». Адрес письма от 12 декабря того же года аккуратно и красиво надписан по-русски с должными нажимами:
Его Сиятельству Милостивому Государю Князю Петру Андреевичу Вяземскому в Москве Близ Никитской Чернышевском Переулок В собственном доме.Как видим, с русскими падежами Долли тогда еще не справлялась. Этот адрес – единственный образец ее русского почерка среди более чем двухсот фотокопий, полученных мною из ЦГАЛИ.
Надо, однако, сказать, что уверенное и вполне русское написание букв все же свидетельствует о том, что в детстве Даша Тизенгаузен по-русски писать умела. В отношении ее сестры Кати мы это знаем достоверно – будучи маленькой девочкой, она писала дедушке Кутузову и по-русски[268].
13 октября 1831 года Дарья Федоровна пишет Вяземскому о своем русском языке с некоторыми подробностями:
«Пока что я вас благодарю за Адольфа, который всегда был одним из моих любимых произведений, хотя герой создан для того, чтобы заранее разочароваться во всех молодых людях на свете. Этот образец для подражания размножился, но следует его знать. Я не стану читать «Адольфа» (разумеется, вашего)[269] с учителем и как урок: это было бы средством тотчас же от него устать – прочту одна, долго размышляя. К тому же я уже давно не нахожусь в руках господина Сомова – и даже не беру русских уроков. Не знаю, почему и как, но мое ухо так хорошо привыкает к русскому языку, что, когда наберусь храбрости, чтобы им заняться, я, надеюсь, быстро его выучу[270]. Но побеждать трудность всегда является работой, для которой нужно усилие, и столько надо делать, чтобы идти вперед в жизни, что в самом деле становишься от этого скупой! Жизнь, действительно, самый тяжелый труд! – для нас, по крайней мере, которые видят и чувствуют ее прекрасной, какой она и есть в действительности <…>».
Мы не знаем, сделала ли Долли Фикельмон нужное усилие, чтобы овладеть русской речью… Во всяком случае, в конце 1831 года она, как видно, уже чувствовала себя в силах приняться за самостоятельное изучение русского перевода французского романа, который она, правда, знала в подлиннике.
9 февраля 1839 года она писала мужу из Рима: «Скажи также маме, что каждое утро я провожу час времени с русской грамматикой в руках: я хочу вернуться в Петербург, лучше зная этот язык, чем я его знала уезжая»[271].
Долли, однако, не суждено было больше вернуться в Россию, и мы не знаем, продолжала ли она впоследствии заниматься по-русски. Вряд ли…
Ее дочь, Елизавета-Александра, по-домашнему Елизалекс или Элька, выросшая в Петербурге, свободно говорила по-русски. Зимой 1838/39 года в Риме красивая тринадцатилетняя девочка часами болтала по-русски с начинающим писателем, будущим знаменитым поэтом А. К. Толстым и его матерью. Долли Фикельмон в письме к мужу назвала Толстого «верным обожателем» дочери. Елизалекс не забыла полуродного языка и много позже. 17 сентября 1844 года княгиня Елизавета-Александра Кляри-и-Альдринген пишет тетке, Е. Ф. Тизенгаузен, из Остенде после того, как в Брюсселе встретилась с бельгийским королем Леопольдом I: «Король так добр и трогателен в своем обращении со мной! Он много рассказывал о тебе и, к моему большому удивлению, очень бегло говорил со мной по-русски…»[272]
Вероятно, в свое время Д. Ф. Фикельмон или ее мать позаботились о том, чтобы Элька знала русский язык, что, конечно, было нетрудно сделать, живя в Петербурге.
Мой обзор «ядра» переписки Фикельмон и Вяземского приходится на этом закончить, хотя я далеко не исчерпал всех материалов, имеющихся в их письмах 1830–1831 гг.[273]. Однако многочисленные встречи и разговоры князя и графини с рядом лиц, большею частью малоизвестных или вовсе неизвестных, сейчас интереса не представляют. Они к тому же потребовали бы обширных и сложных комментариев. Точно так же в наше время вряд ли для кого-нибудь существенно знать, какие именно поручения Долли по части покупки материй, шарфов и каких-то соломенно-желтых крестьянских юбок, вероятно, предназначенных для маскарада, любезный Петр Андреевич Вяземский выполнял в Москве.
Итак, будем считать «ядро» достаточно исследованным.
Однако переписка Фикельмон с Вяземским после возвращения его в Петербург продолжалась еще много лет, правда, с большими перерывами. К сожалению, за все это время, как уже было упомянуто, мы знаем лишь петербургские записки Долли, часть которых можно датировать, и несколько ее писем из-за границы. Последнее из них помечено 13 декабря 1852 года. Ни одного ответа Вяземского, кроме мною разобранных, пока не известно.
Петр Андреевич вернулся в столицу 25 декабря 1831 года. Уже 27 декабря он пишет жене: «Разумеется, видел и благоприятельницу Элизу и дочку ее»[274].
В свою очередь, Долли Фикельмон отмечает в дневнике 30 декабря 1831 года: «Вяземский также приехал из Москвы. Я очень этому рада; он прелестен как светский собеседник; это умный человек, и я с ним в дружбе».
3 февраля 1832 года она снова вспоминает о князе: «Вяземский ворчун, не знаю почему, но мне это безразлично; я уже обращаюсь с ним как приятельница и не разговариваю, когда он мне надоедает»[275].
Несколько раньше, по-видимому, в первых числах января того же года, Дарья Федоровна пишет князю:
«Что касается моего бала, который состоится только около половины января, я предоставляю вам полную свободу в отношении выбора ваших протеже <…> Мое расположение к вам, дорогой Вяземский, стало настоящей и нежной привязанностью сердца.
Долли».
«Влюбленная дружба» в это время, видимо, еще продолжается… Однако Дарья Федоровна считает порой, что ее приятель чересчур церемонен. Примерно в это же время[276] она пишет ему: «Ваша вчерашняя записка, дорогой Вяземский, почти что меня рассердила! Разве нужно между друзьями столько извинений и фраз? Я гораздо более доверчива, так как была уверена в том, что вы не пришли, потому что не могли!»
Весь март месяц 1832 года у Вяземского прогостила в Петербурге его старшая дочь Мария, которой в это время было восемнадцать лет. 10 марта Долли пишет Петру Андреевичу: «…не сможете ли вы привести ко мне вашу дочь сегодня после обеда, между семью и 8 часами». Из писем Вяземского к жене (которые и позволяют датировать эту записку) мы узнаём, что он исполнил просьбу Фикельмон в отношении дочери, а еще раньше, 7 марта, «возил ее к благоприятельнице Елизе. Она очень приласкала ее»[277].
Понемногу, таким образом, начинается знакомство Фикельмон-Хитрово с семьей Вяземского.
Вера Федоровна с тремя дочерьми – Марией, Прасковьей (Полиной) и Надеждой и сыном Павлом переехала на постоянное жительство в Петербург в октябре (после 10-го) того же 1832 года. Вяземские поселились на Гагаринской набережной в доме Баташова (ныне набережная Кутузова, 32), – считая по-современному, метрах в семистах от особняка Салтыковых. «Добрый сосед», как назвала однажды Фикельмон Петра Андреевича, оказался теперь еще более соседом, чем во время своего одинокого житья на Моховой улице.
Однако топографическая близость, по-видимому, не совпадала больше с внутренней. Вяземский был, конечно, рад семье, по которой он тосковал, но переезд жены в Петербург не мог не изменить характера его отношений с Долли.
Он больше не «соломенный вдовец». Женатого светского человека нельзя приглашать без супруги на танцевальные вечера или загородные поездки. Неудобно также то и дело посылать ему записки. Большинство тех, которые хранятся в ЦГАЛИ, несомненно, получены «холостым» Вяземским.
Многочисленные светские условности властно вступили в свои права.
В общем же, насколько можно судить по отрывочным материалам Остафьевского архива, знакомство семей Вяземских и Фикельмон проходило так, как это было принято в высшем обществе того времени.
Нельзя все же не заметить, что в отношении В. Ф. Вяземской наши эпистолярные материалы особенно скудны, и эта бедность, по-видимому, не случайна.
Сохранилась единственная петербургская записка Фикельмон к жене ее приятеля: «Дорогая княгиня, как себя чувствует дорогой Вяземский? Я сама себя хуже чувствую эти дни, и это мне помешало Вас навестить. Долли Фикельмон». Иногда Долли осведомлялась у Вяземского о здоровье жены: «Как себя чувствует княгиня, дорогой Вяземский? Надеюсь, что нога у нее больше не болит, и вы успокоились?» В 1836 или 1837 году Фикельмон еще раз упоминает о Вяземской: «Если я не увижу вас и княгиню сегодня ночью в церкви, заранее желаю вам, дорогой друг, радостных и счастливых праздников». Речь идет, по-видимому, о пасхальной заутрене, где всегда бывало множество народу и встретиться со знакомыми было нелегко.
Других упоминаний о Вере Федоровне нет за все пять с лишним лет «знакомства домами». Можно, правда, думать, что петербургская переписка «семейного периода» сохранилась в Остафьеве не полностью. Петр Андреевич тщательно берег даже совсем незначительные записки Долли. Возможно, что его жена поступала иначе.
Из записей Фикельмон мы знаем, что Вяземские не раз встречались с Дарьей Федоровной и ее друзьями. А. В. Флоровский, прочитавший весь петербургский дневник, отмечает[278]:
«С переездом в 1833 г.[279] всей семьи Вяземских в Петербург все ее члены[280] вошли в этот круг знакомых и друзей. Графиня Ф. однажды отметила, что в прогулке большого общества с участием Фикельмон в Шлиссельбург на пароходе приняли участие и жена князя и две дочери (26 июля 1833 г.)».
Таким образом, с внешней стороны все как будто обстояло благополучно – Дарья Федоровна с должным вниманием относилась к семье своего друга. Старшую дочь, Марию, она, по-видимому, полюбила. В одной из записок Долли сообщает Вяземскому, что в пятнадцатую годовщину своей свадьбы (3 июня 1836 года) она пойдет в домашнюю часовню Шереметевых помолиться за Марию[281] и за него.
Добрая и внимательная Долли, конечно, так или иначе отозвалась на тяжелое горе Вяземских – смерть княжны Полины (Прасковьи), угасшей в Риме от чахотки 11 марта 1835 года. Однако дневника в этом году Фикельмон систематически не вела, и мы не знаем, в чем проявилось ее участие к их потере. О могиле Пашеньки Вяземской Дарья Федоровна вспомнила в позднейшем письме к Петру Андреевичу из Рима от 7 января 1839 года. Высказав сожаление, что Вяземский, бывший в то время в Германии, не собрался в Рим, она прибавляет: «Впрочем, я понимаю, что Рим, оставаясь священной и святой землей для вашего сердца, тем не менее жестоко бы его взволновал!»
Пора, однако, сказать и о том, что Фикельмон, хорошо относясь к семье Вяземского, невзлюбила – по крайней мере, на первых порах – его жену. 3 ноября 1832 года она записала в дневнике: «…вот три женщины совсем неподходящие для нашего кружка: княгиня Вяземская, госпожа Блудова[282] и Виельгорская[283]», «все эти господа любезнее без своих жен»[284].
Почему Вера Федоровна, к которой много лет с такой дружеской симпатией относился Пушкин, почему она не понравилась Долли, неизвестно. Не знаем мы и того, не сблизилась ли Дарья Федоровна с Вяземской, когда узнала ее поближе. Кажется все же, что в Петербурге она встречалась с княгиней лишь в силу светских обязанностей.
У П. А. Вяземского сохранилось и несколько писем Фикельмон 1852 года. Дарье Федоровне 48 лет, она бабушка четырех внучат (старшей, Эдмее-Каролине, будущей итальянской графине Робилант-Цереальо, уже 10 лет), Петру Андреевичу шестьдесят, Вере Федоровне шестьдесят два. Все старые люди… Летом Вяземские отправились за границу – князю нужно было полечиться в Карлсбаде. Узнав, что он в Дрездене, Дарья Федоровна посылает 26 июня старому приятелю очень сердечное письмо. Приглашая супругов приехать в Теплиц, она пишет: «Передайте княгине, что я ее целую, затем я рассчитываю на нее, чтобы завлечь вас сюда, даже если вы проявите в данном отношении как можно менее доброй воли».
15 августа она обращается к самой Вяземской. Сообщает ей ряд новостей, посылает для Петра Андреевича газеты. Тон письма сердечный, и слова «целую вас» звучат искренне. Судя по содержанию этого письма и следующего, в котором Долли настойчиво просит Вяземских заехать в Теплиц перед возвращением в Россию, супруги раз уже там побывали в течение лета.
Читателей старшего поколения, помнящих обычаи дореволюционной России, вероятно, удивит тот факт, что, приглашая Вяземских приехать в Теплиц, Фикельмон советует им остановиться не в отеле «Почта», а в «Принц де Линь», где комнаты и стол лучше. Казалось бы, что в трехэтажном замке могло найтись место для старых друзей…
Светские обычаи на Западе были, правда, несколько иными, чем в России, но в Чехии, например, такое приглашение, несомненно, означало бы, что гости будут жить в замке
Долли и ее муж, конечно, не желали обидеть Вяземских но, видимо по каким-то соображениям не могли их поместить у себя. Возможно также, что Петр Андреевич и Вера Федоровна сами не сочли удобным остановиться в замке, владельца которого, князя Эдмунда Кляри-и-Альдринген, они раньше не знали.
Во всяком случае, неприязненное отношение Долли Фикельмон к княгине Вяземской, «неподходящей для нашего кружка», можно думать, давно стало делом прошлого. Стареющая Дарья Федоровна, по-видимому, была искренне рада повидать петербургскую знакомую, жену своего друга.
21 октября она пишет из Теплица сестре Екатерине: «Вяземские провели с нами вечер, возвращаясь из Карлсбада»[285].
Это было последнее свидание друзей.
Вернемся теперь снова в Петербург тридцатых годов.
«Ядро» переписки Фикельмон и Вяземского позволило нам установить, что в 1830–1831 ходах их отношения были не «романом», а лишь «влюбленной дружбой». Естественно спросить, продолжалась ли такая романтическая дружба и в дальнейшем, – ведь после возвращения Петра Андреевича из Москвы Долли прожила в Петербурге еще более шести лет.
Остановимся сначала на внешней стороне их знакомства в эти более поздние годы. Я уже упомянул о том, что с конца 1831 года Вяземские были почти соседями Фикельмон. В 1834 году Вяземский с семьей переселился на Моховую в дом Быченского (ныне Моховая, 32), по-прежнему от посольства недалеко. Однако с начала 1832 и до апреля 1838 года в архиве Вяземского имеются только петербургские записки Дарьи Федоровны, очевидно доставленные слугами, и ни одного ее почтового отправления.
Зная, как Петр Андреевич берег каждую строчку своей приятельницы, следует думать, что писем от нее за эти годы он действительно не получал[286]. Уже одно это заставляет думать, что «влюбленной дружбы» больше не существовало. О причинах некоторого охлаждения, по-видимому взаимного, судить трудно.
Внешне все как будто остается по-старому. Дарья Федоровна, как и раньше, внимательна и любезна по отношению к Вяземскому. Говорит ему немало хороших слов. В конце февраля 1833 года, перед отъездом по санному пути в Дерпт, она пишет ему: «Если вы хотите что-нибудь передать вашей сестре[287], пришлите мне, что нужно, завтра утром. И приходите со мной повидаться и передать ваши словесные поручения сегодня вечером к маме».
В апреле 1834 года Долли сильно обварила себе ногу кипятком и в течение шести недель была привязана к креслу и оттоманке. В числе близких друзей, которых она принимала, немного оправившись, был и Вяземский[288]. К этому времени относится следующая записка Фикельмон:
«Неловкость моего швейцара, который не догадался, что вы один из тех, кого я всегда вижу с удовольствием, лишила меня возможности повидать вас вчера. Я больна, так как глупым образом обожгла себе ногу, – приходите сегодня повидать меня ненадолго, прошу вас.
Долли Фикельмон».
Вероятно, как это часто бывает, последствия ожога сказались не сразу, но постепенно развились воспаление и нагноение. Можно поэтому к этим неделям отнести еще две записки. В одной Долли сообщает: «Ваша записка и книга застали меня очень больной, но им я обязана радостным и приятным впечатлениям. Я еще далека от того момента, когда смогу вас увидеть, дорогой друг, но на днях вы будете одним из первых, кого я к себе попрошу».
Во второй записке мы находим уже литературные размышления Фикельмон:
«Возвращаю вам вашего ужасного Сент-Бева <…>[289]. Я продолжаю сильно болеть, дорогой Вяземский, – неприятное это время, так как оно лишает меня радости видеть друзей. А вы один из тех, о ком я больше всего сожалею!»
Да, приятельские записки, по-старому приятельские отношения.
Сейчас у нас есть также иконографическое подтверждение того, что в 1834 году Долли интересовал Петр Андреевич.
В своей новой книге Нина Каухчишвили опубликовала карандашный рисунок[290] – портрет Вяземского, обнаруженный ею, по-видимому, во второй тетради дневника Дарьи Федоровны. Судя по очень крупной подписи рукой Фикельмон: «Prince Wiasemsky, 1834», рисунок значительно увеличен. Если это работа самой Долли, что весьма вероятно, то приходится признать, что у нее были немалые художественные способности. Рисунок очень уверенный, можно сказать, профессиональный. Сходство передано отлично. Грустное, серьезное лицо князя, вероятно, отображает его душевное состояние перед отъездом за границу. Болезнь Пашеньки усиливалась…
Около (не позднее) 26 июля 1834 года Пушкин писал жене из Петербурга: «Княгиня (Вяземская. – Н. Р.) едет в чужие края, дочь ее больна не на шутку; боятся чахотки. Дай бог, чтобы юг ей помог. Сегодня видел во сне, что она умерла, и проснулся в ужасе».
3 августа он снова пишет Наталье Николаевне:
«Вяземские здесь. Бедная Полина очень слаба и бледна. На отца жалко смотреть. Так он убит. Они все едут за границу. Дай бог, чтобы климат ей помог».
Итак, отношения Фикельмон и Вяземского остались прежними… Нет, перестаешь верить этому, когда читаешь некоторые записки Фикельмон и особенно письма Вяземского к жене, отправленные в начале августа 1832 года.
«Сударь! Сударь![291] – пишет Фикельмон князю. – Разве для этого нужно было столько доказательств и даже лести! Нужно было, если «дорогой друг, сделайте мне удовольствие и пригласите моих друзей», я бы и так это сделала.
Я вычеркнула Оболенских, потому что народа и так слишком много, но, ради вас, приношу себя в жертву».
Эта записка, видимо, относится к одному из больших балов в австрийском посольстве, скорее всего, зимой 1832/33 или 1833/34 годов[292]. Надо сказать, что такое сердитое послание хозяйки дома было бы неприятно для получателя и в менее избранном кругу. Долли к тому же, вероятно, знала, что Оболенские, за которых просил Вяземский, – его родственники. Напомним, что в начале 1832 года Фикельмон, обрадованная возвращением Петра Андреевича из Москвы, писала ему по тому же поводу совсем иначе: «…предоставляю вам полную свободу в отношении выбора ваших протеже…»
Быть может, приведенная здесь довольно нелюбезная записка – отзвук серьезной размолвки между Фикельмон и Вяземским, которая произошла в августе так дружески начавшегося 1832 года.
Приходится на этом небольшом происшествии остановиться подробнее.
В воскресенье 5 августа Долли прислала Петру Андреевичу следующую записку:
«Дорогой Вяземский, сегодня я должна была иметь удовольствие пообедать с вами у нас, но я прошу вас отложить это на вторник. Фикельмон был принужден пригласить на сегодня всех наших австрийских военных, которые завтра уезжают, – для вас это было бы неинтересно, а меня очень бы стеснила невозможность поговорить с вами, как я бы хотела.
Итак, дорогой друг, приходите во вторник и, так как мы обедаем в пять, приходите на полчаса раньше, чтобы я могла с вами вволю поговорить перед обедом».
Долли, несомненно, не хотела обидеть Вяземского, которого считала близким другом. Объяснила откровенно – неожиданно пришлось в тот день устроить официальный обед австрийских офицеров. Умолчала, конечно, о том, что присутствие на нем постороннего русского гостя могло быть и политически неудобным…
Умный и тонкий человек, Вяземский мог бы это понять и пойти навстречу своей приятельнице, которая попала в довольно неприятное положение. Друзья ведь…
Мог бы понять, но совершенно не понял, жестоко обиделся (хотя и отрицал это) и в письме к жене очень резко и несправедливо отозвался о Фикельмон. 9 августа он пишет Вере Федоровне[293]:
«В общежитии есть замашки, которые задевают и наводят тошноту <…> Те самые, которые со мною очень хорошо запросто, там где чин чина почитает, обходятся со мной иначе. Часто видишь себя на месте какого-нибудь домашнего человека, танцмейстера, которого сажают за стол с собой семейно, а когда гости, ему накрывают маленький столик особенно или говорят: приди обедать завтра. Я заметил нечто похожее на то и там, где никак не ожидал, а именно у Долли <…> Я дал почувствовать Долли, что не могу не гнушаться такою подлостью, и дал бы почувствовать более, если не ваши сиятельства, которых ожидаю сюда и которым должен я, однако ж, приготовить несколько гостиных, куда можно будет вам показаться».
Петр Андреевич продолжает по-французски:
«Я ожидаю испытания тебе при твоей щепетильности – и ты мне сообщи новости об этом. Приготовься быть часто и чувствительно оскорбляемою. Я тебя уверяю, что здесь вовсе нет умения жить»[294].
Перейдя снова на русский язык, он спешит уверить жену, что с Фикельмон не поссорился: «…сегодня еще утром был у них по-прежнему и опять к ним иду».
Пусть так… Но как далеко от почти благоговейного отношения Вяземского к Долли в его московских посланиях 1831 года до этого обиженно-расчетливого письма! Не поссорился, не порвал отношений, чтобы жене и дочерям было где появиться в «большом свете»…
Неудивительно, если после предупреждения о возможности оскорблений Вера Федоровна на первых порах, а может быть, и во все время петербургского знакомства была сдержанна и довольно суха с графиней Фикельмон.
Положение ее мужа – не в особняке Салтыковых, а в русском светском и чиновном Петербурге начала тридцатых годов, – можно думать, действительно было довольно ложным. Знатный барин, известный всей читающей России поэт, но состояние расстроено, а надо достойно содержать большую семью. В вольнодумных заблуждениях пришлось раскаяться, но в искренность раскаяния не верят ни власти предержащие, ни сам неисправимый вольнодумец и оппозиционер Вяземский. Пришлось и на скучнейшую службу поступить – не по своему выбору, а по усмотрению царя. И расшитый золотом мундир камергера с положенным ему ключом вряд ли радует бывшего «декабриста без декабря»…
Вероятно, постоянно ущемляемое самолюбие Петра Андреевича и побудило его так болезненно отозваться на совсем, по существу, не обидное письмо Долли. Мне думается, кроме того, что в Вяземском, несмотря на весь его европеизм, заговорил русский аристократ, никогда еще не бывавший за границей. Восхищался, восхищался простотой и даже «простодушием» Фикельмон, а, в конце концов, разобиделся на приятельницу, с одиннадцати лет привыкшую к другим формам общения, чем те, которые были приняты в тогдашней России.
Как отнеслась к этому происшествию сама Дарья Федоровна, мы не знаем. Если в ее дневнике есть соответствующая запись, то до настоящего времени она остается неопубликованной. А. В. Флоровский, ссылаясь на рассмотренные нами письма Вяземского к жене, считает, что «прежняя дружба осталась непотрясенной»[295].
Полностью я с этим согласиться не могу. Петр Андреевич не поссорился с Долли, хотя до разрыва было очень недалеко. Приятельские отношения сохранились – записки Долли, относящиеся к 1834 году, и портрет Вяземского в ее дневнике подтверждают это с несомненностью. Однако о «влюбленной дружбе», на мой взгляд, больше говорить не приходится.
Годы 1829–1831 были для Долли, по крайней мере отчасти, годами Вяземского. Начиная со второй половины 1832 года Петр Андреевич – только один из ее многочисленных русских и иностранных друзей.
Таковы же, по-видимому, примерно с этого времени и чувства Вяземского, по-прежнему дружеские, но уже далекие от тех, о которых он так подробно и красноречиво говорил в своих московских письмах.
Не думаю, чтобы незначительный сам по себе эпизод с обедом в посольстве послужил основной причиной изменения отношений между Вяземским и Фикельмон. Была причина более существенная – два умных, тонких, образованных человека оказались все же людьми очень разными и до конца друг друга не понимали. Стоит вспомнить, например, отзыв Вяземского о мнимом простодушии Долли…
Кроме того, как мне кажется, «влюбленная дружба», своего рода «балансирование на грани любви», по самой своей природе вообще долго продолжаться не может. Либо она обращается в любовь, либо становится просто дружбой.
С Вяземским и Фикельмон, несомненно, случилось последнее.
Сделав эту эволюционную оговорку, мы можем все же присоединиться к мнению Нины Каухчишвили: «Дружба с Вяземским была одной из самых крепких в годы, проведенные (Долли. – Н. Р.) в Петербурге, и оставалась таковой в течение всей жизни»[296].
Мне остается сказать несколько слов о письмах Шарля-Луи Фикельмона к П. А. Вяземскому. В ЦГАЛИ хранятся четыре собственноручных письма графа и одна копия, снятая Д. Ф. Фикельмон. Письма не датированы, но, судя по тому, что о Долли в них не упоминается, эти петербургские послания относятся уже ко времени после отъезда Дарьи Федоровны за границу. Сколько-нибудь существенного интереса они не представляют. Свидетельствуют лишь о том, что Фикельмон любезно и внимательно относился к другу своей жены и поддерживал с ним отношения.
Сохранился целый ряд записок Дарьи Федоровны, в которых она от имени супруга приглашает Вяземского на обеды в интимном кругу. Есть в ее записках просьбы навестить больного мужа и т. д. В свою очередь, граф Фикельмон в первые же дни после несчастного случая с Вяземским побывал у него вместе со многими другими знакомыми[297]. Е. М. Хитрово навещала больного ежедневно; Долли была тогда нездорова.
Еще раньше, в первые же недели знакомства, Вяземский, как мы знаем, сообщал жене о ласковом отношении к нему как графини, так и графа Фикельмон[298].
Все же сведения, которыми мы располагаем, позволяют считать Вяземского и Шарля-Луи лишь хорошими знакомыми, но не друзьями. В письмах посла к Петру Андреевичу о дружеских чувствах не упоминается ни прямо, ни косвенно.
Д. Ф. Фикельмон в жизни и творчестве Пушкина
I
Долли Фикельмон, несомненно, была женщиной выдающейся. По силе ума и широте интересов мало кто из приятельниц Пушкина мог с ней сравниться. Обладала она и немалой литературной культурой. Сама, как показывают ее дневник и письма, владела пером.
Можно, таким образом, считать что Дарья Федоровна была душевно подготовлена к знакомству с великим поэтом. Неизвестно, однако, читала ли она Пушкина до приезда в Петербург. Вернее все же считать, что только слышала о нем. Жила ведь душа в душу с матерью, живо и горячо интересовавшейся отечественной литературой. Однако, проведя много лет в Италии, Долли, как мы знаем, почти забыла родной язык и вообще оторвалась от России, которую и в детстве знала очень мало. В ее известных нам записках флорентийского и неаполитанского времени ни о Пушкине, ни о других русских писателях не говорится ни слова.
Елизавета Михайловна Хитрово со старшей дочерью вернулись в Россию скорее всего в начале 1826 года[299], и, вероятно, как я уже упомянул, летом следующего года началось ее личное знакомство с поэтом. Приехав в Петербург, Дарья Федоровна не могла не узнать, хотя бы отчасти, какое место Пушкин вскоре занял в душевном мире ее матери. По словам Н. В. Измайлова, «она всею душою отдалась поэту, перенесла на него во всей полноте ту «неизменную, твердую, безусловную дружбу, возвышающуюся до доблести», о которой говорит князь Вяземский. Конечно, здесь была не только дружба – здесь было и поклонение великому поэту, славе и гордости России, со стороны патриотически настроенной наследницы Кутузова, и материнская заботливость о бурном, порывистом, неустоявшемся поэте, бывшем на шестнадцать лет моложе ее, и, наконец, – страстная, глубокая, чисто эмоциональная влюбленность в него как в человека. Последнее – по крайней мере в первые годы – господствовало над остальным»[300].
Есть основание думать, что молодой одинокий поэт не сразу отверг эту страсть стареющей женщины. Впоследствии, до самой смерти, он ценил в Елизавете Михайловне вдумчивого и верного друга, одного из самых верных своих друзей.
В 1925 году в бывшем дворце Юсуповых в Ленинграде, том самом, где девятью годами раньше убили Распутина, было найдено двадцать шесть писем Пушкина к Хитрово и одно письмо к Е. Ф. Тизенгаузен. Эта замечательная находка показала, как высоко ценил Пушкин общение с матерью Фикельмон. В своих письмах к ней поэт обсуждает ряд волновавших его политических и общественных вопросов, делится литературными новостями, откровенно сообщает о своих душевных переживаниях.
Но спокойные, дружеские отношения Пушкина и Хитрово установились уже после его женитьбы. Приехав с мужем в Петербург летом 1829 года, Долли застала еще тот тягостный для поэта период, когда Елизавета Михайловна была в него влюблена и добивалась взаимности.
Останавливаться на этом романе мы не будем, но упомянуть о нем нужно, чтобы яснее представить себе обстановку, в которой началось знакомство Пушкина и Долли Фикельмон.
Благодаря опубликованию дневника Долли Фикельмон можно значительно уточнить время ее первой встречи с поэтом. До относительно недавнего времени пушкинисты считали, что чета Фикельмон прибыла в Петербург во второй половине января 1829 года, а знакомство Пушкина с женой австрийского посла началось еще до его отъезда в Москву (8 марта) и оттуда на Кавказ, то есть между концом января и началом марта. Однако Долли в это время еще не было в Петербурге. В январе состоялось лишь назначение Фикельмона, а приехал с женой он из-за границы в Варшаву, как уже было упомянуто, лишь в ночь с 30 июня на 1 июля. Пушкин в это время был в только что взятом Эрзеруме. В столицу он вернулся в начале ноября и, вероятно, вскоре же познакомился с Дарьей Федоровной. Возможно, что встреча произошла в салоне ее матери, которая в это время жила отдельно от дочери-посольши.
Исследователи считают, что самое раннее упоминание фамилии Фикельмон имеется у Пушкина в т. н. «арзрумской» рабочей тетради[301]. По-видимому, это список лиц (на французском языке), к которым следует съездить и т. п.: «Гурьев [вероятно, Александр Дмитриевич, сенатор], Ланжерон [генерал граф Александр Федорович], князь С. Голицын [Сергей Михайлович, попечитель Московского учебного округа], Фикельмон».
Судя по положению записи в тетради, пушкинисты относят этот список к ноябрю – декабрю 1829 года. По-видимому, Пушкин в это время еще не знал правильной транскрипции фамилии графа Шарля-Луи и писал ее «Fickelmont». Это подтверждало бы отнесение списка к самому началу знакомства. Возникает, однако, значительное затруднение – граф Ланжерон приехал в Петербург лишь в начале 1831 года[302]. Таким образом, либо датировка записи неверна, либо Ланжерон приезжал в Петербург неоднократно (в 1830 году он некоторое время жил в Москве)[303]. Мне кажется более вероятным последнее предположение.
В другом списке лиц в той же тетради на первом месте стоит: «Дворцовая набережная: Австрийскому посланнику – 2». По весьма правдоподобному предположению М. А. Цявловского, этот второй список заключает фамилии лиц, которым Пушкин наметил послать свои визитные карточки к Новому 1830 году. Он датируется, по-видимому, между 23–24 декабря 1829 года и 7 января 1830 года[304]. Прибавим лишь, что если речь действительно идет о визитных карточках, то они, по обычаю, были разосланы за несколько дней перед Новым годом.
Во всяком случае, в начале декабря 1829 года Пушкин, думается, уже был знаком с супругами Фикельмон. Об этом свидетельствует запись в дневнике Долли от 11 декабря этого года. Текст ее, сверенный с фотокопией соответствующей страницы[305], привожу в более полном виде, чем это сделал А. В. Флоровский, так как опубликованная им выдержка, взятая вне контекста, как мне кажется, не вполне точно передает мысли автора дневника: «Вчера, 10-го, у нас был второй большой дипломатический обед. Теперь у нас всегда бывает довольно много гостей на наших вечерних приемах по понедельникам, четвергам и субботам, но петербургское общество мне еще не нравится. Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом – без притязаний, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым – это смесь наружности обезьяны и тигра[306]; он происходит от африканских предков — в цвете его лица заметна еще некоторая чернота и есть что-то дикое в его взгляде[307].
Сейчас один из самых обычных разговоров в салонах – это спор о двойном ребенке, родившемся в Сардинии и умершем в Париже в возрасте 9 месяцев…» (Посетители салонов спорили о том, была ли у сросшихся девочек-близнецов Риты и Христины одна душа или две.)
На мой взгляд, нет оснований считать, что Пушкин присутствовал на обеде, который Фикельмоны дали петербургскому дипломатическому корпусу, тем более что в это время он был еще лицом совершенно не официальным. Судя по контексту записи, отзыв о его очаровательной манере говорить относится ко времени, когда поэт бывал на обычных вечерних приемах у Фикельмонов. Дат их мы не знаем, но, во всяком случае, по существовавшим и тогда и позже светским обычаям, прежде чем начать бывать в доме, поэт должен был сделать Фикельмонам дневной визит.
По поводу первой записи Долли о Пушкине хочется привести несколько соображений.
«Смесь наружности обезьяны и тигра…» – Дарья Федоровна, несомненно, не сама додумалась до этой экзотической характеристики. Так поэт однажды назвал себя сам в шуточном протоколе собрания товарищей по Царскосельскому лицею 19 октября 1828 года. Возможно, что это было его давнишнее прозвище, хорошо известное друзьям и через них дошедшее до графини.
Надо сказать, что Фикельмон, по-видимому, преувеличивала некрасивость Пушкина. Некрасивым он был – большинство портретов, можно думать, приукрашены, но голубые глаза поэта были подлинно прекрасны[308].
Однако Дарья Федоровна, резко отозвавшись о наружности Пушкина, верно почувствовала очарование его блестящей беседы. Брат поэта, Лев Сергеевич, говорил, что его разговоры с женщинами «едва ли не пленительнее его стихов»[309]. Хотелось бы нам знать: о чем же Пушкин говорил на приемах у Фикельмонов с таким увлечением и огнем? К сожалению, Долли не записывала его слов. Многое, очень многое могла она сохранить для истории из бесед поэта, встречаясь с ним в течение семи с лишним лет. Могла, но не сохранила…
Тот факт, что Пушкин познакомился с Фикельмон лишь в ноябре 1829 года, позволяет думать, что между ними быстро установились дружеские отношения.
Давно уже была найдена недатированная записка Дарьи Федоровны к Пушкину, которую предположительно относили к зиме 1829/30 года. Долли писала:
«Решено, что мы отправимся в нашу маскированную поездку завтра вечером. Мы соберемся в 9 часов у матушки. Приезжайте туда с черным домино и с черной маской. Нам не потребуется ваш экипаж, но нужен будет ваш слуга – потому что наших могут узнать. Мы рассчитываем на ваше остроумие, дорогой Пушкин, чтобы все это оживить. Вы поужинаете затем у меня, и я еще раз вас поблагодарю.
Д. Фикельмон.
Суббота.
Если вы захотите, мама приготовит вам ваше домино».
В петербургском дневнике дата этой поездки приведена точно. 13 января 1830 года Дарья Федоровна записывает:
«Вчера, 12-го, мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь – маменька, Катрин [гр. Е. Ф. Тизенгаузен], г-жа Мейендорф и я, Геккерн, Пушкин, Скарятин [вероятно, Григорий Яковлевич] и Фриц [Лихтенштейн, сотрудник австрийского посольства]. Мы побывали у английской посольши [леди Хейтсбери], у Лудольфов [семейство посланника Обеих Сицилии] и у Олениных [А. Н. и Е. M.]. Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам. Был прием в Эрмитаже, но послы были там без своих жен».
Ряженые, надо думать, по тогдашнему обычаю, ехали все вместе в больших санях-розвальнях. Присмотримся к ним поближе – попробуем узнать на этом примере, с кем Пушкин встречался у австрийского посла.
Трех дам – Елизавету Михайловну и ее дочерей мы знаем достаточно. С фамилией госпожи Мейендорф мы встречались уже в одной из записок Долли к Вяземскому. В последних числах апреля 1830 года она приглашала Петра
Андреевича прийти вечером, чтобы попрощаться с Мейендорф, уезжавшей вместе с мужем в Париж. С Елизаветой Васильевной Мейендорф, урожденной д’Оггер (d’Haugeur), Фикельмон была знакома, во всяком случае, менее года, но, судя по многочисленным упоминаниям в дневнике, несомненно, полюбила эту привлекательную, жизнерадостную женщину.
В зимнюю маскарадную ночь в обществе молодых красавиц поэт, вероятно, был в ударе. Смеялся сам и заставлял смеяться других. Смеялся, конечно, и голландский посланник барон Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард, тот самый Геккерн[310], который впоследствии сыграл до конца не ясную, но, несомненно, враждебную роль в последней драме поэта. Любопытно, что, познакомившись с ним, Фикельмон со, всегдашней своей проницательностью буквально через несколько дней после приезда в Петербург (8. VII. 1829) отзывается о Геккерне весьма отрицательно: «…лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь его считают шпионом г-на Нессельрода – такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер». Почему же, однако, через несколько месяцев «личность» попала в эти веселые сани? Сумела, видимо, понемногу понравиться своим остроумием, умением болтать с дамами, житейской уверенной ловкостью. Через неделю после поездки, 22 января 1830 года, Долли записала: «…я очень привыкла к его обществу и нахожу его остроумным и занятным; не могу скрыть от себя, что он зол, – по крайней мере в речах, но я желала бы и надеюсь, что мнение света несправедливо к его характеру».
В дневнике за 1830 год есть и другие записи, благоприятные для голландского посланника. 9 февраля, например, Фикельмон на балу у холостяка Геккерна принимает в качестве хозяйки его гостей, в числе которых были император и императрица. Однако в скором времени она, вероятно, снова переменила свое отношение к Геккерну. В 1830 году он – желанный гость ее салона, а начиная со следующего года и вплоть до гибели Пушкина (за исключением одного малозначительного упоминания в 1832 году) его фамилия совершенно исчезает со страниц дневника Долли. Напомним кстати, что голландский посланник, которого через немного лет некоторые называли «старик Геккерен», в действительности совсем еще не стар: он всего на восемь лет старше Пушкина.
Об атташе австрийского посольства князе Фрице Лихтенштейне (1802–1872), ставшем в Петербурге как бы членом семьи Фикельмонов, можно только сказать, что Пушкин встречался с ним очень недолго – 23 марта 1830 года князь уехал в Австрию. Все же следовало бы когда-нибудь взглянуть на бумаги его потомков. Может быть, молодой дипломат и описал свои, вероятно неоднократные, встречи с русским поэтом[311].
Остается офицер кавалергардского полка Скарятин – Григорий Яковлевич или его брат Федор, – сын одного из убийц отца царствующего императора. Надо сказать, что и сам цареубийца, Яков Федорович, шарфом которого задушили Павла, бывал у австрийского посла. Как рассказывает Пушкин в своем дневнике, в 1834 году на балу у Фикельмонов Николай I «застал наставника своего сына (Жуковского) дружелюбно беседующего с убийцей его отца». Посол не знал о прошлом Якова Федоровича Скарятина и удивился странностям русского общества (запись 8 марта).
Григорий Скарятин много лет был близким другом Дарьи Федоровны и ее сестры.
Вернемся, однако, к розвальням с веселой великосветской компанией, которые подъезжают то к одному, то к другому особняку. В санях есть еще двое – неведомый нам возница и слуга Пушкина. Вероятно, это его неизменный Никита Тимофеевич Козлов, который носил когда-то на руках малютку Александра, был при поэте в его южной и северной ссылках, служил ему в Петербурге. Но только однажды, в Кишиневе, поэт мельком упомянул имя своего преданного слуги:
Дай, Никита, мне одеться: В митрополии звонят,В посольские особняки мы вслед за ряжеными не пойдем, но к Олениным заглянем. Речь ведь идет о президенте Академии художеств и директоре императорской Публичной библиотеки Алексее Николаевиче Оленине и его жене Елизавете Марковне. В их гостеприимном доме Пушкин часто бывал в послелицейские годы. Оленин, обладавший большими связями, вместе с Жуковским хлопотал за Пушкина, когда в 1820 году ему грозила ссылка в Сибирь. В это время Анна Оленина, младшая дочь Алексея Николаевича, была двенадцатилетней девочкой. Проведя семь лет в изгнании, поэт вернулся наконец в столицу и осенью или ранней зимой 1827 года увидел Анну Алексеевну уже девятнадцатилетней девушкой. Пушкин влюбился в нее. В 1828 году он создал цикл стихов, связанный с Олениной. О ее глазах писал:
Потупит их с улыбкой Леля — В них скромных граций торжество; Поднимет – ангел Рафаэля Так созерцает божество.Летом 1828 года Пушкин сделал предложение Анне Алексеевне, которая ценила его гений, но к Пушкину-человеку, как кажется, была равнодушна. Подробностей этой попытки мы не знаем. Окончилась она неудачей – предложение было отвергнуто родителями, знавшими, что в это время над Пушкиным был учрежден секретный надзор полиции. Видный сановник, член Государственного совета, Оленин не пожелал выдать дочь за «неблагонадежного сочинителя».
Следовало ожидать, что после неудачного сватовства Пушкин, по существовавшему и тогда и много позже обычаю, перестанет бывать у Олениных. Кроме того, по-видимому, в 1829 году до него дошел какой-то обидный отзыв Анны Алексеевны, самолюбие поэта, по крайней мере на время, было задето, и вот в черновиках восьмой главы «Евгения Онегина», написанных в декабре этого года, Оленина выведена под именем Лизы Лосиной, при появлении которой Онегин приходит в ужас. Она
Уж так жеманна, так мала, Так неопрятна, так писклива, Что поневоле каждый гость Предполагал в ней ум и злость…Сам Оленин в это время для Пушкина
О двух ногах нулек горбатый…При таких настроениях поэта совсем уже нельзя было предполагать, что 12 января 1830 года он в домино и маске войдет в дом Алексея Николаевича. Своей, несомненно, точной записью Фикельмон задала нам нелегкую загадку. Впрочем, разгадка, быть может, в том и заключается, что Пушкин был замаскирован. Отказываться от интересной поездки не хотелось. Надеялся, что не узнают, но ошибся.
Тому, что старых знакомых – Елизавету Михайловну и Пушкина – тотчас узнали в доме Олениных, удивляться не приходится. Что касается Хейтсбери и Лудольфов, то, очевидно, в начале 1830 года поэт уже был хорошо знаком с семьями этих дипломатов, о чем раньше сведений не было[312].
Потом вся компания ужинала в австрийском посольстве. Хозяин дома отсутствовал, – он в тот вечер был в гостях у царя. Не будем гадать о том, испортилось ли настроение поэта от того, что его узнали всюду… В малой столовой посольства, наверное, снова было много шуток и смеха и, конечно, немало шампанского.
Вдовы Клико или Моэта Благословенное вино… —в принятых тогда узких бокалах искрилось, пенилось, помогало забыть разные житейские неприятности. Блестели чудесные бархатистые глаза Фикельмон. Ничто не говорит о том, что поэт увлекался ею в это время, но не любоваться умной красавицей он вряд ли мог.
Итак, через два месяца после начала знакомства Пушкин для Долли уже свой человек.
Быстрому сближению Фикельмон с Пушкиным удивляться не приходится. Для Долли он прежде всего давнишний приятель ее матери. Замечала ли Долли Фикельмон, что Елизавета Михайловна трогательно влюблена в Пушкина? Вероятно, старалась не замечать.
В жизни поэта к тому же вскоре наступил перелом. Зиму 1829/30 годов, свою последнюю холостую зиму, он проводил шумно, рассеянно и, должно быть, не очень благоразумно. Вероятно, Дарья Федоровна, хотя бы отчасти, разделяла мнение своей матери, писавшей Пушкину 20 марта 1830 года: «Как можно такую прекрасную жизнь бросать за окошко». Но письмо, из которого приведены эти строки, было отправлено в Москву, куда Пушкин уехал 12 марта именно с целью упорядочить свою мятущуюся жизнь. 6 апреля, в первый день Пасхи, судьба его решилась. Поэт вторично сделал предложение Наталье Николаевне Гончаровой, и на этот раз оно было принято.
Печатное извещение о помолвке было разослано родным и знакомым лишь в начале следующего месяца. Оно гласило: «Николай Афонасьевич и Наталья Николаевна Гончаровы имеют честь объявить о помолвке дочери своей Натальи Николаевны с Александром Сергеевичем Пушкиным сего Майя 6 дня 1830 года».
Ошибка в отчестве матери невесты, Натальи Ивановны, урожденной Загряжской, осталась неисправленной и в хранящемся в Пушкинском доме экземпляре, который поэт послал своему другу П. В. Нащокину с шуточной надписью на обороте.
Письмо Пушкина к графине Фикельмон, копию которого мне некогда прислал князь Кляри-и-Альдринген, помечено 25 апреля. Оно является ответом на не дошедшее до нас письмо Долли к поэту. Как светский человек, Пушкин на письмо дамы, можно думать, ответил в тот же день или на следующий. Письма из Петербурга в Москве обычно получали на четвертый-пятый день. Таким образом, письмо Долли, вероятно, было отправлено 19 или 20 апреля. В это время в столице много говорили о предстоящей женитьбе Пушкина, но кроме родителей поэта и шефа корпуса жандармов генерала А. X. Бенкендорфа, которому 16 апреля он сообщил в официальном письме о состоявшейся помолвке, прося в то же время «сохранить мое обращение к вам в тайне», – кроме них, в эти дни, по-видимому, никто в Петербурге еще ничего не знал наверное.
Некоторые, в том числе один из ближайших друзей поэта, П. А. Вяземский, долго не хотели верить, что Пушкин женится. Еще 27 марта[313] Петр Андреевич, сообщая жене, что он в этот день обедал вместе с Е. М. Хитрово у Фикельмонов, прибавляет в виде шутки: «Все у меня спрашивают: правда ли, что Пушкин женится? В кого он теперь влюблен, между прочим? Насчитай мне главнейших».
В недатированном письме к Вере Федоровне он называет сообщение о женитьбе поэта мистификацией. 21 апреля снова пишет ей: «Ты все вздор мне пишешь о женитьбе Пушкина; он и не думает жениться, что за продолжительная мистификация? Повторяю, я не Елиза»[314]. Только 26 апреля, побывав на обеде у родителей поэта, он убеждается в том, что Пушкин действительно женится: «Нет, ты меня не обманывала, мы сегодня на обеде у Сергея Львовича выпили две бутылки шампанского, а у него по-пустому пить двух бутылок не будут. Мы пили здоровье женихов»[315].
Эта эпистолярная летопись мартовских и апрельских дней 1830 года показывает, что, отправляя свое письмо, Долли, несомненно, знала – и от матери, и от друзей поэта (хотя бы от того же Вяземского), – что Пушкин собирается жениться, но неизвестно пока, верно это или нет.
Обратимся теперь к ответному письму поэта. Я остановлюсь на нем подробнее, так как это письмо, опубликованное впервые в 1949 году[316] по не вполне точной копии князя Кляри, до настоящего времени остается малоизученным. В 1950 году Д. Благой повторил публикацию, сопроводив ее фотокопией подлинника, по-прежнему хранящегося в Чехословакии, и кратким комментарием, который, однако, лишь в небольшой части посвящен самому письму[317]. В современных изданиях произведений Пушкина оно публикуется лишь с очень краткими примечаниями.
Привожу полный текст письма в наиболее близком к французскому подлиннику переводе, который дан в Большом академическом издании[318].
«Графиня!
Крайне жестоко с Вашей стороны быть такой любезной и заставлять меня так сильно скорбеть от того, что я удален от Вашего салона. Во имя неба, графиня, не подумайте, однако, что мне понадобилось неожиданное счастье получить от Вас письмо, чтобы пожалеть о том месте, которое Вы украшаете. Я надеюсь, что недомоганье Вашей матушки не имело последствий и не причиняет Вам более беспокойства. Я хотел бы уже быть у Ваших ног и поблагодарить Вас за милую память обо мне, но мое возвращение еще очень сомнительно. Позволите ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки так же несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной, Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам.
Благоволите, графиня, принять еще раз выражение моей признательности и моего глубокого уважения.
А. Пушкин.
25 апреля 1830 г. Москва».
Быть может, когда-либо французскому тексту этого письма кто-нибудь из специалистов посвятит обстоятельное филологическое исследование. «Лучший наш стилист лучше бы не написал», – сказала мне о нем в 1942 году г-жа Мадлен Вокун-Давид (M-me Madelaine Vokoun-David), в то время лектор французского языка в Пражском университете, когда я показал ей только что полученную из Теплица копию. «Хрестоматийный образец письма светского человека к даме высшего общества», – прибавила она. Тогда же ученая-француженка обратила мое внимание на то, что в письме Пушкина один синтаксически необычный оборот в данном контексте вполне оправдан и свидетельствует о превосходном знании русским поэтом тонкостей французского языка.
К сожалению, я не могу здесь останавливаться на этом великолепном образце французской эпистолярной прозы. Скажу лишь, что в стилистическом отношении он написан не только тщательно, но и в высшей степени изысканно. В то же время простые, прекрасно построенные фразы, которые льются с обычной для Пушкина легкостью, далеки от всякой напыщенности, которую так не любила Долли Фикельмон. Обратимся теперь к русскому переводу. Как всякий перевод, он, конечно, далеко не передает прелести подлинника, но все же позволяет достаточно точно познакомиться с мыслями и чувствами поэта.
Д. Д. Благой отмечает, что письмо Пушкина выдержано в том же светском духе, что и известная записка Долли поэту с приглашением принять участие в маскарадной поездке. По его мнению, все же «за светской любезностью чувствуется и несомненная симпатия к блистательной адресатке, которая, соединяя в себе ум и красоту с простотой и непринужденностью, – сочетание, столь редко встречающееся в женщинах ее круга, – видимо, в какой-то мере напоминала ему его «милый идеал» – Татьяну последней главы «Евгения Онегина».
И с тем и с другим нельзя не согласиться[319]. Письмо поэта менее всего похоже на спонтанное излияние своих мыслей и чувств. M-me Вокун-Давид, прочтя его в 1942 году, сразу же сказала мне, что Пушкин, надо думать, сначала составил черновик, а затем тщательно обработал его стилистически. Это в высшей степени вероятно, – принимаясь за письмо, поэт нередко набрасывал его сначала начерно, причем порой делал это и тогда, когда форма, казалось бы, не имела значения[320].
Отменная любезность в письмах к женщинам, в особенности в его французских письмах, у Пушкина обычна. Крайне редки исключения вроде совсем не светского окрика по адресу Е. М. Хитрово в одной из не поддающихся датировке записок: «Откуда, черт возьми, Вы взяли, что я рассердился?» («D’où diable prenez-vous que je sois fâché?»). Но и среди любезных писем поэта к дамам письмо к Фикельмон выделяется особой изысканностью выражений.
Остановимся вкратце на некоторых его абзацах – подробный комментарий занял бы слишком много страниц.
Вступительные строки, в которых Пушкин шутливо жалуется на любезность графини, заставившую его скорбеть об изгнании из ее салона, показывает, что уже зимой 1829/30 года поэт был его завсегдатаем. Участие Пушкина в великосветской поездке с ряжеными также говорит в пользу близкого знакомства в это время. Отношения, которые существовали между Пушкиным и Долли весной 1830 года, не давали, однако, поэту права ожидать от нее письма в Москву[321]. Мне кажется, что так именно следует понимать выражение «неожиданное счастье получить от Вас письмо». Сколько-нибудь частой переписки ранее, видимо, не было. В ней, правда, не было и нужды – отъезд Пушкина в Москву в марте 1830 года был первым перерывом в недолгом личном общении жены посла и поэта. Возможно, что он упомянул о «неожиданном счастье» лишь из светской любезности, но инициатива в обмене письмами, несомненно, исходила от Дарьи Федоровны.
В плане романическом Пушкину, во всяком случае, в это время было не до Фикельмон. Всего девятнадцать дней тому назад он просил руки Натальи Николаевны Гончаровой, и его предложение было принято. Напомню, кстати, что употребленное поэтом выражение «и я желал бы уже быть у ваших ног» – это лишь очень распространенная в то время формула любезности, и ничего более[322].
Перейдем теперь к наиболее значительному месту письма. Перечтем его еще раз: «Позволите ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки так же несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной, Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам».
Эти пушкинские строки очень интересны. Впервые мы слышим прямой отзыв Пушкина о Долли Фикельмон. Вместе с тем они позволяют предположить, о чем именно Дарья Федоровна писала поэту.
Придется сначала остановиться на некоторых трудностях, которые представляет перевод данного места.
Поэт говорит, что письмо Долли «est séduisante». Дословно «seduisant» значит «обольстительный», но сказать «обольстительное письмо» по-русски нельзя. Переводчику пришлось употребить слово «прелестно», хотя французское прилагательное более выразительно и предполагает желание очаровать. Мы знаем, что Долли, ученица ранних романтиков, такие письма составлять умела.
Еще труднее найти подходящий эквивалент для другого пушкинского выражения: «vos grâces si simples». Я попытался передать этот термин, неправильно переведенный в некоторых изданиях, словом «любезность», но оно значительно суше и банальнее французского. «Vos grâces» заключает в себе оттенок милостивого внимания, как бы снисхождения, оказываемого высокой особой. Из богатого арсенала современного ему французского языка (сейчас «vos grâces» никто не говорит) Пушкин выбрал чрезвычайно изысканное выражение, но смягчил его церемонность прилагательным «simple» (непринужденный, простой).
Недаром в лицее Пушкина прозвали «французом»…
В свидетельствах современников Д. Ф. Фикельмон слово «простая» встречается не раз. Мы находим его, например, у Вяземского и у А. И. Тургенева. Теперь к ним присоединяется и голос Пушкина. Он, как и Вяземский, конечно, говорит о той великолепной простоте обращения, которая дается только избранным.
Поэт заявляет себя искренним поклонником «Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной». И здесь его голос звучит согласно с тем, что мы находим у Вяземского, А. И. Тургенева, И. И. Козлова. Великий мастер разговора, должно быть, ценил в Долли Фикельмон достойную себя собеседницу. Как и другие, он отмечает приветливость – одно из проявлений ее доброй души.
Заключительные строки пушкинского письма: «…хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам», – я склонен считать лишь любезной фразой. В своем дневнике за 1829–1831 гг. Долли неоднократно говорит, что она очень счастлива. Мы не знаем также ничьих свидетельств, которые говорили бы об обратном.
В 1829–1831 гг., как мы видели, Фикельмон была очень дружна с Вяземским. В очерке «Переписка друзей» я назвал их отношения в этот период «влюбленной дружбой». Нет, однако, оснований думать, что и дружба Долли с Пушкиным в это время тоже была недалека от любви. Умнейший человек и очаровательный собеседник, несомненно, ее интересовал. Понаслышке Фикельмон знала и о том, что Пушкин – гениальный поэт. Вполне естественно, что она не меньше других интересовалась слухами о предстоящей женитьбе, слухами, которые к тому же глубоко огорчали ее любимую мать. Будучи человеком очень непосредственным, Дарья Федоровна сочла возможным написать Пушкину первой и обратиться к нему с какими-то упреками, от которых поэт почтительно защищался в своем ответном письме. Долли еще не знала о состоявшейся помолвке – иначе она, несомненно, поздравила бы адресата. Столь же несомненна, однако, и связь ее письма с петербургскими слухами о женитьбе.
С большой вероятностью можно предположить, что Фикельмон заранее упрекала Пушкина в том, что он переменит свое отношение к ней. Быть может, станет менее внимательным. Что речь идет именно о перемене ожидаемой, а не произошедшей, видно из употребления поэтом будущего времени – «я всегда останусь самым искренним поклонником».
Вряд ли эти упреки шли дальше тех дружеских и ни к чему, собственно, не обязывающих разговоров о чувствах, которые мы многократно встречали в переписке Долли и Вяземского за 1830–1831 гг.
Однако самая возможность каких бы то ни было упреков в связи с предстоящей женитьбой предполагает не только близкое знакомство, но и немалую степень дружбы. Иначе нельзя себе представить, чтобы светская женщина, какой была Долли, допустила бы неосторожный и грубый промах, вторгаясь в область, которая совсем ее не касалась. Чтобы упрекать, надо чувствовать какое-то право на упреки. Дружба это право дает, и я думаю, что письмо Пушкина позволяет с уверенностью считать отношения поэта и Долли весной 1830 года дружескими.
В ответе Пушкина, при всей его изысканной любезности и известной задушевности, чувствуется все же, как мне кажется, желание точнее определить отношения в будущем. Пишет жених, как он думал, перед самой свадьбой, и обращается к молодой очаровательной женщине, которая, возможно, была к нему все же несколько неравнодушна. Пушкин, по существу, говорит, что, женившись, он будет по-прежнему ценить любезность Дарьи Федоровны и по-прежнему будет рад с ней беседовать, но больше он ничего не обещает. Круг очерчен. Долли Фикельмон остается для поэта доброй приятельницей, какой была и раньше.
II
О своей помолвке Пушкин сообщил в письмах некоторым близким друзьям еще до того, как родители Н. Н. Гончаровой разослали извещение от «Майя 6 дня». В. Ф. Вяземской он написал, например, о предстоящей свадьбе, прося ее быть посаженой матерью, не позже 28 апреля. 2 мая в письме к П. А. Вяземскому Пушкин спрашивает, сказал ли тот о помолвке своей сестре, Екатерине Андреевне Карамзиной. Около 5 мая он пишет П. А. Плетневу: «Ах, душа моя, какую женку я себе завел!» Вряд ли можно сомневаться в том, что Пушкин счел также себя обязанным известить о предстоящем событии и Елизавету Михайловну Хитрово. Не сделать этого значило бы серьезно ее обидеть, а Пушкин – нельзя этого забывать – был воспитанным человеком, хорошо знавшим светские обычаи.
После отъезда Пушкина в Москву Елизавета Михайловна, догадавшаяся о цели поездки, отправляла ему одно письмо за другим, и эти отчаянные послания наскучили поэту. Уже во второй половине марта он пишет Вяземскому: «…она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефреихи»[323]. Но «Пентефреиха» – это для Петра Андреевича, в расчете на то, что он не разболтает. Для общества – ее превосходительство генерал-майорша Хитрово, теща австрийского посла; для самого себя, несмотря на все ее странности, – умный и преданный друг… Оскорбить ее молчанием Пушкин не мог.
Можно думать, что Елизавета Михайловна, как ни было ей горько, в ответ на извещение поздравила жениха, но это письмо до нас не дошло.
9 мая она писала:
«Я не имею для вас никакого значения. Говорите мне о вашей свадьбе и о ваших планах на будущее. Все разъезжаются, а хорошая погода не наступает. Долли и Катрин просят вас рассчитывать на них, чтобы вывозить в свет вашу Натали.
Г-н Сомов дает уроки посланнику и его жене, – что же касается меня, то я перевожу на русский язык «Светский брак» и буду его продавать в пользу бедных. Элиза – 9-е вечером».
Тон этого письма грустный, но спокойный – Е. М. Хитрово, видимо, примирилась с неизбежным, но, быть может, это спокойствие только кажущееся, нарочитое. Она говорит о женитьбе поэта, которая, конечно, не перестала ее волновать, как-то походя, вперемежку с сообщениями о погоде, уроках Сомова и своих переводческих планах, кстати сказать, неосуществившихся и неосуществимых – по-русски, как и по-французски, Елизавета Михайловна писала очень неправильно.
Пушкин ответил довольно быстро. Письмо Хитрово он должен был получить числа 13–14, а его короткая (всего три строчки) записка датирована 18 мая:
«Не знаю еще, приеду ли я в Петербург, – покровительницы, которых вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же как у ваших».
Надо сказать, что одни и те же слова, даже если они точно переведены, зачастую в подлиннике звучат иначе, чем по-русски. «Бедной» в этой фразе по-французски – всего лишь словесное украшение, а «быть у чьих-нибудь ног», как мы знаем – старинная форма вежливости, и только. По существу же из письма Хитрово следует, что обе молодые графини, во-первых, считают себя приятельницами Пушкина, и, во-вторых, очевидно, в свете никто не сплетничает по поводу их дружбы с поэтом. Собственно говоря, «покровительницей» молодой женщины, начинающей выезжать в большой свет, скорее приличествовало стать Елизавете Михайловне, но легко понять, что в светском обществе над этим начали бы смеяться…
В конце мая она пишет Пушкину еще одно письмо – на этот раз очень длинное, очень серьезное и до предела искреннее. Деланного спокойствия в нем нет. Елизавета Михайловна примирилась с тем, что любимый человек женится, но не скрывает того, что ей тяжело:
«Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я тем не менее останусь все тем же существом – страстным, кротким и безобидным, которое за вас готово идти в огонь и воду, потому что так я люблю даже тех, кого люблю немного.
Благодаря Богу, у меня в сердце вовсе нет эгоизма. Я размышляла, я боролась, страдала и наконец достигла того, что сама желаю, чтобы вы поскорее женились. Устройтесь же с вашей прекрасной и очаровательной женой в хорошеньком, маленьком и чистом деревянном домике; по вечерам ходите к тетушкам составлять им партию и возвращайтесь домой счастливый, спокойный и благодарный провидению за вверенное вам сокровище».
Возможно, что тогда, в мае 1830 года, заочно восхищаясь будущей женой поэта и сочиняя эту идиллию в духе Руссо (не хватает только зеленых ставен у предназначаемого Пушкину деревянного домика), – Хитрово была искренна. Однако из письма Елизаветы Михайловны к Вяземскому от 12 сентября того же года[324] видно, что спустя несколько месяцев ее отношение к невесте поэта, «прекрасной и очаровательной», резко переменилось – по крайней мере на время. Хитрово, по-видимому, только что узнала, что Пушкин уехал (31 августа) из Москвы в Болдино. По этому поводу она разражается упреками по адресу Натальи Николаевны, в которых чувствуется и нескрываемая любовь к поэту, и несомненная ревность: «Как вы отпускаете Пушкина ехать среди всех этих болезней? Однако его невеста создана для того, чтобы позволять ему носиться в одиночку. Так как нужно, чтобы он женился, я хотела бы, чтобы это уже совершилось и чтобы его жена, брат, сестра – все они только бы и думали, как о нем позаботиться! Знаете, если бы они были под властью [его] очарования, как я, они не знали бы покоя ни ночью ни днем!»[325]
Долли теперь спокойнее и выдержаннее матери. Ее порывистая юность прошла. Тоже тревожится за друзей, которые могут заразиться холерой, но пишет Вяземскому 4 декабря 1830 года строки весьма рассудительные: «К тому же нет ничего менее веселого, чем современный салон, – нет больше любезности, нет больше изящества в выдумках, если только вы и Пушкин вскоре не вернетесь – жизнь в деревне, быть может, предохранила вас обоих от этой роковой заразы»[326].
Фикельмон считает – и она, надо думать, права, – что, оставаясь в своем поместье, легче уберечься от холеры, чем в Москве.
Вернемся теперь немного назад – к лету все того же 1830 года.
Свадьба Пушкина по разным причинам долго откладывалась. На короткое время (конец июня – начало августа) он приехал в Петербург и затем снова вернулся в Москву. Очевидно, повидавшись с поэтом, Фикельмон записывает 11 августа 1830 года: «Вяземский уехал в Москву, и с ним Пушкин, писатель; он приезжал сюда на некоторое время, чтобы устроить дела, и теперь возвращается, чтобы жениться. Никогда еще он не был таким любезным, таким полным оживления и веселости в разговоре. Невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться».
Быть может, поэт вспомнил о том, что в апрельском письме Дарья Федоровна заранее упрекала его в том, что, женившись, он переменит свое отношение к ней. Вспомнил и лишний раз хотел показать, что все остается по-старому.
Долли очень ценила в людях умение вести беседу, и в особенности, способность говорить просто и занимательно. Чувствуется, что именно эта способность Пушкина, оттенявшая его блестящее остроумие и ум, особенно восхищала молодую женщину.
А в Долли он видит умную, блестящую собеседницу. В салоне Фикельмон поэт прост и естествен.
18 февраля 1831 года Пушкин наконец обвенчался с Н. Н. Гончаровой. Первые месяцы молодые прожили в Москве, а в середине мая, не поладив с тещей, поэт приехал с женой в Петербург, намереваясь провести лето и осень в Царском Селе.
Вернемся снова к дневнику Фикельмон. 21 мая она записывает: «Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать [в свете]. Я видела ее у маменьки – это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая – лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, – глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный, – тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым, – он так хорошо говорит, его разговор так интересен, сверкающий умом без всякого педантства».
Портретов Натальи Николаевны известно немало, но почти все они относятся ко времени ее вдовства или второго замужества с генералом П. П. Ланским. Немало мы знаем и описаний ее внешности в переписке и мемуарах современников. Прелестная, выразительная словесная акварель, набросанная Фикельмон после первой встречи с Натальей Николаевной, – едва ли не лучший ее литературный портрет. Чувство прекрасного, которое было так сильно у Дарьи Федоровны, сказалось здесь в полной мере. Сказалась в ее записи и всегдашняя способность наблюдать людей. Фикельмон сразу заметила, что Пушкин влюблен в свою юную жену, хотя есть ряд свидетельств, что под венец он шел неохотно, почти по обязанности.
За неделю до свадьбы (10 февраля 1831 года) он пишет своему приятелю Н. И. Кривцову: «До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастия мне не было <…> Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же женюсь я без упоения, без ребяческого очарования <…> Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».
Но свадьба состоялась, и радостно удивленный Пушкин почувствовал, что к нему в самом деле пришло долго не дававшееся счастье. Через шесть дней после венчания (24 февраля) он пишет П. А. Плетневу: «Я женат – и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».
Через три месяца счастливого, влюбленного поэта увидела у себя Фикельмон. По-прежнему он кажется ей очень некрасивым, даже уродливым человеком, о внешности которого забываешь, когда он начинает говорить. По-прежнему Долли отмечает сверкающий ум поэта. С обычной своей проницательностью она чувствует, что Пушкин счастлив.
Пребывание молодоженов в Петербурге, где они жили в гостинице Демута, продолжалось всего неделю. 25 мая Пушкины уехали в Царское Село, куда вскоре в связи с начавшейся в столице эпидемией холеры переехали царская семья и двор. Вокруг резиденции были установлены карантины, и сообщение с Петербургом прекращено. К этому времени относится еще одно впервые публикуемое сообщение о Пушкине в письме Е. М. Хитрово к Вяземскому от 12 июля 1831 года: «Наш друг в Царском Селе – я не могу для него ничего сделать – за исключением книг»[327].
Таким образом, несмотря на карантинные строгости, заботливая Елизавета Михайловна продолжала снабжать поэта нужными книгами, вероятно, используя при этом возможности своего зятя-посла[328].
Мы видим, что ее отношение к Пушкину после его женитьбы остается прежним. Е. М. Хитрово сумела себя перебороть и, оставаясь другом Пушкина, жизни его больше не осложняла.
Обратимся теперь снова к ее дочери. 25 мая, через четыре дня после того, как Долли писала в дневнике о счастии Пушкина, она в грустном письме к Вяземскому, полном тревоги по поводу холеры и событий в Польше, сообщала ему свои мысли о несчастии, которое она предвидит для четы Пушкиных в будущем…
В письме, опубликованном еще в 1884 году сыном Вяземского[329], имеются такие строки: «Пушкин к нам приехал,
к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее; мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие (pressentiment) несчастия у такой молодой особы. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину еще только один раз»[330].
Еще определеннее выразились опасения Долли в письме к Вяземскому 12 декабря того же года: «Пушкин у вас в Москве, жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность».
Пушкинисты единодушны в оценке этого удивительного предвидения, которое говорит о глубоком уме и совсем исключительной интуиции двадцатисемилетней Дарьи Федоровны. Когда Пушкин женился, многие из его друзей, знавшие непостоянный нрав поэта, не ожидали ничего хорошего от этого брака, но несчастья непоправимого, катастрофы, кроме Фикельмон, не ожидал никто.
Грустные пророчества Долли, несомненно, стоят в связи с тем ее свойством, которое ее родственница по мужу графиня Каролина Латур называла «avoir un oeil au bout du nez»[331]. Дарья Федоровна была вообще чрезвычайно склонна волноваться за людей, так или иначе ей дорогих, и легко видела их будущее в трагическом свете. «Это недуг, которым природа наделила меня в непереносимой степени», – пишет она сестре 25 апреля 1849 года.
Наталье Николаевне и отношению к ней мужа посвящено еще несколько интересных записей.
25 октября 1831 года поэт с женой присутствовал на большом вечере у Фикельмонов. Это было первое появление Пушкиной в высшем обществе Петербурга. Долли на следующий день записала: «Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь впервые явилась в свете; она очень красива, и во всем ее облике есть что-то поэтическое – ее стан великолепен, черты лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное: я еще не знаю, как она разговаривает, – ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают, – но муж говорит, что она умна. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, все возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете».
И на этот раз Долли Фикельмон не ошиблась. Впоследствии светские успехи жены стали тяготить Пушкина, и он пережил в связи с этим немало горьких дней. Уже в сентябре 1832 года он пишет жене:
«Я только завидую тем из них (друзей. – Н. Р.), у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc, etc. Знаешь русскую песню —
Не дай бог хорошей жены, Хорошу жену часто в пир зовут.А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит».
Позднее это похмелье стало еще сильнее, но, надо сказать правду, наступило оно далеко не сразу. Привезя жену в столицу, поэт первое время, несомненно, сам увлекался и гордился ее светскими успехами.
А зоркая, наблюдательная Фикельмон не расставалась с мыслью о несчастном будущем четы Пушкиных. 12 ноября 1831 года после бала у председателя Государственного совета Кочубея и за месяц до письма Вяземскому, о котором уже говорилось, она пишет в дневнике: «Поэтическая красота г-жи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике – эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе
печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется и весь ее облик как будто говорит: «я страдаю»! Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу – быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!»
Что сказать об этих задушевных строках? В подлиннике в них еще больше литературного блеска, но самое главное – еще и еще раз Дарья Федоровна Фикельмон оправдывает прозвание «Сивиллы флорентийской» – предсказательницы будущего.
Личность Натальи Николаевны, жены великого поэта, продолжала интересовать Долли. Год спустя, 22 ноября 1832 года, она записывает: «Вчера мы дали наш первый большой раут <…> Общество еще лишено своего лучшего украшения, так как все почти молодые женщины еще остаются дома. Однако самая красивая вчера там была – Пушкина, которую мы прозвали поэтической как из-за мужа, так из-за ее небесной и несравненной красоты. Это образ, перед которым можно оставаться часами как перед совершеннейшим созданием Творца»[332].
По-видимому, в этот день, 22 ноября, имя поэта упоминается Долли в последний раз и затем внезапно исчезает со страниц ее дневника вплоть до записи о дуэльной драме. Однако факт этот нуждается в проверке (напомню, что за 1832–1836 гг. дневник не опубликован, кроме небольших отрывков), но, по словам А. В. Флоровского, прочитавшего весь документ в подлиннике, «приведенными записями, к сожалению, и ограничивается – кроме рассказа о смерти <…> – находящийся в дневнике гр. Ф. материал непосредственно о Пушкине и его жене»[333].
Я не рассмотрел еще одной записи, относящейся к Наталье Николаевне, хотя она сделана несколькими месяцами раньше последней. Ее содержание показывает, что, по-прежнему восхищаясь красотой Пушкиной, «совершеннейшего создания творца», Фикельмон с некоторого времени начала очень скептически относиться к ее уму. В сентябре 1832 года, когда у Пушкина уже началось «похмелье» от всеобщего увлечения внешностью его жены, в дневнике наблюдательницы, в связи с вечером у князей Белосельских-Бело-зерских на Крестовском острове, появляется такая запись:
«Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом; невозможно быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем у нее не много ума и даже, кажется, мало воображения»[334].
Впоследствии, как мы увидим, в связи с дуэльной драмой Фикельмон отзывается об уме Натальи Николаевны тоже довольно резко.
Права ли она? Такой вопрос поставил я в первом издании книги «Портреты заговорили» и предпринял попытку коротко ответить на него. В некоторых своих суждениях я, видимо, был не прав. Личность Натальи Николаевны, как выясняется, была гораздо сложнее. И поскольку она продолжает волновать не только исследователей-пушкинистов, но и широкого читателя, необходимо рассмотреть ее более подробно.
О жене поэта сейчас пишут многие, и это понятно. Как сказала еще современница Гончаровой Н. М. Еропкина*, «Наталья Николаевна сыграла слишком видную роль в жизни Пушкина, чтобы можно было обойти ее молчанием».
Сведения о жене Пушкина до недавнего времени были очень неполными и носили большей частью весьма пристрастный характер. Отзывы современников, которым, казалось бы, необходимо доверять больше, чем кому-либо другому, на деле оказываются малоубедительными, так как они не были объективными.
Трудно понять, почему так случилось, но травля Натальи Николаевны началась еще при жизни Пушкина.
«Вообрази, что на нее, бедную, напали… – писала мужу сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева еще в 1835 году. – Почему у нее ложа в спектакле, почему она так элегантна, когда родители ее мужа в такой крайности, – словом, нашли пикантным ее бранить…»
Судя по всему, Пушкина очень огорчало это несправедливое отношение света к его жене. Возвратясь из Михайловского, он жаловался Осиповой: «В этом печальном положении я еще с огорчением вижу, что моя бедная Натали стала мишенью для ненависти света».
Бурный всплеск «ненависти света» произошел после смерти Пушкина, как он и предвидел: «Бедная! Ее заедят…» – сокрушался умирающий поэт. И затем новая волна враждебных Наталье Николаевне выступлений в печати поднялась в 1878 году, спустя почти 30 лет после ее смерти, когда переданные Тургеневу младшей дочерью Пушкина Натальей Александровной Меренберг письма Пушкина к жене были опубликованы в «Вестнике Европы» (кн. I).
И теперь, спустя сто лет, отдадим должное вдове поэта – кроме А. П. Керн, кажется, никто из женщин, корреспонденток Пушкина, не имел мужества полностью сохранить его письма. Некоторые, как, например, баронесса Вревская («кристалл души моей») перед смертью, несмотря на мольбы ее дочери, уничтожила письма Пушкина полностью. Между тем в письмах к жене поэт порой не стеснялся в выражениях, и некоторые из этих выражений не могли быть приятны вдове поэта и она не могла не понимать, что впоследствии их могут использовать для очернения ее личности. В какой-то мере в этом случае нельзя не согласиться с Араповой, когда она говорит: «… только женщина, убежденная в своей безусловной невинности, могла сохранить (при сознании, что рано или поздно оно попадет в печать) то орудие, которое в предубежденных глазах могло обратиться в ее осуждение»[335]. Скептическое отношение к духовному облику жены поэта, как мы уже сказали, было предопределено ее современниками. Насколько оно соответствует истине, мы увидим по ходу изложения и анализа различных источников. Что же касается первых исследователей дуэльной истории, то здесь случилась довольно странная вещь: многие отрицательные отзывы современников о личности жены поэта принимались на веру без всякой осторожности (положительные при этом зачастую отсеивались), в то же самое время совершенно игнорировалось мнение самого Пушкина о своей жене, в которой он видел «чистейшей прелести чистейший образец».
Исполнились мои желания. Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона, Чистейшей прелести чистейший образец.Жуковский, познакомившись поближе с Натальей Николаевной, находил, что она – «милое творение».
«Женка Пушкина очень милое творение. C’est le mot[336]. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше»[337].
Обратим особое внимание на фразу из письма Жуковского: «И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше» и прислушаемся, как она созвучна признаниям самого Пушкина: «Женка моя прелесть не по одной наружности»[338].
И, наконец, посмотрим, как отзывается о Наталье Николаевне поэт в своих письмах к ней.
«Какая ты умненькая, какая ты миленькая! Какое длинное письмо! как оно дельно! благодарствуй, женка! Продолжай, как начала, и я век за тебя буду Бога молить» (25 сентября 1832 года).
«Гляделась ли ты в зеркало, – писал он ей спустя два с половиной года после женитьбы, – и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете – а душу твою люблю я еще более твоего лица»[339] (выделено мной. – Н. Р.).
В одном из писем Пушкина к жене мы читаем до предела откровенное признание: «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив».
Перечитывая то ласковые, то сердитые, но всегда задушевные письма Пушкина к жене, нельзя не заметить, что они полны любви и искренней заботы о ней. В свое время они глубоко взволновали большого русского писателя А. И. Куприна. Он писал:
«Я хотел бы тронуть в личности Пушкина ту сторону, которую, кажется, у нас еще никогда не трогали. В его переписке так мучительно трогательно и так чудесно раскрыта его семейная жизнь, его любовь к жене, что почти нельзя читать это без умиления. Сколько пленительной ласки в его словах и прозвищах, с какими он обращается к жене! Сколько заботы о том, чтобы она не оступилась, беременная, – была здорова, счастлива! Мне хотелось бы когда-нибудь написать об этом <…> Ведь надо только представить себе, какая бездна красоты была в его чувстве, которым он мог согревать любимую женщину, как он, при своем мастерстве слова, мог быть нежен, ласков, обаятелен в шутке, трогателен в признаниях! <…> Я хотел бы представить женщину, которую любил Пушкин, во всей полноте счастья обладания таким человеком»[340].
Волею судьбы Наталья Николаевна Гончарова стала женою гениального поэта. Трудно сказать с уверенностью, был ли этот брак счастливым (вспомним слова Долли Фикельмон о том, что трудно быть женою поэта, в особенности такого поэта, как Пушкин). Одно является несомненным: именно браку с великим поэтом Наталья Николаевна обязана тем, что имя ее повторяется на все лады вот уже второе столетие. Потомков продолжает волновать вопрос о том, каков же был подлинный духовный облик этой горячо любимой Пушкиным женщины?
Предки Натальи Николаевны, как я уже упомянул, были дворянами, но дворянами недавними. Ведя жизнь богатых дворян, в то же время Гончаровы, по существу, оставались купцами и промышленниками. Надо сказать, что эта деловая жилка в какой-то мере была свойственна и Наталье Николаевне, несмотря на ее внешность «Российской Психеи». Но об этом я буду говорить позднее.
Мы располагаем лишь очень отрывочными сведениями о детстве и юности Натальи Николаевны. Совсем мало мы знаем и внешность будущей знаменитой красавицы в детском возрасте. Сохранился лишь один-единственный портрет 8– или 9-летней Таши Гончаровой, задумчивой и несколько грустной девочки. Такое же впечатление производят и несколько сохранившихся ее детских писем к деду. Они искренни, не банальны и говорят, между прочим, о любви девочки к цветам, которые она сама разводила.
Барышни Гончаровы, в том числе Таша, получили не худшее, а может быть, в некотором отношении лучшее образование, чем большинство их сверстниц. Когда Наталья Николаевна стала девушкой, ее кавалерами и, наверное, поклонниками были образованные молодые люди – студенты Московского университета.
Домашняя обстановка в семье Гончаровых в пору детства и юности Натальи Николаевны, еще раз повторим, была тяжелая и не могла не отзываться на психике девочки. Однако духовный облик ее, видимо, оставался необычайно привлекательным. Об этом говорят интересные воспоминания Еропкиной, одной из немногих рисующей Наталью Николаевну вне всякой связи с дуэльной трагедией. Она пишет: «…Я хорошо знала Наташу Гончарову, но более дружна она была с сестрой моей Дарьей Михайловной. Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей. Участвовала она и в прелестных живых картинах, поставленных у генерал-губернатора кн. Голицына, и вызывала всеобщее восхищение. Место первой красавицы Москвы осталось за нею.
Наташа была действительно прекрасна, и я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые, с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя останавливал слишком резкие порывы. Но главную прелесть Натали составляло отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо.
Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех. Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо. Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Все в ней самой и манера держать себя было проникнуто глубокой порядочностью. Все было comme il faut[341] – без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о ее родственниках. Сестры были красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно было бы искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец и не в своем уме, никакого значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась хорошим тоном и была частенько пренеприятна… Поэтому Наталья Николаевна явилась в этой семье удивительным самородком. Пушкина пленили ее необычная красота, и не менее вероятно, и прелестная манера держать себя, которую он так ценил».
Однако, надо сказать, что порой Пушкин все же находил в жене недостаток comme il faut, в чем ее и упрекал. 30 октября 1833 года он писал жене: «…ты знаешь, как я не люблю все, что не comme il faut, все что vulgar»[342].
Думается, однако, что в Наталье Николаевне временами чувствовалось не так ее московское прошлое, как прочная душевная связь с очень провинциальной жизнью Калужской губернии, где находилось поместье Гончаровых Полотняный Завод и где прошло ее детство.
Недаром в письме Пушкина к Наталье Николаевне от 3 августа 1834 года есть такие строки: «Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно играющих старую, скверную оперу? что за охота останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть с чернию губернский фейворок, когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных и никаким фейвороком тебя в карету не заманишь. Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да, видно, уж у тебя такая натура».
Характерно также письмо вдовы Пушкина к Александру Ивановичу Тургеневу от 10 марта 1843 года[343]. Этот любопытный документ опубликован давно и частью воспроизведен фототипически, но почему-то не привлек внимания исследователей и, насколько я знаю, до сих пор не был даже переведен. Приведу из него несколько строк.
Тридцатилетняя Наталья Николаевна пишет пятидесятидевятилетнему Тургеневу впервые, – по ее словам, он не знает ее почерка, не встречались они ряд лет, но тон дружеской болтовни Пушкиной чрезвычайно фамильярный, а некоторые фразы граничат с пошлостью.
«Я не требую от вас полной правды, я только смиренно спрашиваю имя того цветка, который в данное время остановил полет[344] нашей желанной бабочки. Увы, все те, кого вы покинули здесь (в Тригорском. – Н. Р.), вянут, ожидая вас. Не говорю вам, чтобы годы были здесь ни при чем, но приезжайте наконец поскорее собрать их последние ароматы[345]. Теперь прощайте, самое ясное, что я должна вам сказать на свой счет, это то, что я сохраню о вас самое нежное воспоминание, всецело основанное на дружбе, не прочтите на любви.
Натали Пушкина.
Моя сестра просит напомнить вам о себе – шушечка <…>» (последнее слово по-русски. – Н. Р.).
В письме чувствуется добрая, внимательная к друзьям мужа женщина, какой и была Наталья Николаевна. Письмо это даже довольно литературно, но трудно признать в его авторе даму большого света.
Мне думается, что в свое время Н. Н. Пушкина, быть может, чувствовала себя привольнее и веселее в гостях у калужских купеческих дочек, чем, скажем, в малой столовой Фикельмонов в тот день, когда кроме блистательной хозяйки там были умная приятельница Пушкина Александра Осиповна Смирнова-Россет и блестящая пианистка Лебцельтерн.
При изучении источников, и в особенности писем сестер Гончаровых к брату Дмитрию, чувствуется порой, что и Наталья Николаевна, и ее сестры, выросшие главным образом в калужских поместьях, мало были подготовлены к вступлению в большой петербургский свет. Кроме того, их, несомненно, угнетала постоянная материальная необеспеченность, которую они должны были остро испытывать, вращаясь преимущественно в кругу богатых людей.
В смысле отношений высшего петербургского общества к только что появившимся там сестрам Гончаровым характерно письмо Екатерины Николаевны от 16 октября 1834 года, в котором имеется такая фраза: «Мы делаем множество визитов, что нас не очень-то забавляет, а на нас смотрят как на белых медведей – что это за сестры мадам Пушкиной, так как именно так графиня Фикельмон представила нас на своем рауте некоторым дамам».
Однако, на удивление, Гончаровы очень быстро (по тому времени) освоились в обществе, которое поначалу отнеслось к ним весьма сдержанно. Обратимся снова к письмам Екатерины Николаевны к брату.
«Нет ничего ужаснее, – пишет она в ноябре 1835 года, – чем первая зима в Петербурге, – но вторая – совсем другое дело. Теперь, когда мы уже заняли свое место, никто не осмеливается наступать нам на ноги, а самые гордые дамы, которые в прошлом году едва отвечали нам на поклон, теперь здороваются с нами первые, что также влияет на наших кавалеров. Лишь бы все шло как сейчас, и мы будем довольны, потому что годы испытания здесь длятся не одну зиму, а мы уже сейчас чувствуем себя совершенно свободно в самом начале второй зимы, слава богу, и я тебе признаюсь, что если мне случается увидеть во сне, что я уезжаю из Петербурга. Я просыпаюсь вся в слезах и чувствую себя такой счастливой, видя, что это только сон».
Не прошло и года, сестры Гончаровы стали украшением высшего света.
«Мы здесь слывем превосходными наездницами; когда мы проезжаем верхами, со всех сторон и на всех языках, какие только можно себе представить, все восторгаются прекрасными амазонками» (14 июля 1836 г.). «…Мы были здесь в большой моде, так как ты должен знать, что наши таланты в искусстве верховой езды наделали много шуму, что нас очень смущает» (15 сентября 1836 г.).
Кому же провинциальные барышни Гончаровы были обязаны тем, что они быстро заняли прочное и блестящее положение в большом петербургском свете? Не приходится сомневаться, прежде всего, конечно, доброте и трогательной заботливости их младшей сестры. Пушкин, как известно, поначалу противился желанию жены приблизить сестер к большому свету и двору и даже предсказывал возможность неудачи в этом.
«Охота тебе думать, – писал Пушкин жене, – о помещении сестер во дворец. Во-первых, вероятно, откажут; а во-вторых, коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтобы пускаться в просительницы. Погоди, овдовеешь, постареешь – тогда, пожалуй, будь салопницей и титулярной советницей. Мой совет тебе и сестрам быть подале от двора; в нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться» (11 июня 1834 г.).
Однако Наталья Николаевна, кажется, без большого труда добилась того, чего желала, не без помощи, конечно, богатой и влиятельной тетки, старой фрейлины Загряжской, о которой упоминает Пушкин в только что цитированном письме. Не последнюю роль в устройстве судьбы сестер сыграла, как мне думается, свойственная Наталье Николаевне напористость, когда дело касалось ее близких, родных и знакомых, которую трудно было ожидать у молодой, светски не очень опытной и внешне застенчивой женщины («совсем не глупа, но еще несколько застенчива», – писала о ней в свое время сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева). С этим качеством жены Пушкина нам придется еще неоднократно встречаться.
Нелегкое было положение Натальи Николаевны, жены первого поэта России, поэта, который для одних был гордостью страны, а для других весьма неприятным, неуживчивым человеком, обладавшим острым и язвительным языком. И тогда, как первые вольно или невольно видели в Наталье Николаевне прежде всего жену гения, а не просто очень красивую светскую женщину и ожидали найти в ней собрание всевозможных совершенств, другие, завидовавшие гению поэта и не любившие его как человека, намеренно искали в его жене недостатки, которые могли бы унизить самолюбивого поэта. Однако и те и другие, по-разному относясь к Пушкину, не прощали даже небольших промахов его жене. Да и в том, что царственная красота Пушкиной сама по себе наряду с восхищением вызывала и жгучую зависть у некоторых не столь блестящих красавиц, видимо, не приходится сомневаться. Зависть рождала злословие, заставляла искать в Наталье Николаевне духовные несовершенства, раз физических найти было нельзя. Искать духовные недостатки было легче, ведь их можно было и придумать. В этой связи многозначительно звучит фраза из воспоминаний Еропкиной: «Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо».
Эта атмосфера напряженного и не всегда благожелательного внимания, окружавшая Пушкину, не могла не быть для нее тягостной, особенно на первых порах. Уверенность в себе развилась лишь постепенно, но и в более зрелые годы Наталья Николаевна, по-видимому, оставалась сдержанной и до известной степени замкнутой в себе натурой. Уже будучи Ланской, она писала о себе:
«…Несмотря на то что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи, иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве… Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто раньше принимали за холодность и в ней меня упрекали. Что поделаешь? У сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца»[346].
Не приходится сомневаться в том, что пока Наталья Николаевна не встретилась с Дантесом, она умела хорошо владеть собой и обостренному вниманию светского общества противопоставляла любезную, но сдержанную манеру обхождения с окружающими, а в особенности – со своими бесчисленными поклонниками. Лишних слов, быть может, за редким исключением, они от нее не слышали. В то же время она сохраняла умную и привлекательную естественность, которая нравилась всем, кто знал ее более или менее близко.
Если я не ошибаюсь, одним из первых, кто обратил внимание на эту черту характера Натальи Николаевны, был парижский пушкинист, автор обширного очерка «Невеста и жена Пушкина» М. Л. Гофман. Он писал:
«Жена Пушкина по природе своей не была кокеткой и в своих манерах (по крайней мере, до 1834 года) была сдержанна и неприступна и скорее отпугивала от себя своих ревностных поклонников, чем приманивала их. До появления на горизонте Пушкиных барона Дантеса никто не связывал ее имени ни с чьим другим именем, хотя в свете и старались пустить клевету об ее близости с государем Николаем Павловичем»[347].
Спустя несколько лет после смерти Пушкина Наталью Николаевну посетил П. А. Плетнев. О своих впечатлениях от встречи с вдовой поэта он писал:
«Вечер с семи почти до двенадцати я просидел у Пушкиной жены и ее сестры. Они живут на Аптекарском, но совершенно монашески. Никуда не ходят и не выезжают. Пушкина очень интересна.
В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то трогательное. Она не интересничает, но покоряется судьбе. Она ведет себя прекрасно, нисколько не стараясь этого выказывать».
М. Яшин, исследуя духовный облик Н. Н. Пушкиной-Ланской, обратил внимание на такую немаловажную подробность. После близкого общения с Натальей Николаевной различные лица, поначалу недоброжелательно или скептически к ней настроенные, заметно меняют затем к ней свое отношение. Баронесса Е. Н. Вревская после встречи с Натальей Николаевной писала мужу:
«Я видела госпожу Пушкину, она так старалась быть со мной любезной, что совершенно восхитила меня. Это очаровательное существо».
А незадолго до этого та же Вревская рассказывала брату: «Она [Н. Н.] просит у Маменьки позволения приехать отдать последний долг бедному Пуш. – так она его называет. Какова?»
Сергей Львович Пушкин, после кончины сына относившийся к снохе с понятной неприязнью, совершенно переменил свое мнение о ней, когда провел десять дней в Полотняном Заводе. После этого свидания он писал Вяземскому такие прочувствованные строки: «Нужды нет описывать вам наше свидание. Я простился с нею как с дочерью любимой без надежды ее еще раз увидеть или, лучше сказать, в неизвестности, когда и где я ее увижу».
Но как бы там ни было, многие из современников Натальи Николаевны передали следующим поколениям, как мы теперь видим, ложные представления о скудости ума и духовного облика жены Пушкина. Это, в свою очередь, дало повод известному литературоведу П. Е. Щеголеву сделать свой безапелляционный вывод, надолго предопределивший наше отношение к жене Пушкина: «Наталья Николаевна была так красива, что могла позволить себе роскошь не иметь никаких других достоинств». Он мог бы быть в своих оценках и выводах не столь односторонним. Здесь я должен оговориться, в своей документальной части монография Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» имеет непреходящее значение. Иначе обстоит дело с созданными им образами главных протагонистов жизненной трагедии Пушкина. Из них образ Натальи Николаевны нужно признать наименее удавшимся. Потребовалось время и дальнейшие поиски документов, чтобы этот образ в значительной степени прояснился и предстал перед нами во всем своем обаянии, которое так сильно пленило Пушкина при первой же встрече с Натали Гончаровой. Со временем появились работы, без предвзятости исследующие духовный облик жены поэта. Среди них выделяется своей обстоятельностью книга И. Ободовской и М. Дементьева «Вокруг Пушкина» (М., 1975).
Однако и в настоящее время появляются работы, принадлежащие перу авторитетных исследователей, которые в той или иной степени продолжают в отношении Натальи Николаевны линию Щеголева. Среди них в особенности выделяется статья знаменитой поэтессы Анны Ахматовой.
Не думаю, что было бы правильно вступать в полемику с покойным автором хотя бы потому, что сама Анна Ахматова воздержалась от публикации своей работы. Но и совсем не принимать во внимание соображения поэтессы, мне кажется, также было бы неверным.
Работа Анны Ахматовой напечатана в журнале «Вопросы литературы» в публикации Э. Герштейн, снабдившей ее рядом подробных примечаний.
Замечу сразу же, что статья знаменитой поэтессы, вероятно, звучала бы иначе в окончательной редакции, которой нам, увы, не суждено прочесть.
Ахматова не сомневается, что роковой диплом составлен если не непосредственно посланником Геккерном, то, во всяком случае, по его инициативе или при его возможном участии.
Наряду с тонкими, хорошо продуманными мыслями, например, впервые поставленным вопросом, почему злосчастный диплом был разослан друзьям Пушкина, а не его врагам, что было бы более логичным (еще одна загадка дуэльной истории, и Анна Ахматова находит для нее очень оригинальное объяснение), наряду с такими глубокими мыслями в статье имеется много чрезвычайно спорных и необоснованных предположений.
Местами Анну Андреевну, на мой взгляд, подводит ее излюбленный интуитивный метод, которым она руководствуется в разработке поставленной темы, и ее построения зачастую приобретают фантастический характер. В этом отношении особенно показательна созданная ею картина того, как в голландском посольстве якобы мог вырабатываться текст злополучного пасквиля.
Со многими положениями автора я ни в какой мере не могу согласиться. И прежде всего считаю, что нас не может удовлетворить, особенно теперь, когда появились новые источники, характеризующие Наталью Николаевну Пушкину-Ланскую, чрезвычайно необъективное, я бы даже сказал, местами явно враждебное отношение к Наталье Николаевне. Среди современных, довольно многочисленных работ, в которых выявляется роль Натальи Николаевны в дуэльной истории, статья Ахматовой выделяется своим беспощадно резким осуждением жены поэта. Помимо многого дурного, что Ахматова находит в Наталье Николаевне, она считает, что жена Пушкина, так же как и ее сестра Екатерина, являлись если не сознательными, то невольными пособницами, «агентками», как она выражается, Геккерна-старшего в осуществлении его коварных планов.
Вот что она пишет о роли Натальи Николаевны в преддуэльные дни: «Пушкин спас репутацию жены. Его завещание хранить ее честь было свято выполнено. Но мы, отдаленные потомки, живущие во время, когда от пушкинского общества не осталось камня на камне, должны быть объективны. Мы имеем право смотреть на Наталью Николаевну как на сообщницу (курсив мой – Н. Р.) Геккернов в преддуэльной истории. Без ее активной помощи Геккерны были бы бессильны». И в другом месте: «…что она, как мы знаем, и делала, становясь, таким образом, агенткой Геккерна» («Вопросы литературы», 1973, № 3, с. 195, 212).
Скажу от себя только одно: эти умозрительные построения настолько искусственны, что не требуют опровержения.
Анна Ахматова совершенно определенно обвиняет жену Пушкина и в том, что, будучи в гостях у Фризенгофов и встретясь там с убийцей своего мужа, она будто бы помирилась с ним.
Между тем, как я уже упомянул в первом очерке, не существует никаких доказательств этой истории с примирением. Зато из только что опубликованных писем Екатерины Николаевны из-за границы старшему брату Дмитрию видно, что Наталья Николаевна, как и ее сестра Александрина, навсегда порвала отношения со старшей сестрой, что, естественно, исключает всякую возможность примирения с ее мужем. Таким образом, не только не виделась с убийцей своего мужа Наталья Николаевна, но и прервала всякую связь с сестрой. Вначале Екатерина Николаевна тщетно пыталась завязать переписку с сестрами и своей теткой Загряжской, – эти письма неизменно оставались без ответа. В дальнейшем о судьбе сестер она узнает лишь через третьих лиц, так как, по-видимому, и брат Дмитрий, и мать избегают всякого упоминания о сестрах Екатерины. Постепенно в письмах Екатерины Николаевны к брату чувствуется нарастающее раздражение против сестер и тетки. Прямых указаний в письмах Екатерины Николаевны нет, но нельзя не почувствовать неутихающую враждебность семьи Гончаровых к убийце Пушкина, враждебность, которая объясняется не только мелочностью и бесцеремонностью Дантеса, который, будучи обеспеченным человеком, упорно добивается получения обещанной помощи при заключении брака с Екатериной.
А что мы можем сказать о Наталье Николаевне на основании ее писем к брату Дмитрию? Скажем прежде всего о том, что они окончательно разрушают представление о Наталье Николаевне как о бездушной светской красавице, для которой главным содержанием жизни являлись ее успехи в большом свете.
Перед нами предстает не пустозвонная светская красавица, каких немало было в тогдашнем великосветском Петербурге, а женщина очень деловая, чрезвычайно деликатная в отношениях с людьми, хорошая хозяйка, заботливая жена, мать и сестра.
Вопреки общепринятому мнению, ни в одном ее письме мы не встречаем ни единой строчки о ее светских успехах, о желании затмевать всех своей красотой. Зато сообщениями такого характера изобилуют письма ее сестер – Екатерины и в особенности Александры, вопреки общепринятому мнению, что Александра, в отличие от своей сестры Натальи, была равнодушна к светским удовольствиям.
После знакомства с письмами сестер Гончаровых, свидетельств самых верных, у меня произошла неизбежная переоценка характеров всех трех сестер. Не могу не согласиться с
Д. Благим, когда он пишет: «Письма сестер помогли взглянуть по-новому и на их личность. И вот взамен ходячих представлений о них, окрашенных то сплошь черным (в отношении Екатерины), то, наоборот, розово-голубым цветом (в отношении Александры), перед нами предстают живые человеческие лица, в которых смыты как односторонне обличительные, так и односторонне идеализирующие краски»[348].
Признаюсь, что я не без сожаления расстался, в частности, с образом той Александрины, которая по приезде своем в дом Пушкина взяла на себя все заботы о детях и доме поэта. Никакого подтверждения этих домашних заслуг Александрины в письмах сестер и, в первую очередь, ее собственных письмах мы не находим. Напротив, мы видим, что все заботы по дому и по воспитанию детей берет на себя Наталья Николаевна и справляется со своими обязанностями так деловито и умно, как трудно было ожидать от совсем еще юной женщины. И по-другому звучит для нас сейчас письмо Пушкина к жене от 25 сентября 1832 года в ответ на подробное письмо Натальи Николаевны, содержащее рассказ о домашних хлопотах[349].
«Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счеты, доишь кормилицу. Ай да хват баба! что хорошо, то хорошо» (около 3 октября 1832 года).
«Ты умна, ты здорова – ты детей кашей кормишь – ты под Москвой. – Все это меня очень порадовало и успокоило; а то я был сам не свой» (24 апреля 1834 года).
Конечно, подобными косвенными доказательствами, что жизнь Натальи Николаевны не была полностью заполнена только светскими удовольствиями, что много внимания она уделяла детям, дому, наконец, литературным делам мужа, в особенности в тот период, когда Пушкин затеял издание собственного журнала, изобилуют письма Пушкина к жене, изданные очень давно. И все же, повторяю, только в наше время они стали фоном, на котором вырисовывается живой образ жены поэта.
Трудно было, например, предположить, что совсем еще молодая женщина, «мадонна», «психея», «поэтическая Пушкина» и т. д. может размышлять о том – дать ли взятку, чтобы соответствующим образом повлиять на решение в пользу Гончаровых очень важного для них процесса с арендатором их фабрик купцом И. Г. Усачевым. Между тем 1 октября 1835 года она пишет брату: «Второе, что я хотела бы знать: является ли правая рука Лонгинова[350], т. е. человек, занимающийся нашим делом, честным человеком, или он из таких, которых надо подмазать? В этом случае надо соответственно действовать. Как только я это узнаю точно, я дам тебе знать об этом».
В отсутствие мужа, уехавшего в Михайловское, Наталья Николаевна настойчиво обихаживает сановников, от которых зависит решение по данному делу[351]. Сенатор Бутурлин советует ей самой обратиться к царю, взяв обратно прошение, поданное Дмитрием Николаевичем. Пушкина решает последовать этому совету и пишет брату: «Прости, но он (Бутурлин. – Н.Р.) говорит, что мое имя и моя личность более известны Его Величеству, чем твои». Только вежливое, но настоятельное письмо Лонгинова от 31 октября 1832 года, указавшего на полную неуместность такого шага, заставляет Наталью Николаевну от него отказаться.
Быстро и умело Наталья Николаевна исполнила просьбу Пушкина, которому летом 1835 года понадобилась бумага для задуманного им альманаха[352]. Как видно из ее письма к брату от 18 августа, она приняла эту просьбу близко к сердцу: «Мой муж поручает мне, дорогой Дмитрий, просить тебя оказать любезность – приготовить ему 85 стоп бумаги по образцу, который я прилагаю к этому письму <…> Я прошу не отказать нам, дорогой брат, если наша просьба не затруднит и не создаст тебе неудобств».
Ряд писем к жене во время его последней поездки в Москву в мае 1836 года показывает, что в это время она фактически исполняла обязанности секретаря редакции «Современника». Исполняла старательно, хотя, кажется, спутала Гоголя и Кольцова. «Ты пишешь о статье Гольцовской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской?» «Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть», – наказывает Пушкин 11 мая.
Вопреки ранее существующему убеждению в том, что Пушкина была невнимательна к душевному состоянию своего мужа и плохо понимала трудности, с которыми он сталкивался в своей литературной деятельности, недавно обнаруженные письма Натальи Николаевны к брату Дмитрию заставляют изменить взгляд и на эту черту ее духовного склада. Приведем выдержку из письма, посланного брату в июле 1836 года, которое, кстати сказать, показывает, насколько трудно было в последние годы жизни поэта материальное положение его семьи.
«Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится; несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного, вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры, и если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам, и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты мне помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение; по крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, ты не рассердишься на меня, дорогой Дмитрий, за то, что есть нескромного в моей просьбе, будь уверен, что только крайняя необходимость придает мне смелость докучать тебе».
Сопоставляя, таким образом, разрозненные факты из различных источников: свидетельств современников, писем Пушкина к жене, писем самой Натальи Николаевны к брату Дмитрию, – можно с уверенностью сказать, что образ Натали Пушкиной – блистательной и легкомысленной красавицы, сущность которой проявлялась единственно в ее страсти к светским развлечениям, оказывается эфемерным.
Однако в заключение о Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской мне бы хотелось сказать, что в настоящее время в пушкиноведении, как кажется, наметилась другая крайность – чересчур идеализировать жену Пушкина, делать из нее чуть ли не ангела. А она таковой не была, она была живым человеком, были у нее и свои недостатки, и свои достоинства.
Перечитывая письма поэта к жене, нельзя, например, не заметить, что очень редко он упоминает в них о прочитанных книгах, о виденных картинах. Отвлеченных вопросов, политических новостей, даже таких, о которых можно было говорить, не опасаясь перлюстраций, не касается совсем. Не беседует Пушкин с женой и о собственном творчестве. Если и говорит о своих произведениях и журнальных планах, то только как об источниках дохода.
Приходится поэтому предположить, что при всех своих несомненных достоинствах жена поэта все же оставалась целиком на земле. Оторваться от нее, приблизиться к тем духовным вершинам, где царил ее гениальный муж, ей очень трудно. Есть некоторые сведения о том, что Наталья Николаевна сама пыталась писать стихи. Сведения эти, однако, пока не подтвердились, хотя, по-видимому, не лишены основания, так как в одном из писем к жене Пушкин говорит – «стихов твоих не читаю». Предположение о том, что речь в данном случае идет о чьих-то чужих стихах, посланных Наталье Николаевне, вряд ли соответствует истине. Судя по контексту, речь идет все же именно о стихах самой Натальи Николаевны.
Видеть в Наталье Николаевне только жертву людской клеветы, отравлявшей и жизнь, и память Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской, было бы, на мой взгляд, неверно. Эта житейски умная, добрая и привлекательная женщина, к несчастью ее самой, несчастью России и всего человечества, полюбила кавалергарда Дантеса и не сумела преодолеть этой любви. Самой трагической ее ошибкой было согласие на роковое свидание с Дантесом в кавалергардских казармах уже после его женитьбы на Екатерине Николаевне. Не могла она не понимать, скажем вернее – не имела права не понимать, к каким последствиям может привести это свидание при столь крайне напряженных и непримиримых отношениях ее мужа и ее поклонника.
В книге Ободовской и Дементьева мы, как и можно было ожидать, не находим ничего нового по этому вопросу. Однако он существует и будет продолжать существовать в своей трагической обнаженности.
III
Жена поэта встречалась с Долли Фикельмон главным образом в обществе, на многолюдных балах и приемах, но от времени до времени, несомненно, бывали и встречи «запросто», в тесном кругу друзей. Об одном из таких обедов у Фикельмон мы узнаем из недатированной записки Долли к Вяземскому[353]: «Дорогой Вяземский, вы должны сегодня достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы пообедать у нас.
Зинаида приедет в последний раз, Пушкины (поэт)[354], Смирновы обедают у меня. Итак, приезжайте в 5 ч. – я вам дам бульон для больного! Долли».
Прошу читателя вместе со мной всмотреться в текст этой дружеской записки, так как она содержит хотя и очень малозначительный, но все же новый факт из жизни поэта.
Среди близких знакомых Фикельмон мы знаем только одну Зинаиду – графиню Зинаиду Ивановну Лебцельтерн, урожденную графиню Лаваль. Ее муж был предшественником Фикельмона на посту посла в Петербурге. Лебцельтерн приехала в столицу на пароходе около 10 мая 1832 года[355], надо думать, для свидания с родными. Долли Фикельмон упоминает о ней в записях 15 мая и 20 августа того же года[356]. По-видимому, во второй половине августа ее новая приятельница собиралась уезжать или уже уехала обратно за границу. С другой стороны, именно в это время в письмах Вяземского к жене есть ряд упоминаний о его довольно упорном желудочном заболевании. 14 августа Петр Андреевич еще болен и его навещает графиня Долли вместе с матерью, а 17-го он уже принимается подыскивать квартиру для семьи[357].
Таким образом, можно считать, что Пушкин был приглашен с женой пообедать у Фикельмон в тесном кругу в половине августа 1832 года.
В бальных залах Наталья Николаевна Пушкина была одной из самых ярких звезд. Красотой могла соперничать с кем угодно – в том числе и с Фикельмон. Вероятно, она научилась также довольно умело поддерживать легкий, «салонный» разговор, хотя с этой стороны мы знаем ее очень мало.
Пушкина не могла не понимать, что соперничать ей с «посольшей» трудно. Она, несомненно, ревновала мужа к Дарье Федоровне – справедливо или нет, об этом мы скажем дальше. Вообще же хорошо известно, что, нежно любя жену, Пушкин увлекался и другими женщинами. В письмах к Наталье Николаевне ему не раз приходилось оправдываться против ее подозрений. Кроме Долли она ставила ему в укор Александру Осиповну Смирнову, графиню Надежду Львовну Соллогуб, по мужу Свистунову, Софью Николаевну Карамзину и многих других. Еще будучи невестой, Таша Гончарова вообразила, что жених ее неравнодушен к некой княгине Голицыной, к которой он заезжал по делам. Потом, в Петербурге, в число предполагаемых увлечений мужа попала Полина Шишкова.
С последней, однако, дело обстоит сложнее. Положившись на указание П. Е. Щеголева[358], я назвал ее в книге «Если заговорят портреты» «никому не известной», но, несомненно, ошибся. Речь идет о фрейлине Прасковье (Полине) Дмитриевне Шишковой, относительно которой Пушкин писал жене 30 июня 1834 года: «Твоя Шишкова ошиблась: я за ее дочкой Полиной не волочился[359] потому, что не видывал <…>». Вряд ли важно и нужно выяснять, правда это или нет, тем более что, судя по контексту письма, имеется в виду одно из увлечений холостого Пушкина.
Среди предметов ревности Натальи Николаевны фигурируют, надо сказать, и женщины, вовсе поэта не знавшие.
Но не будем удивляться чрезмерной ревности жены Пушкина – можно сказать с уверенностью, что женское чутье редко ее обманывало…
Долли Фикельмон связывает с Пушкиным еще одно имя. Это графиня Мусина-Пушкина. Запись 17 ноября 1832 года гласит: «Графиня Пушкина очень хороша в этом году, она сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей воздает Пушкин-поэт»[360].
Было высказано предположение о том, что речь идет о графине Марии Александровне Мусиной-Пушкиной, урожденной княжне Урусовой. Пушкин был влюблен в нее в 1827 году и изобразил графиню в чудесном стихотворении «Кто знает край, где небо блещет…».
Более вероятно считать, что запись Фикельмон относится к знаменитой красавице Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной, урожденной Шернваль, которую воспевал Лермонтов («Графиня Эмилия белее, чем лилия»). Об этом увлечении Пушкина в 1832 году, насколько я знаю, никто, кроме Дарьи Федоровны, не сообщает.
Обширную запись, посвященную дуэли и смерти поэта, мы рассмотрим в особом очерке.
До сих пор мы занимались отзывами Долли Фикельмон о Пушкине и его жене. Как мы видели, они красочны и интересны, но опять приходится повторять: к сожалению, их немного.
Что же говорит сам поэт о чете Фикельмон?
В письмах к Е. М. Хитрово он несколько раз в очень церемонной форме передает поклоны обеим ее дочерям. В серии писем к Елизавете Михайловне последнее упоминание о Дарье Федоровне имеется в записке, датируемой концом января 1832 года: «Конечно, я не забуду про бал у посланницы и прошу вашего разрешения представить на нем моего шурина Гончарова».
В письмах к жене Пушкин говорит о графине Фикельмон несколько подробнее. 8 декабря 1831 года, будучи в Москве, поэт спрашивает Наталью Николаевну: «Брюллов пишет ли твой портрет? была ли у тебя Хитрово или Фикельмон?»
8 октября 1833 года он пишет ей из Болдина: «Так Фикельмон приехали? Радуюсь за тебя; как-то, мой ангел, удадутся тебе балы?»
Возможно, таким образом, что в это время Дарья Федоровна наряду с теткой Натальи Николаевны, фрейлиной Е. И. Загряжской, все еще немного опекала молодую Пушкину, два года тому назад вступившую в большой петербургский свет. Вероятно, поэт был ей за это благодарен, но сам он об этом ничего не говорит.
Наиболее интересны упоминания о Долли в письмах 1834 года.
15 апреля Наталья Николаевна уехала с детьми к родным, и Пушкин прожил в Петербурге один до середины августа. Описывая свое времяпрепровождение, он неоднократно упоминает о семье Фикельмон и лично о Дарье Федоровне.
Около 5 мая он пишет: «Летний сад полон. Все гуляют. Графиня Фикельмон звала меня на вечер. Явлюсь в свет в первый раз после твоего отъезда. За Соллогуб я не ухаживаю, вот те Христос, и за Смирновой тоже». В конце письма Пушкин прибавляет: «Я не поехал к Фикельмон, а остался дома, перечел твое письмо и ложусь спать».
8 июня поэт сообщает: «Фикельмон болен и в ужасной хандре».
28—29 июня он уверяет жену, что никуда не ездит: «Говорят, что свет живет на Петергофской дороге. На Черной речке только Бобринская да Фикельмон. Принимают – а никто не едет. Будут большие праздники после Петергофа. Но я уже никуда не поеду».
Несмотря на эти уверения, а может быть и позабыв о них, Пушкин 11 июля описывает бал у Фикельмонов: «Теперь расскажу тебе о вчерашнем бале. Был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я кроме как в клобе нигде не бываю. Вот вчерась, как я вошел в освещенную залу, с нарядными дамами, то я смутился, как немецкий профессор; насилу хозяйку нашел, насилу слово вымолвил. Потом, осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много, и что бал это запросто, а не раут <…> Вот, наелся я мороженого и приехал к себе домой – в час. Кажется, не за что меня бранить».
Это последнее упоминание о Фикельмон в переписке Пушкина[361]. Неизвестно, поверила ли Наталья Николаевна искренности мужниного письма. Вряд ли… Опытный светский человек, блестящий собеседник, давний уже приятель Долли вдруг теряется, как застенчивый немецкий педант. Очень уж ясна стилизация в этих строках. Перед нами сочинение Александра Пушкина, написанное с оправдательной целью, а не откровенная беседа мужа с женой. Интересно отметить, что и князю Вяземскому приходилось писать своей умной и неревнивой жене, что ревновать его к «мадам ламбассадрис» (посольше) не стоит. По-видимому, очарование графини Фикельмон пугало жен ее друзей…
В единственной сохранившейся тетради дневника Пушкина (специалисты спорят, существовала ли вообще еще одна) есть около десятка записей, так или иначе касающихся графини и ее мужа, но для нас они малоинтересны. Выводы, которые можно сделать из писем Пушкина и этих записей в отношении знакомства поэта с Д. Ф. Фикельмон и ее мужем, довольно скудны. Он был, как видно, исправным посетителем официальных приемов – балов, раутов, обедов в доме австрийского посла. Об этой парадной стороне знакомства Пушкин главным образом и пишет. Недоволен собою, когда случайно нарушает светские обычаи. 17 марта 1834 года записывает, например: «Третьего дня обед у австрийского посланника. Я сделал несколько промахов: 1) приехал в 5 часов вместо 51/2, и ждал несколько времени хозяйку; 2) приехал в сапогах, что сердило меня во все время». Попутно отмечает кое-какие заинтересовавшие его разговоры с самим Фикельмоном и его гостями. О Долли, своей, несомненно, близкой знакомой, он не говорит почти ничего. Дружеская шпилька в письме к Вяземскому относительно его предполагаемого увлечения графиней – одно из редких исключений.
При самом внимательном чтении всех упоминаний о хозяйке дома невозможно сказать, как же относится к ней сам поэт и что он о ней думает. О других женщинах, несравненно более заурядных, чем Фикельмон, у Пушкина отзывов немало – вплоть до наименования графини Соллогуб «шкуркой» в письме к жене от 21 октября 1833 года. О своем отношении к Дарье Федоровне поэт упорно молчит. Не будем пока пытаться выяснить, в чем же тут дело, но запомним этот несомненный факт.
Свидетельств современников об отношениях Пушкина и Д. Ф. Фикельмон известно очень мало. Можно думать, что до весны 1830 года поэт, во всяком случае, не увлекался Дарьей Федоровной. Вяземский в письме к жене от 26 апреля этого года, охарактеризовав Долли Фикельмон, спрашивает: «Как Пушкин не был влюблен в нее, он, который такой аристократ в любви? Или боялся он inceste[362] и ревности между матерью и дочерью?»[363]
Последнюю фразу вряд ли следует принимать всерьез. Как только речь заходила о Е. М. Хитрово и Пушкине, без шутки дело не обходилось и у Вяземского, и у многих других.
Знаем мы и еще одну дату отрицательного характера. 25 июля 1833 года тот же Вяземский сообщает жене: «Вчера был вечер у Фикельмон <…> было довольно вяло. Один Пушкин palpitoit de l’intérêt du moment[364], краснея, взглядывал на Крюднершу[365], и несколько увиваясь вокруг нее»[366]. Можно, следовательно, думать, что в этот момент отношения поэта с хозяйкой дома дальше дружбы, несомненно, не шли. Иначе Пушкин в гостях у Фикельмон, вероятно, был бы сдержаннее.
Очень существенные сообщения П. И. Бартенева, основанные на рассказах современников поэта, приведены ниже.
Совершенно особняком стоит рассказ племянника поэта Л. Н. Павлищева. В своих воспоминаниях он категорически утверждает, что его дядя и графиня Фикельмон относились друг к другу крайне враждебно[367]. Автор цитирует письмо своей матери, сестры поэта, от конца декабря 1831 года, в котором последняя сообщает мужу, что госпожа Фикельмон «не терпит, однако, моего брата – один бог знает почему». В свою очередь, мать Пушкина пишет дочери в конце 1834 года, что поэт был с женой у Фикельмон, «которую, впрочем, терпеть не может». Наконец Павлищев утверждает, что после женитьбы Дантес «продолжал танцевать и разговаривать исключительно со свояченицей на вечерах, устраиваемых «не без злостного намерения людьми добрыми» (Ольга Сергеевна называет Фикельмоншу, возненавидевшую поэта, уже гораздо прежде)».
Источник, казалось бы, бесспорный, и, значит, наше представление об отношениях поэта и Долли в корне ошибочно. Оказалось, однако, что все цитаты, на которые ссылается Павлищев, сочинены им самим. В подлинных письмах родных Пушкина, которые, к счастью, сохранились и были опубликованы, этих фраз нет. Для чего понадобилось Л. Н. Павлищеву совершить подобный литературный подлог, в свое время введший в заблуждение некоторых пушкинистов, остается непонятным.
Оставим теперь на время вопрос о личных отношениях поэта и Долли и взглянем на Пушкина, посетителя не официальных приемов, а гостеприимного салона посольши. Вряд ли ему были приятны встречи с некоторыми особами императорской фамилии, которые бывали там запросто[368]. Но там же в дружеской беседе проводили время дипломаты, придворные, дамы большого света, гвардейские офицеры, заезжие иностранцы, некоторые из русских друзей поэта – Вяземский, Жуковский, Тургенев. Пушкин всегда мог выбрать людей, с которыми ему было интересно поговорить.
Долли Фикельмон, судя по всему, отличная, заботливая хозяйка. Из дневника Дарьи Федоровны мы узнаем, что ее личные комнаты выходили на юг и там было много цветов. Она любила свою красную гостиную и кабинет, в котором цвели нарядные камелии, – от себя добавим: модные цветы эпохи романтизма. Там часто пили чай, а ужинали в зеленом салоне. Фикельмон принимала по вечерам. Приемы ее матери, жившей, не забудем, в том же особняке, считались «утрами», хотя продолжались от часу до четырех. Бывали, впрочем, у Елизаветы Михайловны и домашние вечера. О них тоже есть упоминание в дневнике дочери.
Прекрасную характеристику такого рода собраний оставил в «Старой записной книжке» постоянный гость и матери и дочери П. А. Вяземский[369]: «Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в этих двух салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий; была и передовая статья с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше, эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь! А какая была непринужденность, терпимость, вежливая, и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах. Даже при выражении спорных мнений не было слишком кипучих прений; это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок – система свободной торговли, приложенная к разговору. Не то что в других обществах, в которых задирчиво и стеснительно господствует запретительная система: прежде чем выпустить свой товар, свою мысль, справляться с тарифом; везде заставы и таможни».
Пушкин, хотя он об этом и умалчивает, несомненно, был частым гостем в доме Фикельмонов. Тот же Вяземский говорит, что «их салон был также европейско-русский. В нем и дипломаты и Пушкин были дома»[370].
Как известно, отношения поэта с высшим обществом столицы, так называемым «большим светом», – это одна из болезненных сторон его биографии. А. С. Хомяков, по всей вероятности, преувеличивает, говоря, что Пушкина принимали в великосветских домах из милости[371]. Однако права гениального человека тогдашние русские верхи понимали плохо, а права старинного, но небогатого и нечиновного дворянина казались им, надо думать, недостаточными. Много дверей открывалось не перед первым поэтом России, а перед мужем блистательно красивой жены.
На Западе сто с лишним лет тому назад у гения было больше прав, чем в России, а экстерриториальный особняк австрийского посла и в юридическом и в переносном смысле слова находился на западноевропейской территории. Пушкин входил в него желанным, почетным и, можно думать, любимым гостем.
Поэт был в большей или меньшей степени знаком со всем дипломатическим корпусом. Некоторые из послов и посланников (французский – барон Барант, баварский – граф Лерхенфельд, вертембергский – князь Гогенлоэ-Кирхберг, саксонский – барон Лютцероде) хорошо знали Пушкина и высоко ценили его как поэта. В особенности это надо сказать о Лютцероде, прекрасно овладевшем русским языком и даже переводившем Пушкина. Однако, вне всякого сомнения, именно салоны Фикельмон и ее матери были для поэта главным источником сведений о западно-европейской жизни, источником, который не могла закрыть царская цензура. Там он имел даже возможность получать книги, не допускаемые к ввозу в Россию. Известно, например, что граф Фикельмон в 1835 году подарил поэту два тома «контрабанды», как он сам назвал в приложенной записке, – запрещенные стихотворения Генриха Гейне. Посол иногда оказывал своим русским знакомым и более серьезные услуги – некоторые письма А. И. Тургенева Вяземскому, как оказывается, привозили из-за границы курьеры австрийского посольства.
Всего интереснее было бы узнать, какие же именно политические разговоры с участием Пушкина происходили в салоне Долли Фикельмон. Она ведь интересовалась политикой, особенно иностранной, так же горячо, как и поэт. К сожалению, пока мы этого не знаем. Однако переписка Дарьи Федоровны с Вяземским показывает, что круг вопросов, интересовавших их обоих, был очень широк – от текущей иностранной политики до христианского социализма Ламеннэ и Лакордера[372]. Повторю еще раз, что эта переписка, по всей вероятности, – прообраз тех бесед, которые велись в салоне Фикельмон зачастую с участием Пушкина.
Как мы видели, польский вопрос в переписке друзей – одна из очень волнующих тем. В дневнике Долли ему также посвящено большое число записей.
Во время польского восстания 1830–1831 годов Пушкин мог говорить о нем с Дарьей Федоровной только во время своего короткого (всего одна неделя) пребывания в Петербурге в мае 1831 года. Зато, начиная со второй половины октября того же года, когда поэт вернулся с женой в столицу, он, бывая в салоне Фикельмон, можно думать, не раз говорил о только что закончившейся трагедии. По всей вероятности, Пушкин и Долли немало спорили. Они оказались в противоположных лагерях. Хорошо известно, что поэт, исходя из «высших» государственных интересов, как он их понимал, убежденно и страстно желал победы над поляками. Об этом вопросе как у нас, так и за рубежом (особенно в славянских странах) существует огромная литература. Надо сказать, что и среди русских его современников отношение к этим стихам было далеко не единодушным. Пожалуй, всех резче отзывается о них один из ближайших друзей Пушкина, убежденный западник и полонофил Вяземский. В своей дневниковой записи 14 сентября 1831 года он назвал «шинельными стихами» «Старую песню на новый лад» Жуковского, напечатанную вместе с обоими стихотворениями[373] Пушкина в брошюре «На взятие Варшавы». Вяземский сам объяснил в дневнике значение этого выражения – «стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами». В длинном рассуждении о выигранной русскими войне он прибавляет: «Наши действия в Польше откинут нас на 50 лет от просвещения Европейского. Что мы усмирили Польшу, что нет – все равно: тяжба наша проиграна. – Для меня назначение хорошего губернатора в Рязань или в Вологду гораздо более предмет для поэзии нежели взятие Варшавы»[374].
22 сентября Вяземский в том же дневнике обрушивается на Пушкина: «Пушкин в стихах своих: Клеветникам России кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней. Народные витии, если бы удалось им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим <…> В «Бородинской годовщине» опять те же мысли, или же безмыслие. Никогда народные витии не говорили и не думали, что 4 миллиона могут пересилить 40 миллионов, а видели, что эта борьба обнаружила немощи больного, измученного колосса. Вот и все: в этом весь вопрос. <…> И что опять за святотатство сочетать Бородино с Варшавою? Россия вопиет против этого беззакония»[375].
Елизавете Михайловне Хитрово Вяземский писал 7 октября 1831 года, вероятно, с оказией: «Что делается в Петербурге после взятия Варшавы? Именем бога (если он есть) и человечности (если она есть), умоляю вас, распространяйте чувства прощения, великодушия и сострадания. Мир жертвам! <…> Будем снова европейцами, чтобы искупить стихи совсем не европейского свойства. Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности; но у Поэта, слава богу, нет обязанности их воспевать <…> Все это должно быть сказано между нами, но я не в силах, говоря с вами, сдерживать свою скорбь и негодование. Я очень боюсь, как бы мне <…> не остаться виноватым перед вами в этом вопросе;… > но в защиту от вас прибегаю к вашему великодушию и уверен, что найду оправдание. Во всяком случае, взываю о помощи к прекрасной и доброй посланнице. Нет, говорите, что хотите, но не в наши дни искать благородных откровений в поэзии штыков и пушек <…>»[376].
Стихотворения Пушкина, о которых идет речь, вызвали совершенно различные отзывы его друзей. А. И. Тургенев, как и Вяземский, отнесся к ним резко отрицательно. П. Я. Чаадаев 18 сентября, наоборот, написал поэту восторженные строки: «Вот, наконец, вы национальный поэт; вы, наконец, нашли свое призвание. Особенно изумительны стихи к врагам России; я вам это говорю. В них мыслей больше, чем было сказано и создано у нас в целый век».
Многие известные и малоизвестные лица, близкие друзья Пушкина и просто знакомые сочли нужным высказаться по поводу стихотворений Пушкина, так оглушительно прозвучавших в то тревожное время.
Полемика была жаркая, и, что самое примечательное, она, на разных языках, продолжается иногда и в наши дни.
Вернемся, однако, к «прекрасной и доброй посланнице», к помощи которой взывал Вяземский.
Можно было ожидать, что графиня Фикельмон, так ратовавшая впоследствии против всех национальных восстаний в Австрийской империи, сойдется во взглядах с поэтом. В действительности все оказалось иначе. 13 октября 1831 года Дарья Федоровна пишет Вяземскому: «Если бы вы были для меня чужим, безразличным, если бы я не имела к вам тени дружбы, дорогой князь, все это исчезло бы с тех пор, как я прочла ваше письмо к мамá по поводу стихов Пушкина на взятие Варшавы. Все, что вы говорите, я думала с первого мгновения, как я прочла эти стихи. Ваши мысли были до такой степени моими в этом случае, что благодаря одному этому я вижу, что между нами непременно есть сочувствие. Но это было даже излишним, потому что издавна я восхищаюсь в вас еще в тысячу раз больше, чем вашим умом – благородной душой, горячим сердцем и пониманием всего, что справедливо и прекрасно. Когда вы вернетесь, мы вволю поговорим обо всем, что это неожиданное стихотворение внушило вам!»[377]
Резкое недовольство, даже негодование по поводу «Бородинской годовщины», надо сказать, вполне согласуются с тем, что Фикельмон писала Вяземскому во время польского восстания и с ее дневниковыми записями.
Дарья Федоровна, несомненно, сочувствовала полякам, хотя в рядах сражавшихся с ними русских войск были ее родственники Тизенгаузены и многочисленные знакомые – гвардейские офицеры. Событиям в Польше посвящено множество записей. Польские события глубоко ее волновали, но больше с моральной, чем с политической стороны. Долли прежде всего тяжело переживала пролитие крови. На поляков, среди которых у нее тоже было немало великосветских друзей и знакомых, Фикельмон смотрела как на угнетенную героическую нацию, которая доблестно ведет безнадежную, по существу, борьбу.
В возможность успеха восстания она, вероятно отражая мнение мужа, с самого начала не верила. Еще 25 января 1831 года Долли записывает: «Если они будут хорошо драться, они прольют много русской крови, но исход борьбы несомненен!»
«Нельзя без боли присутствовать при этой агонии народа! В особенности сейчас, когда они сражаются, как герои, разве можно отказать им в симпатии, в восхищении» (16 февраля).
«Целая нация в агонии, тысячи героев умирают со славой, а остальные гибнут от холеры и голода. Вот состояние этой несчастной Польши, о душераздирающей и ужасной катастрофе которой в истории никогда не будут читать без слез! <…> Кончится все это, без всякого сомнения, полным триумфом России, но каким триумфом, великий боже!» (20 апреля).
Но, восхищаясь отчаянным сопротивлением поляков, Дарья Федоровна отдавала порой должное и геройству русских войск. Флигель-адъютант ротмистр князь Суворов, внук великого полководца, примчался в Царское Село с известием о взятии Варшавы 4 сентября, а десять дней спустя Фикельмон записывает: «Варшава была взята и оккупирована (prise et occupée) фельдмаршалом Паскевичем после блестящего дела (un fait d’armes brillant); три линии окопов, прикрывающих город, были взяты штыковой атакой. Русские войска проявили высокую доблесть и покрыли себя славой в этом ожесточенном сражении, которое продолжалось сорок восемь часов; в этом положении, имея противника у ворот города и в таких превосходных силах, поляки во время начатых переговоров требовали еще старых границ. Наконец, возможно для того, чтобы избежать разграбления, Варшава сдалась, армия заключила род капитуляции, но не безусловной; она вышла через Прагу, направляясь в Плоцк <…>. Фельдмаршалу Паскевичу пожалован титул князя Варшавского, и один этот титул увековечивает память об этой гражданской войне и делает из нее войну завоевательную».
Очень мрачно смотрит Фикельмон на будущее русско-польских отношений. «И какая польская душа теперешнего поколения и того, которое за ним последует, сможет желать примирения с Россией», – записывает Дарья Федоровна в тот же день, 14 сентября 1831 года. И снова, в который уже раз, приходится сказать, что прозорливость не обманула сивиллу – теперь уже петербургскую. «Следующим поколением» были повстанцы 1863 года…
Враждебности к русским в ее записях нет, но государственные интересы России, которые так волновали поэта в связи с польской войной, Долли Фикельмон в это время, видимо, совершенно чужды.
За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана? Признав мятежные права, От нас отторгнется ль Литва? —эта патриотическая тревога поэта, которую разделяли и ссыльные декабристы, для молодой «посольши» была непонятна.
Мы не знаем, что говорила она о «неожиданном стихотворении» Вяземскому, который приехал из Москвы только 25 декабря. С Пушкиным она встретилась много раньше. 26 октября поэт был с женой у Фикельмонов на большом вечере, но, вероятно, он навестил свою приятельницу несколькими днями раньше – сейчас же после возвращения из Царского Села.
Пушкин и Долли, вероятно, горячо спорили о «Бородинской годовщине». Спорили, но не поссорились – в салоне Фикельмон, как мы знаем, свобода мнений была традицией. Военные действия уже закончились – друзья-противники, скорее всего, вместе возмущались тем, что творилось в Польше. Пушкин ведь надеялся на великодушие победителей.
В боренье падший невредим; Врагов мы в прахе не топтали…Великодушия проявлено не было. Началась царская расправа с поляками, которой поэт, конечно, никак не сочувствовал.
Долли Фикельмон сразу нашла для Николая I в дневнике жестокие слова: «… я даже скажу здесь – мой независимый ум видит в нем деспота и, как такового, я его сурово осуждаю без всякого ослепления…» (28 сентября). Дальше, правда, следует ряд оговорок, но слово «деспот» произнесено, и оно осталось в недоступной для царских жандармов тетради.
Итак, в своем отношении к преследованиям поляков после окончания военных действий друзья-противники, несомненно, были заодно. Однако Пушкин и Дарья Федоровна Фикельмон, быть может, самая незаурядная женщина из всех его приятельниц, резко расходились в отношении к самой русско-польской войне.
Было бы, однако, крупной ошибкой понимать это расхождение слишком упрощенно. Пушкин горячо желал победы русских войск над вооруженными силами восставшей Польши, но врагом поляков он не был. В плане идеальном он вообще не был врагом какого бы то ни было народа. Дружил с великим польским поэтом Мицкевичем. В стихотворении «Он между нами жил…», написанном в 1834 году, когда Мицкевич, находясь в эмиграции, выпустил книгу стихотворений, часть которых содержала едкие нападки на Россию и русских, Пушкин с грустью вспоминает о вдохновенной петербургской импровизации Мицкевича, возвещавшего будущее братство народов:
Он говорил о временах грядущих, Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся. Мы жадно слушали поэта…Пушкин, несомненно, разделял мечты своего польского собрата, видя в них отдаленный, но все же осуществимый идеал. Не чужда была поэту, живо интересовавшемуся славянскими делами, и более конкретная мысль о возможности объединения всех славян. «Славянские ручьи сольются ль в русском море?»
Пушкин думал, конечно, не о том, что славянские народы могут когда-нибудь добровольно подчиниться русскому самодержавию. Думал о судьбах грядущей освобожденной России…
Но эти думы были в плане идеальном. В плане реальном Пушкин видел, что польские повстанцы борются не только за свободу своей родины, но в то же время намереваются снова отторгнуть исконные русские земли, некогда порабощенные Польшей. Руководители польского восстания претендовали на включение в состав Польши не только литовских, но также и украинских и белорусских земель вплоть до Днепра. К победившей Польше должен был отойти и Киев… С подобной мыслью Пушкин примириться не мог, и, оставаясь другом свободы, он желал решительной победы русской армии.
Александр Сергеевич в этом отношении не был одинок. Ближайшие друзья поэта – Вяземский и А. И. Тургенев пораженцами не были, но можно думать, что сокрушительного успеха русскому оружию они не желали. Вероятно, удовлетворились бы компромиссным миром… Наоборот, философ и писатель П. Я. Чаадаев, адресат пламенных стихов Пушкина:
Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена! —Чаадаев, прочтя «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», написал, как мы знаем, автору восторженное письмо, именуя его «национальным поэтом». Взгляды Пушкина разделяли и многие другие друзья свободы, в том числе сосланные в Сибирь декабристы.
Итак, Пушкин, горячо защищая государственные интересы России, как он их понимал, отнюдь не стал, говоря современным языком, шовинистом, ура-патриотом. Достаточно напомнить стихи «Бородинской годовщины», в которых поэт говорил о своем отношении к побежденным:
Мы не сожжем Варшавы их, Они народной Немезиды Не узрят гневного лица И не услышат песнь обиды От лиры русского певца.Было бы также ошибкой принимать несомненные симпатии Долли Фикельмон к полякам за приверженность к идеям политической свободы. Дарья Федоровна, особенно в позднейшие годы, обладала сильно выраженным чувством реальности в политических вопросах. Она, в частности, очень ясно сознавала необходимость многих политических процессов. Одно время ее привлекали идеи католического социализма. Однако по своим личным убеждениям она прежде всего была аристократкой, как правило, враждебно относившейся к освободительным национальным движениям. Во время революции 1848 года она, например, ни в малой степени не сочувствовала ни чехам, ни венграм, боровшимся против австрийского централизма.
Чем же в таком случае объяснить ее полонофильские симпатии?
Пока не опубликованы петербургские депеши посла Фикельмона и его частные письма к канцлеру Меттерниху, нельзя поэтому сказать, в какой мере он мог влиять на взгляды молодой жены во время польского восстания. Фикельмон был последовательным русофилом, и это привело в конце концов к краху его политической карьеры.
На мой взгляд, источники полонофильских настроений Долли Фикельмон надо искать не здесь.
Нельзя забывать, что патриотическая тревога Пушкина была ей совершенно чужда. Впоследствии она постепенно сама стала мыслить как русская патриотка, но это произошло много позже и ярче всего сказалось во время Крымской войны. В 1830–1831 гг. Фикельмон – образованная, очень культурная европейская женщина, но ее духовная связь с родиной, которую она почти не знает, очень слаба. Почти совсем забыла она и родной язык.
О несчастиях поляков, в успех которых Фикельмон с самого начала не верила, скорбит не русская женщина-патриотка, а просто добрая женщина, «всецело женщина», как Дарья Федоровна назвала императрицу Александру Федоровну, с которой у нее были дружеские отношения. Обе они ужасались пролитию крови независимо от того, кто и во имя чего ее лил. То же чувство ужаса перед кровопролитием разделяла с ними и Елизавета Михайловна Хитрово, в отличие от дочери всегда бывшая убежденной русской патриоткой.
В данном случае и она «всецело женщина».
Прибавим еще, что Долли Фикельмон – женщина, настроенная весьма романтически (начало тридцатых годов – время расцвета романтизма), не может она не восхищаться героизмом небольшой нации, которая поднялась против огромной, мощной Российской империи. Говоря в целом, симпатии Дарьи Федоровны к полякам носят не политический, а, скорее, этический характер. Некоторую роль играют в ее настроениях и личные дружеские связи с рядом знатных польских семей, прочно вошедших в высшее петербургское общество.
Сложность натуры Долли Фикельмон, о которой я уже не раз упоминал в этой книге, проявилась, однако, и во время русско-польской войны, – жалея поляков и восхищаясь их героизмом, она не питает вражды и к русской армии, которая ведет с ними жестокую борьбу. Было бы, конечно, трудно ожидать иного отношения к русским воинам со стороны дочери Елизаветы Михайловны Хитрово и внучки Кутузова. Однако в своих дневниковых записях она идет много дальше. С восхищением пишет о доблести русских войск, которые при взятии Варшавы «покрыли себя славой в этом сражении». Романтически настроенная Фикельмон умеет ценить воинскую доблесть и поляков и русских.
Можно, таким образом, думать, что в спорах по поводу «Бородинской годовщины» Пушкин и Долли Фикельмон кое в чем и сходились.
В конце сентября – начале октября 1831 года Пушкин писал Е. М. Хитрово из Царского Села в Петербург (как всегда, по-французски): «Спасибо, сударыня, за изящный перевод оды – я заметил в нем две неточности и одну описку переписчика. (Иссякнуть)[378] – означает tarir; (скрижали) – tables chroniques. (Измаильский штык) – штык Измаила, а не Измайлова».
По мнению комментатора этого письма, «предположение, невольно возникающее при первом взгляде, – что переводчиком была сама Е. М. Хитрово, – маловероятно: слишком краток, небрежен и сух отзыв Пушкина о переводе». Комментатор считает, однако, возможным, «что Е. М. Хитрово сообщила его Пушкину как анонимный – и тогда не исключается предположение об ее авторстве»[379].
Н. Каухчишвили, изучившая, как уже было упомянуто, донесения Фикельмона Меттерниху, которые хранятся в Государственном архиве в Вене, обнаружила там интересное частное письмо Шарля-Луи к канцлеру от 2(14) ноября 1831 года. Фикельмон приводит в нем слова графа А. Ф. Орлова, сказанные им царю в начале польского восстания: «Не забудьте, государь, что за вами сорок миллионов русских, которые веками воевали с поляками и имеют перед вами больше прав, чем четыре миллиона поляков». Эти свои слова Орлов повторил Фикельмону. По мнению Н. Каухчишвили, «чтобы подчеркнуть, что мнение Орлова не является изолированным фактом, посол прибегает к авторитету Пушкина». Далее исследовательница приводит выдержку из письма Фикельмона к Меттерниху: «Такая же мысль отразилась в стихах Пушкина, верный перевод которых я здесь присоединяю. Они были написаны в Царском Селе и были одобрены императором. Благодаря этому они еще более привлекают внимание»[380].
В приложении к своей книге Н. Каухчишвили опубликовала упомянутый ею перевод «Клеветникам России», который сделан прозой и озаглавлен «Aux calomniateurs de la Russie»[381]. По ее мнению, этот гладкий перевод «не представляет особой литературной ценности. Он переписан не рукой Фикельмона (по всей вероятности, кем-либо из чиновников посольства. – Н. Р.)». Имя переводчика не указано, но Н. Каухчишвили считает, что это и есть перевод, сделанный некогда Е. М. Хитрово и исправленный Пушкиным.
Находка неутомимой исследовательницы, несомненно, интересна, так как посланный Пушкину в 1831 году текст оставался до наших дней неизвестным. Остановимся поэтому на ней несколько подробнее.
Что можно сказать о французском тексте, посланном канцлеру Меттерниху?
Он, действительно, не представляет литературного интереса – гладкий, но бесцветный, скучный стиль, и отдаленно не передающий пафоса и блеска пушкинской оды…
Однако литературно бездарный перевод почти безупречен в отношении формальной точности. В нем есть, правда, одна весьма грубая ошибка, но, по всей вероятности, налицо лишь незамеченная опечатка[382]. В стихе «От потрясенного Кремля» пропущено трудное в данном случае для перевода прилагательное «потрясенного».
В остальном, на мой взгляд, текст формально точен и грамматически правилен, но как раз эта правильность говорит против авторства Е. М. Хитрово. Так писать она не умела – темпераментные французские фразы Елизаветы Михайловны зачастую далеки от грамматических норм… Скорее можно предположить, что автором перевода является кто-либо из литераторов – друзей Хитрово, к которому она обратилась за помощью. Очень зато вероятно предположение Н. Каухчишвили о том, что перевод сделан по инициативе Ш.-Л. Фикельмона, желавшего представить Меттерниху как можно более точный текст одобренного царем стихотворения. Вполне возможно, что посол обратился с этим делом к своей теще Елизавете Михайловне Хитрово, литературные связи которой были ему хорошо известны.
Н. Каухчишвили приводит также убедительное доказательство в пользу того, что найденный ею перевод идентичен с тем, который Хитрово некогда послала Пушкину. Отмеченные им неточности исправлены в венском тексте именно так, как посоветовал поэт.
Можно считать, что вопрос об авторе перевода, в конце концов, является второстепенным. Несомненно и существенно то, что знаменитая пушкинская ода «Клеветникам России» была сообщена австрийским послом одному из тогдашних руководителей европейской политики, канцлеру Меттерниху.
Прибавлю еще, что, вопреки мнению Н. Каухчишвили, на мой взгляд, так взволновавшую Долли Фикельмон оду «Бородинская годовщина» она могла все же прочесть (вероятно, с помощью матери) не в неизвестном нам переводе, а в подлиннике. Вспомним о том, что в это самое время она собиралась, без помощи учителя, читать по-русски «Адольфа» Бенжамена Констана, а ведь страницы этого психологического романа никак не легче четких и ясных стихов оды…
В салонах Хитрово и Фикельмон наряду с обсуждением политических событий разговоры о литературе (скорее, правда, европейской, чем отечественной), несомненно, велись очень часто. К сожалению, конкретных сведений об этих беседах у нас нет. Даже поэт, литератор и мемуарист П. А. Вяземский говорит о них лишь в общей форме. Тем ценнее несколько строк из письма близкого друга Долли, бывшего секретаря Нидерландской миссии О’Сюлливана де Грасса, найденного Н. Каухчишвили в архиве Фикельмонов в Дечине[383]. Узнав о смерти поэта, он пишет Долли 9 апреля 1837 года: «Несколько месяцев тому назад мне вспомнилась небольшая история, которую Пушкин мне рассказал как-то вечером в Вашем салоне; я решил развить ее и положить в основу новеллы, в которой мог бы запечатлеть некоторые воспоминания о России. Когда-нибудь, любезная графиня, я надеюсь прочесть Вам этот маленький роман, если я его закончу, и он составит пару с тем, заглавие которого Вы мне дали. Этот же будет назван: Политика и поэзия, предмет достаточно широкий, как Вы видите»[384].
Итак, в какой-то вечер, быть может, в красной гостиной, где всегда было много цветов, Пушкин беседовал с О’Сюлливаном и рассказал ему некую историю, которую молодой тогда дипломат намеревался впоследствии развернуть в повесть. Попытаемся установить, когда же мог состояться этот разговор.
После отделения Бельгии от Голландии О’Сюлливан не пожелал оставаться на голландской службе и 14 августа 1831 года уехал в Бельгию, к большому огорчению Долли Фикельмон. По ее словам, «в течение целого года мы видели его ежедневно <…>»[385]. В 1831 году Пушкин мог встретиться у Фикельмонов с Сюлливаном только в течение одной недели (18–25 мая). Гораздо вероятнее, что их разговор произошел в 1830 году либо в январе – феврале, либо во время короткого летнего пребывания поэта в Петербурге (19 июля – 10 августа).
Было бы, конечно, очень интересно разыскать архив О’Сюлливана или, по крайней мере, его повесть, основанную на рассказе Пушкина. Зарубежные литературоведы (особенно бельгийцы или французы), вероятно, смогли бы предпринять такие поиски с немалой надеждой на успех[386].
IV
Постоянными посетителями салона Фикельмон были В. А. Жуковский и А. И. Тургенев.
А. В. Флоровский указывает в своей работе[387], что «в дневнике графини Долли при ряде упоминаний о Вяземском лишь однажды говорится о А. И. Тургеневе, совсем нет упоминаний о Жуковском <…>». Последнее неверно, – как мы увидим, Дарья Федоровна говорит о Жуковском в связи с кончиной Пушкина, но о характере ее отношений и с ним, и с Тургеневым документальных данных мы до сих пор имеем не много.
Среди неопубликованных материалов ИРЛИ (Пушкинского дома) имеется 2 письма Фикельмон к В. А. Жуковскому, 6 писем к А. И. Тургеневу и печатное приглашение от Фикельмонов, адресованное ему же. Кроме того, Сильвия Островская опубликовала в подлиннике и чешском переводе два письма Жуковского к Д. Ф. Фикельмон[388], пока не использованных советскими литературоведами. Эти документы, по-видимому, являются лишь фрагментами переписки Фикельмон с обоими писателями – ряд писем до нас, несомненно, не дошел.
К петербургскому периоду жизни Фикельмон относится только одна ее недатированная записка к Жуковскому:
«Его Превосходительству Господину
Жуковскому. Дорогой Жуковский!
В среду вечером у меня будет 200 человек, среди которых я очень хотела видеть также и вас. Но ввиду того, что там я вас почти не увижу, то это, если вам угодно, будет только задатком посещения, которое вы мне обещали! Могу я вас об этом просить?
Долли Фикельмон.
Понедельник.
Записка, вероятно, относится к началу знакомства, но и тон ее и подпись уменьшительным именем говорят за то, что в это время Жуковский и графиня Фикельмон были, по крайней мере, хорошими знакомыми.
Письмо Жуковского, найденное Сильвией Островской в Дечине и ею опубликованное, позволяет уже говорить об их дружбе. Подписи Василия Андреевича почему-то нет, но, по утверждению публикатора, почерк его. На письме имеется отметка «От Ж. из Крыма 1832».
«Ваше прелестное письмо, графиня, – пишет Жуковский, – я получил в Севастополе. Оно было мне вручено в тот момент, когда я уезжал в монастырь св. Георгия. Это здание, замечательное по своему расположению и связанными с ним античными воспоминаниями, приобрело в последнее время роковую известность, так как император Александр схватил там простуду, которая привела его к смерти. Ведущая туда дорога проходит по безлюдной пустыне, почти плоской и густо поросшей выжженной солнцем травой; ничто там не радует глаз и даже не привлекает внимания. Но благодаря вашему письму и очаровательной Griseldis (Гризельде?)[389] эта пустыня показалась мне зачарованной; и, дойдя до цели пути, я почувствовал себя вдвойне подготовленным к созерцанию величественной картины пенящегося моря у подножия утеса, на вершине которого некогда стоял храм Дианы, замененный теперь скромной христианской церковью. Благодарю вас, графиня, за то, что вы были со мной среди этих прекрасных сценариев. Ваш образ создан для того, чтобы их одушевлять. И ваша дружба, доказательство которой я вижу в присланных вами мне строках, создана для того, чтобы быть довольным жизнью. Сохраните эту дружбу для меня, так как я знаю ей цену».
Не берусь судить о том, что сказал бы француз об этих строках Жуковского. Мне лично они и в подлиннике кажутся очень уж изощренным выражением искреннего, дружеского чувства.
Остальная часть письма носит деловой характер.
Графиня Фикельмон и Жуковский встречались и после отъезда Дарьи Федоровны из России. Жуковский в своем дневнике упоминает о том, что он несколько раз посещал Долли во время пребывания в Риме в конце 1838 и начале 1839 года. 14–26 января 1839 года он записывает: «У графини Фикельмон. Опять больна и не говорит»[390].
Сама Дарья Федоровна пишет об этих встречах Вяземскому из Рима 7 января 1839 года[391]: «Жуковский настолько влюблен в Рим, что ему от этого двадцать лет или того меньше, если такое возможно. Он ходит туда и сюда, он в постоянном восхищении, никогда не устает и забывает обо всем, но не может утешиться от того, что нужно так скоро уезжать.
Великий князь отбывает 14 января, едет на две недели в Неаполь, возвращается сюда на неделю, переезжает через Альпы в начале марта и продолжает остальную часть своего большого путешествия в Англию чрезвычайно быстро, как перелетная птица. Жуковский считает это варварством и очень опечален»[392].
В 1841 году Жуковский, разочаровавшись в великом князе, своем воспитаннике, ушел в отставку и уехал за границу. В том же году он женился на дочери немецкого художника Герхарда Рейтерна и поселился в Дюссельдорфе[393].
В августе 1844 года Долли Фикельмон встретилась с поэтом во Франкфурте и познакомилась с его молодой женой (в это время ей было всего 22 года). 29 августа она пишет сестре: «Его жена прелестна, ангел Гольбейна, один из этих средневековых образов, белокурая, строгая и нежная, задумчивая и столь чистосердечная, что она как бы и не принадлежит к здешнему миру»[394].
В той же тональности, через несколько месяцев после свидания (16/28 января 1845 года) пишет и Жуковский[395]. Поблагодарив Фикельмон за письмо (оно до нас не дошло), он, в очень патетических выражениях, сообщает ей о рождении своего сына, «который, как звезда с неба, появился на свет в первый день года (1/13 января)». Следует ряд подробностей о состоянии здоровья новорожденного и матери, после чего Жуковский прибавляет, что его жена, как только сможет держать перо в руках, «сама выразит вам радость, которую доставило ей ваше прелестное письмо, живо напомнившее нам обоим и вашу душу, такую добрую и ласковую, и черты вашего лица, и звук вашего голоса. Мы оба с радостью узнали, что ваши страдания уменьшились <…>».
Свое письмо Жуковский заканчивает еще одним патетическим обращением: «Моя жена просит вас принять уверение в ее признательной дружбе: вы были для нее мгновенным видением, но видением, которое можно назвать откровением <…>».
Желая уточнить смысл последнего слова, поэт пишет его не по-французски, а по-немецки – «Ofenbarung». Оказывается, Долли Фикельмон можно было назвать посланницей Бога…
В архиве Пушкинского дома хранится еще одно письмо Долли к Жуковскому. Оно, по-видимому, не является запоздалым ответом на предыдущее письмо поэта:
«Карлсбад, 1 июля 1845 г.
Мой дорогой Жуковский!
Андрей Муравьев, должно быть, уехал куда-то на Рейн, – если вы о нем услышите, перешлите ему, пожалуйста, прилагаемое письмо. Это ответ, который я ему должна».
Из дальнейшего текста письма следует, что Жуковский недавно встретился с графом Фикельмоном. Упомянув о слабом здоровье мужа, Дарья Федоровна продолжает:
«Напишите мне о вашей милой и симпатичной жене, о ваших милых маленьких детках – поцелуйте их нежно за меня. Часто думаю о вашем красивом счастье, о котором рада была узнать. Не забывайте меня, дорогой Жуковский, у меня к вам нежная дружба! <…>»
В данном письме интересно упоминание Долли о ее переписке с Андреем Муравьевым. Это, несомненно, поэт и писатель по религиозным вопросам – Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874), знакомый Пушкина. Вероятно, Фикельмон знала его еще в Петербурге, где Муравьев служил сначала в азиатском департаменте министерства иностранных дел, затем в синоде. В дневнике Долли его фамилия не упоминается.
Это письмо – последний известный пока фрагмент переписки Фикельмон и Жуковского. Узнав о смерти старого поэта, Долли написала о ней сестре 6 мая 1852 года всего две строчки: «Смерть Жуковского меня очень огорчила, и я понимаю, что императрица скорбит о ней»[396].
Письма, которые я привел, несомненно, говорят о том, что Фикельмон считала Жуковского своим другом. По всей вероятности, однако, права Н. Каухчишвили, по мнению которой, это не была та близкая, задушевная дружба, которая установилась у Дарьи Федоровны с Вяземским и Пушкиным[397].
В печатных источниках сведений о знакомстве Д. Ф. Фикельмон с Александром Ивановичем Тургеневым, за исключением их встреч в 1837 году, имеется не много. Представляют поэтому интерес шесть писем и записок Долли к Тургеневу, хранящихся в Пушкинском доме, хотя содержание их и малозначительно. Остаются, к сожалению, неизвестными ее «поэтические строки» в письме «о поэтической Италии», которыми восхищался Александр Иванович в письме к Вяземскому. Были, по всей вероятности, и другие не дошедшие до нас послания Д. Ф. Фикельмон к просвещенному путешественнику А. И. Тургеневу, который провел за границей значительную часть своей жизни, всюду разыскивая исторические материалы, касающиеся России. Он же, поскольку это было возможно в условиях николаевской России, широко и умело знакомил в своих письмах русских читателей с жизнью Запада. Будучи разносторонне образованным и очень общительным человеком, Тургенев завязал там множество знакомств с самыми выдающимися людьми своего времени. Нельзя также забывать, что Александр Иванович был одним из ближайших друзей Пушкина, хотя до самой смерти поэта они не перешли «на ты» – должно быть, мешала разница в летах. Однако уже 9 июля 1819 года двадцатилетний Пушкин пишет тридцатипятилетнему Тургеневу, в то время важному чиновнику[398], как доброму приятелю, с которым можно и пошутить: «Препоручаю себя вашим молитвам и прошу камергера Don Basile[399] забыть меня по крайней мере на три месяца». Позже, 7 мая 1821 года, поэт писал Александру Ивановичу из Кишинева: «Верьте, что, где бы я ни был, душа моя, какова ни есть, принадлежит вам и тем, которых умел я любить».
Яркая личность А. И. Тургенева не могла не заинтересовать Фикельмон. Александр Иванович был к тому же, как и Пушкин, блестящим собеседником, а графиня Долли, как видно из ее дневника и писем, особенно ценила это качество в своих друзьях и знакомых.
В те годы, когда Фикельмон состоял послом в России, А. И. Тургенев бывал в Петербурге только наездами. После отозвания Шарля-Луи Фикельмона из России Александр Иванович неоднократно ездил в Германию и во Францию, но в Австрии, по-видимому, бывал только проездом. Сведений о его встречах с супругами Фикельмон за границей нет. Таким образом, непосредственное общение Тургенева с Долли ограничивается только Петербургом. В эти годы он приезжал на некоторое время в столицу четыре раза[400]. Перечислим его наезды в последовательном порядке.
1) В 1831 году, возвращаясь из Англии, Тургенев короткое время пробыл в Петербурге в июне месяце. 27 июня он уже в Москве.
2) 4 апреля 1832 года выехал из Москвы в Петербург. 18 июня, прожив в столице два с половиной месяца, уехал на пароходе за границу. После короткого пребывания в Германии и Австрии провел десять месяцев в Италии.
3) В середине мая 1834 года Александр Иванович вернулся в Россию (не через Петербург). Туда он приехал в начале октября и 11 декабря снова вернулся в Москву. На этот раз он снова пробыл в Петербурге два с половиной месяца. В конце января 1835 года Тургенев уехал в очередное заграничное путешествие.
4) После длительного пребывания в Италии, Франции и Англии Тургенев лишь летом 1836 года возвращается в родную Москву. 26 ноября этого года, незадолго до гибели Пушкина, он приезжает в Петербург и остается там до конца июня 1837 года. Это было его самое долгое пребывание в столице в те годы, когда Фикельмон состоял послом в России. Оно продолжалось целых семь месяцев.
В общей сложности его встречи с Долли продолжались всего один год (не считая короткого, как полагают биографы, пребывания в столице в 1831 году).
Я привел эту схему петербургских наездов А. И. Тургенева, так как она, до известной степени, поможет нам разобраться в неопубликованных письмах Фикельмон к Александру Ивановичу, хранящихся в Пушкинском доме.
Начнем с французского пригласительного билета, который сохранил неутомимый путешественник[401]. Текст печатный (гравированный), слова, набранные курсивом, вписаны от руки:
«Граф и графиня Фикельмон просят господина Тургенева сделать им честь провести у них вечер в следующее воскресенье 24 апреля в 10 часов.
RSVP[402]».
На первый взгляд, этот пригласительный билет не представляет никакого интереса. Работая в архиве, я даже сомневался, стоит ли его переписывать. Решил все же выяснить, в какой свой приезд А. И. Тургенев получил это приглашение, – иногда и мелочи бывают полезны. Выбор казался простым – 24 апреля Тургенев был в Петербурге в 1832 и 1837 годах. Оказалось, однако, что в 1832 году соответствующее число апреля пришлось на вторник, а в 1837 году – на понедельник. На всякий случай я обратился и к 1831 году. Выяснилось, что именно в этом году 24 апреля было воскресенье.
Предположить ошибку в тексте приглашения вряд ли возможно, тем более что 24 июня 1831 года Александр Иванович уже находился в пути – ехал в Москву. Приходится, таким образом, считать, что он прибыл в Петербург не в июне, а около апреля, и его пребывание в столице продолжалось не несколько дней, а около двух месяцев.
Д. Ф. Фикельмон, во всяком случае, познакомилась с А. И. Тургеневым еще в 1831 году. В письме к ней из Остафьева от 5 июля П. А. Вяземский сообщает: «Александр Тургенев, который приехал провести со мной несколько дней в деревне, поручает мне Вам кланяться и передать Вашей матушке, что он всецело занят неким письмом о воспитании»[403].
О том, что А. И. Тургенев и Долли Фикельмон встречались еще в 1831 году, свидетельствует и одно из недатированных писем графини[404]:
«Вот, дорогой Тургенев, письма Курье, прошу прощения за то, что задержала так долго. Сегодня я переезжаю на Острова, но надеюсь, что вы не уедете, не навестив хотя бы ненадолго. Вы должны были бы также съездить к маме, которая все еще состоит сиделкой[405].
Графиня Фикельмон.
Среда».
В письме к Вяземскому от 13 октября 1831 года Дарья Федоровна упоминает о том, что она читает «в данное время письма Курье», которые она, очевидно, получила от Тургенева в июне или раньше. Вернула она их Александру Ивановичу только в следующий его приезд – в 1832 году. Фикельмоны обычно переезжали на дачу в начале июня. Тургенев уехал за границу 18 июня. Приведенное выше письмо можно, следовательно, датировать первой половиной июня 1832 года.
Вероятно, к тому же времени относится следующая записка Фикельмон:
«Прошу вас, сударь, сделать нам удовольствие отобедать у нас в следующую пятницу в пять с половиной.
Буду вам признательна, если вы не откажете в моей просьбе, так как вы намерены вскоре нас покинуть, и я хочу видеть вас почаще, пока вы будете среди нас.
Графиня Фикельмон.
Понедельник».
Единственная, по словам А. В. Флоровского, запись в дневнике Дарьи Федоровны, посвященная А. И. Тургеневу, сделана 2 апреля того же года. По мнению графини, у него несомненно «много ума», «он в высшей степени культурен и вполне европеец»[406]. Надо сказать, что и на этот раз обычная наблюдательность Долли ей не изменила. Оставаясь вполне русским человеком, А. И. Тургенев действительно был «европейцем до мозга костей», – на мой взгляд, значительно более европейцем, чем, например князь Вяземский, несмотря на все его тяготение к Западу.
Мы видим, что еще в 1831 году А. И. Тургенев счел возможным сообщить Е. М. Хитрово, а значит, и Д. Ф. Фикельмон, что он занят таким важным вопросом, как записка Пушкина «О народном воспитании», предназначенная для личного сведения царя. В 1832 году он и графиня Фикельмон, несомненно, близкие знакомые, но вряд ли Дарья Федоровна в это время считает Тургенева своим другом. Характерно, что и письмо и записка подписаны «графиня Фикельмон». В переписке с друзьями своего титула она не употребляла почти никогда.
Можно думать, что десятимесячное пребывание Александра Ивановича в Италии (сентябрь 1832 – июнь 1833), откуда он, вероятно, не раз писал графине, душевно сблизило ее с Тургеневым. Ведь он побывал в ее любимом Неаполе, был и во Флоренции…
Во всяком случае, вот письмо Фикельмон, подписанное уже по-дружески «Долли Ф.»[407]:
«Господину Тургеневу».
«Посылаю вам Луизу Строцци[408], которую прочла с удовольствием, беспрестанно переносясь под прекрасное небо Тосканы, которую я так люблю.
Я так рада, дорогой Тургенев, узнав, что вы выздоровели – эта гадкая нога долго лишала нас удовольствия вас видеть, а теперь, когда вы можете выходить, я не знаю, когда я смогу попросить вас ко мне прийти, так как Фикельмон по-прежнему болен. Надеюсь все же, что вскоре я смогу вас попросить уделить мне немного времени для вашей доброй и любезной беседы. В ожидании этого шлю дружеский привет.
Долли Ф. Пятница».
Упоминание о «Луизе Строцци» позволяет довольно точно датировать и это послание. Из письма Тургенева к Вяземскому от 23 октября 1834 года[409] мы узнаем, что Долли Фикельмон прочла этот роман и нашла его длинным и скучным. Таким образом, письмо Дарьи Федоровны датируется октябрем этого года, так как в 1834 году Тургенев приехал в Петербург в начале данного месяца. Из вежливости Дарья Федоровна, видимо, не захотела сообщить приятелю, который привез ей итальянскую книжку, свое откровенное мнение о романе Розини. Ограничилась тем, что роман напомнил ей любимую Тоскану, где, как мы знаем, кончилось ее детство и началась юность. В архиве братьев Тургеневых есть еще две пригласительные записки с обращением «Дорогой Тургенев» и подписью «Долли Фикельмон». Вероятно, они также относятся к пребыванию Александра Ивановича в Петербурге в 1834 году. Итак, – скажем еще раз, – уже в 1831 году А. И. Тургенев счел возможным сообщить Е. М. Хитрово, а следовательно, и Д. Ф. Фикельмон, что он занят запиской Пушкина «О народном воспитании», предназначенной для царя, в 1832 году его и Дарью Федоровну следует считать близкими знакомыми. В 1834 году – они друзья.
Часть дневника А. И. Тургенева, связанная с преддуэльными месяцами, дуэлью и смертью Пушкина (с 25 ноября 1836 по 19 марта 1837) давно уже опубликована П. Е. Щеголевым[410]. Очень краткие, в большинстве случаев, записи Александра Ивановича показывают, что в это время в доме Фикельмонов он – свой, близкий человек. Приехав в столицу 25 октября, 27-го он уже отмечает: «У Хитровой. Фикельмон <…>». В течение шести недель (с 27 ноября 1836 года по 12 января 1837) Тургенев восемь раз упоминает о встречах и разговорах с супругами Фикельмон и Е. М. Хитрово. По-видимому, из всех друзей Дарьи Федоровны, не исключая и Пушкина, «европеизированный» («europeise») Александр Иванович, как его называла Долли, ближе всего сошелся с ее мужем. Послу было о чем поговорить с русским человеком, уже двенадцать лет странствующим по государствам Западной Европы и жившим там годами. Приходится сожалеть, что почти все записи Тургенева так лаконичны. 8 «генваря» он отмечает, например: «Фикельмон; с ней и сестрой ее о многом; во дворце все больны <…>». Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, о чем в тот вечер говорили Тургенев, Долли Фикельмон и ее сестра, – говорили, вероятно, наедине. В 1837 году Долли дневника почти не вела – только дуэль и смерть Пушкина заставили ее взяться за перо[411].
Проводив к месту последнего упокоения тело великого друга, Тургенев оказал трогательную услугу Елизавете Михайловне Хитрово. 15 февраля рокового 1837 года он записывает: «Перед обедом у Хитрово <…> отдал Хитровой земли с могилы и веточку из сада Пушкина».
Благодаря записи А. И. Тургенева, на этот раз довольно подробной, мы знаем, как поэт провел в гостях у Фикельмонов один из последних вечеров своей жизни – 6 января 1837 года. Еще подробнее он рассказывает об этом вечере в письме к А. Я. Булгакову[412] от 9 января 1837 года: «Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер у австрийского посланника: этот вечер напомнил мне интимнейшие парижские салоны. Образовался маленький кружок, состоявший из Баранта, Пушкина, Вяземского, прусского посла и вашего покорного слуги <…> Разговор был разнообразный, блестящий и полный большого интереса, так как Барант нам рассказывал пикантные вещи о его (Талейрана) мемуарах, первые части которых он читал. Вяземский со своей стороны отпускал словечки, достойные его оригинального ума. Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты из жизни Петра I, Екатерины II <…> Повесть Пушкина «Капитанская дочка» так здесь прославилась, что Барант предлагал автору при мне перевести ее на французский язык с его помощью <…>»[413].
Возможно, что читатель подумал сейчас: вечер 6 января 1837 года – скоро поединок. Значит, больше об отношениях Пушкина и Фикельмон говорить нечего, кроме обещанного автором разбора записи графини о его дуэли и смерти.
Нам предстоит, однако, еще вернуться назад и заняться эпизодом совершенно неожиданным и, на первый взгляд, невероятным.
Я не раз уже ссылался на записи первого по времени пушкиниста П. И. Бартенева, лично знавшего многих друзей и знакомых поэта. Есть у Бартенева в разных его работах несколько высказываний об отношениях поэта и Долли, высказываний, надо сказать, не вполне ясных.
Уже в примечаниях к отрывку из воспоминаний графа В. А. Соллогуба, опубликованному в 1865 году, мы читаем: «Вероятно, он [Пушкин] много о нем [Дантесе] наслышался от гр. Фикельмон, с которою тоже был дружен»[414]. По поводу донесения графа Фикельмона Меттерниху о дуэли и смерти поэта Бартенев замечает: «Обе они [Е. М. Хитрово и Д. Ф. Фикельмон] любили и почитали Пушкина, который бывал очень близок с графиней Д. Ф. Фикельмон»[415]. Позднее, вспоминая о пророческом письме Долли, видевшей в лице Натальи Николаевны предчувствие грядущего горя, Бартенев говорит: «Может быть, тут действовала и бессознательная ревность, так как она, по примеру матери своей, высоко ценила и горячо любила гениального поэта и, как сообщил мне Нащокин, не в силах была устоять против чарующего влияния его».
Эти не до конца понятные строки не раз цитировались пушкинистами, но никто ими ближе не занимался, хотя замечания Бартенева заслуживали самого серьезного внимания – и Нащокин и он относились к памяти поэта с благоговением. Слова свои взвешивали тщательно. Не привлекло ничьего внимания и совсем уже загадочное упоминание Петра Ивановича Бартенева, сделанное по случайному поводу, о том, что в «Пиковой даме» «есть целая автобиографическая сцена»[416].
V
Перейдем теперь к рассказу П. В. Нащокина, ставшему известным лишь в 1922 году. Опубликование его одним из авторитетнейших пушкинистов, ныне покойным М. А. Цявловским[417], стало одной из сенсаций раннего советского пушкиноведения и дало начало полемике, которая и сейчас, полвека спустя, от времени до времени возобновляется.
Оказалось, что П. И. Бартенев знал об отношениях Пушкина и графини Фикельмон гораздо больше, чем счел возможным сообщить в печати.
В одной из его черновых тетрадей были обнаружены среди других материалов записи бесед биографа с другом Пушкина П. В. Нащокиным, происходивших осенью 1851 года.
Приходится и сейчас считаться с тем, что некоторые подробности рассказа Нащокина – Бартенева чересчур интимны и, кроме того, возможно, не совсем соответствуют действительности. За давностью времени П. В. Нащокин, вероятно, кое-что забыл, кое-что перепутал. Тем не менее Павел Воинович, свято храня память своего великого друга, несомненно, не выдумал небылицу. То же самое надо сказать и о П. И. Бартеневе. Мы приводим их рассказ преимущественно в изложении, сохраняя его суть, но опуская ряд подробностей.
Начало записи таково: «Следующий рассказ относится уже к совершенно другой эпохе жизни Пушкина. Пушкин сообщил его за тайну Нащокину и даже не хотел первый раз сказать имя действующего лица, обещая открыть его после». Далее приводится характеристика некоей блестящей светской дамы, однажды назначившей поэту свидание в своем роскошном доме. «Пушкин рассказал Нащокину свои отношения к ней по случаю их разговора о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости можно удержаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого времени».
Вечером Пушкину удалось войти незамеченным в дом и, как было условлено, расположиться в гостиной. «Наконец, после долгих ожиданий, он слышит: подъехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную <…> Хозяйка осталась одна <…>».
Дальнейший рассказ в передаче Бартенева звучит слишком пошло. Касаться его мы не будем. Существенно то, что свидание затянулось и, «когда Пушкин наконец приподнял штору, оказалось, что на дворе белый день».
Положение было крайне опасным. Прибавим от себя – все, чем жила Долли, могло рухнуть в одно мгновение… Она попыталась сама вывести Пушкина из особняка, но у стеклянных дверей выхода встретила дворецкого. Вот тут-то, по словам Нащокина, «Пушкин сжал ей крепко руку, умоляя ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для себя самой. Женщина преодолела себя».
На полях тетради есть заметки, сделанные не рукой Бартенева. В них говорится о тождестве героини приключения с графиней Фикельмон, что, впрочем, и так ясно из содержания записи. Еще одна пометка гласит: «ожидание Германна в «Пиковой даме».
На первый взгляд все это приключение кажется совершенно неправдоподобным. Умная, житейски опытная женщина вдруг назначает интимное свидание у себя в посольском особняке, полном прислуги, и в ту ночь, когда муж дома. Поэт проникает туда, никем не замеченный, ждет хозяйку, потом проводит всю ночь в ее спальне… Все это очень уж похоже на веселую, затейливую и не очень пристойную выдумку в духе новелл итальянского Возрождения.
Неудивительно, что опубликование записи Бартенева вызвало ожесточенные споры между пушкинистами, которые время от времени возобновляются и в наши дни*, хотя исследователи не сомневаются в том, что рассказ о приключении с Долли действительно восходит к Пушкину.
Вопрос ставится иначе: не сочинил ли эту историю сам поэт? Так именно посмотрел на рассказ друга Пушкина Л. П. Гроссман[418]. По его мнению, «Пушкин художественно мистифицировал Нащокина, так же, как он увлекательно сочинял о себе небылицы дамам, или, по примеру Дельвига, сообщал приятелям «отчаянные анекдоты» о своих похождениях». Написанная с немалым блеском статья Гроссмана «Устная новелла Пушкина» в свое время имела успех, и до сих пор еще некоторые исследователи разделяют мнение автора.
На мой взгляд, однако, прав в высшей степени осторожный и точный М. А. Цявловский, считавший, что нет никаких оснований приписывать поэту подобную выдумку.
М. А. Цявловский, кроме того, справедливо напоминает об очень существенном факте. Тетрадь Бартенева целиком прочел один из близких приятелей Пушкина С. А. Соболевский. На полях он отметил ряд даже совсем незначительных неточностей, но запись о любовном приключении в посольстве не вызвала с его стороны никаких возражений. Очевидно, Соболевский знал, что эта история – не вымысел.
Есть и еще одно прямое доказательство ее подлинности. Автор первой научной биографии Пушкина Ш В. Анненков, собирая свои материалы, записал с чьих-то слов: «Жаркая история с женой австрийского посланника»[419]. Нащокина в это время уже не было в живых. Очевидно, о приключении поэта знали не только Павел Воинович и Соболевский[420].
Итак, записи Бартенева приходится верить.
Совершенно того не подозревая, мы еще с детских лет знали начало этого приключения, – как поэт проник в особняк и ожидал возвращения хозяйки.
Помните, читатель, эти места «Пиковой дамы»? «Сегодня бал у…ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется один швейцар, но и он, обыкновенно, уходит в свою коморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, – и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но вероятно вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни <…>».
«<…> Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню <… > Но он воротился и вошел в темный кабинет.
Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать – и все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, – и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились <…>».
Как видим, между рассказом Нащокина и текстом «Пиковой дамы» действительно есть большое сходство. Возможно, правда, что Нащокин, передавая рассказ Пушкина, еще несколько усилил его. Вряд ли, например, забыв многое существенное, он действительно помнил такую подробность, как стук подъезжавшей кареты. Скорее всего, Павел Воинович невольно заимствовал ее из пушкинской повести. Тем не менее сходство между обоими повествованиями остается несомненным.
Картина проникновения Германна во дворец графини полна конкретных подробностей и вполне правдоподобна. Возможно, что Пушкин и в самом деле здесь точно описал начало своего собственного приключения. Нащокин эти подробности запамятовал и ограничился мало что говорящей фразой: «Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец…»
Истории романа Пушкина и Долли Фикельмон мы пока совершенно не знаем. Уцелела от него лишь одна глава. Остальные вряд ли когда-нибудь отыщутся. Само собою разумеется, что письма этого времени, если они и были, сразу же ‘уничтожались. Но не о своих ли письмах к графине Пушкин говорит в той же «Пиковой даме»?
«Германн их писал, вдохновленный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать, – и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее».
Это, конечно, только предположение, но раз в знаменитой повести в самом деле есть автобиографическая сцена, то могут найтись и другие подробности, взятые поэтом из собственной жизни…
Интересно также отметить, что в 1917 году вдумчивый пушкинист Н. О. Лернер[421] обратил внимание на странное несоответствие мыслей Германна, уходившего из дома графини, с только что разыгравшейся по его вине драмой: «По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à loiseau royal[422], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться…»
Комментатор «Пиковой дамы» считает, что «психологически недопустимыми кажутся нам мысли, с которыми Германн покидает на рассвете дом умершей графини. Думать о том, кто прокрадывался в спальню молодой красавицы шестьдесят лет назад, мог в данном случае автор, а не Германн, потрясенный «невозвратной потерей тайны, от которой ожидал обогащения». С таким настроением не вяжутся эти мысли, полные спокойной грусти».
Н. О. Лернеру рассказ Нащокина в 1917 году был неизвестен, но, зная его, нельзя, мне кажется, не согласиться с мнением этого пушкиниста, что в данном случае так мог думать автор, а не Германн… Возможно, что перед нами еще одна автобиографическая подробность – благополучно уйдя из посольского особняка, поэт мог спросить себя, может быть, и с ревнивой грустью: не было ли у него предшественников на этом пути?..
Надо сказать, что образ Долли Фикельмон, героини любовного приключения с Пушкиным, решительно не вяжется со всем тем, что мы знали о ней до недавнего времени. Как совместить ее несомненную любовь к мужу, религиозность, сильно развитое чувство долга, наконец, ее душевную опрятность с этой, пусть недолгой, связью?
Однако уже в 1965 году я обратил внимание на то, что даже в ее поздних письмах чувствуется, что графиня Долли – человек увлекающийся и страстный, хотя и сдержанно страстный. Должно быть, в облагороженной и смягченной форме она все же унаследовала темперамент матери, женщины, порой совершенно не умевшей справляться со своими переживаниями.
Великий дед Дарьи Федоровны Михаил Илларионович Кутузов, как известно, также любил все радости жизни и до конца своих дней бывал порой неравнодушен к женщинам. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его письма к любимой дочери, Елизавете Михайловне Хитрово[423].
Став взрослой, Долли Фикельмон всегда выдержанна и ровна. Лишних слов она и любимой сестре не говорит. Ее чувства отливаются в достойную и изящную форму, но они не потухли, совсем не потухли, несмотря на годы и внучат. Один за другим проходят в ее письмах образы мужчин, которые в данное время так или иначе интересуют немолодую уже графиню. Сильнее всего, кажется, ее привязанность к молодому генералу Григорию Скарятину, который приезжал и в Теплиц. Смерть генерала во время Венгерского похода – большое личное горе для Фикельмон. «Я только что узнала, что ты и я потеряли один из предметов нашей самой нежной привязанности. Григорий Скарятин умер, как герой»[424]. «Увы, ужас войны чувствуешь тогда, когда ты потеряла кого-нибудь, кто тебе дорог»[425].
Несколько неравнодушна Дарья Федоровна и к своему ровеснику хорватскому бану (генерал-губернатору) Елачичу, о котором она опять осторожно пишет сестре: «твой и мой герой»[426].
Очень романтичны ее чувства к австрийскому императору Францу-Иосифу. По отношению к нему пиетет переплетается с переживаниями, похожими на материнские, и с явственным, хотя, возможно, неосознанным увлечением красивым юношей.
Думаю, что этих немногих примеров достаточно. Они показывают, что жизнь сердца и на склоне лет не всецело замкнулась у Долли в дорогом ей превыше всего домашнем кругу. Чувствуется, что и в
…науке страсти нежной, Которую воспел Назон, —она далеко не невежда.
«Женщины в этом отношении не ошибаются, они быстро распознают по тому, как на них смотрит мужчина, новичок он или нет в искусстве их любить»[427] – эту фразу написала, во всяком случае, женщина, много жившая сердцем.
В дневнике молодой графини, несмотря на всю его сдержанность, сердечные переживания порой проступают ясно. О том же Григории Скарятине она говорит, что была «привязана к нему всей душой» и чувствовала к нему «нежную дружбу»[428]. У Василия Толстого Долли находит «ангельское сердце»[429]. Александр Строганов является «одним из ее любимцев»[430]. Своему поклоннику Вяземскому, как мы знаем, она писала 12 декабря 1831 года: «…я рассчитываю на хороший уголок в вашем сердце, откуда я не хочу, чтобы меня выжили и где я останусь вопреки вам самому».
Надо снова сделать оговорку: по-французски, особенно в романтическую эпоху, когда с друзьями почти обязательно полагалось беседовать о чувствах, многие выражения звучали менее интимно, чем соответствующие русские, но все же интимность в них есть немалая.
А записывая маскарадный разговор со своим приятелем, атташе английского посольства Медженисом, Долли приводит весьма любопытный отзыв о самой себе. Молодой дипломат ее не узнал (или сделал вид, что не узнал, – это тоже практиковалось). Во всяком случае, он сказал, что Фикельмон – «это фразерка и лед, который я не дал себе труда растопить»[431]. Против несправедливого эпитета «фразерка» она протестует, а сравнение со льдом, который при желании можно растопить, ее, видимо, не задело. Внутренне правдивая женщина свою страстную натуру знала…
Все это я писал в 1964 году, еще не зная, что в Пушкинском доме хранятся три папки с бледно-голубыми листками и надписью на обложке «Александр I, император».
Из писем Долли Фикельмон к П. А. Вяземскому мне, как и всем, были известны тогда только два, в свое время небрежно переведенные сыном князя, и выдержка из третьего, опубликованная в «Литературном наследстве». 14 писем и 67 записок графини к Петру Андреевичу лежали в Остафьевском архиве и, кроме работников ЦГАЛИ и очень немногих специалистов, о них не знал никто.
Я получил возможность ознакомить с ними читателей в больших выдержках. Подробно рассказал о двух нам известных платонических увлечениях Дарьи Федоровны – ее совсем юной «влюбленной дружбе» с царем Александром и такой же дружбе с Вяземским. Думаю, что образ Долли, страстной по натуре женщины, любившей своего старого мужа, но, видимо, любившей и свою молодую жизнь, не покажется теперь столь уж несовместимым с возможностью увлечения и более опасного. Нельзя забывать и о ее склонности к «эскападам», порой довольно рискованным.
Когда же Пушкину удалось «растопить лед»? Когда разыгралась история с женой австрийского посла?
В биографическом плане этот вопрос далеко не праздный. Связь с графиней, если она имела место до женитьбы Пушкина, осложнить его семейной жизни не могла. Наталья Николаевна, конечно, знала немало о прошлых увлечениях мужа. Россказни о них, обычно приукрашенные, шли по всей России. Недаром она начала ревновать, еще будучи невестой. Дело обстоит иначе, если этот роман – одна из любовных провинностей женатого поэта. В очень запутанной под конец семейной жизни Пушкина она могла стать своего рода лишней гирей на домашних весах.
В первые годы после опубликования рассказа Нащокина среди пушкинистов, вообще относящихся с сомнением к истинности этой истории, существовало мнение, что ее, во всяком случае, следует отнести к ранней поре знакомства поэта и графини – возможно, к зиме 1829/30 года[432].
В настоящее время, после опубликования письма Пушкина к Дарье Федоровне от 25 апреля 1830 года, это мнение вряд ли можно считать обоснованным. За изысканно любезными, великолепно отшлифованными фразами поэта совершенно не чувствуется интимной близости с адресаткой, будто бы имевшей место всего несколькими месяцами ранее. Мы знаем, кроме того, что тогда же П. А. Вяземский удивлялся тому, что Пушкин не был влюблен в графиню Фикельмон. Петр Андреевич – наблюдатель очень внимательный. Он к тому же в это время сам сильно увлекался Долли и, наверное, почувствовал бы в Пушкине соперника, если бы поэт был таковым.
Из переписки Дарьи Федоровны мы знаем теперь, что в 1830–1831 годах, несмотря на несомненный интерес и симпатию к Пушкину, Петр Андреевич, ее усердный поклонник, занимал Долли гораздо больше. Вяземский, кроме того, ее единомышленник в сильно волновавшем Фикельмон польском вопросе. Можно думать, что с автором «Бородинской годовщины» она некоторое время была «на ножах». Только осенью 1832 года, как я старался показать, дружба Долли с Вяземским перестала быть «влюбленной».
Эпизод, о котором идет речь, приходится, во всяком случае, отнести к тем годам, когда Пушкин был уже женат.
Даты приключения в особняке австрийского посольства установить, конечно, невозможно. Попытаемся все же выяснить, когда приблизительно оно могло произойти.
В августе или ноябре 1833 года Пушкин уже читал Нащокину рукопись «Пиковой дамы», в которую, как мы видели, включен биографический эпизод. В выпущенной мною части рассказа Нащокина есть упоминание о том, что поэт проник в посольство в холодное время года (топили печи). Если Павел Воинович не ошибся, то, значит, эпизод произошел самое позднее в 1832–1833 годах. М. А. Цявловский считает наиболее вероятной либо эту зиму, либо предыдущую.
На мой взгляд, приходится остановиться именно на этой последней зиме, хотя, казалось бы, Пушкин не мог ввести в повесть эпизод, который произошел совсем недавно[433].
Никто из исследователей, если не ошибаюсь, не обратил, однако, внимания на тот факт, что в 1830–1831 годах графиня Фикельмон неоднократно упоминает о Пушкине и его жене в дневнике и в письмах. Упоминает о них и в 1832 году – в последний раз 22 ноября, но затем фамилия поэта внезапно исчезает из дневника на ряд лет – вплоть до записи о дуэли и смерти. Не упоминается она больше и в письмах Дарьи Федоровны. Ссоры между ними не произошло – Пушкин, как видно из его дневника, продолжал бывать на обедах и приемах в австрийском посольстве. Нет сведений и о том, чтобы он прекратил посещения салона Хитрово-Фикельмон. Нельзя, наконец, объяснить молчание Долли ее болезнью – в 1833 году она, во всяком случае, как и раньше, регулярно вела дневник, много выезжала и принимала у себя. Ее записи становятся нерегулярными только с 1834 года.
Таким образом, ссоры не было, но перо графини почему-то перестало писать фамилию поэта…
Мне кажется вероятным, что именно 22 ноября 1832 года можно считать той датой, после которой произошло незабываемое для Долли Фикельмон событие. Это число – «terminus post quern» на языке науки.
Когда будет опубликована (надо надеяться) и вторая тетрадь дневника, промежуток времени, в течение которого могла произойти интимная встреча графини и поэта, быть может, удастся сократить. В конце февраля 1833 года (запись 23 марта) Дарья Федоровна уже уехала в Дерпт (Юрьев, Тарту)[434]. Если мы узнаем, что она вернулась в столицу, когда в Петербурге печей уже не топят, «автобиографическую сцену» надо будет отнести к декабрю 1832 – февралю 1833 года[435].
Впоследствии, в день серебряной свадьбы (3 июня 1846 года) Дарья Федоровна писала сестре, что ее пришли поздравить внучата, одетые ангелами, с цветочными цифрами на груди – «на одном 2, на другом 5 – двадцать пять лет счастья…».
Вероятно, она искренна, или почти искренна… Можно поверить, что счастье супругов было безоблачным в юные и пожилые годы графини. Но между неаполитанской жизненной весной и венской осенью было еще петербургское лето. Фикельмон, несомненно, любила стареющего мужа и в эти северные годы, но была ли она тогда до конца счастлива? Можно в этом усомниться, несмотря на ее многократные дневниковые уверения в противном…
Думается, однако, что роман с Пушкиным был все же лишь коротким эпизодом в ее жизни. Вероятно, для Долли, человека душевно чистого и совестливого, после памятной ночи наступили дни раскаянья. Не верится, чтобы она могла легко простить себе то, что сделала, не справившись со страстью, разбуженной поэтом.
Трудно предположить, чтобы интимные свидания повторялись. Короткая предельная близость с Пушкиным скорее оттолкнула от него графиню. После пережитого потрясения душевные тормоза опять окрепли. Дарье Федоровне первое время было тяжело принимать поэта в своем доме. Потом это чувство прошло, но надолго, может быть, и навсегда, осталась некоторая неловкость, настороженность, нарочитая сдержанность, которая, как мы увидим, чувствуется в высказываниях Д. Ф. Фикельмон о Пушкине после его смерти.
Предельно осторожен и сдержан в своих высказываниях сам поэт. Ни одного лишнего слова о Дарье Федоровне у него нет. Не будь его неосторожного разговора с Нащокиным (может быть, и еще с кем-нибудь из близких друзей?), мы бы вряд ли вообще что-либо узнали об этом тщательно скрываемом романе.
Нелегко себе представить, что переживала Долли, читая «Пиковую даму», напечатанную в 1834 году, и слушая разговоры о знаменитой повести в своем салоне[436]. Ее чувства, можно думать, были сложными и смешанными. Однако у Фикельмон не было никаких оснований предполагать, что кто-либо из читателей «Пиковой дамы» сможет догадаться, о чем там местами идет речь.
Возможно, что она узнала кое-какие свои черты и в образе Татьяны-княгини:
К хозяйке дама приближалась, За нею важный генерал. Она была нетороплива, Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех. Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей… Все тихо, просто было в ней…Предположение о том, что Фикельмон отчасти послужила прототипом любимой героини Пушкина, ставшей дамой большого света, высказывалось многими. Неоднократно литературоведы указывали и на то, что в описании гостиной Татьяны-княгини есть сходство с салоном графини Долли, где Пушкин, по словам Вяземского, был «дома».
Беру на себя смелость высказать еще одно предположение. Образ графини Фикельмон запечатлен и в «Египетских ночах». Вспомним то место, где импровизатор-итальянец предлагает присутствующим вынуть из вазы жребий – одну из предложенных ему тем. «Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил: «Кому угодно будет вынуть тему?» Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал… вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке: он с живостью оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.
– Извольте развернуть и прочитать, – сказал ей импровизатор.
Красавица развернула бумажку и прочла вслух:
– Cleopatra e i suoi amanti (Клеопатра и ее любовники). Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки».
Кто же эта молодая красавица аристократка, величавая на вид и в то же время так не похожая на чопорных, всего боящихся петербургских дам? Красавица, видимо, уверенно читает по-итальянски. Мне думается, что на вечер импровизатора-итальянца Пушкин привел графиню Фикельмон, так любившую Италию…
Н. Каухчишвили нашла мое предположение «заслуживающим внимания» («degno di attenzione»). По ее словам, «является вероятным, что гипотеза близка к истине» («si avvicini al vero»)[437]. Автор указывает далее, что графиня покровительствовала в Петербурге одному импровизатору, и приводит ее дневниковую запись от 20 октября 1832 года: «…на днях мы слушали немца-импровизатора Лангеншварца. Я несколько раз видела этого молодого человека и стараюсь быть ему полезной, впрочем, без большой удачи. Он очень молод, особенно в умственном отношении, но у него благочестивая душа, чистая и сердечная, как у молодой девушки. Его фигура вовсе не примечательна, но глаза прекрасны, часто полны вдохновения»[438].
Автор полагает, что Фикельмон, возможно, пригласила Пушкина послушать импровизатора у себя в особняке, и поэт, подобно Чарскому, был поражен его горящими глазами. Предположение Каухчишвили, несомненно, интересно и не расходится с летописью жизни поэта. Пушкин выехал из Москвы в Петербург 10 октября и, следовательно, мог побывать у Фикельмон за несколько дней до двадцатого.
Супруги Фикельмон продолжали покровительствовать этому импровизатору и позднее. Посол рекомендовал его княгине Мелании Меттерних, и та устроила у себя в Вене многолюдный вечер. Одна из тем, предложенных артисту («Разрушение Помпеи»), как отмечает Каухчишвили, точно совпадает с заданной импровизатору на петербургском вечере, описанном в «Египетских ночах». Лангеншварц удивил княгиню Меттерних, но ей не понравился. Впоследствии (в 1836 году), вспоминая о нем, княгиня назвала его в дневнике «неспособным и смешным импровизатором»[439].
Н. Каухчишвили указывает, кроме того, на одно действительно странное совпадение. В 1827 году в Неаполе выступал знаменитый итальянский импровизатор Томмазо Сгриччи (Tommaso Sgricci), который, по желанию короля, продекламировал современную поэму «Смерть Клеопатры». Долли Фикельмон, по-видимому, присутствовала на этом представлении и, по предположению автора, ее рассказ о выступлении Сгриччи мог побудить Пушкина включить в текст «Египетских ночей» давно написанные им стихи о Клеопатре.
Верно это или не верно, пусть решают специалисты-пушкинисты, но нельзя не приветствовать рвение исследовательницы русско-итальянских литературных отношений, которая имеет возможность обращаться к источникам, очень труднодоступным для советских ученых[440].
Н. Каухчишвили полагает также, что «молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции», это гвардейский офицер Василий Васильевич Сабуров (1805–1879). Автор основывается на том, что в той же записи (20 октября), в которой Д. Ф. Фикельмон говорит об импровизаторе Лангеншварце, она упоминает и о Сабурове, вернувшемся из Италии. Он привез оттуда «отражение светлой жизни Юга, так как долго прожил среди итальянцев и страстно любит их страну». «При нем находился маленький художник-сицилианец, истинное выражение южной непосредственности»[441]. По мнению Каухчишвили, этот персонаж, возможно, побудил Пушкина сделать своего импровизатора «итальянским художником».
Если не все предположения Н. Каухчишвили окажутся обоснованными, все же я склонен считать несомненным, что «Египетские ночи», написанные, вероятно, в Михайловском осенью 1835 года, как-то связаны с рассказами графини Фикельмон о ее неаполитанских годах и о ее покровительстве немецкому импровизатору.
Быть может, именно поэтому Пушкин и увековечил ее в образе «молодой величавой красавицы», которая пришла на помощь бедному итальянцу…
Незаконченная повесть была напечатана в 1837 году, уже после смерти поэта.
Высказав впервые в 1935 году предположение о том, что прототипом «молодой величавой красавицы» в «Египетских ночах» является Д. Ф. Фикельмон, я вместе с тем считал, что «это последнее (и, собственно говоря, единственное) появление графини Долли в творчестве Пушкина»[442].
В настоящее время я, однако, присоединяюсь к мнению М. И. Гиллельсона, предположившего, что прототипом «княгини Д.» в наброске «Мы проводили вечер на даче» также является графиня Фикельмон[443].
В пользу аргументации Гиллельсона можно, как мне кажется, привести и сходство между высказываниями «княгини Д.», протестующей против преувеличенной стыдливости при выборе чтения, и отзывом Фикельмон о письмах Курье: «…они, надо сказать, легкомысленны, но принято считать, что в наш век можно все читать без стеснения».
Как мы видим, и в жизни и в творчестве Пушкина Дарья Федоровна Фикельмон, вероятно, сыграла значительно большую роль, чем можно было предполагать до недавнего времени.
Выяснению ее жизненного пути я посвятил уже немало страниц, но снова вернусь к судьбе Долли в двух следующих очерках.
Особняк на Дворцовой набережной
Семнадцатого сентября 1829 года графиня Фикельмон записала в дневнике: «С 12-го мы поселились в доме Салтыкова – он красив, обширен, приятен для житья. У меня прелестный малиновый кабинет (un cabinet amarante)[444], такой удобный, что из него не хотелось бы уходить. Мои комнаты выходят на юг, там цветы – наконец все, что я люблю. Я начала с того, что три дня проболела, но это все ничего, у меня хорошее предчувствие, и я думаю, что полюблю свое новое жилище.
Ничего столь не забавно, как устроиться на широкую ногу и с блеском, когда знаешь, что состояния нет, и, если судьба лишит вас места, то жить придется более чем скромно. Это совсем как в театре! На сцене вы в королевском одеянии – потушите кинкеты, уйдите за кулисы и вы, надев старый домашний халат, тихо поужинаете при свете сальных свечей! Но от этого мне постоянно хочется смеяться, и ничто меня так не забавляет, как мысль о том, что я играю на сцене собственной жизни. Но, как я однажды сказала маме, – вот разница между мнимым и подлинным счастьем, – женщина, счастливая лишь положением, которое муж дает ей в свете, думала бы с содроганием о том, что подобная пьеса может кончиться. Для меня, счастливой Фикелъмоном, а не всеми преимуществами, которые мне дает его положение в свете, – для меня это вполне безразлично, я над этим смеюсь, и, если бы завтра весь блеск исчез, я не стала бы ни менее веселой, ни менее довольной. Только бы быть с ним и с Елизалекс, и я, уезжая, буду смеяться с тем же легким сердцем!»
Остальную часть 112-й страницы первого тома дневника, на которой заканчивается эта запись, графиня Долли оставила незаполненной. Должно быть, смотрела на нее как на своего рода введение к предстоящему повествованию о своей жизни в особняке Салтыковых.
Этот дом, где Дарья Федоровна Фикельмон в течение девяти лет то весело, то грустно играла сложную пьесу своей жизни, где часто бывал Пушкин, куда он привел своего Германна, – этот дом существует и сейчас.
В рабочие дни подойти к дому № 4 по Дворцовой набережной со стороны Суворовской площади не так-то просто. Быстрой и почти непрерывной вереницей идут мимо его бокового фасада бесконечные машины, спешащие с Марсова поля на Кировский мост. По утрам, когда светофоры на время останавливают автомобильный поток, к бывшему особняку австрийского посольства устремляются торопливые стайки юношей и девушек. Они входят – о некоторых хочется сказать – влетают – в главный подъезд на набережной Невы. Со времен Пушкина здесь почти ничто не изменилось. По-прежнему на фронтоне лазурно-зеленого особняка виднеется белый герб Салтыковых, увенчанный княжеской короной. Под ним, на уровне третьего этажа, находится открытый балкон с гранитными балясинами и фигурной чугунной решеткой. Над самым входом смотрит на прохожих степенная львиная голова с кольцом в пасти.
Но архитектуру особняка рассматривают лишь немногие посторонние посетители. Торопящимся юношам и девушкам некогда. Они спешат в свои аудитории и кабинеты. С середины 1946 года все здание занимает Ленинградский государственный библиотечный институт имени Н. К. Крупской, который в настоящее время носит название Института культуры.
Сейчас в его основном, вечернем и заочном отделениях состоит около 6000 студентов.
Пожелаем им, будущим специалистам библиотечного дела и других отраслей культуры, успехов в учении и труде!
Займемся вкратце прошлым их «красивого, обширного, приятного для житья» здания, часть которого неразрывно связана с именем Пушкина[445].
На месте будущего дома Салтыковых Петр I 26 августа 1724 года по случаю Полтавской победы «изволил веселиться в галерее большой, что в еловой перспективе»[446]. Во времена императрицы Анны Иоанновны будущее Марсово поле представляло собою болотистый остров, поросший кустарником. Императрица не раз там охотилась. Нева протекала тогда по той стороне домов нынешней улицы Халтурина (бывшей Миллионной), где Эрмитаж, и подступала к самому месту, где много лет спустя был построен особняк Салтыковых. Впоследствии «в результате сложных и долгих, по условиям техники того времени, усилий была создана свайная набережная – примерно от Фонтанки до нынешней Адмиралтейской набережной – вынесенная в русло многоводной реки; тем самым, береговая линия была искусственно отодвинута.
Благоустройство этого района началось в конце первой половины XVIII века»[447]. В 1764–1767 годах, уже при Екатерине II, «в гранит оделася Нева». Позже, в 1784 году, берег реки от Лебяжьего канала, прорытого еще при Петре I, до служебного корпуса Мраморного дворца[448] был разбит на три участка, предназначенных для застройки. Средний из них, где находится нынешний Институт культуры, приобрел в 1787 году санкт-петербургский купец Ф. И. Гротен, построивший здесь обширный дом, проект которого создал знаменитый архитектор Джакомо Кваренги.
По каким-то причинам заказчик своим огромным особняком, законченным в 1790 году, не воспользовался. В том же роду он продал его некоему Т. Т. Сиверсу. Последний три года спустя перепродал особняк княгине Екатерине Петровне Барятинской. Однако и на этот раз создание Кваренги недолго оставалось в руках нового владельца. В 1796 году в «Санкт-петербургских ведомостях» появилось объявление о сдаче особняка в аренду, а через два дня его купила императрица.
Екатерина II подарила дом генерал-фельдмаршалу светлейшему князю Николаю Ивановичу Салтыкову. С тех пор и до Великой Октябрьской социалистической революции особняком на Дворцовой набережной владели его потомки. Владеть – владели, но предпочитали сдавать обширное здание иностранным посольствам. В 1829 году, как мы знаем, его хозяином стал граф Фикельмон. Резиденцией австрийского, потом австро-венгерского посольства дом Салтыковых оставался до 1855 года. Затем некоторое время часть дома занимал датский посланник (арендовать все здание маленькой Дании, видимо, было не по средствам), а после 1863 года особняк арендовало посольство Великобритании. 7 января 1918 года посол сэр Джордж Бьюкенен последний раз спустился по парадной лестнице и через Финляндию уехал в Соединенное Королевство.
Многих людей и много событий видел дом-дворец, построенный любимым зодчим Екатерины II…
В течение ряда лет, почти до конца XIX столетия, здание подвергалось внутри многочисленным переделкам. Постепенно изменялся и его внешний вид: «…к настоящему времени фасады со стороны Суворовской площади и Марсова поля очень существенно изменились, неизменным остался только фасад со стороны Невы. В остальном Кваренги не узнал бы своего творения»[449].
Для нас существенно, по возможности, выяснить, какой же вид имел особняк в те годы, когда там бывал Пушкин (1829–1837).
Как и сейчас, здание представляло собою замкнутый вытянутый прямоугольник[450]. По набережной и наполовину по Суворовской площади оно имело четыре этажа, все крыло, параллельное соседнему дворцу Ольденбургских, было двухэтажным. Со стороны Марсова поля во времена Пушкина особняк имел не четыре, как сейчас, а три этажа. Тесный в настоящее время двор был гораздо просторнее, так как пересекающей его сейчас галереи с проездом посередине не существовало.
В дни праздников кареты въезжали в ворота и, обогнув двор, останавливались у подъезда. Стояли они, как предполагает С. А. Рейсер, на Марсовом поле, так как на относительно узкой набережной места было недостаточно. К входу со стороны Невы, можно думать, в торжественных случаях подъезжали лишь наиболее важные гости, и в том числе, конечно, особы императорской фамилии. В «почетном дворе» их каретам пришлось бы ждать очереди. В обычные приемные дни все посетители, Пушкин в том числе, вероятно, пользовались главным входом с набережной или же поднимались в квартиру посла по лестнице с Марсова поля.
Длинный фасад со стороны Суворовской площади первоначально был почти глухой стеной; окна соответствующих комнат выходили во двор. Уже при Фикельмонах, в 1832 году, был пробит ряд окон на площадь. В то время на нее выходило три двери. Средняя из них, обслуживавшая и внутренние части здания, сохранилась до наших дней, и ею пользовались во время Великой Отечественной войны. Сейчас эта дверь, находящаяся на линии четырнадцатого окна, как раз напротив памятника Суворову, закрыта. Когда-то она служила выходом в сад, существовавший на месте нынешней Суворовской площади. При Пушкине площадь уже имела современный вид. Сад уничтожили в 1818 году, и памятник Суворову, находившийся в глубине Марсова поля, был перенесен на то место, где стоит и в настоящее время.
Наконец, в 1825 году снесли ограду, тянувшуюся от угла особняка Салтыковых до служебного корпуса Мраморного дворца. Таким образом открылся проезд через площадь.
Просим читателя не забывать о существовании во времена Пушкина в боковом фасаде особняка Салтыковых, на линии современного четырнадцатого окна, двери, выходящей на Суворовскую площадь. К этой двери нам придется еще вернуться.
Мне давно – с тех пор как я впервые познакомился с записью беседы П. И. Бартенева с П. В. Нащокиным, состоявшейся 10 октября 1851 года, – хотелось побывать в особняке на Дворцовой набережной.
Мое желание впервые осуществилось в 1965 году. Из далекой Алма-Аты я прилетел в Ленинград. 15 июля, перечитав еще раз «Пиковую даму», по улице Халтурина дошел до Института культуры имени Н. К. Крупской. Отворив тяжелую дверь, вошел в нарядный вестибюль с дорическими колоннами. Осматривать его не стал. Хотелось поскорее проделать путь Германна.
Близился вечер, и, благодаря каникулярному времени, людей в здании было очень немного. Мыслям о прошлом старинного дома не мешала обычная дневная суматоха учебного заведения.
Я стал подниматься по парадной лестнице особняка. Вы помните – Германн взбежал по ней… Я не попытался подражать молодому инженеру. На Тяныпаньские перевалы, собирая высокогорные растения, я понемногу взбираюсь, но бегать по лестницам возраст уже не позволяет. Шел медленно. Хотелось к тому же полюбоваться необыкновенно красивой лестницей. Она совсем не грандиозна; широк только нижний марш, который начинается из вестибюля. Затем, начиная с площадки перед зеркалом, лестница раздваивается. Боковые изогнутые марши ведут на третий этаж.
Перед началом Первой мировой войны орган великосветских эстетов «Столица и усадьба», именовавшийся в подзаголовке «Журналом красивой жизни», опубликовал несколько снимков интерьеров английского посольства[451]. Фотографию лестницы мне показали в альбоме одной ныне умершей русской пражанки[452].
Теперь я вижу творение Кваренги воочию. Все по-прежнему, только нет в нише копии античной статуи. На уровне двух с половиной этажей старинное зеркало в широкой белой раме, в котором отражались входившие гости.
И сразу приходит мысль о том, что когда-то зеркало отразило и фигуру взбегавшего по главному маршу Германна. Он спешил в спальню старой графини, надеясь выведать тайну трех карт. Но по этим же маршам с фигурными перилами из кованого железа, вдоль ныне светло-зеленых стен с белыми коринфскими полуколоннами много раз поднимался в покои австрийского посла и сам поэт. Может быть, иногда и взбегал, подобно своему герою. Но перед зеркалом на площадке, особенно в дни балов и парадных приемов, Пушкин, наверное, останавливался. Поправлял волосы, смотрел, не сбился ли на сторону бант шейного платка. А с тех пор как женился, он чинно шел в таких случаях под руку с Натальей Николаевной. Зеркало отражало невысокую фигуру поэта и его жену, которая многим, в том числе и многоопытной хозяйке дома, казалась поэтичнее, чем была на самом деле.
Оба марша выводят в обширный передний зал, кажется, неперестроенный. Теперь его бы называли холлом. Передо мной ряд запертых дверей. Куда же идти дальше?.. Мысленно опять возвращаюсь к Германну. Путь его в «Пиковой даме», как известно, Пушкин описал подробно. Портфель мне пришлось сдать в швейцарской, но изящно переплетенный коричневый с черным том я не забыл из него вынуть. На нужном месте закладка. Еще раз просматриваю третью главу.
Лизавета Ивановна, назначая Германну свидание в доме графини, писала: «Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату <…>».
«Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню».
…………………………………………………………………
«Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая – в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы… Но он воротился и вошел в темный кабинет».
В нем он и ожидал приезда графини, «прислонясь к холодной печке».
Итак, нужно идти налево. Прохожу мимо ряда сейчас закрытых высоких дверей. Над ними современные номера помещений[453] – иначе не разобраться в огромном здании. В прошлом здесь, видимо, были парадные комнаты Фикельмонов. О том, что их квартира находилась на третьем этаже особняка, мне еще в вестибюле сказал кто-то из сотрудников института. Речь, правда, шла об апартаментах Бьюкенена, но, вероятно, англичане держались установившейся посольской традиции.
Из передней большой залы снова сворачиваю налево в узкий, очень узкий коридор. Иду, как Германн, – все прямо. Здесь двери низкие, должно быть, и комнаты небольшие. Где-то тут была и спальня графини Долли, но как ее найти?.. Коридор пуст. Двое молодых людей, вероятно, студентов, которые попались мне навстречу, знают, в какие аудиторий и кабинеты ведут некоторые из нумерованных дверей, но спрашивать их о том, что там было во времена Пушкина, я не пытаюсь. Приходится повернуть обратно. Надо будет поискать другие пути…
Я ничего по-настоящему не видел, но все же кое-какое представление об особняке Салтыковых создалось сразу. Здание огромное, но холодного дворцового великолепия в нем нет и следа. Очень уютное строение, и, вероятно, права графиня Долли – жить в нем было приятно.
На следующее утро я беру с собой паспорт и несколько экземпляров книжки «Если заговорят портреты». Прошу доложить о себе ректору института. Предъявив документ, рассказываю о цели посещения. Прием любезный и, что важнее, внимательный. Ректор дал мне для ознакомления экземпляр четвертого тома «Трудов Ленинградского библиотечного института имени Н. К. Крупской» за 1958 год со статьей профессора Соломона Абрамовича Рейсера, которую я уже не раз цитировал. Издание это малотиражное (1000 экз.) и вне Ленинграда и Москвы его мало где можно найти.
Начинаем с парадных комнат, выходящих в переднюю залу – холл. Вхожу в помещение № 303 – великолепный белый зал с замысловатыми лепными украшениями на стенах и прекрасными хрустальными люстрами, изготовленными в советское время по типу старинных. Он сохранился в том же виде, как был в английском посольстве, – Джордж Бьюкенен в свое время, очевидно, разрешил его сфотографировать, и снимок помещен в номере «Столицы и усадьбы», о котором я уже упоминал. Однако Пушкин видел «танцевальное зало» особняка не таким. Оно было, к сожалению, перестроено архитектором Г. И. Боссе, вероятно, в 1844 году. В разное время были перестроены и многие другие помещения особняка.
Вспомнив замок Бродяны, в котором, как и во всей одноименной деревне, и в 1938 году все еще не было электричества, я старался представить себе, как выглядел зал № 303 во время вечерних приемов при Пушкине. Не очень яркие, но живые огоньки сотен восковых свечей, наверное, создавали тогда – как и стеариновые свечи в скромном замке Александры Николаевны сто лет спустя – тот веселый уют, который исчез при неподвижном электрическом свете.
Хотя и перестроенное, но все же то самое «танцевальное зало», в котором много раз бывал Пушкин… Вряд ли он участвовал в танцах – считал себя слишком немолодым. Стоял в стороне, чтобы на него поменьше обращали внимания многочисленные гости посла. Наблюдал. Супруги Фикельмон умели и на официальных приемах создавать атмосферу изящной непринужденности. Императорская чета бывала в австрийском особняке не часто, но охотно. Ее появление на балу в иностранном посольстве сопровождалось, можно думать, принятым в Петербурге церемониалом. Хозяин и хозяйка, вероятно, встречали царскую чету на средней площадке лестницы. При входе монарха в зал дамы и барышни делали глубокий реверанс. Мужчины низко кланялись. И быть может, именно здесь Пушкин наблюдал сцену, описанную им в одной из опущенных строф восьмой главы «Евгения Онегина»:
И в зале яркой и богатой. Когда в умолкший, тесный круг, Подобна лилии крылатой, Колеблясь, входит Лалла-Рук И над поникшею толпою Сияет царственной главою, И тихо вьется и скользит Звезда – харита меж харит, И взор смешенных поколений Стремится, ревностью горя, То на нее, то на царя…В библиотеке Пушкинского дома я прочел в письме фрейлины Анны Сергеевны Шереметевой упоминание о бале у Фикельмонов 28 февраля 1834 года, на котором на этот раз Пушкин, по-видимому, не присутствовал*: «После обеда мне пришлось сойти к императрице, чтобы пойти с ней к графине, у которой она переодевалась <…> Бал был блестящий и оживленный, танцевали в двух комнатах, а после ужина танцевали попурри и галоп почти до пяти часов утра»[454].
Побывав в белом зале Института культуры, я заодно с письмом фрейлины Шереметевой перечитал то место воспоминаний графа Соллогуба, где он рассказывает об объяснении Пушкина с Дантесом на приеме у Фикельмонов 16 ноября 1836 года уже после получения поэтом анонимного пасквиля и вызова им Дантеса на поединок: «Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику графу Фикельмону. На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем. С нею любезничал Дантес-Геккерн. Пушкин приехал поздно, казался очень встревоженным, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу сказал несколько более чем грубых слов»[455].
В особняке Института культуры бытует представление о том, что этот разговор произошел именно в белом зале. Мне кажется, однако, маловероятным, чтобы Пушкин выбрал для объяснения с Дантесом такое неподходящее место, как «танцевальное зало»[456]. Вероятно, разговор, если он действительно и произошел (мы знаем о нем только со слов Соллогуба), то, во всяком случае, в каком-либо другом, менее людном помещении посольства.
Возвращаюсь к дню 16 июля 1965 года, когда я впервые подробно осматривал особняк Салтыковых.
Мне показывали одно за другим помещения, которые когда-то были парадными комнатами австрийского, а позднее английского посольства.
Как полагает С. А. Рейсер на основании одного старинного документа, их можно довольно уверенно идентифицировать с некоторыми современными аудиториями и кабинетами. Непосредственно к белому залу примыкала большая столовая (302) и «вечернее зало» (301). С другой стороны расположена большая гостиная (304), малая и угловая гостиные (305 и 306). Помещения 301–305 выходят окнами на север. Одна сторона угловой гостиной также обращена на север, другая и остальные комнаты (307–310), вплоть до внутренней лестницы, ведущей в нижние этажи, имеют окна на Неву. Помещения, по-видимому, сохранили свои размеры, но аудитории, естественно, отделены друг от друга.
Путями сообщения во всем здании служат сейчас преимущественно очень узкие коридоры. В старое время было иначе. По коридорам ходили главным образом слуги. Хозяева и гости, по крайней мере в парадных покоях, пользовались дверьми, расположенными строго по одной линии и соединявшими комнаты в анфиладные ряды. Одна из таких линий шла от белого зала до угловой гостиной и затем, повернув под прямым углом, продолжалась до спальни графини (308).
Теперь здесь помещается кабинет литературы. Входят в него из коридора через очень низкую дверь. Осматриваю это помещение с особым интересом. Довольно большая, красивая и светлая комната с двумя колоннами, по всему судя, не была перестроена с основания особняка. Такой видел ее и Пушкин. Потолок с нарядной отделкой по карнизу, как мне сказали, вполне в духе построек Кваренги. Два окна выходят на Суворовскую площадь. В левое виден только служебный корпус Мраморного дворца, в правое – то же здание, но справа от него – Нева и часть Петропавловской крепости. Между окнами – большое зеркало в старинной широкой раме. Под ним находился мраморный камин, который перенесен в музей – последнюю квартиру А. С. Пушкина (Набережная Мойки, 12).
Этот кабинет литературы, конечно, совсем не похож на спальню старой графини в том виде, как ее изображают в опере, – огромное помещение, в котором хватает места для целого хора прислужниц, поющих «Благодетельница наша…». Однако в «Пиковой даме» описана обычная спальня старой барыни, а вовсе не зал, вроде опочивальни Людовика XIV в Версальском дворце.
Рядом с теперешним кабинетом литературы находится аудитория № 307, которую С. А. Рейсер считает большим посольским кабинетом. Здесь, или в одной из соседних гостиных (305 и 306), Германн и мог ожидать возвращения старой графини с бала. Вероятнее, однако, что он стоял именно в помещении № 307, так как отсюда, чуть приотворив дверь, он мог видеть то, что происходило в спальне. С другой стороны, дверь из нее ведет в маленькую соседнюю комнату, где в наши дни помещается секретарь декана библиотечного факультета. В день моего посещения она была заперта, так же как и следующая комната № 310. Из той и из другой низкие двери выходят в коридор. Пройдя по нему всего 6–7 шагов, Германн попал бы на внутреннюю довольно широкую лестницу и по ней мог выйти на площадь. Однако в повести его путь описан иначе: после смерти графини он, повидавшись с Лизой, спустился затем по винтовой лестнице, размышляя о тех, которые, быть может, поднимались по ней в спальню графини много, много лет назад.
Фактическая топография этой части бывшей квартиры Фикельмонов*, в общем, очень напоминала соответствующие строки «Пиковой дамы» и переданный Бартеневым рассказ Нащокина (надо заметить, что ни тот, ни другой в доме Салтыковых, несомненно, не бывали). Не хватало, однако, одной существенной подробности. Я тщательно спрашивал сотрудников института, нет ли где-нибудь поблизости от кабинета литературы винтовой лестницы. Ответ получал один и тот же: нигде нет.
В следующий мой приезд в Ленинград нашлось, однако, и это недостающее звено. Я познакомился с профессором С. А. Рейсером, подробно изучившим историю особняка, и он сказал мне, что еще сравнительно недавно лестница существовала. Когда Соломон Абрамович в 1944 году начал работать в институте, старые служащие говорили ему, что винтовую лестницу вниз убрали на их памяти. Профессор провел меня в небольшую комнату № 309, рядом со спальней. Здесь, вероятно, была туалетная или находилась горничная графини. Из этого помещения дверь ведет в кабинет декана – совсем маленькую комнатку № 310, назначение которой в прошлом остается неизвестным. На месте письменного стола ясно видно заделанное отверстие в полу. Подобный же симметричный след снятой лестницы имеется во втором этаже (комната № 219) и в первом. Незначительные размеры заделанных отверстий говорят за то, что лестница, несомненно, была винтовой.
Итак, загадочная лестница существовала. Путь Германна из спальни старой графини, не пожелавшей открыть ему тайны трех карт, выяснен. Становится теперь ясным и очень туманное место рассказа Нащокина, запамятовавшего, как Пушкин поутру вышел из особняка Фикельмонов. Поэт мог, в сопровождении Долли, из помещения № 308 пройти в 309, дальше в 310, а оттуда по винтовой лестнице сойти вниз. Мог также выйти из № 310, сделать несколько шагов по коридору и по внутренней лестнице опять-таки пройти к выходу на площадь через дверь против памятника Суворову.
Путь этот, по существу, прост, но провожатый необходим, так как без него легко по коридорам попасть не туда, куда нужно.
Так и случилось со мной, когда в 1965 году я попытался без посторонней помощи разыскать закрытую теперь дверь на площадь, которой сотрудники института пользовались во время Великой Отечественной войны,
В нижнем этаже находились при Пушкине комнаты прислуги, и, видимо, здесь, близ самого выхода, и произошла встреча графини Фикельмон с дворецким, которая едва не вызвала ее обморока.
Для меня, однако, по-прежнему оставалось неясным, где же находились личные комнаты посольши – ее любимая красная гостиная, зеленая гостиная и другие апартаменты, в которых она принимала своих друзей, в том числе и Пушкина. Парадные покои посольства для этих дружеских встреч в узком кругу явно не подходили.
Никаких данных на этот счет известно не было, но в цитированной уже записи Дарьи Федоровны от 14 сентября 1829 года имелось вполне определенное указание: «…мои комнаты выходят на юг».
Южный фасад дома Салтыковых обращен на Марсово поле. До революции оно было огромной площадью, где проходили парады войск Гвардейского корпуса. За ней виднелся мрачный Инженерный замок со своим золоченым шпилем. Сейчас здание полузакрыто старыми деревьями. В пушкинские времена им было всего десятка три лет.
Фасад посольского особняка еще не был испорчен позднейшей надстройкой четвертого этажа.
На Марсово поле выходят восемь окон бывшей квартиры посла, одно из которых заложено; крайние окна справа и слева тройные. Посередине этажа стеклянная дверь ведет на балкон, «выдержанный в строгих пропорциях александровского ампира»[457].
Очень красива его массивная чугунная решетка. Балкон был поставлен, вероятно, в 1819 году, одновременно со всем третьим этажом со стороны Марсова поля.
Получив в 1967 году от пражского Управления архивов микрофильм с небольшой частью дневника Д. Ф. Фикельмон, я прочел страницу, с которой начинается настоящий очерк, и, в июне следующего года прилетев в Ленинград, попросил разрешения осмотреть южную часть третьего этажа Института культуры.
Теперь здесь, в основном, помещается его библиотека. Книжным богатствам (в настоящее время более трехсот тысяч томов) уже тесно в анфиладе бывших комнат графини Долли. Они носят сейчас номера от 318 до 322.
Помещения, видимо, не перестроены. Хорошо сохранилась нарядная отделка стен и потолков в виде золоченых узоров того же типа, что в некоторых залах Зимнего дворца. Трудно, однако, сказать, такой ли вид имели эти салоны при Пушкине. Большое угловое помещение № 318 занято одной аудиторией. Что там было в прошлом – неизвестно. Зато абонемент библиотеки (№ 319) – это бывший «salon rouge» графини, который она так любила. Такая же гостиная была здесь у леди Бьюкенен. Вероятно, к тому времени относится старинное большое зеркало, которое только недавно отсюда убрали. Фотография красной гостиной английского посольства имеется в «Столице и усадьбе». Однако убранство «salon rouge» Д. Ф. Фикельмон было, конечно, совершенно иным. Из большой центральной комнаты № 320, заставленной теперь, как и другие, книжными стеллажами, можно было выходить на балкон. Через небольшое библиотечное помещение 321 мы попадаем в обширный апартамент 322, оттуда ход идет на лестницу, выходившую на Марсово поле рядом с въездом в парадный двор.
Читальный зал библиотеки помещается в громадной бывшей столовой великобританского посольства (№ 323). Для отдела каталогизации использована примыкающая к ней буфетная. Можно, как мне кажется, предположить, что при англичанах в этой части посольской квартиры была произведена перестройка. Нарядная столовая выдержана совсем в ином стиле, чем бывшие комнаты графини. К тому же большая столовая австрийского посольства помещалась, как мы знаем, в другой части здания, а для семейных приемов этот зал чересчур велик.
Пять апартаментов, выходящих на Марсово поле, – светлые и неизменно теплые помещения. И в самые сильные морозы здесь никогда не бывает свежо.
Любимые камелии графини и другие ее цветы, вероятно, чувствовали себя неплохо в этих комнатах даже в пасмурные петербургские зимы. Было там уютно и Дарье Федоровне, которая, как мы знаем, в некоторых отношениях сама походила на оранжерейный цветок.
Прожив много лет в Италии, по крайней мере в первые годы после приезда в Петербург она с трудом переносила отечественные морозы. Угнетал ее и самый приход северной зимы.
Поселившись в доме Салтыковых, она записывает 1 октября того же 1829 года: «Сегодня выпал первый снег – зима, которая будет продолжаться у нас семь месяцев, заставила слегка сжаться мое сердце: очень сильно должно быть влияние севера на настроение человека, потому что среди такого счастливого существования, как мое, мне все время приходится бороться со своей грустью и меланхолией. Я себя за это упрекаю, но ничего не могу тут поделать – виновата в этом прекрасная Италия, радостная, сверкающая, теплая, превратившая мою первую молодость в картину, полную цветов, уюта и гармонии. Она набросила как бы покрывало на всю мою остальную жизнь, которая пройдет вне ее! Немногие люди поняли бы меня в этом отношении, – но только человек, воспитанный и развившийся на юге, по-настоящему чувствует, что такое жизнь, и знает всю ее прелесть».
Слов нет, Долли Фикельмон, как немногие, умела чувствовать и любить жизнь. Только чувствовала ее – повторим еще раз – односторонне. Так было и раньше, в Италии, и в красной гостиной Салтыковского дома, где, вероятно, она и заполняла страницы своего дневника. Из ее окон графиня видела лишь Марсово поле и замок, в котором не так давно задушили Павла I, но из правого окна ее уютной спальни хорошо была видна часть Петропавловской крепости.
Вряд ли Дарья Федоровна когда-нибудь всерьез о ней думала. Она обладала своеобразной способностью почти не замечать мрачных сторон жизни…
Но по бывшим ее личным комнатам трудно ходить без волнения. Вероятно, они не меньше, чем парадные апартаменты посольства, являлись тем, что издавна уже принято называть «салоном графини Фикельмон», где, по словам П. А. Вяземского, «и дипломаты и Пушкин были дома».
Вот здесь, в бывшей красной гостиной, где сейчас стоят в очереди за книгами студенты и студентки Института культуры, несомненно, много раз сиживал поэт. Здесь беседовали с хозяйкой ее близкие друзья – князь Вяземский, Александр Иванович Тургенев, Жуковский, возможно, и слепец поэт Иван Иванович Козлов. И, может быть, именно дверь этой комнаты имеет в виду графиня Долли в записке, посланной Вяземскому во время великопостного говения 1832 года: «Но, в качестве доброго соседа, вы всегда можете попробовать постучать в мою дверь, – быть может, она для вас и откроется».
Я имел до сих пор в виду те комнаты, в которых принимала своих друзей и знакомых графиня Фикельмон. Нельзя, однако, забывать, что в особняке австрийского посольства жила и ее мать Елизавета Михайловна Хитрово, переселившаяся туда из дома Межуевой на Моховой улице, по-видимому, весной 1831 года[458]. Вместе с ней жила и старшая дочь, графиня Екатерина, но в мае 1833 года фрейлина Тизенгаузен переселилась в Зимний дворец. Елизавета Михайловна оставалась в доме Салтыковых до самой смерти (3 мая 1839 года).
Со слов П. А. Вяземского мы знаем, что приемы Е. М. Хитрово именовались «утрами», хотя продолжались от часу до четырех полудня[459].
Д. Ф. Фикельмон в письмах к Вяземскому неизменно упоминает о своих вечерних приемах. Сам П. А. Вяземский и другие мемуаристы также говорят о вечерах у графини. Таким образом, собрания у «матери и дочери происходили в разные часы.
Однако Елизавета Михайловна, несомненно, принимала своих гостей не в апартаментах Фикельмона. Тот же Вяземский упоминает о «двух родственных салонах». Пространственно они были разделены, хотя и находились в одном и том же особняке на Дворцовой набережной.
Пока, к сожалению, нельзя установить местонахождение комнат Елизаветы Михайловны. Они, несомненно, составляли более или менее изолированный комплекс. В недатированных записках графини Долли к Вяземскому много раз повторяется приглашение побывать «у мамы»: «Приходите сегодня вечером дать ваш ответ к маме, где я буду в 10 часов». «Пока приходите сегодня вечером к маме – я так люблю слушать, как вы говорите», и т. д.[460].
Квартира Е. М. Хитрово и ее старшей дочери, по-видимому, находилась не в непосредственной близости с апартаментами младшей.
В одной из записок Дарья Федоровна сообщает Вяземскому: «Так как Елизалекс больна гриппом, я не выхожу из дому и покидаю мою девочку только для того, чтобы пойти к маме, которая не хочет больше лежать в постели, хотя еще очень больна»[461].
По всей вероятности, квартира Е. М. Хитрово находилась во втором этаже особняка, и гости входили в нее с той же лестницы, которая с Марсова поля вела в квартиру Фикельмонов. Чтобы попасть к матери и сестре, Дарье Федоровне достаточно было из своих гостиных спуститься этажом ниже.
Мы не знаем пока, где была расположена спальня графа Шарля-Луи. Через несколько лет после отъезда из Петербурга в Вену его личные покои – служебный и рабочий кабинеты, спальня и комната камердинера помещались в стороне от комнат графини[462]. Возможно, что так было и в Петербурге. Впоследствии спальня великобританского посла находилась во втором этаже. Быть может, снова приходится повторить, в размещении комнат семья Бьюкенен следовала старинной традиции посольского дома.
Начиная с 1965 года, я побывал в бывшем доме Салтыковых много раз, и почти каждый год – в период экзаменов в Институте культуры. В вестибюле с дорическими колоннами, на лестнице Германна-Пушкина, в узких коридорах, перед дверью кабинета литературы, в великолепном белом зале, в бывшей красной гостиной графини Фикельмон – всюду шли, стояли, сидели, толпились юноши и девушки – одни с тревожными, беспокойными лицами, другие с радостно-взволнованными. Грустных я видел мало… И каждый раз, когда я, зачастую среди молодого потока, входил в подъезд со степенной львиной головой над дверью, я думал одно и то же: как хорошо, что именно этим юношам и девушкам отведено здание, так прочно связанное с памятью о Пушкине.
«Племя младое, незнакомое», как и их старшие собратья, хочется думать, сумеет быть достойным этой памяти.
Д. Ф. Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина
В истории русской культуры вряд ли есть событие, равное по своему трагизму смерти Пушкина. Столько лет прошло с тех пор, но и сейчас тяжело и горько думать о безвременном уходе нашего гениального поэта.
В его последней драме и поныне многое остается невыясненным, темным, непонятным. Вероятно, многое никогда и не будет объяснено до конца. Действующие лица давно в могиле. То, что они в свое время скрыли, не занеся на бумагу, скрытым и останется.
Есть, однако, материалы, до сих пор просто не разысканные, и почти каждый год приносит в этом отношении что-либо новое.
Наиболее полным исследованием о гибели поэта по-прежнему является труд П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». В настоящее время оно уже несколько устарело. Некоторые выводы автора являются спорными, но богатейшее собрание документов, разысканных Щеголевым, имеет непреходящую ценность.
В предисловии к первому изданию своей книги (1916 год) он писал: «Думается, что, после систематически веденных мною в различных направлениях розысков, в будущем вряд ли можно будет разыскать много документального материала в дополнение к настоящему собранию». Однако Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая исследователям доступ к ряду ранее засекреченных архивов, позволила автору значительно пополнить собранные им ранее обширные материалы. Последнее прижизненное издание книги, третье, вышедшее в 1928 году[463], дает, кроме того, новый взгляд на историю возникновения дуэли и, по-видимому, уличает автора анонимного пасквиля, послужившего поводом к поединку. Им, согласно заключения эксперта, оказался князь Петр Владимирович Долгоруков*.
После выхода в свет переработанной книги Щеголева прошло более сорока лет, и за это время был сделан ряд находок, среди которых по своему значению для истории гибели поэта наиболее важны письма членов семьи историка Н. М. Карамзина к его сыну Андрею Николаевичу. Эта ныне широко известная «Тагильская находка» была впервые опубликована (в выдержках) И. Л. Андрониковым в 1956 году[464]. В 1960 году Институт русской литературы (Пушкинский дом) выпустил полное научное издание писем[465].
На желательность отыскания писем Карамзиных указывал еще Щеголев. Он надеялся также на опубликование писем Натальи Николаевны Пушкиной к мужу, которые, по его сведениям, в 1916 году хранились в Румянцевском музее. Версия о том, что эти ценнейшие документы находятся за рубежом у потомков графини Н. А. Меренберг, должна быть, по-видимому, отвергнута[466]. Надо считать, что судьба писем Натальи Николаевны пока остается неизвестной.
Есть также источники давно известные, но полузабытые. К числу их, на мой взгляд, следует отнести и французское письмо барона Густава Фризенгофа, мужа Александры Николаевны Гончаровой, от 14/26 марта 1887 года, о котором я упомянул в первом очерке. Оно написано со слов Александры Николаевны и проверено ею. В печати письмо было известно лишь в неполном и, как уже было сказано, местами неточном переводе. Я получил возможность прочесть его целиком по фотокопии, любезно предоставленной мне Пушкинским домом. Пользоваться этим поздним и далеко не откровенным повествованием, составленным по просьбе племянницы Фризенгоф-Гончаровой писательницы А. П. Араповой[467], надо очень осторожно, но в нем есть все же интересные и ценные сведения, которым можно поверить. Я обозначаю этот источник как «письмо Фризенгоф».
О существовании дневника Д. Ф. Фикельмон с обширной записью о дуэли и смерти поэта знал до 1943 года только его последний владелец князь Альфонс Кляри-и-Альдринген. Я уже рассказал о том, как дальний потомок Кутузова пошел навстречу автору этих строк.
Я попытаюсь в дальнейшем прокомментировать дневниковую запись Д. Ф. Фикельмон. Этот документ уже прочно вошел в научный оборот, но, насколько я знаю, до настоящего времени мало привлекал внимание исследователей.
Д. Ф. Фикельмон довольно подробно и, в общем, добросовестно излагает историю последней дуэли Пушкина. Однако о многом она умалчивает, несмотря на хорошую осведомленность. Прежде чем приводить текст ее записи, будет небесполезно восстановить в памяти читателей ряд дат и фактов, относящихся к последней драме поэта.
I
Значительная и притом наиболее существенная часть записи Д. Ф. Фикельмон посвящена Дантесу и его отношениям с Н. Н. Пушкиной.
Остановимся поэтому подробнее на личности убийцы поэта.
Барон Жорж-Шарль Дантес[468] родился в Кольмаре 5 февраля 1812 года. Таким образом, он почти ровесник Натальи Николаевны Пушкиной, которая появилась на свет на следующий день после Бородинского сражения – 27 августа 1812 года. Дантес – французский дворянин родом из Эльзаса, сильно онемеченной области Франции[469].
Как и Гончаровы, Дантесы были дворянами недавними. Предок барона Жоржа, крупный земельный собственник и промышленник, получил дворянство лишь в 1731 году. Наполеон пожаловал отцу Дантеса Жозефу-Конраду баронский титул. Через сто лет дворянства благосостояние Дантесов оказалось сильно подорванным. В 1833 году барон Жозеф-Конрад, обремененный большой семьей, располагал лишь доходом в 18–20 тысяч франков и намеревался посылать сыну в Петербург всего 200 франков в месяц. Таким образом, молодой человек принадлежал, собственно говоря, к весьма скромной дворянской семье*, пользовавшейся, правда, некоторой известностью в Эльзасе. У Дантесов были, однако, очень большие родственные связи – главным образом по материнской линии.
Убийцу Пушкина принято считать французом; таковым он всегда считал себя и сам. По крови он, однако, больше немец, чем француз. Мать Дантеса, графиня Мария-Анна-Луиза Гацфельд, была чисто немецкого происхождения. Ее родной брат состоял прусским послом во Франции в первые годы Второй империи. Немкой была и бабушка Дантеса по отцу баронесса Райтнер фон Вейль[470]. Ее брат в конце XVIII века числился командором Тевтонского ордена. Германская кровь, несомненно, сказалась также в физическом облике Дантеса, высокого, атлетически сложенного блондина с голубыми глазами. Следует, наконец, отметить, что сын немки, барон Жорж-Шарль, как и большинство уроженцев Эльзаса, по-видимому, отлично владел немецким языком. Немецкая языковая стихия повлияла и на его французскую речь. Никто из русских не упоминает о его немецком акценте, но французское ухо его, видимо, улавливало. Через много лет после петербургской драмы Проспер Мериме, как мы увидим, отметил немецкий акцент барона. Есть полное основание думать, что так же он говорил и в молодые годы. Тем не менее – повторяю еще раз, – хотя по происхождению Дантес больше немец, чем француз, но и сам он, и окружающие считали его французом.
По установившейся традиции принято считать Дантеса исключительно красивым мужчиной. Если ограничиться отзывами женщин, знавших его в молодости, то традицию придется признать отвечающей истине. Бароном восхищались женщины всех возрастов и положений. Влюбленная в мужа Екатерина Николаевна с умилением пишет ему сейчас же после высылки Дантеса из Петербурга: «Одна горничная (русская) восторгается твоим умом и всей твоей особой, говорит, что тебе равного она не встречала во всю свою жизнь и что никогда не забудет, как ты пришел ей похвастаться своей фигурой в сюртуке»[471]. Светская барышня М. К. Мердер, любовавшаяся им на балах, отметила в своем дневнике: «Он удивительно красив». Даже престарелая девяностолетняя Наталья Кирилловна Загряжская, к которой Дантес явился представиться перед свадьбой, по его собственному рассказу, переданному внуком барона Луи Метманом, спросила его: «Говорят, что вы очень красивы, дайте на себя поглядеть <… >» и велела принести две свечи, чтобы получше его рассмотреть. «En efet vous êtes très beau»[472] – сказала она, закончив осмотр»[473].
Мужчины отзываются о внешности Дантеса менее единодушно. Польский врач Станислав Моравский, бывший в приятельских отношениях с бароном, описывает его наружность весьма критически. По словам мемуариста, «это был молодой человек ни дурной, ни красивый, довольно высокого роста, неуклюжий в движениях, блондин, с небольшими белокурыми усами. В вицмундире он был еще ничего себе, но рядом с русскими офицерами, в особенности когда надевал парадный мундир и ботфорты, мало кто завидовал его наружности». Моравский замечает, правда, что «постепенно Дантес становился все более салонным и ловким»[474].
Описание Моравского вполне, как мне кажется, согласуется с рисунком В. Райта, впервые воспроизведенным в книге Щеголева[475]. На нем изображен в профиль молодой офицер очень привлекательной внешности с правильными, крупными чертами лица. Обращает на себя внимание большой тяжелый подбородок Дантеса. Барон выглядит уверенным в себе, несколько высокомерным человеком. Он красив, но, по крайней мере на мужской глаз, далеко не красавец. Обычно воспроизводимый портрет Дантеса в парадной кавалергардской форме, вероятно, порядком идеализирует его внешность.
Думается, что восторженные отзывы современниц о внешних данных Дантеса и его успех у женщин объясняются не так его красотой, как способностью нравиться. Молодой француз, несомненно, обладал в очень большой степени этим житейским ценным качеством. Нравился он не только женщинам, но и товарищам по полку, и другим офицерам гвардии (среди его приятелей был и сын историка Андрей Николаевич Карамзин), нравился многочисленным светским знакомым, и молодым и старикам.
Пушкин долгое время относился к одному из многочисленных поклонников своей жены далеко не враждебно. В ноябре 1836 года он вызвал Дантеса на дуэль, но после того, как столкновение на время было улажено, поэт в конце декабря писал отцу[476]: «Моя свояченица Екатерина выходит за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника Голландского короля. Это очень красивый и славный[477] малый (un très beau et bon garçon), он в большой моде и 4 годами моложе своей нареченной».
Выяснить, что за человек был Дантес в молодые годы, нелегко. В русских источниках мы большею частью находим лишь весьма отрывочные данные о молодом, фатоватом офицере гвардии, ничем не выдававшемся, кроме своей наружности.
Надо сказать, что и сейчас, несмотря на ряд вновь опубликованных материалов, многое в отношении Дантеса остается неясным.
До сих пор неясен вопрос о его образовании. Основным источником сведений о Дантесе (за исключением русского периода его жизни и отношений с Гончаровыми) по-прежнему является биографический очерк, составленный для Щеголева внуком барона Луи Метманом[478]. По его словам, получив первоначальное образование в Эльзасе, Жорж-Шарль Дантес учился затем в Бурбонском лицее в Париже. Если он окончил его (в биографическом очерке этого не сказано), то пришлось бы считать, что молодой человек получил довольно основательное классическое образование.
По уверению его отца барона Жозефа-Конрада, Дантес был принят в известную Сен-Сирскую военную школу будто бы четвертым из ста пятидесяти[479]. Даже если конкурсный экзамен тогда был менее труден, чем впоследствии, все же это крупный учебный успех. Мы, однако, не знаем, правду ли говорит отец Дантеса. Быть может, барон д’Антес оказался четвертым в алфавитном списке принятых – и только. Школы он, как известно, не кончил и пробыл в Сен-Сире всего десять месяцев. Не желая служить королю Людовику-Филиппу, юный легитимист[480] уволился оттуда по собственному желанию. Несколько недель, по-видимому, состоял в контрреволюционных военных отрядах герцогини Беррийской, собранных в Вандее, затем вернулся в имение отца близ Сульца.
Таким образом, сколько-нибудь основательной военной выучки у него быть не могло.
Отзывы об общем образовании Дантеса противоречивы. Его товарищ по полку князь А. В. Трубецкой считал, что барон «был пообразованнее нас, пажей»[481], но этот аргумент неубедителен – Пажеский корпус того времени давал своим воспитанникам очень неважное образование. Бывший французский лицеист[482] и юнкер мог, пожалуй, при случае блеснуть своими познаниями в среде русских товарищей-офицеров, учившихся еще меньше его. В противоположность Трубецкому лицейский товарищ и секундант Пушкина К. К. Данзас считал Дантеса человеком весьма скудно образованным[483].
Еще показательнее опубликованный в 1930 году дополнительный рассказ Луи Метмана. В свое время он составил биографию деда в духе семейной почтительности*. Через много лет в беседе с русским журналистом Л. Метман высказался значительно откровеннее[484]. По словам внука Дантеса, его дед «леностью <…> отличался еще в детстве. Этим в семье объясняли и пробелы его посредственного образования (les vides de sa médiocre instruction). Даже французский литературный язык давался Дантесу не так легко. Ему приходилось уже много лет спустя обращаться к помощи воспитателя своего внука Луи при составлении некоторых писем и документов. Домашние не припоминают Дантеса в течение всей его долгой жизни за чтением какого-нибудь художественного произведения. Единственные книги этого рода, которые внук видел у него в комнате, были французские издания «Войны и мира» и «Севастопольских рассказов». Обе были переведены его знакомым Гованом де Траншером, который их ему и прислал».
Таким образом, по достоверным семейным воспоминаниям образование барона Дантеса было посредственным (французский термин «médiocre» к тому же выразительнее русского), а литературой он почти совершенно не интересовался*.
Моральные качества Дантеса… В Петербурге он был, приходится это признать, почти всеобщим любимцем – «славного малого» обожали женщины, любили, как уже было сказано, товарищи по полку. К нему благоволили начальники всех рангов, хотя недоучившийся французский юнкер оказался очень плохим служакой. Вероятно, здесь сказалось и то обстоятельство, что, прожив до приезда в Россию три с половиной года на положении молодого французского барича-помещика, он совершенно отвык от военной дисциплины. Во всяком случае, за три года службы в Кавалергардском полку Дантес подвергался дисциплинарным взысканиям (выговоры в приказе, дежурства вне очереди) 44 раза[485]. Объяснить все его многочисленные проступки только незнанием и неумением нельзя. Каждый из них в отдельности более или менее извинителен, но в совокупности они производят впечатление изрядной наглости.
Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы… —сказал впоследствии Лермонтов о кавалергарде Дантесе.
Избалованный молодой человек, видимо, чувствовал, что ему, модному иностранцу, протеже «высоких» и «высочайших» особ, в конце концов все сойдет с рук.
Та же наглость, которую Дантес обнаруживал при несении службы, чувствуется и в его отношениях с женщинами.
П. В. Нащокин рассказал в 1851 году П. И. Бартеневу, что «Дантес был принят в лучшее общество, где. на него смотрели как на дитя и потому многое ему позволяли, например, он прыгал на стол, на диваны, облокачивался головой на плечи дам и пр.»[486].
Эти сведения о Дантесе Нащокин, по всей вероятности, узнал в свое время от Пушкина. В тетради Бартенева С. А. Соболевский надписал сбоку строк, посвященных проказам кавалергарда: «Пушкину чрезвычайно нравился Дантес за его детские шалости».
Однако барон Жорж и в очень молодые годы был далеко не наивен. Сын Вяземского Павел Петрович, родившийся в 1820 году, был еще совсем юн, когда встречался с Пушкиным. Вероятно, впоследствии, вспоминая о Дантесе, он излагал впечатления родителей: «…человек практический, дюжинный, добрый малый, балагур, вовсе не Ловелас, не Дон-Жуан, а приехавший в Россию делать карьеру»[487].
Можно думать, что там, где это было нужно, он держал себя подобающим образом. Во всяком случае, остроумного, веселого кавалергарда принимали всюду – не исключая и тех домов, где красивой внешности было недостаточно, чтобы иметь успех. У Карамзиных он стал, например, своим человеком, бывал нередко и у Вяземских.
Всмотримся, однако, ближе в нравственный облик Дантеса. Допустим, что весьма неблаговидные слухи (а также определенные утверждения близко его знавшего и очень к нему расположенного А. В. Трубецкого) о противоестественных отношениях между Дантесом и Геккерном ложны… Дело это очень неясное, как неясен и ряд других обстоятельств, касающихся убийцы Пушкина.
Пойдем дальше – не оправдаем, но поймем, почему этот иностранец не поступил на дуэли так, как, быть может, поступил бы русский противник поэта, – не выстрелил в воздух, рискуя через мгновение сам умереть. Ожидать такого самоотвержения от Дантеса было невозможно.
Но несчастье свершилось. Пушкин убит. Дантес разжалован в солдаты и, как иностранец, выслан из России. Это, конечно, самый благополучный для него исход дуэльной истории…
Долгое время в России многие думали, что убийцу Пушкина всю жизнь мучили угрызения совести. На известной картине А. Наумова Дантес уходит с места поединка, понуро опустив голову. Такой авторитетный пушкинист, как Б. Л. Модзалевский, еще в 1924 году считал, что он «всю дальнейшую жизнь ощущал на себе упрек лучшей части русского общества, выразителем настроений которого явился Лермонтов в своих пламенных строфах на смерть Пушкина. Всякая встреча с новым русским человеком в течение всей долгой жизни Дантеса была для него, без сомнения, тяжела и заставляла его насторожиться и чувствовать новое угрызение совести»[488].
В действительности Дантес, когда ему изредка случалось говорить с русскими о дуэли, старался – не всегда, впрочем, удачно – приспособиться к собеседнику. Энтузиаста-пушкиноведа А. Ф. Онегина он уверял, что «не подозревал даже, на кого он поднимал руку, что, будучи вынужден к поединку, он все же не желал убивать противника и целил ему в ноги, что невольно причиненная им смерть великому поэту тяготит его <…>»[489]. Однако, по совершенно достоверному свидетельству А. В. Никитенко, в 1876 году Дантес представился одной русской даме следующим образом: «барон Геккерен (Дантес), который убил вашего поэта Пушкина». «И если бы вы видели, с каким самодовольством он это сказал, – прибавила М. А. С, – не могу вам передать, до чего он мне противен»[490].
Однако его подлинные чувства яснее всего видны из позднего рассказа Л. Метмана, как мы знаем, значительно более откровенного, чем составленный им биографический очерк: «Дед был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой, что, не будь этого несчастного поединка, его ждало незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции с большой семьей и недостаточными средствами».
Запомним также, что, по свидетельству Метмана, петербургская драма была для его деда лишь одним из приключений молодости («avantures de sa jeunesse»), которому он «отводил, однако, незначительное место» («une place assez médiocre»)[491].
И, наконец, подлинную суть своей мелочной и черствой натуры Дантес в полной мере обнаружил, затеяв против родных убитого им поэта долго длившуюся судебную тяжбу.
Женившись на Екатерине Николаевне, он сумел добиться от опекуна, Дмитрия Николаевича Гончарова, обещания выдавать сестре ежегодно 5000 рублей ассигнациями. Сверх того, 10 000 рублей было выдано единовременно в качестве приданого. Суммы, конечно, по тогдашним масштабам русских верхов, весьма скромные, но для почти разоренных Гончаровых и они были немалым бременем. Однако Дантес этим не ограничился. Уже после дуэли, в феврале 1837 года, он получил от братьев жены так называемую «запись». Этим полуофициальным документом обеспечивался переход к Екатерине Николаевне причитающейся ей доли наследства душевнобольного отца[492].
В скором времени дела Гончаровых пришли в такое состояние, что выплата содержания Екатерине Николаевне сначала стала неаккуратной, а в 1841 году вовсе прекратилась.
Дантес, конечно, отлично знает, что денег у его шурьев Гончаровых действительно нет, но упорно стоит на своем.
«В письмах из-за границы» мы находим новые подтверждения мелочной торгашеской натуры как самого Дантеса, так и его приемного отца. Будучи, несомненно, состоятельными людьми, Дантес и Геккерн с упорством, граничащим с наглостью, требовали от почти разоренных Гончаровых выплаты обещанного Екатерине Николаевне ежегодного содержания.
Весьма подробное письмо Дантеса, написанное еще при жизни жены, содержит ряд издевательских выпадов в адрес Дмитрия Николаевича, якобы не умеющего вести дела. Дантес позволяет себе давать шурину ряд финансовых наставлений с целью во что бы то ни стало выжать причитающуюся Екатерине Николаевне сумму. Обращает внимание неприличное заявление, что положение Екатерины Николаевны совершенно плачевно. Вот что он пишет:
«…у вашей сестры даже не на что купить себе шпилек! А так как я прекрасно знаю, что вы слишком справедливы, чтобы не понимать, насколько обоснованны мои требования, я вам предлагаю соглашение, которое могло бы устроить всех. Что помешало бы вам, например, в обмен за официальную бумагу от вашей сестры, по которой она бы отказалась от отцовского наследства, признать за нею сумму <…> как спорную между вами, а затем включить ее в число ваших кредиторов. Таким образом вы обеспечите будущее Катрин, что я в настоящее время не могу ей гарантировать»[493].
Еще более поразительны по своему откровенному цинизму и бездушию два письма Луи Геккерна из Вены Дмитрию Николаевичу, написанных во время предсмертной болезни невестки. Эти письма настолько ярко показывают подлинную натуру Луи Геккерна, что представляется необходимым процитировать их.
В письме от 14 октября 1843 года Луи Геккерн пишет:
«Я должен вам сказать всю правду, любезный Дмитрий, вот что мне пишет откровенно врач: «Причины болезни г-жи Геккерн следующие <…> тяжелый конец беременности, трудные роды, моральные причины, о которых я не должен распространяться, но которые оказывают огромное влияние на роженицу». А знаете ли вы, что это за моральные причины? Это огорчение, которое вы ей причиняете, не сдерживая ни одного обязательства, взятого вами в отношении ее. Пожалуйста, милостивый государь, напишите ей хорошее письмо и успокойте ее в отношении будущности ее семейства, постарайтесь, на конец этого года вы уже должны ей 20 тысяч рублей. Будьте добрым братом и не оставляйте мать, которая является вашей сестрой и имеет четверых детей».
Это письмо написано за день до смерти невестки.
Видимо, не зная еще, что Екатерины Николаевны уже нет в живых, а может быть, и зная (от этого человека всего можно ожидать), Геккерн не унимается и 18 октября вновь напоминает Дмитрию Николаевичу о его обязательствах: «Заверяю вас, что я продолжаю выполнять свой долг в отношении вашей сестры, позвольте мне, любезный Дмитрий, побудить вас выполнить ваш».
Мы не знаем, какие денежные разговоры происходили у Дантеса и его приемного отца с Екатериной Николаевной, но, видимо, они оба требовали от нее соответствующих писем к брату. Просьбы, больше похожие на мольбы, повторяются во всех ее письмах.
В 1848 году, уже после смерти жены, Дантес начинает формальный судебный процесс о взыскании причитающихся ему с Гончаровых сумм и жениной доли наследства. Мало того – по этому совершенно частному гражданскому делу он позволяет себе просить заступничества Николая I.
В течение двух лет его письма к царю остаются без ответа, но Дантес не унимается. 14 октября 1851 года член законодательного собрания настойчиво просит императора об ответе. Ссылается при этом на «благоволение, которым его величество удостаивал отмечать автора письма во всех случаях». О том, что Николай I как-никак утвердил приговор о разжаловании его в рядовые и выслал Дантеса из России, самоуверенный и наглый баран как будто и не помнит… Просит, во всяком случае, «не отказать об отдаче приказа, чтобы мои шурья <…> были принуждены оплатить мне сумму 25 000 <…>»[494].
Обращение Дантеса, в это время уже вполне обеспеченного человека, было тем более неприлично, что, желая во что бы то ни стало получить с Гончаровых деньги, он нарушил интересы жены и детей убитого им поэта.
Николай I совершенно незаконного «приказа уплатить» не отдал, но все же препроводил просьбу барона Геккерна шефу жандармов Бенкендорфу «для принятия возможных мер, чтобы склонить братьев Гончаровых к миролюбивому с ним соглашению». На наследственное дело было обращено внимание министра юстиции.
«Склонить» Гончаровых, очевидно, не удалось, так как в последующие годы французские послы еще дважды обращались к русскому правительству по делу Геккерна с Гончаровыми. Только в 1858 году, уже в царствование Александра II и через 21 год после дуэли, опека над детьми Пушкина решила, что «претензия Геккерна в данное время в уважение принята быть не может».
Итак, Дантес, став богатым человеком, так и не отступился от теперь уже совсем для него незначительной суммы. Эта совершенно неприличная тяжба с Гончаровыми рисует его человеком расчетливым и сухим до крайности. Таков был Дантес в зрелые годы, таков, надо думать, был и в молодости. Веселый нрав, общительность и остроумие кавалергарда обманули многих. По-видимому, на некоторое время обманули и Пушкина…
II
Следует признать, что, вопреки очень распространенному мнению, убийца поэта, несмотря на все его отрицательные свойства, ничтожной личностью не был. Об этом свидетельствует французская карьера Дантеса, выяснением которой исследователи занялись лишь сравнительно недавно.
Дантеса, современника Пушкина, мы, собственно говоря, знаем лишь односторонне и неполно, так как русские источники, естественно, так или иначе связаны главным образом с трагически закончившейся дуэлью. В свои 24–25 лет он, несомненно, был уже вполне сложившимся человеком, и изучение его дальнейшей жизни на французской родине (формально у него была и вторая – голландская) позволяет составить более ясное представление и о любимце петербургских салонов. Мы уже видели, что ознакомление с судебной тяжбой Дантеса с Гончаровыми, тянувшейся целые десятилетия, обнаружило не замеченные петербургскими знакомыми свойства барона Жоржа – его мелочность и скаредность. Кроме того, в этом же процессе лишний раз проявилась и его незаурядная наглость.
Возможно, эти его качества сыграли свою роль в становлении дальнейшей его карьеры. Чем он занимался первые восемь лет после отъезда из России, неизвестно. С 1845 года он состоял членом Генерального совета департамента Верхнего Рейна. 28 апреля 1848 года барона избирают депутатом по округу Верхний Рейн – Кольмар. Из двенадцати депутатов округа он, надо сказать, получил наименьшее число голосов[495]. К этому времени Дантес, очевидно, основательно забыл свои не столь давние убеждения легитимиста. Иначе он не стал бы баллотироваться в законодательный орган, возникший в результате революции 1848 года.
Через год Дантес был переизбран в учредительное собрание и снова небольшим числом голосов, В конце сороковых годов он уже был у себя в Эльзасе человеком заметным.
Крупную роль далеко не случайно Дантес сыграл в 1852 году. После государственного переворота, произведенного Людовиком-Наполеоном 2 декабря 1851 года, французская республика фактически уже не существовала. В самом перевороте барону очень хотелось участвовать, но, по-видимому, в это время принц-президент не принимал Дантеса всерьез и его услугами не воспользовался.
Тем не менее в мае следующего, 1852, года Людовик-Наполеон, подготовлявший провозглашение империи, возлагает на сорокалетнего барона неофициальное, но очень ответственное дипломатическое поручение. Он должен был лично ознакомить с намерениями* будущего Наполеона III русского и австрийского императоров, а также прусского короля и, как говорит Л. Метман, «привезти в Париж уверения в том, что восшествие на императорский престол принца-президента будет принято дворами Северных Держав»[496].
Людовик-Наполеон и его приближенные, очевидно, считали Дантеса достаточно умным, ловким и тактичным, чтобы вести переговоры с монархами о вопросе большой государственной важности. Из трех государей двое – русский император и прусский король – к тому же знали Дантеса лично. С нашей теперешней точки зрения было, правда, величайшей бестактностью посылать убийцу Пушкина для переговоров с русским царем, но современники смотрели и на людей и на события не нашими глазами. Возможно также, что в осведомленных французских кругах было известно подлинное отношение Николая I к «пресловутому Пушкину»*.
Весьма вероятно, что в тех же кругах знали и о связи барона Дантеса-Геккерна с русским посольством в Париже*.
Николай I принял бывшего кавалергарда в Потсдаме 10/22 мая 1852 года и имел с ним продолжительный разговор[497]. К сожалению, подробностей этого знаменательного свидания мы не знаем. М. Алданов, основываясь, видимо, на французских источниках, упоминает о том, что «царь был очень любезен и полушутливо называл своего бывшего офицера «господин посол».
Можно поверить, что Николай I через 15 лет после дуэли был весьма любезен с убийцей «пресловутого Пушкина»…
Историческое приличие было, однако, соблюдено. Во французской депеше канцлера послу, в Париже Киселеву от 15/27 мая 1852 года указывалось, что император, соглашаясь дать Геккерну аудиенцию, приказал «предупредить, что он не может принять его в качестве представителя иностранной державы вследствие решения военного суда, по которому он был удален с императорской службы. Если же он хотел бы явиться как бывший офицер гвардии, осужденный и Помилованный (condamné et gracié), то его величество был бы готов выслушать то, что он желал бы ему сказать от имени главы французской Республики»[498]. На подлиннике депеши имеется надпись царя: «Быть по сему».
Как бы то ни было, Дантес успешно выполнил возложенное на него поручение, получив аудиенцию у всех трех монархов. В награду Людовик-Наполеон назначил его сенатором. Таким образом, сорока лет от роду, будучи моложе всех своих коллег, барон Жорж-Шарль Геккерн-Дантес получил почетную и прекрасно оплачиваемую должность[499]. Дальше он, однако, не пошел и никаких видных постов не занимал. Тем не менее, оставаясь, собственно говоря, в тени, Дантес был все же человеком влиятельным и близким к правящим кругам Второй империи.
Политическим, да и житейским успехам барона, несомненно, помогало умение говорить. Из былого краснобая петербургских гостиных выработался отличный политический оратор. Большой французский писатель, прекрасный стилист Проспер Мериме, услышав его выступление в сенате, писал 28 февраля 1861 года своему другу, библиотекарю Британского музея Паницци, что убийца Пушкина «атлетически сложенный человек, с немецким акцентом, на вид хмурый, но тонкий. Это очень хитрый малый. Не знаю, приготовил ли он свою речь, но произнес он ее великолепно (merveilleusement), с сдержанной силой, которая произвела впечатление <…>»[500].
Кроме большой политики Дантес деятельно занимался и местными эльзасскими делами. В конце империи состоял председателем Генерального совета Верхнего Рейна и мэром Сульца.
Не следует, однако, преувеличивать значительность политической карьеры Дантеса. Должности, которые он занимал у себя в Эльзасе, почетны, но имеют чисто местное значение. Достаточно сказать, что в городке Сульце и в тридцатых годах нашего века было немногим больше 4000 жителей. Гораздо значительнее было кресло сенатора, но в истории Второй империи барон Геккерн, в конце концов, оставил мало следов.
Кроме того, став несменяемым сенатором, он вообще сильно охладел к политике. Вместо государственных дел Геккерн-Дантес, используя свое привилегированное положение, предпочитал заниматься своими собственными делами. Стал крупным и на этом поприще действительно удачливым дельцом. По словам Л. Метмана, «благодаря его близости к братьям Перейр, он был в числе первых учредителей некоторых кредитных банков, железнодорожных компаний, обществ морских транспортов, промышленных и страховых обществ, которые возникли во Франции между 1850 и 1870 годами».
Л. Метман объясняет финансовые успехи деда «практическим чувством действительности». Если не ошибаюсь, В. Нечаева первая придала этому выражению более общий смысл. Дантес на протяжении всей своей жизни обладал необыкновенно развитой способностью приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать из них возможную пользу. Шел в этом отношении так далеко, что современники порой весьма удивлялись. В зависимости от обстановки барон с большой ловкостью примыкал во Франции к очень разным течениям и очень разным людям. Цель у него всегда оставалась одна и та же – преуспеть, ничем не гнушаясь.
Неизвестно, какое он оставил состояние, – вероятно, очень значительное[501]. Об этом свидетельствует, между прочим, трехэтажный особняк, построенный им для себя и своей семьи на улице Монтель рядом с нынешним театром Елисейских Полей.
Итак, исполнитель дипломатических поручений, беспринципный и ловкий политик, отличный оратор, местный – хочется сказать по-русски «земский» – деятель, крупный и удачливый предприниматель… убийца Пушкина, очевидно, и в молодости не был лишь рядовым офицером гвардейской конницы.
Он прожил очень долго. Скончался 2 ноября 1895 года в возрасте 83 лет.
Приемный отец Дантеса барон Геккерн де Беверваард умер 27 сентября 1884 года, не дожив двух месяцев до 94 лет. Своего отношения к приемному сыну он не изменил до самой смерти. Могилы обоих стариков находятся на кладбище города Сульца.
Вернемся теперь снова к Дантесу, который 8 октября 1833 года прибыл в Кронштадт на пароходе «Николай I» вместе с королевским нидерландским посланником бароном Геккерном.
Основные факты его русской карьеры общеизвестны. Я изложу их лишь очень кратко, но на некоторых из них все же придется остановиться подробнее.
Во Франции «короля-мещанина» Людовика-Филиппа Дантесу, не имевшему никакой гражданской специальности и скомпрометировавшему себя участием в контрреволюционном движении, устроиться где-либо трудно*. Молодой человек пытался поступить на военную службу в Пруссии, но, несмотря на большие родственные связи и мощное покровительство лично его знавшего принца Вильгельма Прусского (1797–1888)[502], там ему пришлось бы сначала поступить в полк унтер-офицером. Дантесу этого было мало, и, по совету принца, он в 1833 году отправился искать счастья в далёкую Россию на правах французского легитимиста, пострадавшего за верность низвергнутому королю Карлу X. Располагая рекомендательным письмом сына прусского короля, женатого к тому же на племяннице Николая I, трудно было потерпеть в Петербурге неудачу. Принц рекомендовал Дантеса вниманию одного из наиболее приближенных к царю лиц, генерал-адъютанту В. Ф. Адлербергу, состоявшему в то время директором канцелярии военного министерства.
Мне кажется оправданным предположение о том, что кроме этого письма к Адлербергу принц Вильгельм мог написать о Дантесе и непосредственно своему родственнику Николаю I.
П. Е. Щеголев справедливо замечает, что русская карьера Дантеса объясняется, таким образом, гораздо проще, чем думали современники, много по этому поводу фантазировавшие. А может, и дальнейшая его карьера также объясняется просто.
Помимо принца Вильгельма молодой барон, по-видимому, совершенно случайно приобрел еще одного покровителя, который потом сыграл в его жизни огромную роль… Общеизвестно, что по пути в Россию он встретился с голландским посланником бароном Геккерном*, возвращавшимся из отпуска, очень ему понравился и прибыл в Петербург уже в качестве протеже влиятельного дипломата.
Не буду останавливаться на истории поступления Дантеса на русскую службу. Я уже упомянул о том, что потерпеть неудачу он, собственно говоря, не мог. Зато удача оказалась из ряда вон выходящей. После облегченного офицерского экзамена[503] Дантес высочайшим приказом от 8 февраля 1834 года был произведен в корнеты с зачислением в Кавалергардский полк. По рассказу А. В. Трубецкого, Николай I лично представил кавалергардам их нового товарища.
Итак, неродовитый, никому не ведомый французский барон, к тому же не прослуживший в России ни одного дня, сразу стал офицером самого блестящего полка империи, доступ в который был исключительно труден. Через полстолетия, при Александре III, брат сербского короля принц Арсений был принят в кавалергарды лишь солдатом – вольноопределяющимся.
Объяснение необыкновенной удачи Дантеса мы находим у Аммосова. По его словам, «императрице было угодно, чтобы Дантес служил в ее полку <…>». Тот же автор утверждает, что, «во внимание к его бедности, государь назначил ему от себя ежегодное негласное пособие»[504]. Надо думать, что и то и другое сообщение соответствуют истине, – в противном случае цензура в 1863 году не разрешила бы опубликовать эти сведения.
Служить в Кавалергардском полку, не имея крупных личных средств, было нельзя, а отец Дантеса мог ему высылать лишь совершенно ничтожную по русским масштабам сумму.
По всей вероятности, на первых порах в аристократическом полку на Дантеса несколько косились, несмотря на «высочайшее» покровительство. Еще до зачисления его в кавалергарды Пушкин записал в дневнике (26 января 1834 года): «Барон д’Антес и маркиз де Пина, два шуана[505], будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Однако кавалергарды быстро успокоились. Как мы видели, в полку Дантеса, несомненно, полюбили, хотя офицер он был весьма нерадивый.
Мы уже знаем, что в житейской карьере Дантеса загадок оказалось меньше, чем думали его современники. Есть в ней, однако, одно обстоятельство, которое и сейчас остается странным и не до конца объясненным. Я имею в виду всем известный факт усыновления Дантеса нидерландским посланником бароном Геккерном. В свое время министр иностранных дел Голландии Верстолк в своем отзыве (lettre d’avis) доносил королю, что весь этот случай, по существу, «странен» и «необычен во многих своих частностях»[506].
Можно считать, что таким же он остается и до настоящего времени.
Мать барона Жоржа скончалась в 1832 году, но отец был жив и, по всему судя, поддерживал с сыном вполне нормальные отношения. Между тем в начале 1836 года посланник, очень полюбивший Дантеса и поселивший офицера в своей квартире, предложил барону Жозефу-Конраду дать согласие на усыновление им, Геккерном, его сына. Отец Жоржа-Шарля с благодарностью принял это совершенно необычное предложение. Он писал: «Много доказательств дружбы, которую Вы не переставали высказывать мне столько лет, было дано мне Вами, г. барон, и это последнее как бы завершает их; ибо этот великодушный план, открывающий перед моим сыном судьбу, которой я не в силах был создать ему, делает меня счастливым в лице того, кто для меня на свете всех дороже»[507].
По словам П. Е. Щеголева, «5 мая (н. ст.) 1836 года формальности усыновления были завершены королевским актом, – и барон Жорж Дантес превратился в барона Геккерена. 4 июня генерал-адъютант Адлерберг довел до сведения вице-канцлера о соизволении, данном Николаем Павловичем на просьбу посланника барона Геккерена об усыновлении им поручика барона Дантеса, «с тем, чтобы он именуем был впредь вместо нынешней фамилии бароном Георгом-Карлом Геккереном». Соответствующие указания на этот счет были даны правительствующему сенату и командиру Отдельного гвардейского корпуса. Высочайший указ о разрешении поручику барону Дантесу именоваться бароном Геккерном последовал 15 июня 1836 года.
Казалось бы, все ясно… Неясно только, был ли внесен приемный сын посланника в число лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью, трудно совместимой с его служебным положением русского офицера. По-видимому, этого сделано не было, так как в противном случае ни арестовать, ни судить Дантеса было бы нельзя.
До сравнительно недавнего времени все считали, что усыновление, официально признанное в России, действительно состоялось. Однако подлинные документы, опубликованные в памятном 1937 году голландскими исследователями Бааком и Грюисом, показали, что Геккерн и Дантес добросовестно заблуждались. Отношений приемного отца и сына между ними никогда не существовало, так как, по формальным причинам, усыновление было невозможно.
Королевский декрет 1836 года предоставил Дантесу лишь голландское подданство, включил его в голландское дворянство и разрешил именоваться бароном ван Геккерном. Впоследствии, однако, оказалось, что подданства Дантес, опять-таки по формальным основаниям, так и не получил, хотя голландского дворянства при этом не утратил. Министр иностранных дел Голландии долго пытался распутать этот совершенно необычный случай.
Юридическая его природа для нас теперь неинтересна. Чтобы не нарушать давнишней традиции, советские и зарубежные пушкинисты по-прежнему пользуются привычным термином «усыновление».
Усыновление молодого кавалергарда иностранным посланником, в то время как было известно, что отец Дантеса здравствует, вызвало большое удивление в светском обществе Петербурга и усилило слухи об их близком родстве. Впоследствии в течение всего XIX века это мнение не раз высказывалось в русской литературе.
Некоторые из современников Дантеса считали его просто побочным сыном Геккерна. В известном письме Пушкина к посланнику, которое послужило непосредственной причиной дуэли, поэт среди ряда других эпитетов, которыми он награждает как «отца», так и «сына», называет Дантеса batard, то есть побочным сыном. По-французски, надо сказать, слово batard звучит в значительной мере оскорбительно.
Щеголев, изучив родословную барона Жоржа, показал, что никакого доказуемого родства, даже очень отдаленного, между ними не существовало. Нет и никаких фактических данных, чтобы считать Дантеса побочным сыном Геккерна.
Наталья Николаевна Пушкина и Дантес познакомились не позже осени 1834 года. Это роковое знакомство быстро перешло во взаимное увлечение. Начались настойчивые ухаживания Дантеса, которые привлекли пристальное внимание высшего общества столицы, а слух о них распространился далеко за ее пределы. Поклонников у Натальи Николаевны и прежде было множество. К числу их, несомненно, принадлежал и сам император Николай Павлович, 30 декабря 1833 года давший Пушкину не соответствовавшее его годам и общественному положению звание камер-юнкера. Эта «милость», как считал и сам поэт, была вызвана желанием царя открыть его жене доступ на придворные балы.
Судя по всему, что мы знаем, Наталье Николаевне доставляло удовольствие кокетничать с самодержцем, весьма известным ловеласом. Пушкину это крайне не нравилось.
Рассказов о любовных приключениях Николая Павловича сохранилось очень много. Есть неодобрительные упоминания о «высочайших» романах и в дневнике Фикельмон.
Никто, однако, ни в России, ни, что еще существеннее, за границей, где многие ненавидели царя-реакционера, не назвал его нарушителем семейного счастья поэта. Надо, кроме того, сказать, что в 1836 году, когда увлечение ее и Дантеса стало особенно заметным, Наталья Николаевна почти не встречалась с царем. Светское злословие было всецело занято ее отношениями с Дантесом, а вовсе не прежним кокетничанием с Николаем I.
Наступило роковое 4 ноября 1836 года. Утром сам Пушкин и ряд его друзей получили по городской почте анонимный диплом-пасквиль следующего содержания:
«Кавалеры Большого, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев[508], собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором[509] великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена.
Непременный секретарь граф И. Борх».
В 1927 году Б. В. Казанским и, независимо от него, П. Е. Рейнботом было высказано предположение о том, что авторы пасквиля (их было не менее двух) намекали на связь Натальи Николаевны не с Дантесом, а с царем. Доказательство исследователи видели в том, что в дипломе Пушкин именуется заместителем Нарышкина, мужа долголетней любовницы Александра I. Предположение о намеке по «царственной линии», впервые опубликованное Щеголевым в журнале «Огонек»[510] и затем подробно обоснованное в третьем издании его книги, и сейчас разделяют многие видные пушкинисты.
Доказанным его все же считать нельзя. Авторы пасквиля просто могли воспользоваться фамилией всем известного рогоносца Нарышкина, присвоив ему звание «великого магистра» ордена, в который зачислялся Пушкин в качестве обманутого мужа.
Так, видимо, понял диплом и Пушкин. Во всяком случае, четвертого ноября он послал Дантесу немотивированный вызов на дуэль[511]. Поэт, очевидно, считал, что кавалергард и так поймет, почему его зовут к барьеру.
Вызов, посланный по почте (текст его неизвестен), попал в тот же день в руки посланника Геккерна, и тот, ничего не говоря сыну, бросился к Пушкину. Он заявил поэту, что принимает вызов за барона Жоржа, но просит отсрочки на 24 часа. Геккерн, видимо, надеялся, что Пушкин, обсудив дело спокойнее, не будет настаивать на поединке. Шестого ноября посланник снова был у Пушкина. Как писал впоследствии П. А. Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, поэт, тронутый волнением и слезами Геккерна, сам предложил отсрочить дуэль на две недели.
Волнение Геккерна понять легко. Весьма возможно, что он знал об умении поэта мастерски владеть оружием. Пушкин был превосходным фехтовальщиком и из пистолета стрелял отлично[512]. Его противнику грозила смертельная опасность.
Труднее понять согласие Пушкина на отсрочку. Похоже на то, что, несколько успокоившись, он подумал о том, что неизвестно кем нанесенное оскорбление в конце концов не основание для дуэли, которая при любом исходе тяжело скомпрометирует Наталью Николаевну.
Во всяком случае, отсрочка была дана. Начались длительные и очень сложные переговоры, в которых участвовали посланник Геккерн, В. А. Жуковский и тетка Натальи Николаевны фрейлина Е. И. Загряжская. Все они старались предотвратить дуэль. Вскоре выяснилось совершенно новое обстоятельство: Дантес собирается жениться на сестре Натальи Николаевны – Екатерине Николаевне.
К этой загадочной главе дуэльной истории мы еще вернемся. Пока скажем, что посредникам удалось в конце концов добиться от Пушкина письма от 17 ноября 1836 года на имя своего секунданта графа В. А. Соллогуба, в котором поэт заявил:
«Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Ж. Геккерна на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела соблаговолить рассматривать этот вызов как не имевший места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадмуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека.
Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом так, как вы сочтете уместным»[513].
Виконт д’Аршиак, секундант Дантеса, искренне стремившийся предотвратить поединок, не показывая письма барону Жоржу, сказал: «Этого достаточно».
Крайне удивившая светское общество свадьба была объявлена на балу у С. В. Салтыкова 17 ноября. Она состоялась 10 января 1837 года.
Я остановился подробнее на некоторых существенных сторонах истории дуэли, которые в дневнике Фикельмон или обойдены молчанием, или изложены неверно.
Поведение Дантеса после свадьбы, его возобновившиеся, ставшие наглыми ухаживания за женой Пушкина описаны графиней достоверно и точно. Указывает она и на непосредственный повод к поединку.
Выведенный из себя, Пушкин отправил посланнику 25 января предельно грубое и оскорбительное письмо, которое сделало поединок неизбежным. 26 января атташе французского посольства виконт Огюст д’Аршиак передал поэту вызов Дантеса. Дуэль состоялась на другой день.
29 января в 2 часа 45 минут пополудни смертельно раненный поэт после тяжких двухдневных страданий отошел в вечность.
III
Перейдем теперь к тексту записи Д. Ф. Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина, который в ее дневнике занимает 11 страниц (350–360) второй тетради.
Установить его удалось не сразу. Как сообщил мне в свое время князь А. Кляри-и-Альдринген, по обстоятельствам военного времени сам он не имел возможности заняться снятием копии и был принужден поручить ее изготовление лицу, недостаточно знавшему французский язык. Полученная мною машинопись изобиловала ошибками, которых Дарья Федоровна, несомненно, сделать не могла.
Оставив в неприкосновенности этот исходный документ, лишь отчасти исправленный кн. Кляри, я совместно с моей помощницей ученым-француженкой попытался восстановить текст записи Фикельмон, который был затем перепечатан на машинке в нескольких экземплярах.
Один из них поступил впоследствии в Пушкинский дом и был опубликован Е. М. Хмелевской вместе с переводом, сделанным Е. П. Мясоедовой[514]. По сложившимся обстоятельствам я не мог принять участия в этой публикации и ознакомился с ней лишь позднее.
Вскоре А. В. Флоровский опубликовал в пражском издании «Slavia» французский текст записи по подлиннику дневника. К сожалению, из печати он вышел в совершенно искаженном виде[515]. Авторской корректуры, по-видимому, сделано не было.
Н. В. Измайлов указал на ряд расхождений между текстами, опубликованными в Пушкинском сборнике и в «Slavia». Он дал также перевод той части записи, которая вовсе отсутствовала в копии Кляри[516].
Не решаясь вносить изменения в перевод Е. П. Мясоедовой на основании крайне неисправного текста «Slavia», я в своей книге снова воспроизвел в 1965 году текст Пушкинского сборника, но присоединил к нему отрывок, переведенный Н. В. Измайловым[517].
Благодаря тому, что из Праги мне была прислана позднее фотокопия записи, явилась наконец возможность установить надежный текст документа. Я счел излишним переводить его заново, так как перевод Е. П. Мясоедовой уже вошел в научный оборот. Ознакомившись с фотокопией, я внес в него лишь те изменения и дополнения, которые, на мой взгляд, являлись совершенно необходимыми. После этой правки русский перевод записи принял следующий вид:
«29 января 1837 г.
Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина, этот прекрасный талант, полный творческого духа и силы! И какая печальная и мучительная катастрофа заставила угаснуть этот прекрасный, сияющий светоч, которому как будто предназначено было все сильнее и сильнее освещать все, что его окружало, и который, казалось, имел перед собой еще долгие годы!
Александр Пушкин[518], вопреки советам всех своих друзей, пять лет тому назад вступил в брак, женившись на Наталье Гончаровой, совсем юной, без состояния и необыкновенно красивой. С очень поэтической внешностью, но с заурядным умом; и характером, она с самого начала заняла в свете место, подобавшее такой неоспоримой красавице. Многие несли к ее ногам дань своего восхищения, но она любила мужа и казалась счастливой в своей семейной жизни. Она веселилась от; души и без всякого кокетства, пока один француз, по фамилии Дантес, кавалергардский офицер, усыновленный голландским посланником Геккерном, не начал за ней ухаживать. Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме. Но он постоянно встречал ее в свете и вскоре в тесном дружеском кругу стал более открыто проявлять свою любовь. Одна из сестер госпожи Пушкиной, к несчастью, влюбилась в него и, быть может, увлеченная своей любовью, забыла обо всем том, что могло из-за этого произойти для ее сестры; эта молодая особа учащала возможности встреч с Дантесом; наконец, все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза! То ли тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце, – как бы то ни было, она не могла больше отвергать или останавливать проявления этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность благоразумного человека, вопреки всем светским приличиям, обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине. Казалось при этом, что она бледнеет и трепещет под его взглядами, но было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека, и он был решителен в намерении довести ее до крайности. Пушкин тогда совершил большую ошибку, разрешая своей молодой и очень красивой жене выезжать в свет без него. Его доверие к ней было безгранично, тем более что она давала ему во всем отчет и пересказывала слова Дантеса – большая, ужасная неосторожность! Семейное счастье уже начало нарушаться, когда чья-то гнусная рука направила мужу анонимные письма, оскорбительные и ужасные, в которых ему сообщались все дурные слухи, и имена его жены и Дантеса были соединены с самой едкой, самой жестокой иронией. Пушкин, глубоко оскорбленный, понял, что, как бы он лично ни был уверен и убежден в невинности своей жены, она была виновна в глазах общества, в особенности того общества, которому его имя дорого и ценно. Большой свет видел все и мог считать, что само поведение Дантеса было верным доказательством невинности г-жи Пушкиной, но десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья. Он написал Дантесу, требуя от него объяснений по поводу его оскорбительного поведения. Единственный ответ, который он получил, заключался в том, что он ошибается, так же, как и другие, и что все стремления Дантеса направлены только к девице Гончаровой, свояченице Пушкина. Геккерн сам приехал просить ее руки для своего приемного сына. Так как молодая особа сразу приняла это предложение, Пушкину нечего было больше сказать, но он решительно заявил, что никогда не примет у себя в доме мужа своей свояченицы. Общество с удивлением и недоверием узнало об этом неожиданном браке. Сразу стали заключаться пари в том, что вряд ли он состоится и что это не что иное, как увертка. Однако Пушкин казался очень довольным и удовлетворенным. Он всюду вывозил свою жену: на балы, в театр, ко двору, и теперь бедная женщина оказалась в самом фальшивом положении. Не смея заговорить со своим будущим зятем, не смея поднять на него глаза, наблюдаемая всем обществом, она постоянно трепетала; не желая верить, что Дантес предпочел ей сестру, она по наивности или, скорее, по своей удивительной простоте спорила с мужем о возможности такой перемены в сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из одного тщеславия. Пушкин не хотел присутствовать на свадьбе своей свояченицы, ни видеть их после нее, но общие друзья, весьма неосторожные, надеясь привести их к примирению или хотя бы к сближению, почти ежедневно сводили их вместе. Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования. Наконец на одном балу он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, а решение Пушкина было с тех пор принято окончательно. Чаша переполнилась, больше не было никакого средства остановить несчастие. На следующий же день он написал Геккерну-отцу, обвиняя его в сообщничестве, и вызвал его в весьма оскорбительных выражениях. Ответил ему Дантес, приняв на себя вызов за своего приемного отца. Этого-то и хотел Пушкин. В несколько часов все было устроено: г. д’Аршиак из французского посольства стал секундантом Дантеса, а бывший школьный товарищ Пушкина по фамилии Данзас – его секундантом. Все четверо поехали на острова, и там, среди глубокого снега, в пять часов пополудни состоялась эта ужасная дуэль. Дантес выстрелил первый, Пушкин, смертельно раненный, упал, но все же имел силы целиться в течение нескольких секунд и выстрелить в него. Он ранил Дантеса в руку, видел, как тот пошатнулся, и спросил: «Он убит?» – «Нет», – ответили ему. «Ну, тогда придется начать все снова». Его перевезли домой, куда он прибыл, чувствуя себя еще довольно крепким. Он попросил жену, которая подошла к двери, оставить его ненадолго одного. Послали за докторами. Когда они прозондировали рану, он захотел узнать, смертельна ли она. Ему сказали, что на сохранение его жизни очень мало надежды. Тогда он послал за своими близкими друзьями: Жуковским, Вяземским, Тургеневым и некоторыми другими. Он написал императору, поручая ему свою жену и детей. После этого он разрешил войти своей глубоко несчастной жене, которая не хотела ни поверить своему горю, ни понять его. Он повторял ей тысячу раз, и все с возрастающей нежностью, что считает ее чистой и невинной, что должен был отомстить за свою поруганную честь, но что он сам никогда не сомневался ни в ее любви, ни в ее добродетели. Когда пришел священник, он исповедался и исполнил все, что полагалось».
Далее в записи следует панегирик Николаю I, который мы опускаем.
Затем Фикельмон продолжает:
«Агония продолжалась 36 часов. В течение этих ужасных часов он ни на минуту не терял сознания. Его ум оставался светлым, ясным, спокойным. Он говорил о дуэли только для того, чтобы получить от своего секунданта обещание не мстить за него и чтобы передать своим отсутствующим шурьям запрещение драться с Дантесом. К тому же все, что он сказал своей жене, было ласково, нежно, утешительно. Он ни от кого ничего не принимал, кроме как из ее рук. Обернувшись к своим книгам, он им сказал: «Прощайте, друзья!» Наконец он как бы заснул, произнеся слово «Кончина!»[519] – «Все кончено». Жуковский, который любил его, как отец, и все эти часы сидел около него, рассказывает, что в это последнее мгновение лицо Пушкина как бы озарилось новым светом, а в серьезном выражении его лица было словно удивление, точно он увидел нечто великое, неожиданное и прекрасное. Эта очень поэтическая мысль достойна чистой, невинной, глубоко верующей, ясной души Жуковского!
Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и глубокое отчаяние.
* * *
Дантес, после того как его долго судили, был разжалован в солдаты и выслан за границу; его приемный отец, которого общественное мнение осыпало упреками и проклятиями, просил отозвать его и покинул Россию – вероятно, навсегда. Но какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину? Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили, – все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцами в эту ужасную и безрасчетную игру! Мы видели, как эта роковая история начиналась среди нас, подобно стольким другим кокетствам, мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, делалась такой горестной, – она должна была бы стать большим и сильным уроком несчастий, к которым могут привести непоследовательность, легкомыслие, светские толки и неосторожные поступки друзей, но кто бы воспользовался этим уроком? Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму!
* * *
Печальна эта зима 1837 года, похитившая у нас Пушкина, друга сердца маменьки, и затем у меня Ричарда Артура (?)[520], друга, брата моей молодости, моей счастливой и прекрасной неаполитанской молодости! Он скончался в Париже от последствий гриппа, оставив молодую прелестную жену, двухлетнего сына и бедную безутешную мать! Он был провидением своей многочисленной семьи и всех своих друзей – благородное и большое сердце, рыцарский и чистый характер, способный на редкую и драгоценную дружбу, характер, какой можно встретить только по особой милости бога! Его место в моем сердце останется пустым – так же, как и место Адели![521] Это два листа книги моей жизни, которые закрылись навсегда!»
Запись Фикельмон состоит из трех частей, которые графиня отделила чертами. Написаны они разновременно и разными перьями. Первая, самая обширная, занимает в подлиннике девять страниц, вторая и третья являются небольшими приписками.
Основная часть записи датирована днем смерти поэта. Н. В. Измайлов, вероятно, прав, допуская, что 29 января графиня, возможно, начала черновик своего рассказа о дуэли и смерти поэта. Однако текст обработан очень тщательно, и, на мой взгляд, трудно допустить, чтобы Дарья Федоровна, несомненно, взволнованная смертью Пушкина, могла 29 января писать о его трагедии такими гладкими литературными фразами. О том же говорит ее почерк, как всегда ровный и четкий. Слова выписаны тщательно, и повествование о дуэли и смерти поэта разбирать легче, чем некоторые другие страницы дневника, несомненно, написанные прямо набело. Помарок почти нет. Только описывая поединок и, в особенности, поведение смертельно раненного Пушкина, когда его привезли домой, Долли Фикельмон, по-видимому, сильно волновалась. Слова «Тогда он послал за ближайшими друзьями: Жуковским, Вяземским, Тургеневым и некоторыми другими»[522] и т. д. написаны с необычными для нее нажимами, некоторые буквы расплываются. Вряд ли тут виновато перо…
Короткая вторая часть (одна страница), несомненно, написана значительно позже, так как в ней упоминается об отъезде из Петербурга посланника Геккерна, покинувшего столицу 18 апреля.
Третья часть – это еще более короткая приписка (всего две трети страницы), снова сделанная другим пером. А. В. Флоровский в своей публикации ее опустил, приведя лишь начальную фразу.
Общий тон записи, за исключением начала и, в особенности, второй части, чрезвычайно сдержанный. О своих личных переживаниях в связи со смертью поэта Дарья Федоровна не говорит ничего, хотя, конечно, она о многом передумала и многое перечувствовала в те траурные дни. Семь с лишним лет знакомства, долгая дружба, пусть короткое, но все же увлечение гениальным человеком…
Ее мать могла войти в кабинет Пушкина и при всех опуститься на колени перед умирающим гением. Жена австрийского посла не могла себе этого позволить… На отпевании она была вместе с мужем, который явился в Конюшенную церковь в полной парадной форме фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии, но об этом мы знаем из других источников. Сама графиня Долли о прощании с прахом великого друга не сказала ничего.
Донесение ее мужа канцлеру Меттерниху о дуэли и смерти Пушкина[523] проникнуто сочувствием к погибшему поэту, но очень кратко и также весьма сдержанно, хотя граф Фикельмон знал покойного ближе, чем кто-либо из дипломатов, аккредитованных в Петербурге. Возможно, что он считался с реакционными настроениями своего начальника*. 2—14 февраля посол писал ему: «Вчера здесь хоронили г. Александра Пушкина, выдающегося писателя и первого поэта России. Император приказал ему поселиться в Петербурге, поручив ему написать историю Петра Великого; для этой цели в его распоряжение были предоставлены архивы империи.
Г. Пушкин был убит на дуэли офицером Кавалергардского полка бароном Дантесом, покинувшим Францию вследствие революции 1830 года. Это обстоятельство вместе с солидными рекомендациями обеспечили ему благосклонный прием; император отнесся к нему милостиво. Геккерн привязался к молодому человеку; есть какая-то тайна в поводах, побудивших его усыновить молодого человека, передать ему свое имя и состояние.
У г. Пушкина была молодая, необыкновенно красивая жена, которая подарила ему уже четверых детей. Раздражение против Дантеса за то, что преследовал молодую женщину своими ухаживаниями, привело к вызову на дуэль, жертвою которой пал г. Пушкин. Он прожил 36 часов после того, как был смертельно ранен»[524].
Остальная часть донесения посвящена «благодеяниям» Николая I и интереса не представляет.
Начало записи графини Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина, взволнованное и искреннее, отличается по своему тону от остального текста. Можно думать, что именно эти строки, по крайней мере начерно, графиня написала тотчас же по получении известия о смерти поэта. Прекрасно сравнение Пушкина с сияющим светочем, который озарял все окружающее. Но уже самые первые слова дают тон всему дальнейшему содержанию. «Сегодня Россия потеряла Пушкина…» Россия, а не Дарья Федоровна Фикельмон… Только по контексту можно понять, что угасший светоч озарял и ее. Днем позже вдова Карамзина, Екатерина Андреевна, написала сыну замечательное по глубине и искренности письмо (против обыкновения по-русски): «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию: закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина!»[525]
И у нее ощущение погасшего источника света, и она говорит о великой потере для родины, но не скрывает и своих слез, своего личного горя.
Мы не знаем, плакала ли тайком от всех Долли Фикельмон. На людях, наверное, нет, а в дневнике, как я уже упомянул, нет ни слова о том, как она лично переживала кончину поэта. В целом полтораста примерно строк основной части ее повествования – это своего рода памятная записка о дуэли и смерти Пушкина, предназначенная для потомства, может быть, и для истории, но не интимная запись для себя.
Эта записка распадается на две далеко не равноценные части. Весь преддуэльный период графиня излагает в основном как непосредственная свидетельница. И Пушкина, и Наталью Николаевну, и Дантеса она знала близко, постоянно с ними встречалась и своими глазами наблюдала все развитие драмы. Каждое ее замечание, каждое слово ценно, а порой и драгоценно.
О самой дуэли и о кончине поэта Фикельмон пишет с чужих слов, главным образом, по-видимому, со слов Жуковского. Новых данных в этой части записи почти нет, но мы лишний раз узнаем от достоверной свидетельницы о том, что именно говорил Василий Андреевич о последних днях и часах своего друга вскоре после того, как Пушкина не стало.
Тщательно обработанная запись графини Долли содержит в сжатой форме многочисленные высказывания о людях и событиях.
Несмотря на сдержанный тон повествования, искреннее сочувствие к погибшему поэту ощущается от начала до конца записи. Но даже в скорби интеллект Дарьи Федоровны, как всегда, ясен и точен. Фикельмон, повторяю, всей душой на стороне Пушкина, но это не мешает ей видеть его житейские ошибки.
Самая большая из них – это женитьба. Не женитьба на Наталье Николаевне Гончаровой, а женитьба вообще. Графиня упоминает о том, что Пушкин женился вопреки мнению всех своих друзей. Если не все, то многие из них действительно считали его человеком, не созданным для семейной жизни. Как мы знаем, П. А. Вяземский, например, долго не хотел верить, что Пушкин собирается жениться. Мать графини Фикельмон, Елизавета Михайловна Хитрово, находила, в свою очередь, что женитьба поэта мешает его творчеству. «Я опасаюсь для вас прозаической стороны супружества…» – писала она.
Д. Ф. Фикельмон, можно думать, разделяла мнение матери, Вяземского и других верных друзей Пушкина о том, что жениться ему не следовало. Она вспомнила о былых разговорах и опасениях в те дни, когда семейная драма поэта закончилась его смертью.
Графиня, как и раньше, говорит об исключительной красоте Натальи Пушкиной. Считает естественным, что жена поэта заняла блестящее положение в обществе.
Зато к духовным качествам Натальи Николаевны она относится очень критически. Я привел уже ее мнение о том, что у Пушкиной не много ума. Оно было высказано еще в сентябре 1832 года. В дуэльной записи отзыв графини об уме и характере жены поэта тоже довольно пренебрежителен: она считает слабым и тот и другой.
Ряд других современников в связи с ролью Натальи Николаевны в дуэльной истории отозвался об ее умственных способностях гораздо резче.
Хотя отзыв Фикельмон не так суров, но и он несправедлив. Мы видели, что жена поэта была неглупой женщиной. Что же касается характера Натальи Николаевны, то, быть может, Долли Фикельмон и здесь не совсем права. Судя по всем данным, Наталья Николаевна была очень мягка в обращении с людьми, но эта мягкость сочеталась у нее с весьма настойчивым и энергичным характером.
Об Александре Николаевне Гончаровой Фикельмон вовсе не упоминает. К старшей Гончаровой, Екатерине Николаевне, у автора записи отношение насмешливое и слегка презрительное. Мастерски владея французской фразой, Дарья Федоровна находит для немолодой уже барышни[526] слова и обороты, в которых немало тонкого яда (в переводе он чувствуется не так ясно). В безответной, слепой влюбленности Екатерины Николаевны никакой романтической красоты она не находит. Французскому слову «s’engouer», которым Фикельмон определяет чувство старшей Гончаровой к Дантесу, довольно точно соответствует грубоватое русское «втюриться». В другом месте, рассказывая о предложении Дантеса, Дарья Федоровна говорит, что «молодая особа» сразу его приняла. По-французски, особенно на языке того времени, в выражении «молодая особа» тоже есть насмешливая ирония, когда речь идет о девице без малого тридцатилетней. (Интересно отметить, что в метрической книге Исаакиевского собора в записи о бракосочетании Гончаровой и Дантеса лета невесты уменьшены на два года.)
В общем, строки, посвященные Екатерине Николаевне, позволяют думать, что для Фикельмон она была комическим персонажем трагедии. Однако в данном случае с Дарьей Федоровной Фикельмон мы согласиться не можем. Несмотря на свою замечательную наблюдательность и умение разбираться в людях и событиях, умения, граничившего с прозорливостью, на этот раз она сильнейшим образом ошиблась.
Письма Екатерины Николаевны к брату Дмитрию за то время, когда развивался роман Натальи Николаевны с Дантесом, показывают, что в развертывающейся трагедии старшая Гончарова играла, правда, жалкую, но, несомненно, трагическую роль.
10 ноября, когда Пушкину уже стало известно от Жуковского со слов посланника Геккерна, что Дантес намерен жениться на Екатерине Николаевне, она пишет брату Дмитрию:
«…счастье мое уже безвозвратно утеряно, я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле, и единственная милость, которую я прошу у Бога, это положить конец жизни столь мало полезной, если не сказать больше, как моя. Счастье для всей моей семьи и смерть для меня – вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю Всевышнего».
Если бы содержание этого письма стало известно графине Фикельмон, она, вероятно, написала бы о предельно несчастной Екатерине Николаевне другие строки.
Глубоко драматичны, по существу, и ее письма из-за границы, хотя она тщетно старается дать понять родным, что счастлива и довольна своей новой жизнью. В действительности, оказавшись на чужбине, Екатерина Николаевна искренне тоскует по Родине, от которой оторвана навсегда, несомненно тоскует по своей гончаровской семье, отвернувшейся к тому же от нее из-за мужа – убийцы Пушкина. Почти в каждом письме Екатерины Николаевны брату Дмитрию эта тоска чувствуется очень сильно.
«Я иногда переношусь мысленно к вам, – писала Екатерина Николаевна брату, – и мне совсем не трудно представить, как вы проводите время, я думаю, на Заводе изменились только его обитатели. Уверяю тебя, дорогой друг, все это меня очень интересует, может быть, больше, чем ты думаешь, я по-прежнему очень люблю Завод.
…Если наша переписка будет идти так, как сейчас, то в конце концов мы совсем перестанем писать друг другу, а это меня очень опечалило бы. Ты – совсем другое дело, так как ты живешь среди того, что тебе дорого, а я так оторвана от моей семьи, что если кто-либо из вас хоть иногда не смилостивится надо мной и не напишет, я и совсем не буду знать, живы вы или нет, а ведь не так легко отказаться от всего того, чем так привыкла дорожить с раннего детства.
…Я в особенности хочу, чтобы ты был глубоко уверен, что все то, что мне приходит из России, всегда мне чрезвычайно дорого и что я берегу к ней и ко всем вам самую большую любовь. Voila une profession de foi!»[527]
Несомненно и, вероятно, сильнее всего ее тяготило сознание того, что она нелюбима человеком, которого сама горячо любит. Свою семью она потеряла, в семью Дантесов вошла как чужая, – невольно посочувствуешь судьбе этой женщины. О том, как мучительно умирала Екатерина Николаевна, которую, помимо тяжкой болезни, мучили какие-то «моральные причины», мы уже упоминали. И на смертном одре ее, вероятно, терзала мысль о тяжелом положении Гончаровых, и прежде всего любимого брата Дмитрия, мысль, которая не позволяла умирающей выдать мужу какой-либо документ, связывающий брата. Это, конечно, лишь предположение. В данном случае я разделяю мнение Ободовской и Дементьева, которые пишут: «О каких моральных причинах, так повлиявших на течение болезни Екатерины Николаевны, умалчивает врач – мы не знаем и, вероятно, не узнаем никогда. Требовали ли Дантесы от умирающей какого-нибудь документа или письма, связанного с задолженностью брата? Или хотели заставить ее принять католичество? Кто знает?» «Она принесла в жертву свою жизнь вполне сознательно, – говорит Метман. – Ни одной жалобы не слетело с ее уст во время агонии».
В первом издании книги «Портреты заговорили» я привел широко распространенное мнение о том, что Екатерина Николаевна приняла католичество. Письмо Луи Геккерна Дмитрию Николаевичу Гончарову от 21 октября 1843 года, в котором он извещает последнего о смерти его, сестры, показывает, что Екатерина Николаевна до конца жизни оставалась православной: «Она получила необходимую помощь, которую наша церковь могла оказать ее вероисповеданию».
Из трех сестер Гончаровых до самого последнего времени наименее ясным представлялся нам облик старшей Гончаровой. Обнаруженные письма сестер к брату Дмитрию, а также письма из-за границы дают много нового для понимания личности Екатерины Николаевны.
Старшая Гончарова, несомненно, была так же, как и ее сестры, духовно привлекательным человеком, остроумной, наблюдательной, склонной к тонкой иронии.
Кроме того, у нее, несомненно, были ярко выраженные литературные интересы. В свое время полной неожиданностью явилось обнаружение в архиве Дантесов в г. Сульце двух альбомов Екатерины Николаевны, заполненных стихами русских поэтов, которые она собственноручно переписала. По словам французского пушкиниста Андре Менье (André Meynieux), опубликовавшего предварительное сообщение об этой находке[528], теперешний владелец архива барон Клод Геккерн-Дантес дружески предоставил в распоряжение автора «часть реликвий, оставленных его прабабкой, реликвий, которые представляют несомненный интерес для историка литературного общества этой эпохи»[529]. В антологиях Е. Н. Гончаровой, составленных ею, по-видимому, целиком в Полотняном Заводе еще до переезда в Петербург, произведений Пушкина имеется только четыре. Полностью переписан «Домик в Коломне». Приведены три стихотворения – «Письмо к Лиде» (у Гончаровой «К Лиденьке»), «Желание славы» и не указанная Менье «Епиграмма». Надо заметить, что «Письмо к Лиде» при жизни Пушкина не печаталось.
В одном из альбомов 132 страницы мелкого почерка заняты «Горем от ума». В свои сборники Екатерина Николаевна включила стихотворения почти всех знаменитых и крупных поэтов того времени, в том числе четыре произведения казненного Рылеева.
Нельзя не согласиться с мнением А. Менье, который считает, что, судя по ее альбомам, Екатерина Гончарова представляется «без всякого сомнения девушкой культурной, хорошо разбирающейся в поэзии и далеко не лишенной вкуса».
Кто знает, быть может, она вела дневник, и он также найдется в Сульце…
Некоторые места ее писем говорят, что ум у этой барышни был весьма самостоятелен, а убеждения фрейлины Гончаровой не особо верноподданнические. Рассказывая в одном из писем о последних новостях, она тонко иронизирует по поводу рождения «еще одного бесполезного украшения для гостиных» – дочери великого князя Михаила Павловича.
Приходится пожалеть о том, что Екатерина Николаевна, как и ее сестры, писала свои письма по-французски, только иногда вкрапляя в них русские, довольно образные и остроумные фразы. Тем не менее родной язык эта барышня, получившая по преимуществу французское образование, видимо, знала превосходно. Переписать вполне грамотно такой длинный и сложный текст, как «Горе от ума», в то время еще не изданный, не обладая сильно развитым чувством языка, было бы невозможно*.
Екатерина Николаевна, несомненно, не принадлежала к тем женщинам, о которых Пушкин сказал, что они,
…русским языком Владея слабо и с трудом, Его так мило искажали, И в их устах язык чужой Не обратился ли в родной?Нам остается сказать несколько слов о внешности Екатерины Николаевны. К сожалению, портретов ее опубликовано совсем немного, а сведения современников очень противоречивы. На известном портрете Екатерины Николаевны во весь рост она выглядит умной, но несколько суховатой – такой она, по-видимому, была и в действительности. Екатерина Николаевна далеко не обладала той душевной щедростью, которой так богато была наделена младшая Гончарова.
Не была она и так красива, как Натали, – быть может, она казалась бы красивой, не будь у нее такой красавицы сестры. В данном случае можно понять довольно злоязычный отзыв Софи Карамзиной, которая писала о них так: «…кто смотрит на посредственную живопись, если рядом Мадонна
Рафаэля?»[530]
Однако у той же Софи Карамзиной не было устоявшегося мнения о внешности трех сестер Гончаровых. В одном из писем она говорит о них так: «…среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровы (все три ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями)»[531].
Мне кажется, что ближе всего к истине мнение сестры поэта О. С. Павлищевой: «Они красивы, эти невестки, но ничто в сравнении с Наташей»[532].
Как и все светские барышни, Екатерина Николаевна бывала на балах, но не особенно их любила. Ей больше нравилось бывать в доме Вяземских или Карамзиных, что, возможно, больше отвечало ее литературным интересам. Своей гувернантке Нине она пишет: «…здесь дают балы решительно каждый день, и ты видишь, что если бы мы хотели, мы могли бы это делать, но, право, это очень утомительно и скучно, потому что если нет какой-нибудь личной заинтересованности, нет ничего более пошлого, чем бал. Поэтому я несравненно больше люблю наше интимное общество у Вяземских и Карамзиных, так как если мы не на балу или в театре, мы отправляемся в один из этих домов и никогда не возвращаемся раньше часу»[533].
Все, что мы сказали о Екатерине Николаевне, еще раз заставляет нас повторить, что с ироническим отношением Долли Фикельмон к ней согласиться никак нельзя.
…Остаются еще Дантес и Геккерн. К барону Жоржу Фикельмон, несомненно, враждебна, гораздо более враждебна, чем большинство людей ее круга. В ее записи, когда речь идет о Дантесе, чувствуется и огорчение и большая личная антипатия. Мы увидим в дальнейшем, что и ряд лет спустя графиня не переменила своего отношения к убийце Пушкина.
В дневниковой записи Дарья Федоровна ни словом не упоминает о своих прошлых добрых отношениях с молодым кавалергардом. Бывал ли он в салоне Фикельмон в последние преддуэльные годы, мы не знаем. Похоже на то, что не бывал[534]. Однако в первой по времени книжке о дуэли и смерти Пушкина, составленной, как известно, со слов секунданта поэта К. К. Данзаса, есть упоминание о том, что Дантес приехал в Россию, «снабженный множеством рекомендательных писем». «В числе этих писем было одно к графине Фикельмон, пользовавшейся особенным расположением покойной императрицы. Этой-то даме Дантес обязан началом своих успехов в России. На одном из своих вечеров она представила его государыне, и Дантес имел счастье обратить на себя внимание ее величества»[535].
Далеко не все сведения, приведенные Аммосовым, достоверны. Непосредственно за цитированными строками следует, например, рассказ о первой встрече будущего убийцы Пушкина с императором Николаем I в мастерской художника Ладюрнера (Ladurnère), но этой истории пушкинисты веры не придают.
Можно, однако, думать, что в отношении покровительства Дантесу рассказчик не ошибся. Дневник и письма Дарьи Федоровны показывают, что она сама и ее сестра любили опекать молодых людей, начинавших светскую карьеру.
Кроме того, сестра Долли, камер-фрейлина графиня Е. Ф. Тизенгаузен, которой в это время было всего 60 лет, несомненно, прочла наделавшую много шума брошюру Аммосова. Если бы его рассказ о покровительстве Дарьи Федоровны Дантесу был напраслиной, Тизенгаузен, вероятно, так или иначе бы опровергла.
Опровержения не последовало – ни тогда, ни впоследствии.
Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что лицо, снабдившее барона Жоржа письмом к Д. Ф. Фикельмон, – это все тот же покровитель Дантеса принц Вильгельм Прусский. Его отец, король Фридрих-Вильгельм III (1770–1840), был издавна близок к семейству Хитрово-Тизенгаузен и, по некоторым сведениям, в 1824 году даже собирался жениться на сестре графини Долли.
Сам принц Вильгельм, по-видимому, передал в 1825 году Е. М. Хитрово на воспитание своего внебрачного сына, которого она привезла в Россию*.
Очень поэтому вероятно, что, направляя Дантеса в Россию, принц рекомендовал его не только генералу Адлербергу, но и своей доброй знакомой, графине Фикельмон, а та действительно в какой-то мере помогла его первым светским успехам.
Ничего предосудительного в этом, конечно, не было. Не могла же Фикельмон в самом деле предвидеть в конце 1833 или начале 1834 года, что Дантес станет убийцей Пушкина. Винить себя графине было не в чем, но все же, вероятно, она с тяжелым чувством вспомнила о своих хлопотах.
О посланнике Геккерне в связи с дуэльной историей Дарья Федоровна упоминает очень глухо. По ее словам, Пушкин обвинил Геккерна в сообщничестве с Дантесом «и вызвал его в весьма оскорбительных выражениях». Последнее, как мы знаем, неверно. Письмо Пушкина действительно было такое, что кровавая развязка стала неизбежной, но вызова оно не содержало. Во второй части записи, составленной не раньше, чем через два с половиной месяца после основного текста, Дарья Федоровна говорит о том, что общественное мнение осыпало Геккерна-отца «упреками и проклятиями», и он, попросив об отозвании, «покинул Россию – вероятно, навсегда».
Вот и все – ни слова о подлинной роли Геккерна-отца в дуэльной истории, о своем отношении к нему. Снова досадное умолчание, причины которого объяснить не берусь. Ведь не постеснялась же графиня Фикельмон, как уже было упомянуто, назвать в том же дневнике Геккерна шпионом министра иностранных дел Нессельроде, а царя – деспотом за его расправу с побежденными поляками.
Между тем о подлинной роли Геккерна Фикельмон, несомненно, знала многое, а эта роль и до сих пор остается одной из загадок дуэльной драмы.
Дарье Федоровне не могло не быть известно, почему общественное мнение осыпало голландского посланника «упреками и проклятиями». Его обвиняли, как обвинял и Пушкин, в составлении диплома-пасквиля и в сводничестве. Геккерн энергично защищался в письмах к министру иностранных дел Нессельроде, доказывал нелепость этих обвинений.
Надо сказать, что в отношении диплома он, судя по всему, был прав. Пасквиль в то время был понят многими как намек на связь Пушкиной с Дантесом, и не мог же Геккерн не сознавать, что рассылка его неизбежно приведет к дуэли.
Вряд ли можно согласиться и с предположением Щеголева о том, что Геккерн мог быть причастен к составлению диплома, направленного по «царственной линии». Опытный дипломат, к тому же очень дороживший своим местом, никогда бы не решился на подобную проделку, оскорбительную для монарха, при котором он был аккредитован. Об отличной осведомленности русского Третьего отделения он, прожив в Петербурге четырнадцать лет (с 1823 года), надо думать, тоже имел ясное представление.
Судя по всем данным, Геккерн – человек злой, аморальный, но, несомненно, умный. Подлость он сделать мог, вопиющую глупость – нет…
И все же в результате дуэли он лишился своего насиженного места, лишился с большим скандалом. Оставаться посланником в России после гибели Пушкина приемный отец убийцы, конечно, не мог. Так считали и его коллеги по дипломатическому корпусу.
Однако, будь он лично ни в чем не виноват, ему бы предоставили возможность уехать с почетом. Между тем Николай I, который, конечно, был очень хорошо осведомлен обо всем этом деле, нанес голландскому посланнику несомненное оскорбление. Он отказался дать ему аудиенцию и прислал табакерку, положенную, по обычаю, послам, окончательно покидающим свой пост, хотя официально барон уезжал только в отпуск. Этим дело не ограничилось.
В письме к принцу Вильгельму Оранскому, в то время наследнику нидерландского престола (он был женат на сестре Николая I великой княжне Ольге Павловне), царь, очевидно, так отозвался о посланнике, что, вернувшись на родину, Геккерн не получил никакого нового назначения и пять лет находился не у дел.
К сожалению, несмотря на содействие русского министерства иностранных дел, П. Е. Щеголеву не удалось разыскать этого чрезвычайно важного документа, отправленного с курьером в Гаагу 22 февраля 1837 года[536]. Содержание его остается неизвестным и до настоящего времени.
В своем позднем (1887 года) письме к А. П. Араповой – дочери Натальи Николаевны от второго брака, – составленном совместно с Александрой Николаевной, барон Фризенгоф сообщает:
«Старый Геккерн написал вашей матери письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына. Александрина вспоминает, что ваша мать отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это устно или письменно»[537].
Через 50 лет после событий А. Н. Фризенгоф-Гончарова, видимо, вспомнила о том, что Геккерн-отец пытался помочь любовным домогательствам приемного сына, но потерпел неудачу. Однако упоминание о письме посланника, в котором он якобы убеждал Наталью Николаевну оставить мужа и выйти замуж за Дантеса, – это упоминание, можно думать, является одной из ошибок памяти старой баронессы. Умный и хитрый дипломат мог быть сводником, но, во всяком случае, не написал бы такого тяжко компрометирующего его письма.
После дуэли в неофициальном обращении к министру иностранных дел графу К. В. Нессельроде от 1/13 марта 1837 года Геккерн не только категорически отвергал клеветнические, по его словам, слухи о пособничестве Дантесу, но и предлагал обратиться по этому поводу к самой Н. Н. Пушкиной.
«Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела, она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся». Геккерн утверждает также, что он потребовал от сына «письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких-либо видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки. Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы показать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей»[538].
Комиссия военного суда по делу Дантеса не сочла нужным обращаться с какими бы то ни было вопросами к Н. Н. Пушкиной, но ведь она могла поступить и иначе… Пожелание Геккерна о том, чтобы Наталья Николаевна была допрошена, является одной из загадок истории дуэли.
Нельзя также забывать, что обвинения Геккерна в сводничестве фактически всецело основаны на том, что говорила по этому поводу Наталья Николаевна. Никто, например, кроме нее, не мог слышать слов приемного отца Дантеса: «Верните мне моего сына!»
Исследователям приходится верить в то, что женщина и в данном случае сказала правду…
Переходим теперь к роману Пушкиной и Дантеса в изображении Фикельмон.
По словам Дарьи Федоровны, «он [Дантес] был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме». Период такой «приличной влюбленности» Дантеса, по-видимому, примерно совпадает с календарным 1835 годом.
Барон Фризенгоф сообщил впоследствии племяннице, что «Дантес… вошел в салон вашей матери, как многие другие офицеры гвардии, которые в нем бывали». Вряд ли это верно. Есть и другие поздние упоминания о том, что Дантес бывал гостем Пушкиных, но они мало надежны. Поверим скорее записи Фикельмон, сделанной, во всяком случае, вскоре после дуэли, а не полвека спустя.
В дальнейшем, по словам Фикельмон, «он… постоянно встречал ее в свете и вскоре в тесном дружеском кругу стал более открыто проявлять свою любовь <… > Наконец, все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза! То ли одно тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце, – как бы то ни было, она не могла больше отвергать или останавливать этой необузданной любви».
Если графиня пишет искренне (в чем, на мой взгляд, можно сомневаться), то чувства Натальи Николаевны для нее неясны – то ли… то ли…
Однако уже 5 февраля 1836 года светская барышня фрейлина М. К. Мердер (1815–1870), видевшая Пушкину и Дантеса на балу у княгини Бутера, записывает в дневнике: «…они безумно влюблены друг в друга»[539]. Вряд ли превосходная наблюдательница Фикельмон не замечала того же самого. В данное время мы располагаем первоклассной важности документами, которые вносят полную ясность в вопрос об отношениях Пушкиной и Дантеса.
В 1946 году талантливый французский писатель Анри Труайа[540] опубликовал в своей двухтомной книге о Пушкине[541] найденные им в архиве Дантеса-Геккерна два письма барона Жоржа к своему приемному отцу, находившемуся в то время в отпуске за границей. Советский читатель может с ними ознакомиться по работе М. А. Цявловского (французский текст и перевод)[542]. Письма датированы 20 января и 14 февраля 1836 года. Подлинность их не подлежит сомнению.
В первом письме Дантес впервые признался приемному отцу в том, что он «безумно влюблен». Фамилии Пушкиной он не называет, боясь, что письмо «может затеряться», но прибавляет: «…вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив <…>». Дантес умоляет Геккерна не делать «никаких попыток разузнавать, за кем я ухаживаю, ты ее погубишь, не желая того, а я буду безутешен».
Тщетная предосторожность влюбленного! Как раз в это время фрейлина Мердер делает свою запись и, конечно, не она одна догадывается о чувствах влюбленной пары.
Еще интереснее второе письмо. Дантес рассказывает о своем объяснении с Пушкиной, которую он, судя по контексту письма, уговаривал «нарушить ради него свой долг». Наталья Николаевна ответила: «…я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой <…>».
Я вас люблю (к чему лукавить?). Но я другому отдана…Легкомысленная, как все считали, Наталья Николаевна в роли Татьяны-княгини… Неизвестно, выдержала ли она эту роль до конца, но в начале 1836 года, несомненно, хотела выдержать.
Находка Труайа показывает, сколько еще неожиданностей таит дуэльная история. Весьма возможно, что, если со временем будут опубликованы дальнейшие новые материалы, исследователям придется отказаться от ряда, казалось бы, прочно установленных взглядов. И, несомненно, прав М. А. Цявловский, говоря: «В искренности и глубине чувства Дантеса к Наталии Николаевне на, основании приведенных писем, конечно, нельзя сомневаться. Больше того, ответное чувство Наталии Николаевны к Дантесу теперь тоже не может подвергаться никакому сомнению».
Дантес действительно «тронул и смутил ее сердце», как с оговорками допускала Фикельмон, но и чувства Дантеса были гораздо серьезнее, чем считалось до сих пор…
Итак, в январе – феврале 1836 года, за год до дуэли, влюбленный кавалергард вел себя очень осторожно (ему, по крайней мере, так казалось) и даже в письмах к отцу боялся назвать имя любимой им женщины. Не совсем понятно, почему осмотрительный и как будто до поры до времени весьма деликатный барон Жорж через несколько месяцев резко изменил свою линию поведения. По словам Фикельмон, он «стал более открыто проявлять свою любовь».
Посмотрим, что кроется за этим дипломатическим выражением жены дипломата.
Необходимо предварительно немного остановиться на хронологии событий и топографии местности. Лето 1836 года Пушкины провели на даче на Каменном Острове (с середины мая и до второй половины августа). 23 мая Наталья Николаевна родила дочь Наталью. Кавалергарды летом стояли в лагере в Новой Деревне и вернулись в казармы 11 сентября. От дачи до Новой Деревни очень недалеко. Нужно было только переправиться через самый северный проток дельты
Невы – Большую Невку. Если верить позднему (1887 года) рассказу князя А. В. Трубецкого, Лиза, горничная Пушкиных, часто приносила Дантесу записки Натальи Николаевны. Сам кавалергард будто бы ездил на дачу к Пушкиным, а все подробности своего романа с женой поэта разбалтывал товарищам-офицерам.
Рассказ старика Трубецкого о событиях полувековой давности полон неточностей и анахронизмов, но зерно правды в нем есть. Поведение Дантеса в это время было далеко не рыцарским. Его товарищи по полку, по-видимому, искренне считали Наталью Николаевну любовницей своего однополчанина (сам Трубецкой этого не говорит).
Д. Ф. Фикельмон подтверждает давно известные рассказы о том, что влюбленная в Дантеса Екатерина Николаевна «учащала возможности встреч с Дантесом», «забывая о всем том, что может из-за этого произойти для ее сестры». По другим сведениям, ее не раз видели вместе с Натальей Николаевной и Дантесом в аллеях Летнего Сада, что, конечно, обращало на себя внимание. Письма Дантеса к приемному отцу показывают, что до 1836 года о таких прогулках втроем не могло быть и речи. Вряд ли беременная Наталья Николаевна появлялась в Летнем Саду весной 1836 года, незадолго до родов. Скорее эти неосторожные встречи происходили в сентябре, после возвращения кавалергардов из лагеря. В это время Летний Сад чудесно красив, а погода обычно стоит хорошая.
О роли Екатерины Николаевны в преддуэльные месяцы крайне резко отзывается Александр Николаевич Карамзин в письме к брату Андрею от 13/25 марта 1837 года[543]:
«…та, которая так долго играла роль сводницы[544], стала, в свою очередь, возлюбленной, а затем и супругой. Конечно, она от этого выиграла, потому-то она – единственная, кто торжествует до сего времени, и так поглупела от счастья, что, погубив репутацию, а может быть, и душу своей сестры, госпожи Пушкиной, и вызвав смерть ее мужа, она в день отъезда последней послала сказать ей, что готова забыть прошлое и все ей простить!!!»
Как далеко зашли отношения Пушкиной и Дантеса – сказать невозможно. С другой стороны, некоторые веские соображения, о которых речь будет впереди, говорят за то, что своей цели в отношении Пушкиной Дантес не добился.
Придется все же по этому поводу сделать некоторое отступление.
Недавно выяснилось, что князь А. В. Трубецкой был не только полковым товарищем Дантеса, но и очень близким другом императрицы Александры Федоровны (и только ли другом?..). В ее интимной переписке с ближайшей приятельницей графиней С. А. Бобринской он «засекречен» и именуется «Бархатом».
4 февраля 1837 года царица пишет: «Итак, длинный разговор с Бархатом о Жорже. Я бы хотела, чтобы они уехали, отец и сын. – Я знаю теперь все анонимное письмо, подлое и вместе с тем отчасти верное»[545].
Эмма Герштейн, опубликовавшая этот документ[546], дает ему весьма многозначительное объяснение по «царственной линии».
На мой взгляд, дело обстоит много проще. Кавалергард рассказал своей коронованной приятельнице (будем скромны), что отношения Дантеса и Натальи Николаевны зашли далеко, но в связи они не были.
В конце концов важно то, что оба влюбленных вели себя в последние преддуэльные месяцы крайне неосторожно. В записи Фикельмон речь, несомненно, идет об осени и зиме 1836 года. По ее словам, поведение Дантеса (еще до женитьбы на Е. Н. Гончаровой) было нарушением всех светских приличий, причем казалось, что Наталья Николаевна «бледнеет и трепещет под его взглядами».
Я склонен думать, что не обладавшая сильной волей женщина, в начале года искренне хотевшая подражать Татьяне, теперь не могла подавить в себе страстного увлечения кавалергардом.
Фикельмон считает, что Пушкин в это время совершал большую ошибку, позволяя красавице жене одной бывать в свете, а Наталья Николаевна допускала «большую, ужасную неосторожность», давая мужу во всем отчет и пересказывая слова Дантеса.
Можно, однако, усомниться в том, что Наталья Николаевна действительно передала Пушкину все. И вряд ли, например, он знал, что в своих записках его жена обращается к кавалергарду на «ты» (надо заметить к тому же, что по-французски «ты» звучит много интимнее, чем по-русски)[547].
Неладно было в семье Пушкиных в 1836 году. Это замечали многие. Графиня Долли вместе с другими друзьями поэта всячески выгораживает Наталью Николаевну. Уверяет даже, что, по крайней мере раньше, она «веселилась без всякого кокетства». В этом отношении она, несомненно, исполняет предсмертный завет Пушкина, желавшего, чтобы современники и потомки считали его жену невинной жертвой. И – снова приходится повторить, к сожалению, она лишь очень глухо говорит о времени непосредственно перед получением пасквиля: «…семейное счастье уже начало нарушаться…»
В чем же выражалось это нарушение?
Когда-то, в самом начале семейной жизни, Пушкин, рассорившись с тещей, писал ей 26 июня 1831 года: «….обязанность моей жены – подчиняться тому, что я себе позволю. Не восемнадцатилетней женщине управлять мужчиной, которому 32 года» (XIV, 182).
Теперь о подчинении и речи нет. Пушкин стал как бы наблюдателем своей собственной драмы. В чем же причина этой странной пассивности? Почему Наталья Николаевна может не считаться с волей мужа?
IV
Об отношениях супругов Пушкиных в преддуэльные месяцы мы знаем очень немного. Думаю поэтому, что будет небезынтересно привести здесь запись моего разговора с покойной княгиней Антониной Михайловной Долгоруковой, женой бывшего члена Государственной думы Петра Дмитриевича Долгорукова, запись, сделанную в Праге через несколько часов после нашей беседы.
С А. М. Долгоруковой я был знаком почти двадцать лет и знал ее благоговейное отношение к памяти Пушкина. Она, несомненно, ничего не выдумала. Вот текст записи, оригинал которой хранится в рукописном отделе Пушкинского дома.
«31 мая 1944 княгиня Антонина Михайловна Долгорукова сообщила мне, Николаю Алексеевичу Раевскому, что в 1908 году в Москве к ней явился внук П. В. Нащокина, тогда еще молодой человек, и предложил ей купить пачку писем Пушкина к его деду[548]. Княгиня Долгорукова видела письма, но не прочла их. Из чувства щепетильности не хотела покупать чужой интимной переписки.
По словам внука Нащокина:
1. Александра Николаевна Гончарова сыграла большую роль в семейных неурядицах поэта.
2. Она была в связи с Пушкиным.
3. Наталья Николаевна знала о связи, и у нее не раз происходили бурные сцены с мужем. С Пушкиным при этом случались истерики, и он плакал.
4. Александра Николаевна будто бы открывала глаза поэту на отношения Натальи Николаевны с Дантесом.
5. Когда Пушкин умирал, у Александры Николаевны происходили якобы резкие столкновения с сестрой. Она почти не подпускала ее к мужу, сама ухаживала за ним и вообще держала себя хозяйкой (все до сих пор известные материалы говорят обратное. – Н. Р.).
Княгиня А. М. Долгорукова оставляет рассказ всецело на ответственности внука Нащокина, но уверена в том, что суть его передана правильно.
Н. Раевский».
Пункт пятый записи, несомненно, неверен в отношении ухода за раненым Пушкиным. Зато Александра Николаевна, надо думать, действительно всем распоряжалась, так как жена поэта была в состоянии, близком к безумию. Все остальное содержание рассказа очень похоже на правду.
Сведения, сообщенные внуком Павла Воиновича, являлись семейным преданием. В 1908 году оно, надо заметить, было очень свежим, так как вдова Нащокина, Вера Александровна, хорошо знакомая с Пушкиным в течение последних лет его жизни, скончалась всего лишь восемью годами раньше – в 1900 году.
Недавно М. Яшин подверг подробной критике вопрос о взаимоотношениях Пушкина и Александры Николаевны[549]. Он старается доказать, что все свидетельства современников по данному вопросу не заслуживают доверия. Думаю, однако, что это не так. Рассказ внука Нащокина показывает, что и ближайший друг поэта, возможно, знал о последнем увлечении Пушкина.
Надо, однако, заметить, что об этом потомок П. В. Нащокина в 1908 году мог узнать из воспоминаний А. П. Араповой, – соответствующая глава была опубликована в иллюстрированных приложениях к газете «Новое время», 1907, № 11413, 19 декабря[550]. Приходится поэтому ко всему рассказу внука Нащокина отнестись с большой осторожностью. Несомненным остается лишь тот факт, что он предложил А. М. Долгоруковой купить письма Пушкина, которые он ей показал*.
Путем переписки с ныне здравствующими потомками П. В. Нащокина, живущими в Советском Союзе, я попытался выяснить, кто именно из внуков Павла Воиновича мог посетить А. М. Долгорукову в 1908 году.
У Нащокина было два сына – старший Александр и младший Андрей. Взрослого сына у Андрея Павловича в 1908 году не было. С наибольшей вероятностью можно предположить, что у Долгоруковой побывал один из многочисленных сыновей Александра Павловича, человек, который пользовался хорошей репутацией, но зачастую нуждался в деньгах. Намечается и довольно правдоподобный путь, которым к нему могли попасть письма поэта. Уточнять эти сведения в печати по ряду причин является преждевременным.
Вернемся теперь к записи Фикельмон. Текст пасквильного диплома, вероятно, остался ей неизвестен, но о его получении она, надо думать, узнала. Один из экземпляров пасквиля (в запечатанном конверте, адресованном Пушкину и вложенном в другой с адресом получателя) был прислан и Елизавете Михайловне Хитрово. Ничего не подозревая, она переслала диплом поэту.
Другие его друзья были осторожнее – вскрыли конверты с пасквилем и уничтожили его. Однако граф В. А. Соллогуб, которому такой конверт передала его тетка А. И. Васильчикова, решил, что он, быть может, имеет какое-то отношение к его несостоявшейся дуэли с Пушкиным. Поэтому Соллогуб не счел себя вправе вскрыть конверт и также отвез его к поэту.
По словам Соллогуба, Пушкин распечатал конверт и тотчас сказал: «Я уже знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитрово: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмам я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитрово.
Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами <…>»[551].
Соллогуб обладал отличной памятью. Вероятно, и слова Пушкина он передал достаточно точно.
Письмо поэта до нас не дошло. Зато сохранилось ответное письмо Е. М. Хитрово к Пушкину, которое совсем недавно опубликовала Т. Г. Цявловская[552]. Елизавета Михайловна, умная женщина, верный друг поэта, отозвалась на его письмо с сообщением о пасквиле совершенно неожиданным образом: «Нет, дорогой друг мой, для меня это настоящий позор – уверяю вас, что я вся в слезах, – мне казалось, что я достаточно сделала добра в жизни, чтобы не быть впутанной в столь ужасную клевету! – На коленях прошу вас не говорить никому об этом глупом происшествии». Е. М. Хитрово вообразила, что на Наталью Николаевну «напали лишь для того, чтобы заставить меня сыграть роль посредника и этим ранить в самое сердце».
Т. Г. Цявловская справедливо прибавляет, что эгоцентризм Хитрово производит тяжелое впечатление. Действительно, Елизавета Михайловна совершенно не думает о переживаниях Пушкина. Думает только о себе. Но вряд ли можно сомневаться в том, что, обидевшись и разволновавшись, она сейчас же рассказала об этом происшествии дочери. Вероятно, дала ей прочесть письмо Пушкина, может быть, и свое…
Трудно поэтому понять, почему в своей «исторической записке» графиня Долли говорит не о дипломе, а о том, что «чья-то гнусная рука направила мужу анонимные письма, оскорбительные и ужасные, в которых ему сообщались все дурные слухи и имена его жены и Дантеса были соединены с самой едкой, самой жестокой иронией».
Возможно, что наряду с дипломом Пушкин действительно получал такие письма, и Дарье Федоровне стало известно их содержание, но в пасквиле, кроме намека на супружескую измену Пушкиной, никаких подробностей нет. Имена Натальи Николаевны и Дантеса не упоминаются в нем вовсе. Приходится снова повторить, что дуэльную историю графиня Долли, к сожалению, излагает очень неоткровенно и местами, кажется, сознательно искажает ее ход. Вряд ли, например, она могла не знать, что Пушкин, получив пасквиль, не «написал Дантесу, требуя от него объяснений по поводу его оскорбительного поведения», а без всяких объяснений в тот же день вызвал кавалергарда на дуэль.
Несравненно интереснее непосредственные наблюдения и оценки Дарьи Федоровны. В ее глазах дуэльная история – чисто семейная драма Пушкина, которая, однако, получила большое общественное значение благодаря огромной популярности поэта. О враждебном отношении к нему значительной части высшего общества, которое она порой жестоко критиковала в своих дневниках, Фикельмон предпочла умолчать. Поведение Дантеса она резко порицает, но в то же время утверждает, что в глазах большого света оно «было верным доказательством невинности г-жи Пушкиной».
Надо сказать, что к этому соображению графини Долли приходится отнестись со всей серьезностью. Осенью 1836 года Дантес действительно вел себя скорее как потерявший голову влюбленный, а не как осторожный любовник. Жена Пушкина, по-видимому, повинна лишь в духовной измене мужу, но она своего супружеского долга не нарушила, несмотря на страстное увлечение Дантесом…
Однако – и это лишний раз свидетельствует о проницательном уме графини – Фикельмон утверждает, что для Пушкина было важно не мнение высшего общества, а то, что «десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья».
Дарья Федоровна лишь кратко упоминает о том, что неожиданное сватовство Дантеса, внезапно сделавшего предложение Екатерине Николаевне Гончаровой, чрезвычайно удивило светское общество. О причине, побудившей барона Жоржа жениться на сестре Пушкиной, она не говорит ничего.
Густав Фризенгоф в письме племяннице сообщает со слов Александры Николаевны:
«Молодой Геккерн принялся тогда притворно ухаживать за своей будущей женой, вашей теткой Катериной; он хотел
сделать из нее ширму, за которой старался достигнуть своих целей. Он ухаживал за обеими сестрами сразу. Но то, что для него было игрою, превратилось у вашей тетки в серьезное чувство». По словам Фризенгофа, Пушкин в конце концов заявил Дантесу: либо тот женится на Катерине, либо будут драться.
Рассказ Фризенгофа о притворном ухаживании Дантеса очень правдоподобен, но относительно угрозы поэта этого сказать нельзя: считать Дантеса трусом нет оснований, а подобная угроза неминуемо привела бы к поединку.
Женился он, во всяком случае, не из страха перед пистолетом Пушкина.
Что же в действительности заставило его пойти на этот шаг? Пока мы этого не знаем, женитьба Дантеса – одно из загадочных глав дуэльной истории.
Неясно, каковы были отношения Екатерины Николаевны и Дантеса до свадьбы. По словам Густава Фризенгофа, он «притворно ухаживал за своей будущей женой». В русском письме Е. И. Загряжской к В. А. Жуковскому, посланном сейчас же после того, как «жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением», говорится также: «К большому счастью, за четверть часа перед ними приехал старший Гончаров[553], и он объявил им родительское согласие, и так все концы в воду»[554].
Очень интимное и совершенно личное дело, насколько теперь известно, приобрело широкую огласку в петербургском высшем обществе и настоятельно требовало быстрого решения.
Графиня София Александровна Бобринская*, прекрасно осведомленная в делах светского Петербурга, писала, например, своему мужу 25 ноября 1836 года:
«Никогда еще с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустную молву. Да, он женится, и мадам де Севинье обрушила бы на него целый поток эпитетов, каким она удостоила некогда громкой памяти [Лемюзо]! Да, это решенный брак сегодня, какой навряд ли состоится завтра. Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина.
Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования, это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго. Это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно… Под сенью мансарды Зимнего дворца тетушка плачет, делая приготовления к свадьбе. Среди глубокого траура по Карлу X видно одно лишь белое платье, и это непорочное одеяние невесты кажется обманом! Во всяком случае, ее вуаль прячет слезы, которых хватило бы, чтобы заполнить Балтийское море. Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни»[555].
Как известно, наблюдая взаимное увлечение Натальи Николаевны и Дантеса, многие их знакомые и даже ближайшие друзья поэта склонны были видеть в происходящем лишь занимательную главу в великосветской хронике. А некоторые, например София Николаевна Карамзина, находили в этом материал для изощренного зубоскальства.
До сих пор считалось, что одна лишь графиня Долли Фикельмон воспринимала все происходящее как нарастающую драму. Того же взгляда придерживался и я. Сейчас приходится признать, что внимательная наблюдательница Фикельмон в своем прогнозе не была одинокой. Об этом же с полной определенностью говорит София Александровна Бобринская: «Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни».
Приходится признать, что в среде близких знакомых и друзей семьи Пушкина эта странная женитьба вызвала не только недоумение, но и настороженность. Вот что писала по этому поводу сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева:
«…По словам Пашковой, которая пишет отцу, эта новость удивляет весь город и пригород не потому, что один из самых красивых кавалергардов и один из наиболее модных мужчин, имеющий 70 000 рублей ренты, женится на мадемуазель Гончаровой, – она для этого достаточно красива и достаточно хорошо воспитана, – но потому, что его страсть к Наташе не была ни для кого тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в Петербурге, и я довольно потешалась по этому поводу; поверьте мне, что тут должно быть что-то подозрительное, какое-то недоразумение и что, может быть, было бы очень хорошо, если бы этот брак не имел места».
В последние годы в широких читательских кругах стала весьма популярной выдвинутая ленинградским исследователем М. И. Яшиным гипотеза, согласно которой Дантес женился на Екатерине Николаевне Гончаровой, исполняя желание Николая I[556]. Прямых свидетельств, подтверждающих это предположение, у автора не было, и большинство специалистов отнеслось к его гипотезе отрицательно.
Подлинной сенсацией пушкиноведения явилось, однако, опубликование в Париже русского перевода записок дочери Николая I – Ольги Николаевны. В этой книге, вскоре ставшей известной и в Советском Союзе, имеется следующее место: «Папа <имеется в виду император Николай I>… поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано (курсив мой. – Я. Л.) жениться на старшей сестре Наталии Пушкиной, довольно заурядной особе. Но было уже поздно: раз пробудившаяся ревность продолжала развиваться. Некоторое время спустя <…> Дантес стрелялся с Пушкиным на дуэли, и наш великий поэт умер, смертельно раненный его рукой»[557].
Казалось, что свидетельство дочери царя неопровержимо. Я. Л. Левкович с полным основанием заметила в своей статье: «Теперь загадка женитьбы Дантеса перестала быть загадкой». Автор этих строк также нимало не сомневался в решающем значении опубликованного в Париже текста.
Представлялось все же совершенно необходимым, чтобы для большей точности он был сверен непосредственно с не опубликованным до сих пор французским подлинником «Записок», хранящимся в настоящее время в Штутгартском архиве. В печати был известен лишь немецкий перевод этого источника, выпущенный в Германии еще в 1955 году[558]. С него и был сделан опубликованный в Париже русский перевод.
Подлинный французский текст недавно сообщил в Ленинград живущий в Париже праправнук Пушкина Георгий Михайлович Воронцов-Вельяминов[559]. По словам Я. Л. Левкович, «от двойного перевода всегда можно ждать неожиданностей». И действительно, при проверке оказалось, что во французском подлиннике речь идет не о вмешательстве царя, а об активности друзей поэта, которые «нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения» – принудить Дантеса жениться.
Нельзя не согласиться с мнением автора статьи, подчеркнувшей, что, «таким образом, предположение Яшина о женитьбе по приказу царя снова превратилось в неподтвержденную документами гипотезу».
Попытки установить истинную причину загадочного поступка Дантеса, надо думать, будут продолжаться. Однако менее всего вероятно, что они подтвердят утверждения Геккерна-старшего, писавшего 30 января 1837 года министру иностранных дел Голландии барону Верстолку: «Сын мой, понимая хорошо, что дуэль с г. Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре жены Пушкина <…>»[560].
Трусом Дантес не был, но вся его жизнь показывает, что рыцарем он также не был.
Очень интересно упоминание Фикельмон о том, что Наталья Николаевна ревновала сестру к Дантесу и отважилась говорить об этом с мужем. В письме С. Н. Карамзиной к брату от 20–21 ноября 1836 года тоже есть многозначительные строки: «Натали нервна, замкнута, и, когда говорит о замужестве сестры, голос ее прерывается»[561].
Повествуя о романе Пушкиной и Дантеса, Дарья Федоровна говорит: «…все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза!» Все видели, но далеко не все понимали, как понимала Фикельмон, что перед ними разыгрывается драма поэта. Семья Карамзиных – давние и близкие друзья поэта. Все они любят Пушкина как человека и чтут его гений, но к его семейным делам Карамзины относятся совершенно иначе, чем Долли Фикельмон.
В особенности характерны письма дочери историка, Софьи Николаевны. Приведу из них несколько выдержек:
«Вяземский говорит, что он [Пушкин] выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает». «…Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом; он становится похож на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему, что он делает весьма охотно, всегда радуясь каждому новому слушателю. Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения»[562].
«Словом, это какая-то непрестанная комедия, смысл которой никому хорошенько не понятен; вот почему Жуковский так смеялся твоему старанию разгадать его, попивая кофе в Бадене».
Александр Николаевич Карамзин, бывший шафером Е. Н. Гончаровой, писал: «Неделю тому назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой <…> Таким образом кончился сей роман à la Balzac[563] к большой досаде петербургских сплетников и сплетниц»[564].
Тирадам насмешливой барышни можно было бы не придавать серьезного значения, но из ее писем мы узнаем, что смеялась не одна она. Подтрунивал над Пушкиным Вяземский, и даже Василий Андреевич Жуковский, только что с великим трудом уладивший дело с первым вызовом, находил повод к смеху. Насмешливое отношение к этой странной истории чувствуется и в письме Александра Николаевича Карамзина.
Глубоко и искренне было горе друзей Пушкина. Но все это было после катастрофы, а когда она готовилась, многие и многие близкие Пушкину люди, в противоположность прозорливой Фикельмон, видели в том, что происходило, не трагедию, а комедию или, в лучшем случае, трагикомедию…
Еще до рассылки диплома, наблюдая обращение Дантеса с Натальей Николаевной на светских собраниях, графиня заметила, что барон решил «довести ее до крайности». Надо сказать, что французское выражение, которое она употребила, применяется охотниками в смысле «загнать», «довести до изнеможения» свою жертву.
Позднее, перед самым поединком, странное и тяжелое впечатление производило в обществе поведение всех главных действующих лиц дуэльной драмы. С. Н. Карамзина потом сожалела о том, что так легко отнеслась к «этой горестной драме», но для нас все же ценны ее наблюдения в один из вечеров жизни поэта (24 января):
«В воскресенье у Катрин[565] было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза под жарким и долгим взглядом зятя, – это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин (Екатерина Николаевна Геккерн. – Н. Р.) направляет на них свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей доли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу – по чувству. В общем все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных)»[566].
В записи Фикельмон мы не находим таких зарисовок, но она считает, что именно наглое поведение Дантеса послужило непосредственным поводом к дуэли.
Дарья Федоровна лишь описывает факты, но не дает их объяснения. Его мы находим в письме барона Фризенгофа, причем на этот раз он говорит лично от своего имени (не надо, однако, забывать, что письмо было целиком проверено и одобрено Александрой Николаевной): «…Геккерн продолжал демонстративно восхищаться своей новой свояченицей; он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого»[567].
Это объяснение очень правдоподобно. Своей непонятной женитьбой Дантес поставил себя в глазах общества в ложное и унизительное положение. Вероятно, многие подозревали, что блестящий кавалергард действительно струсил и женился, чтобы избежать поединка.
К сожалению, и Пушкин, как показывает его письмо к посланнику Геккерну, вызвавшее дуэль, держался того же взгляда и вряд ли хранил его в тайне. «…Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, а то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самом спокойном и отвращении вполне заслуженном», – писал он Геккерну-отцу.
Развязка приближалась.
Бал, о котором упоминает Фикельмон, состоялся у обер-церемониймейстера графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова 23 января накануне приема у Мещерских. Барон Фризенгоф описал то же происшествие в следующих выражениях: «В свое время мне рассказывали, что поводом послужило слово, которое Геккерн бросил на одном большом вечере, где все присутствовали; там был буфет, и Геккерн, унося тарелку, которую он основательно наполнил, будто бы сказал, напирая на последнее слово: это для моей законной. Слово это, переданное Пушкину с комментариями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу»[568].
26 января поэт послал голландскому посланнику роковое письмо.
Существует и другая версия «последнего толчка», которую принимает П. Е. Щеголев. Она восходит к самой Наталье Николаевне и впервые была изложена в воспоминаниях A. П. Араповой. По ее словам, года за три перед смертью Н. Н. Ланская «рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам <…>».
Поводом к дуэли послужило свидание, которое Дантес, угрожая в случае отказа покончить с собой, выпросил у Натальи Николаевны, уже будучи женатым. Свидание состоялось в кавалергардских казармах на квартире приятельницы и свойственницы Пушкиной Идалии Григорьевны Полетики, внебрачной дочери графа Г. А. Строганова[569].
«…Дойдя до этого эпизода, мать, со слезами на глазах, сказала: «Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание… Свидание, за которое муж заплатил своей кровью, а я – счастьем и покоем всей своей жизни…»
«Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее, как через день, Пушкин получил злорадное извещение от того же корреспондента о состоявшейся встрече»[570].
По уверению А. П. Араповой, Пушкин «прямо понес письмо к жене». «Оно не смутило ее. Она не только не отперлась, но, с присущим ей прямодушием, поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, а было лишь хитростью влюбленного человека».
Опытная писательница А. П. Арапова умело сочиняет диалоги (как русские, так и французские) и сводит концы с концами, повествуя о том, как «тихо, без гневной вспышки ревности» обошлось объяснение супругов.
«Он нежным прощающим поцелуем осушил ее влажные глаза и, сосредоточенно задумавшись, промолвил как бы про себя: «Всему этому надо положить конец!»
«Приведенное выше объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерна, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность примирения».
В подробном рассказе Араповой о дуэльной истории есть ряд фактических ошибок (вызов на поединок был, например, сделан Дантесом, а не Пушкиным). Многое в этом рассказе, несомненно, относится к области беллетристики, а не мемуарной литературы. Нельзя, однако, не согласиться с мнением Щеголева о том, что, по существу, рассказу Apaпoвой «можно и должно поверить, ибо это говорит дочь о матери».
«Да, на квартире у Идалии Григорьевны Полетики состоялось свидание Дантеса с Натальей Николаевной»[571].
Прибавлю от себя – легкомысленное согласие на такое свидание, даже если оно, в самом деле, было «столько же кратко, сколько невинно» – это согласие является тяжким житейским грехом жены Пушкина, за который она, по-видимому, не переставала себя упрекать до конца своих дней.
Факт свидания не подлежит сомнению, но дата его остается неизвестной. Возможно, что Пушкин узнал о нем непосредственно перед балом у Воронцовых-Дашковых. Тогда обе версии друг другу не противоречат – поведение Дантеса 23 января только усилило разгоравшийся гнев Пушкина. Во всяком случае, рассказ Фикельмон, непосредственной свидетельницы, несомненно, ценен и заслуживает внимательного исследования, как и все ее повествование о преддуэльных месяцах.
Наоборот, как справедливо указывает Е. М. Хмелевская, вторая часть «записи, где говорится о дуэли и смерти Пушкина, не представляет большого интереса». Дарья Федоровна, как я уже упоминал, говорит с чужих слов, причем главным ее информатором, говоря современным языком, является В. А. Жуковский. Краткое описание поединка, которое она дает, в общем, соответствует истине, но ничего нового не содержит. Рассказывая о последних днях и часах поэта, Дарья Федоровна старательно, но порой не вполне точно повторяет легенду, созданную Жуковским и другими друзьями Пушкина в интересах его жены и детей. Нового здесь почти ничего нет, за исключением сообщения о том, что умирающий попросил своего секунданта Данзаса обещать не мстить за него и передать своим отсутствующим шуринам запрещение драться с Дантесом. Кроме Дарьи Федоровны, никто об этих словах Пушкина не упоминает,
Я не буду комментировать второй части записи. Сделаю исключение только для упоминания Фикельмон о том, что «несчастную жену с трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, влекло мрачное и глубокое отчаяние».
Приведу по этому поводу выдержку из черновика малоизвестного письма В. Ф. Вяземской, адресованного, по-видимому, Е. Н. Орловой[572]. Вяземская почти не покидала квартиры Пушкиных в те дни, когда поэт умирал. Ее наблюдения, несомненно, точны и правдивы. Описывая трагические минуты сейчас же после кончины, Вяземская говорит: «Она (Пушкина) просила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала на колени перед Данзасом, целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и Даля за постоянные заботы их об ее муже. «Простите!» – вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина, которая, в сущности, могла винить себя только в легкомыслии, легкомыслии, без сомнения, весьма преступном».
Горе Натальи Николаевны не было лишь кратким приступом отчаяния. Она долго и тяжко переносила смерть мужа. Наблюдательная Долли Фикельмон, по-видимому, была права, считая, что Наталья Николаевна была недалека от безумия.
Вот что мы читаем в воспоминаниях ближайших друзей Пушкина.
П. А. Вяземский: «Это были душу раздирающие два дня, Пушкин страдал ужасно, он переносил страдания мужественно, спокойно и самоотверженно и высказывал только одно беспокойство, как бы не испугать жены. «Бедная жена, бедная жена!» – восклицал он, когда мучения заставляли его невольно кричать»[573].
А. И. Тургенев: «…1 час. Пушкин слабее и слабее… Надежды нет. Смерть быстро приближается, но умирающий сильно не страждет, он покойнее. Жена подле него… Александрина плачет, но еще на ногах. Жена – сила любви дает ей веру – когда уже нет надежды! Она повторяет ему: «Tu vivras» («Ты будешь жить!)»[574].
С. Н. Карамзина: «…Мещерский понес эти стихи[575] Александрине Гончаровой, которая попросила их для сестры, жаждущей прочесть все, что касается ее мужа, жаждущей говорить о нем, обвинять себя и плакать. На нее по-прежнему тяжело смотреть, но она стала спокойней и нет более безумного взгляда. К несчастью, она плохо спит и по ночам пронзительными криками зовет Пушкина»[576].
Ее мольбы о прощении словно обращены в века…
Я уже упомянул о том, что короткая, вторая, часть записи отделена чертой от основного текста, который в целом носит характер исторической справки. Ее содержание гораздо более интимно, и, может быть, именно по этой причине правнук графини не счел уместным включить ее в присланную мне копию.
Графиня Фикельмон больше не историк драмы Пушкина! Она внезапно становится откровенной и спрашивает себя: «Но какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину?» Тут же Дарья Федоровна дает ответ, который похож на полупризнание в том, что она тщательно скрывает: «Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались «и нас любили, все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцами в эту ужасную и безрасчетную игру».
Строки, несомненно, и очень искренние, и очень личные. Праведницей графиня Долли себя не чувствует… По ее мнению, «роковая история» Дантеса и Натальи Николаевны должна была бы послужить хорошим уроком для светского общества, но этого не случилось. Все осталось по-старому: «Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму!»
В совсем короткой заключительной приписке, также отделенной чертой, графиня Долли как бы хочет сказать будущим читателям дневника – и своим потомкам и посторонним людям: «… эта печальная зима отняла у нас Пушкина, я скорблю о нем, как и все, но не подумайте, что он был другом моего сердца. Это все мама… Я потеряла в эту зиму другого человека, действительно мне дорогого, «друга, брата моей молодости, моей счастливой и прекрасной неаполитанской молодости!»
Трудно решить, правдиво ли говорит Дарья Федоровна о своих тогдашних чувствах или все это лишь маскировка ее былого увлечения поэтом.
Упоминания о Пушкине в связи с тем, что он был другом покойной матери, есть и в поздних письмах Дарьи Федоровны к сестре. Вскоре после отъезда из Петербурга она пишет: «Я хотела бы иметь гравированный портрет Пушкина в память привязанности, которую питала к нему мама» (22 октября 1840 года). «Мне показали вчера портрет Пушкина: он возбудил во мне большую нежность, напомнив мне всю его историю, сочувствие, с которым к ней отнеслась мама, и как она любила Пушкина» (3 декабря 1842 года).
«Пришли мне, пожалуйста, автографы для Вильнев-Транса и для меня. Прежде всего императора Николая, императора Александра, Петра Великого, Екатерины II, Марьи Федоровны, Пушкина – словом, все, что ты найдешь наиболее интересного для моего кузена[577] и для меня <…>» (13 мая 1843 года).
В письмах к сестре за 1840–1854 годы Долли Фикельмон постоянно вспоминает о своих многочисленных русских друзьях и знакомых, но только раз она упомянула о Наталье Николаевне, и притом неодобрительно: «…Пушкина, как кажется, снова появляется на балах. Не находишь ли ты, что она могла бы воздержаться от этого; она стала вдовой вследствие такой ужасной трагедии, причиной которой, хотя и невинной, как-никак явилась она» (17 января 1843 года).
К Дантесу Дарья Федоровна осталась непримиримо враждебна. Он приезжал в 1842 году в гости к своему приемному отцу, назначенному в конце концов посланником в Вену. 28 ноября этого года графиня пишет: «Мы не увидим госпожи Дантес, она не будет бывать в свете, и в особенности у меня, так как она знает, что я смотрела бы на ее мужа с отвращением. Геккерн также не появляется, его даже редко видим среди его товарищей. Он носит теперь имя барона Жоржа де Геккерна».
А у русской знати, проживавшей летом 1837 года в излюбленном тогда Бадене, не было и тени отвращения к убийце Пушкина; всего через несколько месяцев после дуэли свидетели недавней трагедии превесело проводили время вместе с высланным из России бароном Жоржем. Даже Андрей Николаевич Карамзин, с таким гневом писавший близким о дуэльной истории, помирился с Дантесом и принимал участие в этих увеселениях.
Мне остается исправить одно старинное недоразумение. В 1911 году П. И. Бартенев в рецензии на книгу писем графа и графини Фикельмон упомянул о том, что Дарья Федоровна принимала в Вене госпожу Геккерн, то есть Екатерину Николаевну. Однако соответствующее письмо помечено 20 декабря 1850 года, когда последней уже давно не было в живых (умерла в 1843 году). Видимо, публикатор неверно прочел во французском подлиннике «madame» вместо «monsieur», или же в текст вкралась опечатка. Речь, несомненно, идет о посланнике Геккерне, который оказался соседом Фикельмонов по дому и сделал графине визит. Она пишет: «…я была взволнована, снова увидев эту личность, которая мне так много напомнила. Я приняла его так, будто все время продолжала с ним видеться, и у него был гораздо более смущенный вид, чем у меня»[578].
Больше фамилия Геккерна в письмах не упоминается. Видимо, эта первая встреча через тринадцать лет после дуэли была и последней. В другом месте графиня Долли упоминает о том, что единственный человек в Вене, с которым она может говорить о Петербурге, – это Медженис[579].
* * *
Я попытался в трех очерках дать характеристику Дарьи Федоровны Фикельмон и выяснить ее роль в жизни и творчестве Пушкина. Отдельный очерк посвящен переписке друзей поэта – Долли Фикельмон и П. А. Вяземского. В последнем очерке я разобрал дневниковую запись Д. Ф. Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина.
Расставаясь теперь с этой, несомненно, выдающейся женщиной, сохраним о ней благодарную память. Если она и поведала нам о Пушкине много меньше, чем могла бы, то все же ее записи о поэте и его жене умны, достоверны и ценны.
Прах Д. Ф. Фикельмон[580] покоится в семейном склепе князей Кляри-и-Альдринген в небольшом селении Дуби (Dubi) близ Теплица (Чехословакия), где ее внук Карлос построил небольшую церковь в стиле флорентийской готики. Вход в усыпальницу находится прямо в церкви. Гробы замурованы в нишах, прикрытых плитами с надписями. Побывавшая в усыпальнице Сильвия Островская сообщила мне, что она содержится в порядке. Надпись на надгробной плите внучки Кутузова гласит:
DOROTHEA GRAFIN FICQUELMONT
GEB. GRAFIN TIESENHAUSEN.
PALAST DAME
14. X.1804 – 10.IV.1863[581]
Примечания
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Акад. – А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I–XVI, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937–1949.
Спр. том – Справочный том (XVII) Акад., 1959.
Акад. в 10 т. – А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. М.-Л., Изд-во АН СССР; изд. 2-е, 1956–1958.
Аммосов – А. Аммосов. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. СПб., 1863.
Белинский – В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений в 13-ти томах. М., 1953–1959 (АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом).
Врем. ПК – Временник Пушкинской комиссии. 1963–1970 (АН СССР. Отделение литературы и языка. Пушкинская комиссия).
ГИАМО – Государственный Исторический архив Московской области.
Гоголь – Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I–XIV, М.-Л., 1937–1952. (АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом).
Гослит в 10 т. – А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Под ред. Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана. М., Гослитиздат, 1959–1962.
ГПБ – Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
Дневник Фикельмон – Nina Kauchtschischwili, II diario di Dar’ja Fedorovna Ficquelmont (Нина Каухчишвили. Дневник Дарьи Федоровны Фикельмон), 1968.
Звенья – Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV–XX веков. Под ред. Влад. Бонч-Бруевича. М.-Л., «Acadcmia» Госкультпросветиздат, 1932–1951.
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (Ленинград).
Карамзины – «Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.—Л., 1960 (АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом).
Лет. ГЛМ – Летописи Государственного литературного музея, кн. 1. Пушкин. Ред. М. А. Цявловского. М.-Л., Жургазобъединение, 1936.
Летопись – М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1. М., 1951 (АН СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького).
Письма к Хитрово – Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827–1832. Л., Изд-во АН СССР, 1927 (Труды Пушкинского дома), вып. XL, т. 8.
Письмо Фризенгофа – «Письмо барона Густава Фризенгофа, женатого на Александре Николаевне Гончаровой». ИРЛИ, собрание А. Ф. Онегина, 13892. ССП б. 13.
Рассказы о Пушкине – «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1850–1860 годах». Вступ. статья и примеч. М. Цявловского, М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1925.
Сони – Comte F. de Sonis. Lettres du comte et de la comtesse de Ficquelmont à la comtesse Tisenhausen (Граф Ф. де Сони. Письма графа и графини Фикельмон к графине Тизенгаузен). Paris, 1911.
Флоровский. Дневник Фикельмон – Antonij Vasilieviç Florovskij. Дневник графини Д. Ф. Фикельмон. Из материалов по истории русского общества тридцатых годов XIX века «Wiener slavistisches Jahrbuch», Graz-Köln, 1959, В. VII, с. 49–99.
Флоровский. Пушкин на страницах дневника – А. Ф. Флоровский. Пушкин на страницах дневника графини Д. Ф. Фикельмон. «Slavia», Praha, 1959, ročn XXVIII, Ses 4, с. 559–578.
ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
Щеголев – П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928.
ФИКЕЛЬМОНЫ
С. 5. …в известной мне литературе не было. – Впоследствии выяснилось, что «в 1913 году были опубликованы в печати оставшиеся неизвестными русским пушкинистам указания на архив Фикельмонов в известном сборнике описаний ряда немецких и чешских архивов. В этом очень суммарном описании бумаг графа Фикельмона, сохранившихся в Теплице-Шанове в северо-западной Чехии в замке князей Кляри-и-Альдринген, не были отмечены личные бумаги супругов Фикельмон. Поиски в Теплице могли, конечно, разъяснить дело» (Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 50).
С. 7. Старческая бледная лирика (Вяземскому семьдесят один год)… – Приведу все же несколько стихов из этого notturno, можно думать, навеянного воспоминаниями о недавно умершей графине Фикельмон:
И младая догаресса, Светлый образ прежних дней, Под защитою навеса Черной гондолы своей, Молча ловит шепот стройный Ночи неги и мечты, Ночи яркой и спокойной, Как царица красоты. (П. А. Вяземский. ПСС, т. XII, с. 34).С. 10. Чешская исследовательница Сильвия Островская (Sylvie Ostrrovskd)… – В письме от 29 января 1968 г. они приводит следующие сведения: «Что касается отца Дарьи – графа Фердинанда – предполагаю, что он похоронен у Вас на Родине. Несколько лет тому назад, когда еще работала в Городском музее, нашла в одном старом журнале из конца прошлого века странную статью о смерти графа Тизенгаузена в деревне близко от Славкова, кресте, там воздвигнутом, и отвозе тела. Попытаюсь этот журнал отыскать, не помню, это был «Svetozor» или «Zlatá Praha».
После опубликования моей книги «Портреты заговорили» моей корреспондентке удалось разыскать упоминаемый ею журнал. Вот что она пишет в письме от 4 августа 1977 года.
«Итак – журнал «Svetozor», 1884 года. Статья Яна Гардена. Название его воспоминаний «Памятники минувшего» (вольный перевод). Автор дает полное описание страшной ночи после сражения и рассказывает о судьбе раненых русских офицеров. Автор статьи сообщает отдельные подробности о смерти графа Фердинанда, который в сражении под Аустерлицем был смертельно ранен и перевезен в деревню Силничка (Штрасендорф). Деревня существует до сих пор и является частью небольшого, но интересного городка Жарошице в южной Моравии. Раненого поместили в доме кузнеца Антонина Хмеля, его жена за ним ухаживала. Между четырьмя и пятью часами ночи на 10 декабря Тизенгаузен скончался.
Слуга покойного вырыл могилу и, к удивлению местных жителей, наполнил ее соломой прежде, чем туда положили покойного. Спустя несколько недель за телом приехали посланцы из России. Гарден помнит офицера в орденах, который выразил благодарность кузнецу и обещал ему пенсию».
Сильвия Островская высказывает предположение о том, что одна из дочерей Кутузова, бывшая замужем за сенатором Толстым, возможно, сохранила в качестве семейного предания сведения о героической смерти своего родственника Фердинанда Тизенгаузена и что, таким образом, Лев Николаевич Толстой мог почерпнуть данные о смерти адъютанта и зятя Кутузова не только из книги Михайловского-Данилевского, но и из семейного предания.
…создавая знаменитую сцену ранения князя Андрея. – Военный историк А. И. Михайловский-Данилевский, описывая сражение на Праценских высотах, куда Наполеон направил главный удар, говорит: «Громады французов валили на высоте с разных сторон. Кутузов понесся вперед и был ранен в щеку. <…> Любимый зять Кутузова, флигель-адъютант граф Тизенгаузен со знаменем в руках повел вперед один расстроенный батальон и пал, пронзенный насквозь пулею» (Михайловский-Данилевский. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году. СПб., 1844, с. 183–184).
К. Покровский в статье «Источники романа «Война и мир» («Война и мир». Сборник под ред. В. П. Обнинского и Т. П. Полнера. М., 1912, с. 117–118) впервые включил отрывок в материалы, использованные Толстым.
С. 18. На будущей карьере <…> не отразилось. – Можно все же думать, что из лейб-гвардии Преображенского полка поручик Хитрово был переведен в гусарский (судя по малой культурности офицеров – один из армейских) не по собственному желанию.
С. 21. …переехав с господами границу, крепостные по закону становились вольными. – При отъезде в 1823 году Е. М. Хитрово с дочерьми из Петербурга в ее штате упоминается «камер-юнгфера» (горничная) Елизавета Воронина, российская подданная» («Санкт-петербургские ведомости», 1823, № 71, вторник, 4 сентября. «Отъезжающие»). Неизвестно, однако, служила ли она раньше (за границей) в семье Хитрово.
С. 29. …побывала с дочерьми в Неаполе. – По всей вероятности, к этому времени относится очень резкий отзыв приятеля Пушкина кн. Д. И. Долгорукова о попытках Елизаветы Михайловны поскорее устроить судьбу обеих дочерей. 6 октября (год не указан) он пишет брату из Италии: «Г-жа Хитрово имеет вид серого <…> торгаша, который ездит по всем ярмаркам, чтобы за хорошую цену продать свой товар, который заключается в двух прелестных дочерях» («Русский архив», 1915, кн. I, с. 72).
С. 30. …прусского короля Фридриха-Вильгельма III. – В 1825 году молодая чешская графиня Сидония (по-чешски Здена) Хотек писала во Францию баронессе Монте, приятельнице своей тетки Терезы Хотек: «Вы, конечно, давно знаете о женитьбе прусского короля на М-lle Гаррах <…>. Уже несколько лет он (отец Гаррах. – Н. Р.) живет в Саксонии, откуда его дочь приехала в Теплиц, где король с ней и познакомился. Кляри тем более удивлены этим браком, что король казался сильно влюбленным в М-lle Екатерину Тизенгаузен, которую, говоря по правде, мать все время старалась с ним сблизить (mettait toujours dans son chemin). Госпожа Хитрово как-то на днях сказала моей тетке Кляри: «Поймите вы короля! Вы же, однако, видели, как он был влюблен в мою дочь; но это был бы неподходящий брак для внучки генерала Кутузова» («Sauvenirs de la baronne de Montet» («Воспоминания баронессы Монте»), 1785–1866. Paris, 1904, с. 265–266).
Графиня Екатерина королевой Пруссии (как и гр. Гаррах) стать, конечно, не могла. Речь, очевидно, шла о морганатическом браке, который Елизавета Михайловна объявила неподходящим для внучки Кутузова лишь после того, как ее план выдать дочь за короля не удался. Приходится признать, что в данном случае ум и житейская опытность Е. М. Хитрово ей, видимо, изменили. Сомневаться в правдивости Сидонии Хотек нет оснований.
С. 59. …пожаловал ей немалую пенсию не в память ее великого отца… – Характерно, что в шестнадцати письмах царя к дочери и внучке фельдмаршала М. И. Кутузова его имя ни разу не упоминается. Хорошо известно, что Александр I очень не любил народного героя Кутузова. Скрепя сердце публично обнял его в Вильне по окончании кампании 1812 года, пожаловал ему высшую воинскую награду – орден св. Георгия I степени, но в то же время писал графу Салтыкову: «Слава богу, у нас все хорошо, но несколько трудно выжить отсюда фельдмаршала, что весьма необходимо» (Георгий Чулков. Императоры. М.—Л., 1928, с. 147).
С. 60. …основала монастырь «Святого сердца» в Нанси… – Дарья Федоровна снова встретилась с Магдалиной в Генуе в сентябре 1838 года. Ее воспитанница за эти годы совершенно офранцузилась; она была замужем за ювелиром Дельфас. В декабре того же года молодая женщина умерла от чахотки. Ее смерть очень огорчила графиню, которая упрекала себя в том, что в свое время вырвала девочку из привычной для нее простой среды. Упрекала, как мне думается, не без основания…
С. 72. …первыйребенок – девочка Эдмея-Каролина. – Княжна Эдмея-Каролина вышла замуж за графа Карло-Феличе-Николис Робилант-Череальо (Carlo-Felice-Nicolis Robilant Cereaglio), ставшего впоследствии видным политическим деятелем объединенной Италии (1826–1888). Возможно, что у потомков его сына, генерала графа Марио-Николис Робиланта (Mario-Nicolis conti di Robilant), командовавшего корпусом в Первую мировую войну, хранятся некоторые бумаги Дарьи Федоровны, оставленные княгиней Кляри (умерла в Венеции в 1878 году) единственной своей дочери Эдмее. У них, в частности, могут находиться несомненно существовавшие альбомы графини Фикельмон, которых в Дечинском архиве нет.
Графы Робилант проживают в настоящее время в Риме.
С. 80. …в художественной галерее г. Теплица. – Многочисленные картины и портреты, украшавшие покои Теплицкого замка, по-видимому, сохранились, но вывезены оттуда и сейчас фактически недоступны для изучения. 28 августа 1963 года А. В. Флоровский писал мне по этому поводу: «Куда-то все из Теплица вывезено и разрозненно стоит в ящиках в разных местах». 24 марта 1964 года он добавил: «…бытовые украшения замка – в различных замках, где утратили свою неповторимую принадлежность к известному интерьеру <…>. Портреты смешаны в одну кучу, и трудно установить их происхождение и т. д.».
…старика лет семидесяти с лишними. – Фотокопия этого портрета была воспроизведена в первом издании моей книги. Во втором издании представилась возможность поместить портрет графа, написанный в Петербурге в бытность его послом при русском дворе. Именно таким фельдмаршала-лейтенанта графа Фикельмона знал А. С. Пушкин.
Подлинник принадлежит московскому архитектору С. П. Хаджибаронову
С. 105. …которые она полностью разделяет, не были для нее новыми. – Надо сказать, что конфликт Адольфа с обществом чисто личный – он любит женщину, с которой, по мнению окружающих, не должен связывать свою судьбу. В конце концов молодой человек приходит к убеждению, что «…можно несколько времени бороться с участью, но должно наконец покориться ей: законы общества сильнее воли человеческой, и чувства самые повелительные разбиваются о роковое могущество обстоятельств. Напрасно упорствуешь, советуешься с одним сердцем своим: рано или поздно мы осуждены внять рассудку» (перевод П. А. Вяземского).
Однако опубликованная в 10-м томе историко-биографичес-кого альманаха «Прометей» за 1974 год статья Н. Б. Востоковой «Пушкин по архиву Бобринских» заставляет нас пересмотреть вопрос об отношении графини Долли к русской литературе вообще, и к творчеству Пушкина, в частности.
Мы узнаем, что в салоне Фикельмон состоялся литературный вечер, посвященный Пушкину.
10 октября 1831 года хорошая знакомая Пушкина графиня Софья Александровна Бобринская пишет своему мужу:
«…Я тебе говорила, что мадам Хитрово с дочерью Долли оказали мне честь, пригласив на литературный вечер. Был разговор только о Пушкине, о литературе и о новых произведениях» («Прометей», т. 10, с. 266).
До сих пор мы могли только предполагать, что в салоне Фикельмон велись разговоры не только о личности А. С. Пушкина,
который как человек заинтересовал графиню Долли при первой же встрече, но и о творчестве поэта. Теперь мы видим, что ему, по крайней мере однажды, был посвящен целый литературный вечер. Можно думать, что такие импровизированные Пушкинские вечера бывали у Фикельмон или в салоне ее матери и позднее, особенно при появлении новых произведений поэта.
Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА
С. 200. …Н. М. Еропкина… – Надежда Михайловна Еропкина (1808–1895) – дочь коллежского советника, двоюродная сестра П. В. Нащокина, впоследствии знакомая И. С. Тургенева и прототип одного из персонажей романа «Дым». Наблюдательная и умная девушка близко знала юную Гончарову, так как Гончаровы и Еропкины были знакомы домами, и оставила свои воспоминания о Наталье Николаевне и записанные с ее слов в 1882 году (с мало достоверными подробностями) воспоминания о встречах с Пушкиным в Москве (1830 г.).
С. 257. …которые время от времени возобновляются и в наши дни. – Из числа современных авторов с большим недоверием к истинности происшествия, о котором рассказал Нащокин, относится А. В. Флоровский. Обращаясь к дневнику графини, он справедливо замечает: «Молчание о факте не может быть опровержением самого факта». Вслед за этим автор тем не менее прибавляет: «Однако – в дневнике нет никаких следов тех переживаний, которые неминуемо должны были бы сопровождать развитие и апогей этого романа. Имя Пушкина, появляющееся на страницах дневника довольно редко, не вызывает у его автора никаких особых интонаций живого интереса или увлечения, что, казалось бы, должно неизбежно и положительно необходимо иметь место в случае достоверности этого романа, хотя бы кратковременного» (Флоровскмй. Пушкин на страницах дневника, с. 569). В отношении отсутствия у графини «живого интереса» к личности Пушкина А. В. Флоровский, безусловно, ошибается. Стоит перечесть им же впервые опубликованные выдержки из ее дневника, а также письма Фикельмон к Вяземскому, чтобы убедиться в противном. Каких-либо признаков увлечения поэтом в дневнике Дарьи Федоровны, действительно, нет до 22 ноября 1832 года, но что было дальше – мы не знаем. Живой Пушкин почему-то навсегда исчезает из писаний графини Долли. Есть в них только воспоминания о погибшем поэте.
Н. Каухчишвили, внимательно изучившая литературу, которая касается спорного вопроса, выдвигает свою собственную гипотезу (Дневник Фикельмон, с. 53–56). Она разделяет высказанное многими авторами мнение о неправдоподобности ночного приключения Пушкина и Фикельмон.
Исследовательница считает, что «Пушкин питал к Долли чувства горячей симпатии, вероятно, разделяемые посольшей, но маловероятно, чтобы она решилась компрометировать себя в самом дворце посольства, где помещались также некоторые другие чиновники».
Надо, однако, сказать, что, по-видимому, никто из авторов, споривших о рассказанной Нащокиным истории, не обследовал «место происшествия» – скромный на вид, но очень обширный трехэтажный дом, в котором имеется около ста помещений, многочисленные лестницы, площадки, коридоры и несколько выходов на улицы. Миланская жительница Н. Каухчишвили этого, естественно, сделать не могла, так же как и А. В. Флоровский, почти полвека состоявший профессором Пражского университета.
Отметив ряд малоправдоподобных мест в рассказе друга поэта, Н. Каухчишвили продолжает: «Я допускаю, что рассказы Нащокина, который все же близко знал салон Дарьи Федоровны, не совпадают с тем, что ему поведал Пушкин: возможно, что поэт сказал ему о том, какие чувства он питал к Дарье Федоровне, вероятно несколько их преувеличив, так что впоследствии Нащокин невольно их преувеличил еще больше (li aveva involontarimente ingigantiti).
H. Каухчишвили, следовательно, считает, что рассказ о «жаркой истории» является плодом воображения друга Пушкина, невольно исказившего действительные слова поэта.
С этой концепцией, на мой взгляд, согласиться нельзя. Речь ведь шла не о тех или иных чувствах поэта к графине, а о совершенно определенном эпизоде, рассказанном Пушкиным. Приходится снова повторить – либо это правда, и тогда поэт допустил лишь нескромность, открыв ее другу, либо это «устная новелла», а в действительности клевета Пушкина на ни в чем не повинную женщину. В последнее я верить отказываюсь и считаю, что это пятно с памяти поэта надо раз и навсегда смыть. Никакого среднего решения здесь быть не может.
Замечу еще, что «близко знать» салон Дарьи Федоровны П. В. Нащокин мог только со слов Пушкина (и, может быть, Вяземского). В годы знакомства поэта с Д. Ф. Фикельмон Павел Воинович не менее двух раз приезжал в Петербург, но никаких сведений о том, что он когда-либо был гостем графини, в литературе нет. Н. Каухчишвили их также не приводит.
Интересного литературного спора об автобиографическом характере одной из сцен «Пиковой дамы» (Н. Каухчишвили его категорически отрицает) я здесь касаться не могу. Этот спор мог бы послужить предметом специального исследования.
Не обнаружив в дневнике никаких следов романтического приключения графини Долли с Пушкиным, автор прибавляет все же: «Единственный элемент, который можно было бы рассматривать, как косвенное подтверждение известной внутренней тревоги, это подавленное состояние, проявляющееся в последние недели 1832 года, однако я скорее склонна объяснять его как первый симптом болезни, которая будет ее мучить в следующие годы <…>». Еще и еще раз приходится пожалеть о том, что Н. Каухчишвили не удалось опубликовать второй тетради дневника – было бы, в частности, существенно прочесть текст этих записей конца 1832 года. Автор приводит, правда, выдержку из той же записи 22 ноября, в которой последний раз упоминается имя Пушкина, выдержку, которая на первый взгляд может показаться многозначительной: «Не было ли бы во сто раз лучше погасить в своем сердце нежность, чем рисковать тем, что привяжешь к себе человека, который, не любя, будет только чувствовать усталость от того, что его любят» (Дневник Фикельмон, с. 56, 55).
Н. Каухчишвили, правда, считает, что в этих строках графиня Долли критикует «союзы» (unione), в которых нет уверенности на будущее, но, не зная полного текста записи, можно те же строки отнести и к переживаниям самой Фикельмон. У меня, однако, имеется фотокопия соответствующих страниц первой тетради дневника (с. 106–108), и из них мы узнаем, что Дарья Федоровна в данном случае имеет в виду графиню Софию Ивановну Лаваль (1802–1871), которая собирается выйти замуж за графа Борха.
Фикельмон не ожидает для Лаваль ничего хорошего от этого брака, так как она влюблена в своего жениха; а тот женится на ней по расчету.
Граф Александр Михайлович Борх родился в 1804 году. Его брат граф Иосиф Борх, служивший в Петербурге, назван в пасквиле, присланном Пушкину, «непременным секретарем» «светлейшего ордена рогоносцев». В записи Фикельмон от 22 ноября есть упоминание и о М-mе Борх, свояченице жениха Лаваль, которое, по всей вероятности, относится к жене этого «непременного секретаря», урожденной Любови Викентьевне Голынской, и поэтому представляет известный интерес: «М-me Борх – это маленькая хорошенькая картинка фламандской школы, но нет ничего особенно замечательного под этой беленькой и свежей оболочкой».
ОСОБНЯК НА ДВОРЦОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
С. 281. …на котором на этот раз Пушкин, по-видимому, не присутствовал. – В некоторых работах упоминается о том, что поэт был на этом балу. Авторы, по-видимому, основываются на записи Пушкина в дневнике под 28 февраля 1834 года: «Сегодня бал у австрийского посланника». Однако несколько дней спустя (8 марта) он отмечает: «Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон (куда я не явился, потому что все были в мундирах) цареубийцу Скарятина <…>». Речь здесь идет, по всей видимости, именно об официальном посольском бале 28 февраля.
С. 284. Фактическая топография этой части бывшей квартиры Фикелъмонов… – Внимание читателей привлекла небольшая статья Юрия Ракова «Дом Пиковой дамы» («Юность», 1969, № 2, с. 92), в которой автор подробно описывает сохранившуюся до наших дней опочивальню княгини Натальи Петровны Голицыной в некогда принадлежавшем ей доме-дворце (Ленинград, угол Дзержинского, б. Гороховой, и Гоголя, б. Малой Морской, № 10). Пушкин был знаком с этой престарелой статс-дамой (1741–1837), и, как известно, она послужила ему прототипом графини в «Пиковой даме». Ю. Раков считает, что именно ее спальня описана в знаменитой повести. Именно в нее проникает Германн с намерением выведать тайну трех карт.
На мой взгляд, сохранившаяся, по-видимому, без переделок, спальня Д. Ф. Фикельмон, ныне кабинет литературы Института культуры имени Н. К. Крупской, значительно больше соответствует как тексту «Пиковой дамы», так и рассказу Нащокина, записанному Бартеневым. В ней нет, например, как и в повести, такой существенной архитектурной детали, как «огромный альков во внутренней стене» опочивальни Голицыной, описанный Ю. Раковым.
Однако Пушкин, вводя в повесть автобиографический эпизод, естественно, не мог связать его с особняком на Дворцовой набережной. Дом «старинной архитектуры» на одной из главных улиц Петербурга», куда пробирается Германн, по расположению и внешнему виду действительно больше напоминает дворец Голицыной, чем особняк Салтыковых на набережной Невы.
Для читателей «Пиковой дамы», кроме, может быть, очень немногих близких друзей поэта и Д. Ф. Фикельмон, связь между некоторыми страницами повести и личной жизнью автора, несомненно, осталась тайной.
Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН О ДУЭЛИ И СМЕРТИ ПУШКИНА
С. 292. …князь Петр Владимирович Долгоруков. – В настоящее время заключение судебного эксперта А. Салькова, признавшего Долгорукова автором диплома, подвергается сомнению.
С. 294. …к весьма скромной дворянской семье… – Дантесы принадлежали к так называемой «наполеоновской знати». Представители старинных фамилий королевской Франции в то время (да и значительно позже) относились к ней свысока.
С. 298. …в духе семейной почтительности. – Л. Метман утверждает, например, что после смерти Екатерины Николаевны Геккерн-Дантес «неизменно отказывался от новой женитьбы» (Щеголев, с. 363). По-видимому, отказывался лишь до поры до времени, что вполне естественно для молодого вдовца (в год смерти жены Дантесу был всего тридцать один год).
Приведу по этому поводу выдержки из моего письма на имя директора Пушкинского дома от 18 февраля 1946 года (ИРЛИ): «…б. профессор международного права Братиславского университета (Чехословакия) Георгий Николаевич Гарин-Михайловский (сын писателя) передал мне и разрешил предать гласности следующее: «В июле – августе 1913 года он, Гарин-Михайловский, проживал в пансионе в Монтре (Швейцария) и там близко познакомился с пожилой дамой (лет 50–55), графиней Жорж де Сурдон, урожденной д’Антес (Georges de Sourdon néе d’Anthès), и ее дочерью Франсуазой (лет двадцати), жившими обычно в Дижоне. Графиня сказала Гарину-Михайловскому, что она дочь Дантеса, убившего Пушкина, от второго брака <…>. По словам Гарина-Михайловского, совершенно невероятно, чтобы эта пожилая почтенная француженка выдумала свое происхождение от Дантеса. Вследствие войны (1914–1918) Гарин-Михайловский потерял ее след».
Через несколько месяцев после нашего разговора Г. Н. Гарин-Михайловский скончался.
С. 299. …алитературой он почти совершенно не интересовался. – Есть, однако, сведения о том, что Геккерн-Дантес оставил три тома воспоминаний, опубликованные в Париже в 1909–1910 гг. под псевдонимом барона д’Амбес (d’Ambès). Щеголев (с. 367), ссылаясь на примечание издателя, указывает, что эти мемуары к Дантесу никакого отношения не имеют. По-видимому, однако, издатель просто не считал возможным раскрыть псевдоним.
Флерио де Лангль (Fleuriot de Langle), автор малоизвестной статьи «Дело д’Антеса – Пушкина» («L’afaire d’Anthès – Pouch-kine»), пишет: «Историки Второй Империи редко упоминают фамилию сенатора и думают, что он играл лишь малозначительную роль. Их мнение было бы, однако, совершенно иным, если бы они знали, что он является автором часто цитируемых ими «Воспоминаний», которые появились под псевдонимом барона д’Амбес. Эти анекдотические мемуары изобилуют чертами, свидетельствующими о том, насколько их составитель был интимно связан с жизнью двора, с секретами передних и с подноготной парламентской жизни с начала империи и до ее падения» («Le ruban rouge». 1963, № 19, декабрь, с. 87). Вопрос об авторстве Дантеса-Геккерна нуждается в исследовании. Если «Воспоминания» действительно составлены им, то, вероятно, сенатор продиктовал их своим секретарям, придавшим труду литературную форму.
С. 307. …подлинное отношение Николая I к «пресловутому Пушкину». – Царь употребил весьма пренебрежительное выражение «trop fameux Pouchkine» в письме к сестре Марии Павловне, великой герцогине Саксен-Веймарской, от 4/16 февраля 1837 года.
В письме к другой своей сестре Анне Павловне, жене принца Вильгельма Оранского, от 3/15 февраля того же года он назвал покойного поэта «trop célèbre Pouchkine». По-русски это несколько менее резкое выражение также передается прилагательным «пресловутый» (Е. Б. Муза и Д. Б. Сеземан. Неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина // Врем. ПК, 1962. Л., 1963, с. 38–39).
…о связи барона Дантеса-Геккерна с русским посольством в Париже. – 28 мая 1852 года посол Киселев сообщил в депеше канцлеру Нессельроде: «…Господин Дантес думает, и я разделяю его мнение, что Президент кончит тем, что провозгласит империю» (А. М. Зайончковский. Восточная война 1853–1856 гг., т. I. Приложения. СПб., 1908, с. 228). Много лет спустя, в день убийства Александра II, 1/13 марта 1881 года русский посол в Париже князь Орлов донес шифрованной телеграммой министру иностранных дел Гирсу: «Барон Геккерн-д’Антес сообщает сведение, полученное им из Женевы, как он полагает, из верного источника: женевские нигилисты утверждают, что большой удар будет нанесен в ближайший понедельник» (77. Гроссман. Карьера Дантеса. М., 1935, с. 33). Таким образом, Дантес, по-видимому, в течение многих лет был вхож в русское посольство и являлся его осведомителем.
С. 310. …устроиться где-либо трудно. – А. П. Арапова, ссылаясь на рассказ самого Дантеса одному из племянников покойной Екатерины Николаевны, утверждает, что барону Жоржу пришлось покинуть Францию из-за того, что «он через меру увлекся соблазнами всемирной столицы и принялся прожигать жизнь далеко не соразмерно своим весьма скромным средствам. Этим поведением он навлек ни себя гнев родителей; подчиниться им он не захотел, произошла размолвка и юному кутиле предоставлено было личной инициативой проложить себе путь в жизни» (Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1907, № 1141(1, 22 декабря, с. 6). Это сообщение в отношении парижских кутежей Дантеса вряд ли достоверно – средства его отца, как мы видели, в начале тридцатых годов были настолько ограничены, что «прожигать жизнь» молодому человеку, нигде не служившему, было совершенно не на что. Кроме того, размолвки «с родителями» в 1833 году быть не могло, так как мать Дантеса скончалась раньше. Вернее думать, что «проложить себе путь в жизни» Дантеса заставила не ссора с отцом, а просто тяжелое материальное положение семьи.
С. 311. Общеизвестно, что по пути в Россию он встретился с голландским посланником бароном Геккерном… – Рассказ о встрече Дантеса, тяжело заболевшего в каком-то германском городке, с Геккерном, который остановился в той же гостинице, где находился Дантес, принадлежит А. П. Араповой. По словам ее, она «передает здесь то, что он [Дантес] сам рассказал много лет спустя одному из племянников своей покойной жены».
Сейчас невозможно, конечно, установить, рассказал ли Дантес о том, что когда-то действительно случилось, или сочинил эту чувствительную историю об одиноком «старике» (Геккерну было тогда 42 года), который был настолько растроган видом страдающего юноши, «что с этой минуты уже не отходил более от него, проявляя заботливый уход самой нежной матери».
Л. Метман, который, казалось бы, должен был знать, как произошла встреча деда с его приемным отцом, никаких подробностей на этот счет не приводит.
С. 326. Возможно, что он считался с реакционными настроениями своего начальника. – Некоторые дипломаты, аккредитованные в Петербурге, отправили своим министрам по нескольку подробных донесений о дуэли и смерти Пушкина. Почти все они были лично знакомы с поэтом. Сардинский посланник граф Симонетти сообщил о петербургской драме в четырех депешах. Вюртембергский – князь Гогенлоэ-Кирхберг, бывший в дружеских отношениях с рядом наших писателей и женатый на русской, подробно и точно изложил события в семи последовательных депешах. Кроме того, он представил довольно обстоятельную записку о жизни и творчестве Пушкина. Саксонский – барон Лютцероде, отлично изучивший русский язык и даже переводивший Пушкина, в первом из четырех своих донесений назвал его первым поэтом современной эпохи со времени смерти Гёте и Байрона. Подобное донесение о дуэли и смерти Пушкина представил также баварский посланник граф Лерхенфельд. Враждебно относившийся к поэту прусский посол Либерман (он был единственным дипломатом, отказавшимся присутствовать на отпевании Пушкина) тем не менее обстоятельно писал о нем в семи депешах. Подробные сообщения представили и некоторые другие посланники[582].
По сравнению со многими из этих донесений депеша Фикельмона особенно выделяется своей сдержанностью.
С. 333. …было бы невозможно. – Интересна почти забытая история младшей дочери Дантеса и Екатерины Николаевны, история, которую восстановили в памяти почитателей Пушкина Ободовская и Дементьев.
Родив двух дочерей, Екатерина Николаевна, однако, страстно мечтала о сыне. Поэтому рождение третьей дочери Леони она встретила довольно холодно.
Матери не суждено было узнать, какая странная судьба уготована Леони. По словам парижского корреспондента газеты «Новое время», беседовавшего с сыном Дантеса, последний рассказал ему: «Пушкин! Как это имя связано с нашим! Знаете ли, что у меня была сестра, – она давно покойница, умерла душевнобольной. Эта девушка была до мозга костей русской. Здесь, в Париже, живя во французской семье, во французской обстановке, почти не зная русских, она изучила русский язык, говорила и писала по-русски получше многих русских. Она обожала Россию и больше всего на свете Пушкина».
Леони, видимо, была девушкой чрезвычайно одаренной. По уверению ее брата, она самоучкой прошла курс труднейшей Ecole Polytechnique[583], что уже совсем необычно для французской барышни, и «по словам своих профессоров, была первой…».
С. 336. …внебрачного сына, которого она привезла в Россию. – Матерью мальчика, родившегося в 1820 году, была венгерская графиня Форгач. В России воспитанник Е. М. Хитрово именовался Феликсом Николаевичем Эльстоном. После смерти Елизаветы Михайловны заботы о молодом человеке перешли к ее дочери графине Е. Ф. Тизенгаузен, которая впоследствии передала ему хранившиеся у нее письма Пушкина к матери. Женившись на последней в роде графине Е. С. Сумароковой, Ф. Н. Эльстон получил право присоединить к своей фамилии титул и фамилию жены. То же самое произошло и с его сыном Феликсом Феликсовичем, который женился на последней княжне Юсуповой. Таким образом потомки венгерского мальчика стали российскими князьями Юсуповыми, графами Сумароковыми-Эльстон. Сын Феликса Феликсовича, также Феликс, получил широкую известность как убийца Распутина.
С. 347. …он предложил А. М. Долгоруковой купить письма Пушкина, которые он ей показал. – Антонина Михайловна, как я хорошо помню, сказала мне, что, раскрыв пачку, она узнала почерк Пушкина, знакомый ей по репродукциям. Ее мужа П. Д. Долгорукова не было дома. Долгоруковы были очень образованными людьми (Петр Дмитриевич после короткой службы в Кавалергардском полку окончил историко-филологический факультет и, прежде чем купить письма, несомненно, потребовал бы соответствующей экспертизы). Лицо, желавшее продать им пушкинские письма, не могло об этом не знать.
Читая эту книгу, необходимо постоянно делать поправку на то, что Н. А. Раевский поставил своей задачей не рассказ об истинной судьбе поэта, а воссоздание голосов пушкинского времени, рассказ о нравах и настроениях некоторых современников поэта, об их восприятии и оценке событий, со всеми свойственными им ошибками и заблуждениями. Одним из заблуждений, порожденных интригами и клеветой, является светская сплетня об А. Н. Гончаровой. См. подробнее: «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1974, с. 490–493.
С. 351. …Бобринская… – София Александровна Бобринская была ровесницей Пушкина (1799–1866). Она была очень красивой и широкообразованной женщиной, хорошей знакомой А. С. Пушкина. Долгое время исследователи колебались, следует ли ее из-за ее добрых отношений с Дантесом причислить к лагерю врагов Пушкина. В настоящее время вопрос этот можно считать решенным отрицательно. София Александровна не одобряла поведение Пушкина последних преддуэльных месяцев. Тем не менее тщательный анализ отношений Бобринской – Пушкина, который дает Н. В. Востокова, основываясь на документах архива Бобринских, убедительно показывает, что София Александровна относилась к Пушкину отнюдь не враждебно.
С. 353. Я. Л. Левкович справедливо замечает, что дочь царя, касаясь гибели поэта, «в основном придерживается официальной версии – здесь фигурирует примирение Пушкина с царем, и признание гения Пушкина Николаем, и его скорбь по поэту» (указ. публикация), между тем как советскому литературоведению известны подлинные обстоятельства, раскрывающие социальный смысл гибели Пушкина и двуличие Николая I (Ред.).
Примечания
1
Comte F. de Sonis. Lettres du comte et de la comtesse de Ficquelmont à la comtesse Tiesenhausen (Граф Ф. де Сони. Письма графа и графини Фикельмон к графине Тизенгаузен). Paris, 1911. В дальнейшем: Сони.
(обратно)2
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 83.
(обратно)3
Там же. Т. 12. С. 33–34.
(обратно)4
В Чехословакии долгое время существовала только одна ученая степень – доктора. Она приблизительно соответствует нашей кандидатской.
(обратно)5
ИРЛИ.
(обратно)6
Флоровский А. В. Пушкин на страницах дневника графини Д. Ф. Фикельмон. «Slavia», Praha, 1959, rocn. XXVIII, ses. 4, с. 555–578.
Antonij Vasil’evič Florovski. Дневник графини Д. Ф. Фикельмон. Из материалов по истории русского общества тридцатых годов XIX века. Wiener slavistisches Jahrbuch, Graz-Köln, 1959, Bd. VII, с. 49–99.
Указанные работы в дальнейшем цитируются сокращенно: Флоровский. Пушкин на страницах дневника; Флоровский, дневник Фикельмон.
(обратно)7
Измайлов Н. В. Пушкин в переписке и дневниках современников. 2. Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон, Временник Пушкинской Комиссии (Врем. ПК), 1962. М.—Л., 1963. С. 32–37.
(обратно)8
Nina Kauchtschischwili. Il diario Dar’ja Fedorovna Ficquelmont (Нина Каухчишвили. Дневник Дарьи Федоровны Фикельмон). Milano, 1968. В дальнейшем: Дневник Фикельмон. Нина Михайловна Каухчишвили, грузинка по национальности, родилась за границей.
(обратно)9
Князь М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский. Письмо его к дочери графине Е. М. Тизенгаузен, во втором замужестве Хитрово // «Русская старина», 1874, июнь, с. 337–377. Оригиналы большинства писем по-французски.
(обратно)10
Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927, с. 149. В дальнейшем: Письма к Хитрово.
(обратно)11
Месяц и число, считавшиеся неизвестными, определяются по письму князя П. А. Вяземского к жене от 19 сентября 1832 года, в котором он сообщает, что «сегодня» празднуется день рождения Е. М. Хитрово (Звенья, IX, с. 457).
(обратно)12
По-видимому, во время похода Елизавета Михайловна, расставшаяся с маленькими дочерьми, сопровождала армию. В дни Аустерлица она, как можно думать, находилась в Тешене (ныне Чехословакия). Смерть мужа от нее сначала скрывали.
(обратно)13
«Русская старина», 1874, июль, с. 341.
(обратно)14
Сведения о том, что в петербургском салоне Е. М. Хитрово бывал и молодой Гоголь, едва ли соответствуют действительности.
(обратно)15
Дневник Фикельмон, с. 7.
(обратно)16
Н. Ф. Хитрово в 1811 году было уже 40 лет – возраст, по понятиям того времени, далеко не молодой.
(обратно)17
Из «Старой записной книжки» // «Русский архив», 1877, кн. I, с. 512–513.
(обратно)18
Федор Головкин. Двор и царствование Павла I. M., 1912, с. 365.
(обратно)19
«Из бумаг Николая Петровича Архарова» // «Русский архив», 1864, вып. 9-й, с. 908–909. Н. П. Архаров (1742–1814) – московский обер-полицмейстер.
(обратно)20
Дневник Фикельмон, с. 10.
(обратно)21
Обычно «bon-papa» значит «дедушка» (в фамильярной речи).
(обратно)22
Записи в дневнике, хранящемся в г. Дечине, начинаются с 28 февраля 1829 года, но до приезда Фикельмонов в Петербург (в ночь с 29 на 30 июня ст. ст.); публикатор приводит из них только выдержки.
(обратно)23
Д. Ф. Фикельмон, несомненно, говорит здесь об отчиме; отец ее был убит, когда Даше Тизенгаузен шел второй год.
(обратно)24
Флоровский. Дневник Фикельмон. С. 51. Каухчишвили. Дневник Фикельмон. С. 7.
(обратно)25
П. И. Бартенев. Рецензия на книгу Сони. // «Русский архив», 1911, кн. III, № 9, 2-я обложка.
(обратно)26
«Записки графа М. Д. Бутурлина». // «Русский архив», 1897, кн. 1, № 4, с. 594.
(обратно)27
Там же, с. 588, 592, 596.
(обратно)28
В действительности, как мы увидим, во Флоренцию русские приезжали часто и надолго.
(обратно)29
Федор Головкин. Двор и царствование Павла I. M., 1912. С. 346–379.
(обратно)30
Дневник Фикельмон. С. 15.
(обратно)31
Я уже отметил склонность Ф. Г. Головкина к преувеличениям. Тем не менее сообщаемые им сведения о жизни семьи Хитрово во Флоренции представляют значительный интерес. Никто из других авторов их не приводит.
(обратно)32
Вероятно, не «разные», а «резные», т. е. камеи.
(обратно)33
Не имея возможности ознакомиться с подлинником, я принужден цитировать перевод Кукеля, местами довольно неуклюжий.
(обратно)34
Знаменитые трагические актрисы того времени.
(обратно)35
Е. М. Хитрово обладала сильным голосом; известно, что она пела в домашней церкви Бутурлиных во Флоренции.
(обратно)36
Дневник Фикельмон, с. 18.
(обратно)37
Там же, с. 15.
(обратно)38
Marie Ulriehova. Lettres de Madame de Staёl conservees en Bohême (Мария Ульрихова. Письма М-me de Сталь, хранящиеся в Чехии). Prague, 1959, с. 79. Письма опубликованы с сохранением очень неправильной орфографии и пунктуации автора.
(обратно)39
Вероятно, М-me де Сталь имеет в виду сына Августа, немецкого писателя Вильгельма Шлегеля и своего друга Альберта Рокка, сопровождавших ее во время путешествия по Италии.
(обратно)40
Швейцарская резиденция де Сталь.
(обратно)41
В 1816 году М-me де Сталь (1766–1817) был 51 год. Год спустя она умерла.
(обратно)42
Дневник Фикельмон, с. 17.
(обратно)43
Там же, с. 179.
(обратно)44
Louis Simond. Voyage en Italie et en Sicile (Ryu Симон. Путешествие в Италию и Сицилию). V. I. Paris, 1828, р. 122–123 (фр.).
(обратно)45
От императора Александра I.
(обратно)46
В целях сокращения расходов по дипломатическому представительству обязанности поверенного в делах были переданы русскому послу в Риме А. Я. Италийскому.
(обратно)47
Ф. Г. Головкин, надо сказать, был русским только по имени. Он принадлежал к заграничной, совершенно обыностранившейся ветви этого графского рода, был лютеранином и совершенно не знал русского языка.
(обратно)48
Письмо А. Я. Булгакова к брату от 13/25 июня 1819 года («Русский архив», 1900, кн. III,с. 206).
(обратно)49
Не надо забывать, что понятие нации в современном смысле этого слова сложилось на Западе лишь во время Великой французской революции.
(обратно)50
Сведения о военной карьере Фикельмона заимствованы мною из составленного академиком Барантом (бывшим послом в России) краткого биографического очерка в кн.: «Pensées et refexions morales et politiques du comte de Ficquelmont ministre d’Etat en Autriche («Мысли и раздумья, нравственные и политические, графа Фикельмона, австрийского государственного министра»). Paris, 1859.
(обратно)51
Согласно Баранту – посланником, но я считаю более надежными сведения Н. Каухчишвили, работавшей в семейном архиве Фикельмонов в Чехословакии.
(обратно)52
ИРЛИ.
(обратно)53
Это обращение к супруге фельдмаршала непереводимо. «Госпожа маршальша» по-русски сказать нельзя.
(обратно)54
Дневник Фикельмон, с. 19.
(обратно)55
Н. В. Измайлов. Пушкин и Е. М. Хитрово // Письма к Хитрово, с. 155.
(обратно)56
Л. П. Гроссман. Устная новелла Пушкина // «Этюды о Пушкине». М.—Л., 1923, с. 81.
(обратно)57
Сони, с. 133.
(обратно)58
Там же, с. 137.
(обратно)59
Там же, с. 389.
(обратно)60
В архиве ИРЛИ хранятся четыре письма Фикельмона к Е. И. Кутузовой. Он встретился в ней в Италии, проезжая в 1822 году через Флоренцию, где Екатерина Ильинична провела несколько месяцев. В 1824 году она скончалась.
(обратно)61
Дневник Фикельмон, с. 22.
(обратно)62
Там же, с. 24.
(обратно)63
Дневник Фикельмон, с. 24. Запись в тетради, хранящейся в архиве Фикельмонов (г. Дечин) в общем футляре с двумя другими. Эти документы не входят в состав основного дневника.
(обратно)64
Для брака католика Фикельмона с православной потребовалось разрешение папы. Оно хранится в семейном архиве в Дечине (Дневник Фикельмон, с. 25).
(обратно)65
Дневник Фикельмон, с. 19.
(обратно)66
Каухчишвили упоминает о том, что они прибыли в Россию летом (Дневник Фикелъмон, с. 34). Однако 29 июля 1829 года Фикельмон отмечает, что в этот день она весело проводила время в гостиной вместе с матерью и сестрой впервые после трехсполовинойлетнего перерыва. (Курсив мой. – Н. Р.) Вероятно, Н. Каухчишвили права, считая, что Е. М. Хитрово поспешила на родину в связи со смертью Александра I, так как опасалась за свое еще не окончательно урегулированное финансовое положение.
(обратно)67
До этого он именовался королем Неаполитанским Фердинандом IV
(обратно)68
Дневник Фикельмон, с. 19.
(обратно)69
Там же.
(обратно)70
С 1841 года лорд Баргерш.
(обратно)71
Дневник Фикельмон, с, 43.
(обратно)72
Дневник Фикельмон, с. 33.
(обратно)73
ИРЛИ.
(обратно)74
В книге «Если заговорят портреты» я ошибочно указал, что поездка в Россию имела место в 1822 году.
(обратно)75
Напомним, что Е. М. Хитрово родилась 19 сентября 1773 года.
(обратно)76
Дневник Фикельмон, с 30.
(обратно)77
Всего в ИРЛИ (Пушкинском доме) имеется 16 писем Александра I. Десять из них обращены непосредственно к Долли Фикельмон; три адресованы Е. М. Хитрово; одна записка – гр. Е. Ф. Тизенгаузен (pour Catherine); одно письмо обращено к «Трио» (Е. М. Хитрово и ее дочерям).
(обратно)78
Обычных французских обращений я не перевожу.
(обратно)79
Дневник Фикельмон, с. 30.
(обратно)80
Дневник Фикельмон, с. 31.
(обратно)81
В подлиннике «Grande Duchesse Nicolas» – по-видимому, супруга великого князя Николая Павловича, впоследствии императора Николая I. В России это чисто французское обозначение не было принято.
(обратно)82
Дневник Фикельмон, с. 31.
(обратно)83
Там же, с. 31.
(обратно)84
Е. М. Хитрово царь, правда, знал уже давно, но не виделся с ней не менее восьми лет.
(обратно)85
Речь снова идет о больших Красносельских маневрах.
(обратно)86
ИРЛИ.
(обратно)87
Думаю, что адресатка, во всяком случае, не Елизавета Михайловна, так как ее мать, старую княгиню Кутузову, царь вряд ли бы назвал просто «маменькой» («maman»).
(обратно)88
Георгий Чулков. Императоры. М.-Л., 1928, с. 85.
(обратно)89
Там же.
(обратно)90
Дневник Фикельмон, с. 3.
(обратно)91
Дневник Фикельмон, с. 32.
(обратно)92
Там же.
(обратно)93
Дату возвращения Е. М. Хитрово и ее дочерей в Неаполь, вероятно, можно установить по материалам архива в Дечине, но в известных мне источниках она не указана.
(обратно)94
Дневник Фикельмон, с. 33.
(обратно)95
Сони, с. 111 (предисловие публикатора).
(обратно)96
Дневник Фикепьмон, с. 39–40.
(обратно)97
Домашнее имя Елизаветы-Александры.
(обратно)98
Дневник Фикепьмон, с. 34.
(обратно)99
Дневник Фикельмон, с. 34.
(обратно)100
«Journal de Saint-Pétersbourg», 1829, № 14 от 31 января (12 февраля).
(обратно)101
Д. П. Татищев (1769–1845), русский посол в Вене.
(обратно)102
Дневник Фикельмон, с. 34–35.
(обратно)103
«Journal de Saint-Pétersbourg». 1829, № 86 от 18 (30) июля.
(обратно)104
Граф Юлий Помпеевич Литта (1763–1839) был в действительности обер-камергером, впоследствии начальником Пушкина по его придворной службе.
(обратно)105
Дневник Фикельмон, с. 88.
(обратно)106
Д. Ф. Фикельмон в это время нет еще и двадцати пяти лет.
(обратно)107
Треуголку или другой военный головной убор. В пределах своей страны русские императоры всегда носили военную (изредка морскую) форму.
(обратно)108
В дальнейшем я, как общее правило, обозначаю цитаты из дневника Фикельмон только датами записей без указания страниц источников (книга Н. Каухчишвили, работы А. В. Флоровского – для записей 1832–1837 гг.).
(обратно)109
Современный адрес – Моховая, 41 (Пушкинский Петербург. Л., 1949, с. 406).
(обратно)110
Так называемые фрейлинские комнаты помещались в верхнем этаже дворца.
(обратно)111
В официальном русском сообщении о приеме Николаем 1 Фикельмона 30 января 1829 года, видимо, есть ошибка – граф значится в нем всего лишь генерал-майором, а год спустя он уже фельдмаршал-лейтенант (производство через чин в австрийской армии не практиковалось).
(обратно)112
Служебная переписка посла с канцлером хранится, как я уже упоминал, частью в Вене, частью в г. Дечине (Чехословакия). Я смог использовать лишь выдержки из нее, приведенные в книге Н. Каухчишвили, и давно известное донесение Фикельмона о дуэли и смерти Пушкина.
(обратно)113
Сони, с. 2.
(обратно)114
«Press», 1857, № 81. Цит. в «Biographisches Lexikon des Kaisertums Oesterreich», Bd. 13, IV. Wien, 1858, S. 223.
(обратно)115
Pensées et réfexions morales et politiques du comte de Ficquelmont (Мысли и раздумья, нравственные и политические, графа Фикельмона). Paris, 1859, р. 267.
(обратно)116
Marquis de Custine. La Russie en 1839 (Маркиз де Кюстин. Россия в 1839 году), V. 1–4, 2-me ed. Paris, 1843 (фр.).
(обратно)117
Сони, с. 50–51.
(обратно)118
Двухтомный труд Фикельмона «Lord Palmerston. L’Angleterre et le continent» («Лорд Пальмерстон. Англия и континент») (Paris, 1852) был запрещен в России (по-видимому, из-за критического отзыва о вел. кн. Константине Павловиче), хотя автор отзывается очень отрицательно о враждебной России политике Англии.
(обратно)119
Возможно, что «трио» издавна было ласковым прозвищем Елизаветы Михайловны и двух ее дочерей, причем в 1823 году оно стало известным Александру I.
(обратно)120
Нельзя забывать о том, что за исключением нескольких месяцев, проведенных в Центральной Европе и в России, она прожила в Италии без перерыва 13 лет.
(обратно)121
Дневник Фикельмон, с. 38.
(обратно)122
Сони, с. 38–39.
(обратно)123
«Journal de Saint-Pétersbourg», 1839, № 55, 9 (21) мая.
(обратно)124
ИРЛИ.
(обратно)125
Насколько я знаю, это был единственный случай, когда Д. Ф. Фикельмон побывала во Франции.
(обратно)126
Дневник Фикельмон, с. 43–44.
(обратно)127
Сони, с. 331.
(обратно)128
Там же, с. 393.
(обратно)129
Там же, с. 30.
(обратно)130
Lord Palmerston. England und der Kontinent, von K. L. Grafеn Ficquelmont. (Лорд Пальмерстон. Англия и континент, соч. графа К. Л. Фикельмона). Verlag A. Manz, 1852, с. 356–367. Я воспользовался чешским переводом этой любопытной цитаты, сделанным Сильвией Островской и сообщенным мне в письме. Немецкого издания я не видел, а разыскать ее во французском мне не удалось.
(обратно)131
Сони, с. 299.
(обратно)132
В настоящее время надгробие находится в Лазаревской усыпальнице (Александро-Невская лавра в Ленинграде).
(обратно)133
Сони, с. 154–155, 158–159, 161–165.
(обратно)134
Т. е. Меттерниха.
(обратно)135
«Русский архив», 1911, кн. III, № 9. 2-я обложка.
(обратно)136
«Памяти декабристов». Сборник материалов. I. Л., 1926, с. 40.
(обратно)137
Остафьевский архив кн. Вяземских, т. II, с. 354 (письмо от 1 декабря 1823 г.).
(обратно)138
Письма О. С. Павлищевой к мужу, Н. И. Павлищеву, в 1831 и 1832 гг. из Петербурга («Пушкин и его современники», вып. XV, с. 184).
(обратно)139
«Пушкин и его современники», вып. XXXVIII–XXXIX, 1930, с. 180–181.
(обратно)140
Абрам Эфрос. Пушкин портретист. М., 1946, с. 38, 209–214.
(обратно)141
В настоящее время С. Островская состоит старшим ассистентом кафедры факультета общественных наук Университета семнадцатого октября, созданного в Праге для зарубежных студентов.
(обратно)142
Sylvie Ostrovská. Vnučka M. 1. Kutuzova (Сильвия Островская. Внучка М. И. Кутузова), «Praha – Moskva», 1959, № 4, с. 254.
(обратно)143
Josef Polisensky. Opavský kongres roku 1820 a europská politika let 1820–1822 (Иозеф Полишенский. Конгресс в Опаве (Троппау) 1820 года и европейская политика 1820–1822 годов). Opava, 1822.
(обратно)144
ИРЛИ. Подлинник по-французски.
(обратно)145
1837–1957. Всесоюзная пушкинская выставка. Москва (Краткий путеводитель), с. 57. К. Л. Фикельмон. Литография Вагнера.
(обратно)146
Архив братьев Тургеневых, вып. 6-й. СПб., 1921, с. 276.
(обратно)147
Королевской.
(обратно)148
Характеристику Д. Ф. Фикельмон во многих отношениях значительно пополняет ее петербургская (в основном) переписка с кн. П. А. Вяземским, которую я излагаю в следующем очерке, а также отрывки из писем Дарьи Федоровны к мужу, опубликованные Н. Каухчишвили.
(обратно)149
Выдержки из французских писем Д. Ф. Фикельмон, за немногими исключениями, были мною переведены и впервые опубликованы по-русски в 1965 году. Письма в большинстве случаев обозначаются только датой их написания, так как издания, в которых они опубликованы, имеются лишь в очень немногих библиотеках Советского Союза.
(обратно)150
А. Хомутов. Из бумаг поэта И. И. Козлова // «Русский архив», 1886, кн. I. с. 184.
(обратно)151
Дневник Фикельмон, с. 22.
(обратно)152
Там же, с. 24.
(обратно)153
В своей статье «Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикольмон» (Врем. ПК. 1967–1968. Л., 1970, с. 14–32) М. И. Гиллельсон подробно разбирает вопрос об отношении графа Фикельмона к «Философическим письмам» Чаадаева (послу были известны первое и неопубликованное третье).
(обратно)154
Дневник Фикельмон, с. 76. Перевод М. И. Гиллельсона.
(обратно)155
Щеголев, с. 276.
(обратно)156
Дневник Фикельмон, с. 76. М. И. Гиллельсон считает, однако, утверждение Н. Каухчишвили о давнишней публикации первого письма во Франции явным недоразумением.
(обратно)157
Отзывы Д. Ф. Фикельмон о Ламеннэ читатель найдет в следующем очерке, посвященном переписке ее с кн. II. А. Вяземским.
(обратно)158
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 58.
(обратно)159
Pensées et réfexions morales et politiques du comte de Ficquelmont (Мысли и раздумья, нравственные и политические, графа Фикельмона). Paris, 1859, р. XXII.
(обратно)160
Время между праздниками Рождества и Крещения (от 25 декабря до 6 января ст. ст.).
(обратно)161
Архив села Михайловского, т. II, вып. I. СПб., 1902, с. 33–34.
(обратно)162
Письма к Хитрово, с. 40–46.
(обратно)163
Брат императрицы Александры Федоровны.
(обратно)164
Однако мы знаем портрет Лаваля, нарисованный Пушкиным, на котором граф выглядит вполне благообразным. Портрет воспроизведен в кн.: М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер-Цявловская. Рукою Пушкина. М.—Л., 1935.
(обратно)165
По-французски Grand Ours – Большой Медведь.
(обратно)166
Опера Джовани Спонтини.
(обратно)167
Остафьевский архив кн. Вяземских, т. III, с. 219.
(обратно)168
Волшебную лампу (фр.).
(обратно)169
«Русский архив», 1904, кн. I, с. 246.
(обратно)170
П. П. Вяземский. А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям // «Русский архив», 1884, кн. I, с. 422.
(обратно)171
В настоящее время – Малый зал филармонии. Хорошо известный ленинградцам бывший дом Энгельгардта (Невский, 30) сохранил, в общем, до наших дней тот же вид, который имел в 30-е годы XIX века.
(обратно)172
«Северная пчела», 1830, № 17, 8 февраля (цит. в кн.: «Пушкинский Петербург». Л., 1949, с. 266).
(обратно)173
Перевод записи об этом приключении сделан с фотокопии, с. 144–146 2-й тетради дневника. В 1965 году я смог воспользоваться лишь неточным ее изложением в статье А. В. Флоровского.
(обратно)174
Дневник Фикельмон, с. 36.
(обратно)175
Дочь Вяземского Полина (Прасковья), которой в это время было пятнадцать лет.
(обратно)176
Звенья, IX, с. 406–407.
(обратно)177
О М. Ю. Виельгорском скажем подробнее в последнем очерке.
(обратно)178
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 72. Напомним, что в 1836 году графиня была уже очень больна.
(обратно)179
Сони, с. 108, запись 25 января 1847.
(обратно)180
Архив братьев Тургеневых, вып. VI, с. 139.
(обратно)181
Дневник Фикельмон, с. 61.
(обратно)182
Сони, с. 241.
(обратно)183
Marquis de Salvo. Lord Byron en Italie et en Grèce (Маркиз де Сальво. Лорд Байрон в Италии и Греции). Londres, 1825 // Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910, с. 329–330.
(обратно)184
Вопреки первоначальному намерению Долли не делать из своего дневника сборника рассуждений, мы встречаем их на страницах дневника довольно часто.
(обратно)185
Дневник Фикельмон, с. 29.
(обратно)186
Герой одноименного романа Бенжамена Констана, переведенного Вяземским. Письмо до сих пор было известно только в переводе его сына Павла Петровича. Проверив перевод данного места по фотокопии подлинника, я сохранил его без изменений как достаточно точный.
(обратно)187
Дневник Фикельмон, с. 22.
(обратно)188
Французский епископ, проповедник.
(обратно)189
И. Каухчишвили не согласна с моим предположением о наличии у Фикельмон некой «душевной трещины» (автор называет ее «душевным диссонансом»). По ее мнению, приступы тоски у Долли объясняются прежде всего ее болезненным состоянием, которое делало для нее порой мучительным исполнение светских обязанностей (Дневник, с. 28–29). Однако нервное заболевание Дарьи Федоровны развилось значительно позднее – в дневниках 1829–1831 гг. она лишь изредка упоминает о головных болях и с увлечением рассказывает, например, об общественных маскарадах в доме Энгельгардта, на которые она совершенно не обязана была ездить.
Таким образом, на мой взгляд, причину ее душевного состояния в эти годы надо искать в чем-то другом.
(обратно)190
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 69.
(обратно)191
Возможно, впрочем, что графиня прочла только опубликованный ранее французский текст письма, если это издание действительно состоялось.
(обратно)192
Сони, с. 11.
(обратно)193
Там же, с. 50.
(обратно)194
П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., тт. VIII (1833), IX (1884), X (1886); П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813–1848. М., 1963.
(обратно)195
«Русский архив», 1877, кн. I, с. 513.
(обратно)196
Дневник Фикельмон, с. 62–70.
(обратно)197
П. П. Вяземский. А. С. Пушкин (1815–1837). По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям // «Русский архив», 1884, кн. II, с. 375–440.
(обратно)198
13 октября 1831 года из Петербурга («Литературное наследство», кн. 58, с. 106).
(обратно)199
Например, писем от 23 октября и 25 декабря 1830 года из Остафьева (П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813–1848. М., 1963, с. 200, 211).
(обратно)200
Sylvie Оstrоvska. Dopisy V. A. Žukovského a P. A. Vjiazemského v Cechách (Z pozustalosti Dariji Ficquelmontové a K. L. Ficquelmonta v dečinskem archivu) (Сильвия Островская. Письма В. А. Жуковского и П. А. Вяземского в Чехии. – Из материалов Дарьи Фикельмон и К. Л. Фикельмона в архиве г. Дечина) // «Ceskoslovenská rusistika», 1961, № 1. с. 162–167 (чешск.).
(обратно)201
Оригинал микрофильма передан в Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.
(обратно)202
Часть архива Фикельмонов, несомненно, была куда-то вывезена из Теплицкого замка в конце войны. По словам кн. К. К. Шварценберга, там хранились, например, оригиналы писем графа и графини Фикельмон к Е. Ф. Тизенгаузен, в свое время опубликованные графом де Сони. В фонды дечинского архива они не поступали.
(обратно)203
Эти письма были, правда, просмотрены А. В. Флоровским и Сильвией Островской, но остались неопубликованными.
(обратно)204
Звенья, VI, с. 248–249.
(обратно)205
П. А. Вяземский дожил до 86 лет, его жена (1790–1886), родившаяся при Екатерине II, умерла при Александре III, не дожив четырех лет до ста.
(обратно)206
Акад., XIII, с. 276.
(обратно)207
Н. Каухчишвили опубликовала в своей книге «L’ltalia nella vita е nell’opera di P. A. Vjazemskij» («Италия в жизни и творчестве П. А. Вяземского») (Milano, 1964) ряд русских писем Вяземского к сыну Павлу, в которых подробно описывается болезнь и смерть Полины Петровны.
(обратно)208
Николай Кутанов. Декабрист без декабря // «Декабристы и их время», т. II. М., 1932, с. 201–290.
(обратно)209
Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов // «Ученые записки Тартуского университета», вып. 98-й. Тарту, 1960, с. 75.
(обратно)210
П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813–1848. М., 1963, с. 311.
(обратно)211
Там же, с. 310–312.
(обратно)212
Там же, с. 315.
(обратно)213
Звенья, VI, с. 220.
(обратно)214
Там же, с. 242.
(обратно)215
П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813–1848. М., 1963, с. 168–211.
(обратно)216
Около 15 июля Вяземский уехал в Ревель.
(обратно)217
Взятые в скобки части этой записи приведены Флоровским, но отсутствуют у Каухчишвили, вероятно, по типографскому недосмотру.
(обратно)218
Звенья, VI, с. 246.
(обратно)219
Звенья, VI, с. 251.
(обратно)220
В природном виде (лат.).
(обратно)221
Напомним, что Е. Ф. Тизенгаузен родилась в 1803 году.
(обратно)222
Светские обычаи в России, как и всюду, с течением времени менялись. Лет сорок спустя в том кругу, к которому принадлежали Тизенгаузен и Вяземский (да и в гораздо более скромных семьях), такого рода подарки можно было делать лишь близким родственницам. Подношения прочим дамам и барышням обычно ограничивались цветами и конфетами.
(обратно)223
Звенья, IX, с. 406.
(обратно)224
Поездка за границу не состоялась, так как Е. Ф. Тизенгаузен через некоторое время выздоровела. Она дожила до глубокой старости и умерла 85 лет.
(обратно)225
Следует иметь в виду, что такие обращения, как «дорогой друг», «дорогой Вяземский» и т. п., по-французски звучат значительно менее интимно, чем по-русски; cher можно перевести как «любезный».
(обратно)226
Кузинами Дарья Федоровна именует не только своих двоюродных сестер, но и троюродных, которых у нее в Петербурге было несколько.
Из двоюродных она была наиболее близка с племянницами отца – Аделаидой Павловной Тизенгаузен, в замужестве Штакельберг (1807–1833) и ее сестрой Еленой Павловной (Лили), в замужестве Захаржевской (1804–1889). Нередко она упоминает и о племяннице матери Анне Матвеевне Толстой (1809–1897), в 1838 году вышедшей замуж за князя Леонида Михайловича Голицына.
Можно пожалеть о том, что старушки Захаржевская и Голицына, вероятно, встречавшиеся у Фикельмон с Пушкиным и прожившие очень долго, по-видимому, остались неизвестными своим современникам-пушкинистам.
(обратно)227
На фотокопии ясно читается слово «espérant» («надеясь»), но, вероятно, это описка Тизенгаузен. Следовало бы «espére» («надеется»).
(обратно)228
Возможно также, что Вяземский писал матери и дочери непосредственно после приезда в Москву (14 августа), но сведений об этом нет.
(обратно)229
Графиня Фикельмон всюду пишет «вы» (vous) со строчной буквы, князь Вяземский – с прописной. В переводе я сохраняю эту особенность транскрипции.
(обратно)230
За неимением подходящего русского термина я перевел таким образом бывшее в ходу в кружке Фикельмон слово «baillements» (дословно «зевоты» или «позевывания»). Долли называла так интимные собрания ее близких друзей.
(обратно)231
Много лет спустя П. А. Вяземский, характеризуя салон Фикельмон-Хитрово, употребил почти те же выражения («Русский архив», 1877, кн. I, с. 513).
(обратно)232
Дневник Фикельмон, с. 63.
(обратно)233
В 1821 году И. И. Козлов окончательно ослеп.
(обратно)234
Замысел этого романа Вяземским осуществлен не был.
(обратно)235
Storia della venti settima revoluzione del fudellisimo populo di Napoli (ит.). Мне не удалось установить, что это за произведение.
(обратно)236
Письмо послано во время холерной эпидемии и одновременно войны в Польше.
(обратно)237
Дословно – «из любви ко мне». В переводе я не употребил слова «любовь», так как по-французски здесь лишь игра слов, впрочем, довольно смелая.
(обратно)238
За основу перевода настоящего отрывка взят ставший традиционным текст П. П. Вяземского («Русский архив», 1884, кн. II, с. 419). Перевод сына Вяземского мною несколько уточнен.
(обратно)239
В дневнике краткие записки о петербургских событиях есть за 23 и 26 июня (Дневник Фикельмон, с. 164–165).
(обратно)240
Курсивом напечатано подчеркнутое Д. Ф. Фикельмон.
(обратно)241
Речь идет, очевидно, о подарке Вяземского. Приходится еще раз повторять, что во второй половине XIX века такой подарок даме «большого света» был бы совершенно невозможен.
(обратно)242
Граф Александр Федорович Ланжерон (род. в 1763 году) скончался в Петербурге 4 июля 1831 года. Пушкин встречался с ним в Одессе в 1823–1824 гг., когда Ланжерон уже был уволен от должности новороссийского генерал-губернатора, которую он занимал с 1815 по 1823 год. В Петербург Ланжерон приехал в начале 1831 года. Будучи близким знакомым Хитрово-Фикельмон, он мог встречаться у них с поэтом во время пребывания Пушкина в столице, приехавшего туда с женой из Москвы 18 мая 1831 года и через неделю (25 мая) переехавшего в Царское Село.
(обратно)243
П. А. Вяземский, несомненно, знал, кого Е. М. Хитрово называла «обскурантами». Сейчас это место ее письма непонятно.
(обратно)244
Граф Станислав Станиславович Потоцкий, обер-церемониймейстер царского двора (1785–1831).
(обратно)245
Об этой пожилой польской даме Долли Фикельмон пишет в дневнике 2 января 1831 года: «М-me Вансович, фанатичная и экзальтированная, сделает, возможно, много зла, так как женщины во все времена имели в Польше большое влияние».
(обратно)246
Дневник Фикельмон, с. 156.
(обратно)247
Там же, с. 51.
(обратно)248
Вполне современный термин «criminali di guerra», взятый в кавычки, несомненно, принадлежит Н. Каухчишвили.
(обратно)249
Его предшественник И. И. Дибич-Забалканский скончался от холеры 29 мая.
(обратно)250
Римский храм двуликого божества Януса открывался только во время войны, а в мирное время оставался закрытым.
(обратно)251
Графиня Ж. А. Грудзинская вышла замуж за великого князя Константина Павловича, бывшего тогда наследником престола, в 1820 году. Вяземский был выслан из Варшавы в апреле 1821 года. Остается неизвестным, встречалась ли его жена в Варшаве с Жаннетой Антоновной после ее замужества.
(обратно)252
Письма кХитрово, с. 91–95.
(обратно)253
Там же, с. 154, 157.
(обратно)254
Фикельмон, несомненно, имеет в виду участие в Великой французской революции маркиза Марка-Рене Монталамбера, который отказался эмигрировать и сотрудничал с Карно. «Совсем молодой Монталамбер» – граф Шарль де Монталамбер (1810–1871).
(обратно)255
Трехдневное восстание в Париже (27–29 июля 1830 года), которое принудило Карла X отречься от престола. Королем был провозглашен герцог Орлеанский, принявший имя Луи-Филиппа.
(обратно)256
В пятой записной книжке Вяземского имеются выписки из речи защитника Ламеннэ на этом процессе (П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813–1848. М., 1963, с. 140–141).
(обратно)257
Видный французский писатель (1772–1825), блестящий памфлетист. Занимался садоводством как профессионал.
(обратно)258
Вяземский, по всей вероятности, имеет в виду общественное движение во Франции, которое перед падением Варшавы проявлялось особенно бурно. В парламенте ряд депутатов требовал немедленного вооруженного вмешательства в пользу поляков. Воинственное настроение и страх перед «варварской Россией», которая, расправившись с Польшей, будто бы намеревается напасть на Францию, проникло даже в крайне консервативную крестьянскую среду.
(обратно)259
Остафьевский архив князей Вяземских, т. II, с. 355. Дату письма, по всей вероятности, следует читать «1 ноября», а не «1 октября».
(обратно)260
Дневник Фикельмон, с. 31.
(обратно)261
Светлейшая княгиня Екатерина Ильинична Голенищева-Кутузова-Смоленская (1754–1824), урожденная Бибикова, вдова фельдмаршала. Екатерина Ильинична, несмотря на свои годы, проводила дочь и внучек на расстояние полутора суток пути.
(обратно)262
М-mе де Севинье (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné; 1626–1696) – автор ставших классическими писем, большая часть которых адресована ее дочери, М-me де Гриньян (de Grignan).
(обратно)263
«Молодая Франция» («Jeune France») – название, которое около 1830 года было дано группе писателей-романтиков, составивших левое крыло школы и стремившихся «поражать буржуазию» («épater les bourgeois»).
(обратно)264
Привожу немного измененный перевод П. П. Вяземского.
(обратно)265
Орест Михайлович Сомов (1793–1833), литератор, друг Дельвига, знакомый Пушкина.
(обратно)266
Н. В. Измайлов. Пушкин и Е. М. Хитрово // Письма к Хитрово, с. 187.
(обратно)267
Набранное курсивом в данном письме по-русски.
(обратно)268
«Русская старина», 1874, июнь, с. 342. В публикации год написания соответствующего письма М. И. Кутузова (1807), вероятно, указан неправильно – его внучке было тогда четыре года.
(обратно)269
Сделанный Вяземским перевод романа Бенжамена Констана вышел в свет осенью 1831 года.
(обратно)270
Судя по этой фразе, можно думать, что Фикельмон не только забыла русский разговорный язык, живя в Италии, но, вероятно, и в детстве плохо им владела.
(обратно)271
Дневник Фикельмон.
(обратно)272
Сони, с. 75. Будучи принцем Саксен-Кобургским, Леопольд I служил некоторое время в русской армии.
(обратно)273
Как уже было сказано, все упоминания о Пушкине будут рассмотрены в следующем очерке.
(обратно)274
Звенья, IX, с. 227.
(обратно)275
Цитаты из дневника за 1832 и последующие годы приводятся в моем переводе из венской работы А. В. Флоровского «Дневник графини Д. Ф. Фикельмон».
(обратно)276
В записке упоминается о присылке газеты «L’Avenir», обещанной Вяземскому еще во время его пребывания в Москве. Последний номер этой газеты вышел 15 ноября 1831 года.
(обратно)277
Звенья, IX, с. 307, 309.
(обратно)278
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 83.
(обратно)279
Следует читать – в 1832 году.
(обратно)280
В отношении двух младших детей – десятилетней Надежды и двенадцатилетнего Павла это, вероятно, неверно.
(обратно)281
Возможно, в связи с выходом замуж за П. А. Валуева.
(обратно)282
Анна Андреевна (урожд. княжна Щербатова; ум. в 1848 году) жена Д. Н. Блудова, бывшего в это время министром внутренних дел.
(обратно)283
Луиза Карловна (урожд. принцесса Бирон; 1791–1853), жена М. Ю. Виельгорского.
(обратно)284
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 83.
(обратно)285
Сони, с. 380.
(обратно)286
Не дошедшее до нас соболезнование по поводу смерти Пашеньки Вяземской, вероятно, было адресовано ее матери.
(обратно)287
Вдова историографа Екатерина Андреевна Карамзина.
(обратно)288
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 70.
(обратно)289
Сент-Бёв Шарль-Огюстен (1804–1869). В молодости – видный романтический поэт, писавший под псевдонимом Жозеф Делорм. Постепенно он стал крупнейшим литературным критиком. Пушкин высоко ставил его ранние поэтические произведения и в письме от 19–24 мая 1830 года просил Е. М. Хитрово прислать ему в Москву один из сборников Сент-Бёва. В 1834 году этот поэт выпустил сборник «Volupté» («Наслаждение»), который, вероятно, и вызвал резкий отзыв больной Фикельмон.
(обратно)290
Между с. 82 и 83.
(обратно)291
Monsieur! Monsieur! – единственное обращение к Вяземскому во всей нам известной переписке Фикельмон. Возможно, впрочем, что она решила пошутить.
(обратно)292
Зиму 1834/35 года Вяземские провели в Риме, где, как мы знаем, 11 (23) марта 1835 года скончалась их дочь Полина. Следующая зима была для их семьи траурной.
(обратно)293
Звенья, IX, с. 431–432.
(обратно)294
Перевод М. С. Боровковой-Майковой.
(обратно)295
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 82.
(обратно)296
Дневник Фикельмон, с. 70.
(обратно)297
Письмо Вяземского к жене от 9 июня 1830 года (Звенья, VI, с. 270).
(обратно)298
Звенья, с. 220.
(обратно)299
См. очерк «Фикельмоны», с. 98.
(обратно)300
Письма к Хитрово, с. 173–174.
(обратно)301
ИРЛИ.
(обратно)302
Письма к Хитрово, с. 61.
(обратно)303
Там же.
(обратно)304
М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер-Цявловская. Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 322–323.
(обратно)305
Приношу благодарность директору Архивного управления Чехословакии инженеру Ярославу Свобода (Прага), приславшему мне, по просьбе Сильвии Островской, отличный микрофильм части дневника Фикельмон.
(обратно)306
Это выражение не оригинально, оно встречается у Вольтера и, по– видимому, было ходовым во французском языке.
(обратно)307
Курсивом напечатана часть записи, опубликованная А. В. Флоровским и переведенная Н. В. Измайловым (Н. В. Измайлов. Пушкин в переписке и дневниках современников. Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон. – Врем. ПК. М.-Л., 1963, с. 33). Дальнейшие упоминания о Пушкине в дневнике Д. Ф. Фикельмон приводятся в переводе Н. В. Измайлова.
(обратно)308
Любопытно мнение о наружности Пушкина В. И. Анненковой, урожденной Бухариной. Она считала, что поэт «изысканно и очаровательно некрасив».
(обратно)309
П. И. Бартенев. Рецензия на книгу F. de Sonis // «Русский архив», 1911, сентябрь, 2-я обложка.
(обратно)310
Я пользуюсь транскрипцией «Геккерн», принятой в настоящее время Пушкинским домом, сохраняя традиционное написание «Геккерен» в цитатах.
(обратно)311
Пушкин, несомненно, встречался и еще с одним чиновником австрийского посольства князем Францем Лобковицем, молодым еще человеком (родился в 1800 году), несколько прикосновенным к литературе. Опубликованные части дневника показывают, что Лобковиц, приехав в Петербург в августе 1829 года, во всяком случае, продолжал служить в посольстве до конца 1832 года.
Незадолго до конца войны я познакомился в Праге с правнуком его брата, Яном Лобковицем, который обещал мне со временем показать хранившиеся у него бумаги дипломата. К сожалению, замок его был реквизирован гитлеровцами, и этот источник, быть может, также интересный, остался для меня недоступным.
(обратно)312
В публикации А. В. Флоровского, как показывает фотокопия соответствующей страницы дневника, дважды повторенное слово «partout» (всюду) было прочитано неправильно, что несколько изменило смысл отрывка. Можно было предположить, что Пушкина опознали только у Олениных, что я и сделал в книге «Если заговорят портреты».
(обратно)313
Звенья, VI, с. 220.
(обратно)314
Там же, с. 239–240.
(обратно)315
Там же, с. 244.
(обратно)316
Акад., XVI, с. 429–430.
(обратно)317
Д. Благой. Новое письмо А. С. Пушкина // «Вестник Московского университета». Серия «Общественные науки», 1950, № 1, с. 167–170.
(обратно)318
Внесенные мною в перевод изменения отмечены курсивом.
(обратно)319
Вопрос о Фикельмон как о прототипе Татьяны-княгини я пока оставляю в стороне.
(обратно)320
Сохранился, например, черновик письма Пушкина к «приставу» (коменданту) Военно-Грузинской дороги Б. Г. Чиляеву от 24 мая 1829 года.
(обратно)321
По светским обычаям, существовавшим в России, дамы к тому же в подобных случаях обычно не писали первыми. Сам Пушкин, очевидно, не счел ранее нужным написать Фикельмон в Петербург.
(обратно)322
В десятых годах, будучи гимназистом, я видел в Каменец-Подольске, как актер, игравший Чацкого, сказав: «Чуть свет – уж на ногах, и я у ваших ног», – опустился перед Софьей на одно колено. Очевидно, и он, и провинциальный режиссер понимали трафаретную форму буквально.
(обратно)323
Пушкин имеет в виду библейский рассказ о жене египтянина Пентефрия (Петифара), домогавшейся любви молодого Иосифа.
(обратно)324
ЦГАЛИ.
(обратно)325
Отрывок публикуется впервые в этой книге.
(обратно)326
ЦГАЛИ.
(обратно)327
ЦГАЛИ.
(обратно)328
19 или 20 июня, очевидно, еще до установления карантинов, Пушкин благодарит в письме Е. М. Хитрово за присылку запрещенной к ввозу в Россию книги Минье.
(обратно)329
См. очерк «Переписка друзей».
(обратно)330
Сверив ставший традиционным перевод П. П. Вяземского с фотокопией подлинника, я добавил пропущенные Павлом Петровичем слова «у такой молодой особы» и «еще» (в последней фразе), а также несколько изменил пунктуацию. Курсивом выделено слово «предчувствие», подчеркнутое Фикельмон.
Точную транскрипцию французского текста письма опубликовала Н. Каухчишвили. Дневник Фикельмон, с. 188.
(обратно)331
Сони, с. 214. Дословно: «Иметь глаз на кончике носа».
(обратно)332
Дополненный мною перевод сличен с фотокопией с. 106–107 второй тетради дневника.
(обратно)333
Флоровский. Пушкин на страницах дневника, с. 570.
(обратно)334
Флоровский. Пушкин на страницах дневника, с. 565. Фотокопии этой записи я не получил.
(обратно)335
А. П. Арапова. Приложение к «Новому времени», 1907–1908 гг.
(обратно)336
Лучше не скажешь (фр.).
(обратно)337
Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. Изд-во Русского архива, 1895, с. 256.
(обратно)338
Письмо от 26 марта 1831 года.
(обратно)339
Письмо от 21 августа 1833 года.
(обратно)340
Врем. ПК, 1972, с. 113–114.
(обратно)341
Безупречно.
(обратно)342
Отзывается невоспитанностью… вульгарно.
(обратно)343
А. А. Фомин. Петр Николаевич Тургенев и его дар русской науке // «Отчет Отделения русского языка и словесности». СПб., 1912. Приложения, с. 60–65.
(обратно)344
Публикатор неправильно прочел «rol» (хоботок бабочки) вместо «vol» (полет), как это видно из приложенного факсимиле части письма.
(обратно)345
Вероятно, это намек на известное стихотворение «Цветы осенние милей…», которое Пушкин посвятил П. А. Осиповой.
(обратно)346
Архив Араповой – ИРЛИ.
(обратно)347
«Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой». Париж, 1936, издание Сергея Лифаря.
(обратно)348
«Вокруг Пушкина», с. 7.
(обратно)349
М. Яшин. Пушкин и Гончаровы // «Звезда», 1964, № 8, с. 169–189.
(обратно)350
Николай Михайлович Л онгинов, статс-секретарь по принятию прошений на высочайшее имя, член Государственного совета.
(обратно)351
Судя по письму Натальи Николаевны, Пушкин намеревался хлопотать по делу Гончаровых перед своим давнишним знакомым, с 1832 года министром юстиции, Д. В. Дашковым.
(обратно)352
Это издание не было осуществлено.
(обратно)353
ЦГАЛИ.
(обратно)354
Упоминая о Пушкине, Фикельмон часто прибавляет «писатель» или «поэт» – вероятно, чтобы отличить его от своих знакомых графов Мусиных-Пушкиных.
(обратно)355
Звенья, IX, с. 357.
(обратно)356
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 87. Содержание записей не приведено.
(обратно)357
Звенья, IХ, с. 437–438.
(обратно)358
Щеголев, с. 53.
(обратно)359
«Волочиться» в то время не очень резало слух и почти соответствовало вполне благопристойному глаголу «ухаживать».
(обратно)360
Флоровский. Пушкин на страницах дневника, с. 566. Фотокопией этой записки я не располагаю.
(обратно)361
Наталья Николаевна, по-видимому, сохранила все письма мужа, несмотря на то, что в некоторых из них наряду с большой любовью и лаской есть и крайне резкие отзывы о ее кокетстве. Это, несомненно, делает честь ее правдивости и мужеству.
Что касается остальных писем поэта, то, по мнению некоторых исследователей, до нас дошла лишь примерно треть их. Вполне возможно поэтому, что мы не знаем и некоторых высказываний Пушкина о Фикельмон.
(обратно)362
Кровосмешения.
(обратно)363
Звенья, VI, с. 242.
(обратно)364
Был весь захвачен переживаемым им моментом (фр.).
(обратно)365
Баронесса Амалия Максимилиановна Крюднер, внебрачная дочь баварского посланника графа Лерхенфельда.
(обратно)366
В. Нечаева. Пушкин в письмах П. А. Вяземского к жене (1830–1838) // «Литературное наследство», т. 16–18, с. 807.
(обратно)367
Л. Н. Павлищев. Воспоминания о Пушкине. М., 1890, с. 242, 271, 380, 426.
(обратно)368
Император и императрица, согласно этикету, появлялись в домах послов только в официальных случаях.
(обратно)369
Впервые напечатано (без подписи автора) в журнале «Русский архив», 1877, кн. I, № 4, с. 513–514. Многократно перепечатывалось.
(обратно)370
П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 220.
(обратно)371
А. С. Хомяков. Соч., т. VIII. М., 1900, с. 89–90 (письмо к Н. М. Языкову, февраль 1837 года).
(обратно)372
О внутренней российской политике в письмах, большею частью посылавшихся по почте, естественно, не говорится.
(обратно)373
Обширное исследование об откликах на эти стихотворения в России и за рубежом опубликовал В. А. Францев («Пушкин и польское восстание 1830–1831 года. Опыт исторического комментария к стихотворениям «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» // Пушкинский сборник. Прага, 1929, с. 65—208).
(обратно)374
П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813–1848. М., 1963, с. 211–213.
(обратно)375
Там же, с. 214–215.
(обратно)376
«Русский архив», 1895, кн. II, с. 110–113. В публикации приведен также французский текст подлинника. Перевод оказался точным.
(обратно)377
Перевод мой – Н. Р. Письмо опубликовано в «Литературном наследстве», т. 58, с. 106.
(обратно)378
Набранное в скобках – в подлиннике по-русски.
(обратно)379
Письма к Хитрово, с. 133.
(обратно)380
Дневник Фикельмон, с. 51–52. Перевод М. И. Гиллельсона.
Посол не ошибается – обе оды Пушкина и стихотворение Жуковского «Старая песня на новый лад» были представлены Николаю 1–5 сентября 1831 года. 14 сентября они уже вышли в свет в виде брошюры «На взятие Варшавы».
(обратно)381
Дневник Фикельмон, с. 202–203.
(обратно)382
Стих «Вопрос, которого не разрешите вы» переведен: «Се n’ est pas à nous à décider cette question» («Не нам разрешить этот вопрос»). Достаточно, однако, в слове «nous» вместо «n» поставить «v», и перевод станет правильным.
(обратно)383
Н. Каухчишвили обнаружила там ряд весьма интересных писем этого дипломата.
(обратно)384
Дневник Фикельмон, с. 58. Перевод М. И. Гиллельсона.
(обратно)385
Там же, с. 168.
(обратно)386
А. О’Сюлливан де Грасс (1798–1866) при содействии графа Фикельмона, рекомендовавшего его Меттерниху, в 1834 году был назначен бельгийским поверенным в делах в Вене (позднее получил ранг посланника). Он оставался на этом посту в течение ряда лет. Д. Ф. Фикельмон в письмах к сестре не раз упоминает о встречах с О’Сюлливаном. 26 апреля 1848 года она с большой грустью сообщает о смерти его жены, с которой была в дружеских отношениях.
О’Сюлливан писал и стихи. По словам Н. Каухчишвили, в тетради Долли 1831 года имеются два его стихотворения, посвященных Фикельмон. Известно также его стихотворение (конечно, французское) «Волосы Вероники», прочитанное на костюмированном балу у великой княгини Елены Павловны 4 января 1830 года.
(обратно)387
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 80.
(обратно)388
Sylvie Ostrovská. Dopisy V. A. Žukovského a P. A. Viazemského v Čechach (Письма В. А. Жуковского и П. А. Вяземского в Чехии) // «Československá Rusistika», 1961, № 1, с. 162–167.
(обратно)389
Лицо не установленное.
(обратно)390
Дневник В. А. Жуковского с примечаниями И. А. Бычкова. С.-Петербург, 1903, с. 462.
(обратно)391
ЦГАЛИ.
(обратно)392
В. А. Жуковский сопровождал своего воспитанника великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II). Как видно, он относился с полным доверием к своей приятельнице Долли Фикельмон, так как позволил себе критиковать план путешествия, утвержденный царем.
(обратно)393
М. И. Гиллельсон. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969, с. 293.
(обратно)394
Сони, с. 73–74.
(обратно)395
Второе письмо Жуковского, опубликованное С. Островской.
(обратно)396
Сони, с. 368.
(обратно)397
Дневник Фикельмон, с. 72.
(обратно)398
В 1824 году Тургенев за свои либеральные взгляды был уволен в отставку и до конца жизни находился в полуопальном положении. К движению декабристов он не примкнул, но являлся убежденным противником крепостного права.
(обратно)399
Именем Дон Базилио, хитрого и фальшиво-набожного персонажа из знаменитой комедии Бомарше «Севильский цирюльник», Пушкин, по мнению комментаторов, обозначил, вероятно, тогдашнего министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына. А. И. Тургенев состоял в это время директором департамента этого министерства.
(обратно)400
Сведения о наездах А. И. Тургенева в Петербург и его заграничных путешествиях заимствованы мною преимущественно из статьи М. Гиллельсона «А. И. Тургенев и его литературное наследие» (в кн.: А. И. Тургенев. Хроника Русского. Дневник (1825–1826). М.-Л., 1964, с. 441–504).
(обратно)401
ИРЛИ.
(обратно)402
Réponse s’îl vous plaît – просим ответить (общепринятая и в настоящее время на Западе светская формула).
(обратно)403
По всей вероятности, Вяземский имеет в виду записку «О народном воспитании», составленную Пушкиным по заданию Николая I в 1826 году. Тургенев не мог с ней ознакомиться раньше, так как с середины июля этого года он непрерывно жил за границей, а поручение царя было передано Пушкину шефом жандармов А. X. Бенкендорфом 30 сентября 1826 года.
(обратно)404
ИРЛИ.
(обратно)405
По всей вероятности, Е. М. Хитрово ухаживала за дочерью Екатериной, у которой в это время было длительное заболевание легких.
(обратно)406
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 80.
(обратно)407
ИРЛИ.
(обратно)408
Роман Джовани Розини.
(обратно)409
Остафьевский архив князей Вяземских, т. III, с. 262.
(обратно)410
Щеголев, с. 272–300.
(обратно)411
Возможно, что существовал когда-то и дневник Екатерины Федоровны Тизенгаузен, прожившей долгую и неспокойную жизнь (1803–1888). Быть может, он и в данное время где-нибудь хранится «под спудом», но о судьбе ее бумаг сейчас мы ничего не знаем.
(обратно)412
Александр Яковлевич Булгаков (1781–1863), московский почт-директор.
(обратно)413
Е. Н. Коншина. Из писем А. И. Тургенева к А. Я. Булгакову. «Московский пушкинист», I, с. 34.
(обратно)414
Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба // «Русский архив», 1865, с. 751.
(обратно)415
П. И. Бартенев. Рецензия на книгу III «Старины и новизны» // «Русский архив», 1901, август, 1-я обложка.
(обратно)416
П. И. Бартенев. Пушкин и Великопольский // «Русский архив», 1884, кн. I, с. 465.
(обратно)417
М. А. Цявловский. Пушкин и графиня Д. Ф. Фикельмон // «Голос минувшего», 1922, № 2, с. 108–123. Рассказ был снова опубликован Цявловским с подробным комментарием в кн. «Рассказы о Пушкине», с. 36–37, 98—101. С сокращениями неоднократно перепечатывался.
(обратно)418
Л. П. Гроссман. Устная новелла Пушкина // Этюды о Пушкине. М., 1923, с. 111.
(обратно)419
Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, с. 341.
(обратно)420
Возможно, однако, что А. В. Флоровский прав, выдвигая другое предположение, – запись Анненкова, быть может основана на ранее им слышанном рассказе того же П. В. Нащокина (Флоровский. Пушкин на страницах дневника, с. 568).
(обратно)421
А. С. Пушкин. Пиковая дама. Пг., Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1917, с. XX.
(обратно)422
Королевской птицей (фр.).
(обратно)423
«Русская старина», 1874, июль, с. 337–377.
(обратно)424
Сони, с. 229.
(обратно)425
Там же, с. 232.
(обратно)426
Сони, с. 224.
(обратно)427
Там же, с. 396.
(обратно)428
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 77–78.
(обратно)429
Там же, с. 78.
(обратно)430
Там же, с. 127.
(обратно)431
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 85.
(обратно)432
Письма к Хитрово, с. 56–57.
(обратно)433
Основываясь на этом именно соображении, Н. В. Измайлов в свое время полагал, что романтический эпизод, если он на самом деле был, следует отнести ко времени до женитьбы (Письма к Хитрово, с. 56–57).
(обратно)434
Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 58.
(обратно)435
Приходится, однако, не забывать, что слабеющая память П. В. Нащокина могла его обмануть и в отношении топки печей.
(обратно)436
Можно думать, что в 1834 году Дарья Федоровна уже достаточно освоила русский язык, чтобы прочесть «Пиковую даму», – возможно, с помощью матери.
(обратно)437
Дневник Фикельмон, с. 56.
(обратно)438
Там же, с. 57. Перевод М. И. Гиллельсона.
Приходится лишний раз пожалеть о том, что из второй тетради дневника мы знаем пока лишь отдельные цитаты.
(обратно)439
Там же.
(обратно)440
Итальянские газеты пушкинского времени в ленинградских книгохранилищах, например, отсутствуют.
(обратно)441
Дневник Фикельмон, с. 57. Перевод М. И. Гиллельсон.
(обратно)442
Н. Раевский. Если заговорят портреты. Алма-Ата, 1965 с. 133–134.
(обратно)443
М. И. Гиллельсон. Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон. Врем. ПК. 1967–1968. Л., 1970, с. 15–17.
(обратно)444
В других записях Долли именует эту комнату «красной гостиной» (salon rouge). В переводе я всюду привожу это последнее название.
(обратно)445
Исторические сведения о доме Салтыковых заимствованы из работы С. А. Рейсера «Дворцовая набережная, 4» («Труды Ленинградского библиотечного института имени Н. К. Крупской», т. IV, 1958, с. 33–47).
(обратно)446
«Старые годы», 1915, № 10, с. 58.
(обратно)447
С. А. Рейсер. Дворцовая набережная, 4, с, 33.
(обратно)448
В настоящее время Северо-западный заочный политехнический институт.
(обратно)449
С. А. Рейсер. Дворцовая набережная, 4, с. 37.
(обратно)450
Первоначально особняк, построенный Кваренги, имел лишь три фасада, между которыми находился обширный «почетный двор» (соur d’honneur). С четвертой стороны его ограничивала глухая стена соседнего роскошного дома Бецкого (впоследствии дворца Ольденбургских).
(обратно)451
«Столица и усадьба», 1914, № 2, с. 20.
(обратно)452
Впоследствии я получил эту фотографию в свое распоряжение.
(обратно)453
Аудитории и кабинеты Института культуры имеют трехзначные номера, причем первая цифра обозначает этаж. Всего в особняке около ста помещений различной величины.
(обратно)454
Архив села Михайловского, т. II, вып. I. СПб., 1902, с. 33–34.
(обратно)455
Граф В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.-Л., 1931, с. 363.
(обратно)456
Тем не менее описание столкновения в воспоминаниях Соллогуба изложено так, что возможность разговора «на публике» нельзя считать исключенной.
(обратно)457
С. А. Рейсер. Дворцовая набережная, 4, с. 38.
(обратно)458
Письмо Пушкина к Хитрово от 8 или 9 февраля 1831 года адресовано «В С.-Петербург в доме Австрийского посланника», но 26 марта того же года поэт пишет ей снова в дом Межуевой, а 19 или 20 июня 1831 года опять адресует письмо в австрийское посольство.
(обратно)459
«Русский архив», 1877, кн. I, с. 513.
(обратно)460
Все эти записки на французском языке хранятся в ЦГАЛИ.
(обратно)461
Судя по упоминанию в данной записке журнала «Le Monde», выходившего в 1835–1837 гг., она относится к этому времени.
(обратно)462
Подробное описание венской квартиры Фикельмонов, более скромной, но весьма обширной (12 комнат), имеется в письме Долли к сестре от 22 октября 1844 года (Сони, с. 78).
(обратно)463
Все цитаты, приведенные в настоящей работе, относятся к этому изданию и обозначены фамилией автора книги с указанием страницы.
(обратно)464
«Новый мир», 1956, № 1, январь, с, 153–209.
(обратно)465
«Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов». М.-Л., 1960 В дальнейшем – Карамзины.
(обратно)466
Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.-Л., 1966, с. 616.
(обратно)467
Дочери Н. Н. Пушкиной-Ланской от второго брака. Ее неточные, но все же ценные воспоминания о матери я уже неоднократно цитировал. По сведениям, сообщенным мне бывшим архангельским вице-губернатором Брянчаниновым (имени и отчества не помню), хорошо знавшим А. П. Арапову, она является также автором нескольких французских романов.
(обратно)468
Правильнее д’Антес, но я сохраняю принятую в России транскрипцию. Д. Ф. Фикельмон также писала «Danthes».
(обратно)469
Деревенское население Эльзаса и сейчас говорит на одном из немецких диалектов.
(обратно)470
Во французских источниках немецкая дворянская частица «von» заменена принятой во Франции «de».
(обратно)471
Щеголев, с. 338.
(обратно)472
Действительно, вы очень красивы (фр.).
(обратно)473
Я. Полонский. Дантес (Неизвестные материалы) // «Последние новости», 1930, 15 мая. Автор приводит этот рассказ, называя фрейлину Загряжскую (без указания инициалов) тетушкой Е. Н. Гончаровой. В действительности речь идет о тетке ее матери, кавалерственной даме Наталье Кирилловне Загряжской (1747 – 19 марта 1837 года), рассказы которой любил слушать Пушкин.
(обратно)474
П. Д. Эттингер. Станислав Моравский о Пушкине // «Московский пушкинист», II, с. 259–261.
(обратно)475
Щеголев, с. 29. В настоящее время изящный рисунок Райта находится в экспозиции Всесоюзного музея А. С. Пушкина.
(обратно)476
Подлинник по-французски.
(обратно)477
В ряде авторитетных изданий слово «bon» переведено как «добрый». Мне представляется более правильным в данном контексте передать его прилагательным «славный».
В искренности этого отзыва Пушкина о Дантесе можно сомневаться – как известно, поэт заявил, что после свадьбы принимать у себя «доброго» или «славного» малого он не будет.
(обратно)478
Щеголев, с. 354–370.
(обратно)479
Там же, с. 332.
(обратно)480
Сторонник «законного» короля, свергнутого Карла X.
(обратно)481
Щеголев, с. 420.
(обратно)482
Лицеи во Франции приблизительно соответствовали русским дореволюционным гимназиям.
(обратно)483
А. Аммосов. Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов его лицейского товарища и секунданта К. К. Данзаса. СПб., 1863, с. 5. В дальнейшем – Аммосов.
(обратно)484
Я. Полонский. Дантес (Неизвестные материалы) // «Последние новости», 1930, 15 мая.
(обратно)485
Я. Полонский. Дантес (Неизвестные материалы) // «Последние новости», 1930, 15 мая.
(обратно)486
Рассказы о Пушкине, с. 38.
(обратно)487
П. П. Вяземский. А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям // «Русский архив», 1884, Кн. II, с. 436.
(обратно)488
Б. Л. Модзалевский, Ю. Г. Оксман, М. А. Цявловский. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924, с. 14.
(обратно)489
Отчет о речи Онегина // «Известия книжных магазинов» т-ва М. О. Вольф», 1912, № 5, с. 68. Цит. в кн.: В. В. Вересаев. Пушкин в жизни, изд. 6-е, т. II. М., 1937, с. 474.
(обратно)490
А. В. Никитенко. Записки и дневник, изд. 2-е, т. II. СПб., 1905, с. 560.
(обратно)491
Я. Полонский. Дантес (Неизданные материалы) // «Последние новости», 1930, 15 мая. (Курсив мой. – Н. Р.)
(обратно)492
В. Нечаева. Дантес (По материалам гончаровского архива) // «Московский пушкинист», I, с. 68–98.
(обратно)493
Курсив мой. – Н. Р.
(обратно)494
Л. Гроссман. Дантес и Николай I // Вокруг Пушкина. М., 1928, с. 29.
(обратно)495
М. Алданов. Французская карьера Дантеса // «Последние новости», 1937, 10 февраля.
(обратно)496
Щеголев, с. 364.
(обратно)497
М. Алданов. Французская карьера Дантеса // «Последние новости», 1937, 10 февраля.
(обратно)498
А. М. Зайончковский. Восточная война 1853–1856 гг., т. I. Приложения. СПб., 1908, с. 228.
(обратно)499
Сенаторы были несменяемы и получали 30 000 франков содержания.
(обратно)500
Р. Мёптёе. Lettres à M. Panizzi (Письма к г. Паницци). 1850–1870, v. 1. 1881, р. 178–186.
(обратно)501
Сведения о том, что в конце жизни Геккерн-Дантес почти разорился, по-видимому, не соответствуют действительности.
(обратно)502
С 1861 года – король прусский, с 1870-го – император германский Вильгельм I.
(обратно)503
Дантес был освобожден от экзаменов по русской словесности, уставам и военному судопроизводству.
(обратно)504
Аммосов, с. 7.
(обратно)505
Так называли участников контрреволюционных восстаний 1793–1799 годов, а также контрреволюционеров 1832 года.
(обратно)506
J. Вaak et P. Gruуs. Les deux barons de Heeckeren (Ж. Баак и П. Грюис. Два барона Геккерна) // «Revue des études siaves», 1937, XVII, p. 41.
(обратно)507
Щеголев, с. 31.
(обратно)508
Обманутых мужей.
(обратно)509
Заместителем.
(обратно)510
Очерк «Смерть Пушкина» («Огонек», 1927, № 7 (203), 13 февраля).
(обратно)511
Дата посылки вызова установлена М. Яшиным («Хроника преддуэльных дней» // «Звезда», 1963, № 8, с. 161). П. Е. Щеголев и другие исследователи считали, что Пушкин послал вызов 5 ноября.
(обратно)512
Коллега Геккерна, датский посланник О. Бломе, в донесении своему правительству о дуэли упомянул о том, что оба противника – искусные стрелки.
(обратно)513
Подлинник – по-французски.
(обратно)514
Е. М. Хмелевская. Из дневника графини Д. Ф. Фикельмон (Новый документ о дуэли и смерти Пушкина) // Пушкин. Исследования и материалы, т. I. M.-Л., 1956, с. 343–350.
(обратно)515
Флоровский. Пушкин на страницах дневника, с. 574–577.
(обратно)516
Врем. ПК. 1962. М.-Л., 1963, с. 36–37.
(обратно)517
Н. Раевский. Если заговорят портреты. Алма-Ата, 1965, с. 145–152.
(обратно)518
В подлиннике этой записки, как почти всюду в дневнике, все фамилии подчеркнуты. Я обозначил курсивом только другие, подчеркнутые Д. Ф. Фикельмон места текста, на которые она, очевидно, хотела обратить внимание.
(обратно)519
Слово «кончина» написано Д. Ф. Фикельмон по-русски; затем по-французски «C’est fni».
(обратно)520
Ричард Артур (?) – лицо неустановленное. Фамилия написана неразборчиво.
(обратно)521
Кузина Д. Ф. Фикельмон графиня Аделаида Павловна Штакельберг, урожденная Тизенгаузен.
(обратно)522
См. выше.
(обратно)523
Щеголев, с. 374–376.
(обратно)524
Там же.
(обратно)525
Карамзины, с. 166.
(обратно)526
Е. Н. Гончарова родилась в 1809 году (точная дата неизвестна).
(обратно)527
Вот мое исповедание веры! (фр.)
(обратно)528
André Meynieux. Les albums de Catherine Gontcharova (Андpe Менье. Альбом Екатерины Гончаровой) // «Revue des etudes Slaves», v. 46. Paris, 1967, p. 22–25.
(обратно)529
А. Менье предполагал посвятить ей подробное исследование, но, к сожалению, вскоре скончался, не успев осуществить своего намерения.
(обратно)530
Карамзины, с. 139.
(обратно)531
Там же, с. 108.
(обратно)532
«Литературное наследство», т. 16–18. М., 1934, с. 794.
(обратно)533
И. Ободовская, М. Дементьев. Вокруг Пушкина, с. 201–202.
(обратно)534
В опубликованных отрывках из второй тетради дневника графини до 29 января 1837 года фамилия Дантеса не встречается.
(обратно)535
Аммосов, с. 5–6.
(обратно)536
Щеголев, с. 305.
(обратно)537
Перевод этой цитаты, данный Л. Гроссманом, проверен мною по фотокопии письма.
(обратно)538
Щеголев, с. 322.
(обратно)539
Листки из дневника М. К. Мердер («Русская старина», 1900, август, с. 382–385).
(обратно)540
Псевдоним русского выходца, армянина по национальности, Тарасова. После революции он был вывезен мальчиком во Францию и сделал там большую литературную карьеру. Не так давно Анри Труайа был избран в число сорока «бессмертных», как называют членов Французской академии.
(обратно)541
Henri Troyat. Pouchkine. Paris, v. I–II, 1946. Второго издания этого труда мне не пришлось видеть.
(обратно)542
М. А. Цявловский. Новые материалы для биографии Пушкина // «Звенья», IX, с. 172–177.
(обратно)543
Карамзины, с. 190–191.
(обратно)544
В издании Пушкинского дома перевод слова «entremetteuse» смягчен, и оно передано как «посредница». Однако в данном контексте речь идет, несомненно, о «своднице».
(обратно)545
Возможно, что императрица (как и графиня Д. Ф. Фикельмон) имеет в виду не диплом, а какое-то анонимное письмо, текст которого нам неизвестен.
(обратно)546
Эмма Герштейн. Вокруг гибели Пушкина (По новым материалам) // «Новый мир», 1962, № 2, с. 211–226.
(обратно)547
Нельзя забывать, что сведения об обращении Натальи Николаевны к Дантесу на «ты» исходят от престарелого А. В. Трубецкого (Щеголев, с. 423) и, возможно, не заслуживают доверия.
(обратно)548
В 1917 году известные письма Пушкина к его другу Павлу Воиновичу Нащокину принадлежали графу С. Д. Шереметеву.
(обратно)549
М. Яшин. Пушкин и Гончаровы // «Звезда», 1964, № 8, с. 184–189.
(обратно)550
На это обстоятельство обратила мое внимание Т. Г. Цявловская.
(обратно)551
В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.—Л., «Academia», 1931, с. 358.
(обратно)552
Т. Г. Цявловская. Неизвестное письмо Е. М. Хитрово Пушкину // «Пушкинский праздник» (специальный выпуск «Литературной газеты» и «Литературной России»), 1970, 3—10 июля, с. 12–13.
(обратно)553
Дмитрий Николаевич (1808–1860).
(обратно)554
Щеголев, с. 315 (курсив мой. – Н. Р.).
(обратно)555
Н. Б. Востокова. Пушкин по архиву Бобринских // «Прометей», т. 10. М., 1974, с. 266–268.
(обратно)556
М. Яшин. Хроника преддуэльных дней // «Звезда», 1963, № 8, с. 159–184; № 9, с. 166–187.
(обратно)557
Я. Л. Левкович. Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963–1966 гг. // Пушкин. Исследования и материалы, т. V Л., 1967, с. 374*.
(обратно)558
Я. Л. Левкович. Две работы о дуэли Пушкина // «Русская литература», 1970, № 2, с. 211–212.
(обратно)559
Г. М. Воронцов-Вельяминов. Пушкин в воспоминаниях дочери Николая I // Врем. ПК, 1970. Л., 1972, с. 24–29.
(обратно)560
Щеголев, с. 324.
(обратно)561
Карамзины, с. 139.
(обратно)562
Там же, с. 139, 148.
(обратно)563
В стиле Бальзака.
(обратно)564
Карамзины, с. 154.
(обратно)565
Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская, урожденная Карамзина.
(обратно)566
Карамзины, с. 165.
(обратно)567
«Красная нива», 1924, № 24, 9 июня, с. 10–12.
(обратно)568
«Красная нива», 1924, № 24, 9 июня, с. 10–12.
(обратно)569
Ее муж, полковник А. М. Полетика, был офицером Кавалергардского полка.
(обратно)570
Иллюстр. приложение к «Новому времени», 1908, № 11425, 2 января, с. 5–6.
(обратно)571
Щеголев, с. 125–126.
(обратно)572
«Новый мир», 1931, № 12, с. 188–193. Письмо собственноручное с поправками князя Петра Андреевича.
(обратно)573
Щеголев, с. 263–264.
(обратно)574
«Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 51–52.
(обратно)575
М. Ю. Лермонтова «На смерть поэта».
(обратно)576
Карамзины, с. 175.
(обратно)577
По видимому, речь идет о племяннике графа. Фикельмона (сыне его сестры) маркизе де Трансе, умершем в 1850 году в Нанси, где скончался и его отец. Следовало бы попытаться разыскать во Франции потомков этого маркиза, так как у них мог сохраниться пушкинский автограф.
(обратно)578
Сони, с. 298.
(обратно)579
Артур К. Медженис (Magenus), английский дипломат, близкий приятель Фикельмон, которого Пушкин приглашал в секунданты, но тот отказался.
(обратно)580
По непроверенным пока сведениям, Дарья Федоровна скончалась не в Вене, а в Венеции, где она провела последние годы своей жизни.
(обратно)581
Доротея графиня Фикельмон урожд. графиня Тизенгаузен. Придворная дама, 14.Х.1804 – 10.IV.1863.
(обратно)582
Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1907, № 11416, 22 декабря, с. 6–7.
(обратно)583
Политехнический институт.
(обратно)




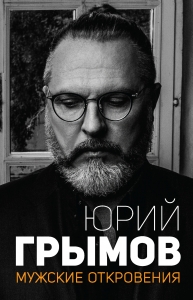

Комментарии к книге «Пушкин и призрак Пиковой дамы», Николай Алексеевич Раевский
Всего 0 комментариев